Мир Леонардо. Книга 1
advertisement
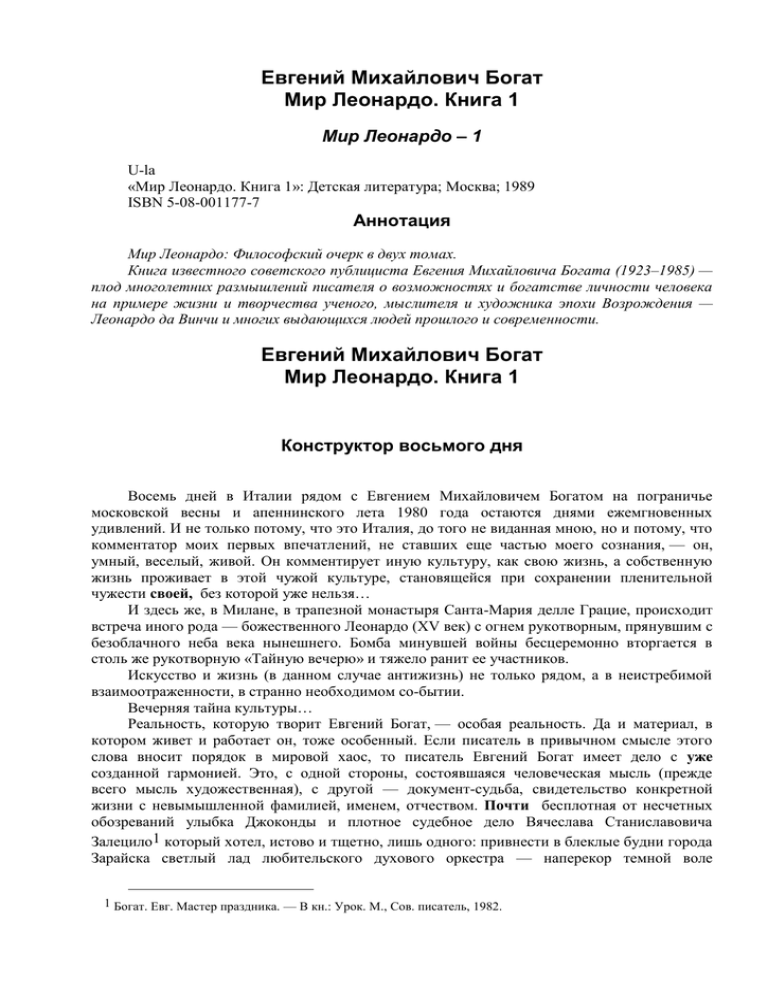
Евгений Михайлович Богат Мир Леонардо. Книга 1 Мир Леонардо – 1 U-la «Мир Леонардо. Книга 1»: Детская литература; Москва; 1989 ISBN 5-08-001177-7 Аннотация Мир Леонардо: Философский очерк в двух томах. Книга известного советского публициста Евгения Михайловича Богата (1923–1985) — плод многолетних размышлений писателя о возможностях и богатстве личности человека на примере жизни и творчества ученого, мыслителя и художника эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи и многих выдающихся людей прошлого и современности. Евгений Михайлович Богат Мир Леонардо. Книга 1 Конструктор восьмого дня Восемь дней в Италии рядом с Евгением Михайловичем Богатом на пограничье московской весны и апеннинского лета 1980 года остаются днями ежемгновенных удивлений. И не только потому, что это Италия, до того не виданная мною, но и потому, что комментатор моих первых впечатлений, не ставших еще частью моего сознания, — он, умный, веселый, живой. Он комментирует иную культуру, как свою жизнь, а собственную жизнь проживает в этой чужой культуре, становящейся при сохранении пленительной чужести своей, без которой уже нельзя… И здесь же, в Милане, в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, происходит встреча иного рода — божественного Леонардо (XV век) с огнем рукотворным, прянувшим с безоблачного неба века нынешнего. Бомба минувшей войны бесцеремонно вторгается в столь же рукотворную «Тайную вечерю» и тяжело ранит ее участников. Искусство и жизнь (в данном случае антижизнь) не только рядом, а в неистребимой взаимоотраженности, в странно необходимом со-бытии. Вечерняя тайна культуры… Реальность, которую творит Евгений Богат, — особая реальность. Да и материал, в котором живет и работает он, тоже особенный. Если писатель в привычном смысле этого слова вносит порядок в мировой хаос, то писатель Евгений Богат имеет дело с уже созданной гармонией. Это, с одной стороны, состоявшаяся человеческая мысль (прежде всего мысль художественная), с другой — документ-судьба, свидетельство конкретной жизни с невымышленной фамилией, именем, отчеством. Почти бесплотная от несчетных обозреваний улыбка Джоконды и плотное судебное дело Вячеслава Станиславовича Залецило1 который хотел, истово и тщетно, лишь одного: привнести в блеклые будни города Зарайска светлый лад любительского духового оркестра — наперекор темной воле 1 Богат. Евг. Мастер праздника. — В кн.: Урок. М., Сов. писатель, 1982. наждачно-немузыкального районного начальства. Не выдержал и сорвался… И вот — суд над устроителем праздника, над его духовой — духовной! — музыкой. Тайна зарайская, ночная… И это, и то — казалось бы, столь не совпадающее, не сопрягающееся — сопрягается и совпадает в творческой жизни одного человека. Причем сплачивается таким образом, что даже самое пристальное всматривание не обнаруживает не только зазора, но и швов в этой почти природной цельности, хотя и сработанной личной волею Мастера. Гармония высшего порядка… Гармонический, универсальный человек писатель Евгений Богат. Бытийнолитературный герой грядущей жизни в грядущей культуре. Открытый всем временам и всем сторонам, духовно незавершимый — таким он остается в памяти. Он больше всего боится, если про него скажут, что «мысль для него наслаждение, а не труд». Напрасно боится! Радость труда — сущностное свойство этого созидательного художника. А его посмертное счастье в том, что его настоящие и будущие читатели тоже возрадуются в своих вольных трудах над живой и открытой мыслью Человека культуры. «…Беречь культуру, участвовать в восьмом дне творения», — просит нас Евгений Михайлович по праву человека, делающего это человеческое, принципиально не божественное дело. Он участвует в восьмом, не библейском дне… Книга «Мир Леонардо» сейчас перед вами. Это произведение — для медленного, пристального чтения. При чтении поспешном, поверхностном можно ухватить событие, но упустить прекрасные мгновения универсального опыта ума и сердца в их невозможной гармонии. А остановить эти мгновения, запечатлеть их в открытом сознании и чуткой душе — первое дело каждого, кто возьмет книгу. Прочитав то, что написалось, я понял: все глаголы, поставленные мною в прошедшем времени, следует немедленно перевести в настоящее. И перевел: потому что таким вызывающе живым я продолжаю видеть Евгения Михайловича, со-беседовать глаза в глаза и со-чувствовать с ним душа в душу. Прошлое обретает новизну и свежесть настоящего. И тут я вспоминаю вот что. Приблизительно за месяц до его внезапного ухода я звоню к Богату, чтобы прочитать ему свое новое стихотворение «Последний глагол». Оно ему близко, потому что о нем. К великой беде, прискорбно и бесповоротно — о нем. О нем, ему… в его память. Обещал посвятить живому, а оглашаю сейчас — вослед ушедшему, но, может быть, именно потому многократно оживающему в своих творениях, которые теперь уже навсегда в настоящем… Простите: воспроизведу стихотворение целиком: От первого лица во времени прошедшем Непредставим глагол — единственный причем. «Я умер» — Так сказать дано лишь сумасшедшим, Что любят прихвастнуть намного раньше, чем Свершить глаголом сим означенное дело. А тут иное все. Вкруг пальца смерть обвел. Отпело. Отжило. Отбыло. Отболело. Отпеть. Отжить. Отбыть. Но не сказать глагол. А вот покуда жил, то пребывал я между Деянием и тем, что им я называл. Любил и целовал. Но к строкам писем нежных Целую и люблю Всегда я прибавлял. Я умер, не назвав того, что сам исполнил. Как птица, как душа, как выдох или вдох, Как песенка, как рог, что до краев наполнен Маджари золотым. Или как дай вам бог. Но прежде чем уйти в чистейшее деянье, Все имена-дела в реестр последний свел. И перецеловал все вещи мирозданья. И лишь тогда отбыл в несказанный глагол. Переназвал, перечувствовал, переосмыслил… Пережил мирозданье, как впервые увиденное. Так начинается ренессансный человек. Не так ли начинался великий Леонардо — конструктор неосуществленных, хотя вполне сбыточных проектов, богатых бессчетными возможностями, но бедных единичными воплощениями; художник единственной на целый мир улыбки именно этой женщины, но бесконечно значимой и потому таинственной? Но улыбка эта для каждого, кто смотрит, особая: она предназначена в каждый данный миг только ему. Так устанавливается согласие с чужой — дальней и замкнутой — душой, на мгновение открывшейся, чтобы сказать и услышать. Это и есть мир совпадающих душ и несовпадающих умов, какими, впрочем, и надлежит быть умам и душам. «Вы — Джоконда, которую надо украсть!» — скажет лирик Маяковский своей Марии, сверив ее с общезначимым образцом… Свершились времена, сошлись судьбы, спутались тропы влюбленных: Владимир — Джоконда — Мария — Леонардо — Евгений. Мы с вами… Замечу в скобках: Джоконда, как свидетельствует очередная сенсация в леонардоведении, оказалась некоей Изабеллой Гуаланди. Но что с того, если прочтения картины длятся именно в сфере духа, безразличного к позирующей «натуре»! Мир Леонардо — мир со-существующих в одном времени и в одном пространстве разных культур, автономных сознаний, суверенных личностей. В нашем времени и в нашем пространстве. Но столь же реально — и на земле Италии XV века. И каждая личность при этом универсальна и уникальна одновременно. Мы всматриваемся в Джоконду, но и она рассматривает нас. Писатель изучает Леонардо да Винчи, но и он изменяет своего воссоздателя. В эту взаимопреобразующую работу мысли может включиться каждый из вас, кто начнет эту книгу читать. На границе миров: Леонардо и нашего, в котором продолжает жить в слове писатель Евгений Михайлович Богат и все его нынешние и будущие читатели — его ровесники по удивлению и любви. Его соавторы по его непрекращающейся жизни: в вас, во мне, в герое этой книги, в защищенных им человеческих достоинствах. Потому что, если последовать за Гёте, «жизнь — прекраснейшее изобретение природы, а смерть — искусственное средство, чтобы иметь много жизней». «И очертанья Фауста вдали». Одна из таких новых жизней писателя — эта книга. Она из долгожданных жизней Леонардо — универсальное и удивительное дело-слово, сказанное и сделанное нашим замечательным современником, конструктором и работником Восьмого дня. Вадим Рабинович От автора Моей дочери Ирине посвящаю Самое удивительное в нашем мире — это то, что он познаваем. Альберт Эйнштейн Живопись — это зеркало. Леонардо да Винчи И очертанья Фауста вдали. Анна Ахматова Библиография литературы о Леонардо да Винчи насчитывает более трех тысяч названий. Это целая библиотека. Книги о нем выходят ежегодно в Европе, Америке, Японии и Советском Союзе. Возникает вопрос: почему автор настоящих строк решил писать о Леонардо в 3001-й раз? Ради того, чтобы еще более углубить загадку одной великой жизни, многозначной и таинственной, как мироздание? Нет, конечно. Это не может быть стимулом, воодушевляющим к большой работе. Для того, чтобы открыть некую последнюю тайну? Это было бы, конечно, сенсационно, но, увы, маловероятно. К тому же тот, кому это удастся, напишет не книгу, а, вероятно, лишь одну страницу, емкую, как сама жизнь. Так для чего же? Мой ответ, возможно, разочарует читателя: мне хотелось понять не самого Леонардо — ясно, что это невозможно, ибо он был и остается для меня далеким и странным, как инопланетное существо, может быть, в силу непохожести с нами, людьми последней четверти XX века, — мне хотелось понять вещи, которые сегодня осмыслить особенно важно. Что такое универсальность? Что такое творчество? Я чуть было не написал сейчас: «Что такое человек?» — но это еще бо льшая тайна, чем «что такое Леонардо?». Мне могут сейчас возразить искушенные мудрецы: к чему все эти детские вопросы?! Детские вопросы, ответы на которые уже тысячелетия ищет взрослое человечество. Ищет и не находит… К чему же эти детские вопросы? Но я пишу именно для детей! Для детей в буквальном и переносном смысле, для детей больших и маленьких. Под большими детьми я подразумеваю людей любого, даже пожилого возраста, в которых не умерло детство. А под маленькими — четырнадцатисемнадцатилетних. Но на самом деле и они — большие дети. Особенно во второй половине XX века с ее физической и интеллектуальной акселерацией. Детские вопросы! С кем же мне думать над ними, как не с теми, кто по праву детства их задает? Кстати о Леонардо — при обилии солидных, взрослых книг, написанных в жанре жизнеописаний, монографий, эссе, исследований, диссертаций, нет ни одной (или почти ни одной, если быть абсолютно точным и учитывать поверхностно-беллетристические попытки) книги для детей. Может быть, потому, что нам не много известно о детстве самого Леонардо? Или по той простой и четкой причине, что взрослые чаще всего не рискуют рассказывать детям о том, что самим им понятно недостаточно хорошо? Мне, положа руку на сердце, писать о Леонардо для детей легче, чем для взрослых. (На последнее я бы никогда не решился.) Легче, потому что самому хочется что-то понять в этой судьбе и в тех вопросах, которые она задает нам через века. Найти на них ответ. И я (как, наверное, и любой взрослый) могу почувствовать в себе ребенка, познающего с первоначальной новизной мир, уже, казалось бы, познанный (пусть и непонятый) сотнями поколений. Но — не могу ощутить в себе Леонардо… Иногда кажется: да по лно — существовал ли он в самом деле? Бесконечно интересен и загадочен образ Леонардо. Недаром тысячи ученых, писателей и даже людей, далеких от науки и литературы, пытались исследовать эту жизнь. Постижение ее — это опыт самопознания, а самопознание, может быть, самая сильная человеческая страсть. Да, образ Леонардо увлекателен и таинствен, но не менее интересен и, пожалуй, менее исследован мир Леонардо. Сегодняшний мир Леонардо, в котором переплелись века, судьбы, поиски истины, художественные стили, и двадцатое столетие ведут диалог с пятнадцатым. Я написал книгу не о Леонардо, а именно о мире Леонардо. Опыт этого самопознания, то есть постижения собственного «я» не только в образах минувших эпох, но и в образе сегодняшнего человечества, которому пятнадцать лет осталось до третьего тысячелетия, кажется мне сегодня наиболее актуальным. Да, до третьего тысячелетия нашей эры осталось ровно пятнадцать. И пишу я для тех, кому сегодня пятнадцать. И для тех, кому пятнадцать было, когда я задумал эту книгу пятнадцать лет назад. И, наконец: это книга не ученого, а писателя. 1985 год ГЛАВА 1 Ночь в Амбуазе, или Умение видеть (Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Леонардо да Винчи, рисунок ) Леонардо да Винчи заметил однажды: «Маленькие комнаты или жилища собирают ум, а большие его рассеивают». «Жилище» мое и было небольшим: одноместный номер в амбуазском отеле, скромном и старом, украшенный репродукцией с картины Энгра, изображающей Леонардо да Винчи в последнюю минуту жизни на руках у французского короля Франциска I. Ночью я лежал в темноте и тишине и думал. Я думал об Иване Алексеевиче Бунине. Он жил в Амбуазе весной и осенью 1922 года. В одном из писем он рассказывал, что поселился на окраине города, замечательного тем, что в нем жил и умер Леонардо да Винчи. Бунин устроился ненадолго в старинном имении, где раньше был монастырь. В Амбуазе написал он несколько стихотворений и рассказ «Далекое». Это один из самых печальных его рассказов. В нем Бунин повествует о трагической обыденности жизни, кажущейся в милой житейской суете совсем не страшной, даже чарующей — маленькими радостями, небольшими подарками судьбы, постоянным ожиданием ка-кой-то новизны… Это рассказ о трагичности человеческих встреч и расставаний. О том, что забывается все и не забывается ничего. В ту ночь в Амбуазе мне не давала уснуть мысль, что без взгляда Леонардо не было бы и острого взгляда Бунина. Вот как видит Бунин в рассказе «Далекое»: «…стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром ». Это можно было увидеть лишь после Леонардо. Леонардо сыграл исключительную роль в умении видеть у писателей и живописцев последующих веков. Они могли и не думать о Леонардо — Лев Толстой, Тютчев, Бунин, как не думает никто из нас об изобретателе колеса или паруса. Но без Леонардо человечество не обрело бы того сверхзрения , которое потом и в искусстве и в науке помогло совершить фундаментальные открытия. «Интересно было бы, — думал я в ту амбуазскую ночь, — сопоставить тексты Тютчева и Бунина с текстами Леонардо в его „Кодексах“. И в тысячу раз интереснее было бы сопоставить тексты великих писателей XIX и XX веков с картинами Леонардо». Но это так же непосильно для меня, как сопоставление картин Леонардо с текстами философов античности или картин Пикассо с музыкой Шостаковича. Несмотря на всю неожиданность и даже некую фантастичность подобных сопоставлений, я чувствовал, что они оправданны, ибо все это части величайшего богатства, имя которому — КУЛЬТУРА. Конечно, это абсолютно случайное совпадение, что Бунин одно лето жил рядом с замком, в котором состарился и умер Леонардо. Бунин не испытывал — при всей его любознательности — острого, живого любопытства к эпохе Возрождения. Иногда даже кажется, что художнически и духовно он был к итальянскому Ренессансу равнодушен. Из воспоминаний современников о Бунине мне удалось узнать лишь одну-единственную мысль его, имеющую отношение к Леонардо: он говорил о «Джоконде», что она — загадка истории, равная тайне Железной Маски. Но не успел подумать я, что Бунин к итальянскому Ренессансу был равнодушен, в памяти мелькнули два его рассказа. Один — о последних днях Марка Аврелия, второй — о первых днях любви Петрарки к Лауре. Два рассказа — о закате античности и об утренней заре Возрождения, которое эту античность воскрешало. Бунин видел все подробности мира с точностью высокой степени. Это умение видеть вырабатывалось в человеке веками. В ту амбуазскую ночь я с особенной ясностью понял, что Леонардо — основоположник искусства видеть. Он сыграл исключительную роль в совершенствовании дара различать мельчайшие изменения в быстро меняющейся жизни и в умении видеть, постигая суть явления по неожиданной аналогии. «…Несмотря на свое сходство с белым негром ». Это действительно можно было увидеть лишь после Леонардо. Пересказать «Далекое» невозможно, как невозможно пересказать музыку, тем более что рассказ этот действительно музыкален, в нем нельзя не услышать гула колоколов, накрывающего шумы большого города: скрип извозчицких повозок, перезвон конок, возгласы лотошников. Нельзя пересказать музыку? А увидеть музыку можно? Леонардо да Винчи ее видел. Однажды он записал: «Можно создать гармоничную музыку из различных каскадов, как ты видел это у источника в Римини». Известный французский ученый Тейяр де Шарден в книге «Феномен человека» отмечал, что совершенство мыслящего существа измеряется совершенством его взгляда. Вот что он писал: «Стремиться видеть больше и лучше — это не каприз, не любопытство, не роскошь. Видеть или погибнуть» (курсив мой. — Евг. Б.). И дальше: «В такое положение поставлено таинственным даром существования все, что является составным элементом универсума» (то есть космоса. — Евг. Б.). «Видеть или погибнуть». Чем полнее видит человек, тем полнее он живет. Видеть — это понимать. Когда человек видит, понимая, — мир озаряется новым смыслом. Усилия видеть все совершеннее и все полнее и делают человека в мироздании уникальным существом. В этом умении-усилии — феномен человека. Феномен же Леонардо в том, что он видел жизнь, как никто до него не видел. У человечества есть учителя в области морали, наук и искусств. Леонардо научил человечество видеть. Если бы его не было, может быть, мы видели бы мир иначе; если бы его не было, может быть, и мир был бы не похож на наш сегодняшний. Я не берусь судить, был бы он лучше или хуже, но он был бы иным. А может быть, и не было бы ни мира, ни человечества. (Это, конечно, фантастический вариант, я его рассматриваю лишь для того, чтобы лучше понять «феномен Леонардо».) Менее фантастична версия, что человечество, несмотря на весь трагизм термоядерной ситуации, не погибнет именно потому, что оно научилось видеть. Человек научился видеть человека. Человек научился видеть мир. То есть понимать его уникальность и бесконечную ценность. Уточним: НЕ видеть — погибнуть. Видеть — уцелеть. Вы видели когда-нибудь волны? Обыкновенные волны на море или на озере во время волнения. Видели. Может быть, сотни раз. Теперь послушайте, как видел это Леонардо. Зарисовав волну на берегу моря у Пьомбино, он записал: «Вода ABC есть волна, нахлынувшая на изогнутый берег. Когда она отхлынула, на нее налетела следующая волна. Они вместе взмыли вверх, более слабая волна уступила напору более сильной, и они снова обрушились на изогнутый берег». Это даже не рассказ о волне, это — анатомия волны. Недаром Леонардо был выдающимся анатомом. Мне хочется подробно, именно подробно рассказать, как Леонардо видел мир. Но материал настолько необозрим, живописен, загадочен, что останавливаешься перед ним в растерянности… Вот я упомянул о волнах. А теперь о чем рассказать? Может быть, о полете птиц? Она взлетает… Вы видели когда-нибудь, как взлетает птица? А теперь послушайте, как видел это Леонардо. «Когда птица слетает с какого-нибудь места вверх, ветер значительно благоприятствует ей. Если она желает использовать его с выгодой для себя, откуда бы он ни дул, она располагается наклонно на течении ветра, забирая его под себя в виде клина, и дает начало своему взлету, несколько подпрыгивая». Или это наблюдение: «Птице, которая летит против ветра и хочет сесть на высоком месте, необходимо лететь выше этого места, а затем повернуться назад и без взмахов крыльями опуститься на указанное место». Он не только наблюдает за полетом птиц, он — с ума сойти можно! — учит летать. Он учит летать человека, человечество. Вдруг он заинтересовывается трубочистом. Почему? Тоже из-за птиц. Чтобы лучше понять, почему изогнутые концы крыльев помогают птице держаться в воздухе, он сопоставляет крылья с ногами и спиной трубочиста, который весит двести фунтов и держится, опираясь на стенки трубы. Один из лучших советских исследователей «трудов и дней» Леонардо Василий Павлович Зубов интересно сопоставляет видение старшего современника Леонардо Альберти с видением самого Леонардо. Альберти отмечал, что человек, гуляющий по лугу, «на солнце кажется зеленым с лица». Леонардо, обращаясь к этому наблюдению, конкретизирует его и углубляет: «Если на поверхности земли будут луга и женщина окажется между лугом, который освещен солнцем, и этим солнцем, ты увидишь, что все изогнутые части, которые может видеть этот луг, окрашиваются отраженными лучами в цвет этого луга». У Леонардо луг видит! Луг — живой, и, как все живое, он видит, потому что видеть — самое изумительное свойство жизни! И здесь же Леонардо говорит нечто еще более замечательное: «…а та часть, которая будет видима светлому воздуху, пронизанному лучами солнца (поскольку воздух, как таковой, — лазоревый), та часть женщины, которая будет видима этим воздухом, будет иметь голубоватый оттенок». И воздух у Леонардо видит! И воздух живой. Для него нет ничего мертвого в окружающем мире, в мироздании. И сам он живой — живой в том высшем смысле, что в нем живет мудрость и наблюдательность будущих поколений. Ведь, в сущности, то, о чем пишет Леонардо, было воплощено в полотна через несколько столетий импрессионистами. Это у них «та часть женщины, которая будет видима этим воздухом» имеет голубоватые и иные непередаваемые словами оттенки. Сопоставление с Альберти, который был человеком первой половины XV столетия и гениально поднялся над ним, с Леонардо, который был человеком второй половины XV столетия и гениально поднялся над веками и даже тысячелетиями, — это сопоставление открывает неисчерпаемые возможности, заложенные в умении видеть. Альберти, как пишет Зубов, подчеркивал трудность различить черты смеющегося и плачущего человека: «И кто может поверить, сам этого не испытав, насколько трудно, желая изобразить смеющееся лицо, избежать того, чтобы не сделать его скорее плачущим, чем веселым? А также кто мог бы, не потратив на это величайшего усердия, изобразить такие лица, в которых рот, подбородок, глаза, щеки, лоб, брови, — одним словом, все соответствовало бы именно этому, а не другому выражению смеха или плача?» Это очень интересно. Но еще интереснее об этом у Леонардо: «Тот, кто смеется, не отличается от того, кто плачет, ни глазами, ни ртом, ни щеками, но только неподвижным положением бровей, которые соединяются у того, кто плачет, и поднимаются у того, кто смеется». Альберти констатирует трудность задачи. Леонардо находит ее гениальное решение. То тончайшее, почти непередаваемое человеческим языком, что запечатлели потом кистью импрессионисты, увидел и зафиксировал (с помощью слова, а не кисти) в записных книжках Леонардо. «Волнующееся море, — писал он, — не имеет одного общего цвета. Тот, кто видит его с суши, видит его темного цвета, и тем более темного, чем оно ближе к горизонту, и видит на нем некоторую светлоту или блики, которые движутся медленно, наподобие белых ягнят в стаде. А тот, кто видит его, находясь в открытом море, видит его голубым». А вот о дожде: «Дождь падает в воздухе, придавая ему свинцовый оттенок, поскольку с одной стороны он принимает свет солнца, а с противоположной — тень, как это можно обычно видеть и в случае туманов. И земля становится темной, ибо такой дождь лишает ее сияния солнца; предметы, видимые по ту сторону его, — смутные, с неразличимыми границами, а предметы, которые находятся ближе к глазу, будут более явственными». Но ведь это то же самое, что увидели через несколько столетий Моне, Писсарро, Ван Гог, Сислей! Импрессионизм существовал задолго до импрессионистов как реальность, ожидающая открытия. Она была открыта во второй половине XIX века художниками, которые вышли из полутемных мастерских, из классических чердаков к солнцу, воде, деревьям, человеческим лицам, отражающим сияние утра или отуманенность пасмурного дня. И она была даже не увидена, а исследована ученым и художником итальянского Ренессанса, странным гостем из будущего. Леонардо писал о том, какими мы видим вещи при дожде (затемненном и освещенном), когда еще кисть не умела это передавать. И лишь потом, через века, через века… Я думаю, что экскурсовод, рассказывающий в залах импрессионистов о тайнах их кисти, мог бы сегодня вполне воспользоваться этими открытиями Леонардо для того, чтобы открытия импрессионистов показались непосвященным менее странными и фантастическими, более объективными, что ли. Но гораздо интереснее даже не это. Замечательно, по-моему, что импрессионисты, когда они были отверженными, когда видели сумасшедших в них, осмеивали, даже мысли не допускали, что в их картинах отражено нечто реально существующее, могли бы, обороняясь и наступая, вынуть из забвения мыслинаблюдения Леонардо, доказывающие, что они отнюдь не безумцы, а люди, видящие реальность полнее и глубже, чем их «здравомыслящие» современники. Интересно, что современником импрессионистов был и Кэрролл — автор «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье». В нем чересчур рассудительные читатели тоже видели человека, далекого от реальности. И лишь через сто лет стало ясно, что постиг он самую суть вещей, суть, недоступную здравому смыслу. Иногда Леонардо называют холодным наблюдателем. Холодный наблюдатель? Послушайте, как говорит он о глазе: «О превосходнейший из всех вещей, созданных богом! Какие хвалы могут выразить твое благородство? Какие народы, какие языки способны описать твои подлинные действия?.. Но какая нужда распространяться мне в столь высоком и пространном рассуждении? Что не совершается посредством глаза?» Это сама страсть! Леонардово кропотливое любопытство, порой опережая века, переключалось на непредставимое: мир бесконечно малого и бесконечно большого. Он осваивал мир, как его современники осваивали Землю! Недаром Леонардо и Колумб, Магеллан, Америго Веспуччи жили в одно время. Это была эпоха открытий во всем: на земле, на небе, в душе человека… В сущности, для Леонардо видеть означало мыслить. Он созерцал? Да. Но Леонардо являл собой уникальный тип созерцателя — не безвольного (а созерцание безвольное, отдых от усилий воли — высшая радость, радость освобождения, как утверждал Шопенгауэр), а архиволевого. Кто-то из импрессионистов, кажется Ренуар, говорил в пылу полемики, что созерцает мир, как животное, то есть не думая, не мучаясь мыслями и загадками. Леонардо созерцал, как человек. Его созерцание было, по существу, отрицанием созерцания — в обычном понимании этого состояния души как сладостной расслабленности. Его созерцание было редкостным сочетанием непосредственного — порой детски-непосредственного и первобытно-наивного — восприятия явлений мира с работой ума, постигающего их суть. Он созерцал мыслью. Всевидящей мыслью. И именно поэтому видел то, чего не видели остальные, для которых чувственное восприятие и интеллектуальное осмысление были не одновременными, а раздельными актами познания. У него чувства и мысль были неразрывны, синхронны. И отсюда, наверное, склонность к загадкам… И — чувство загадочности мира, рождающее стремление ОТГАДАТЬ. Отгадать этот удивительный мир. С течением лет это стало даже оригинальной игрой, сочинением «интеллектуальных ребусов». Особенность игры была в том, что на «фантасмагорические» вопросы давались неожиданно обыденные ответы. Остраненная мысль делала загадочное, странное понятным, обыденным и тем самым открывала неожиданную суть, казалось бы, ничем не замечательного явления. Его загадки тоже форма познания — познания вещей, их неоднозначности. Для него любая вещь в мире имела как бы два лица: одно — скрытое маской, второе — узнаваемое, открытое. Его загадки уже никого не удивляют и даже не занимают. Но то, что сегодня стало забавой, было некогда открытием — открытием, которое открывало мир с неожиданной, парадоксальной стороны. Подумайте сами, постарайтесь ответить сегодня на эти архаические загадки! «О морские города! Я вижу в вас ваших граждан, как женщин, так и мужчин, туго связанных крепкими узами по рукам и ногам людьми, которые не будут понимать ваших речей, и вы сможете облегчить ваши страдания и утрату свободы лишь в слезных жалобах, вздыхая и сетуя промеж самих себя, ибо тот, кто связал вас, вас не поймет, ни вы их не поймете». Кто они — эти непонятные, трагически беспомощные «мужчины и женщины»? Запеленутые младенцы… «Люди будут с удовольствием видеть, как разрушаются и рвутся их собственные творения». Кто же эти безумцы? Сапожники? Да, да, сапожники… Может быть, для него было это игрой ума, ищущего отдыха от сосредоточенного усилия мысли? «Пернатые животные будут поддерживать людей собственными перьями». Что имеет в виду этот любитель ребусов? Он говорит о перинах. «Видно будет, как огромнейшие безжизненные тела неистово несут на себе толпы людей на погибель их жизни». О чем идет речь? О тонущих кораблях. «Видно будет, как высокие стены больших городов опрокинулись в свои рвы». Леонардо имеет в виду отражение городских стен в воде их рвов. «И видно будет, как в большей части страны будут ходить по шкурам больших зверей». Это о подошвах обуви из бычачьей кожи. «О сколько будет таких, которым не будет дозволено родиться!» Леонардо говорит о яйцах, которые мы едим за завтраком, о яйцах, в которых умирают, не родившись, цыплята. «Видно будет, как в воздухе на огромнейшей высоте длиннейшие змеи сражаются с птицами». Это об ужах, уносимых аистами. «Видно будет, как кости мертвецов в быстром движении вершат судьбу того, кто их движет». Это игральные кости. «Видно будет, как переворачивают землю вверх дном и смотрят на противоположные полусферы и открывают норы свирепейших зверей». Это о вспаханной земле. «Можно будет видеть фермы и фигуры людей и животных, которые будут следовать за этими животными и людьми, куда они ни побегут; и таково же будет движение одного, как и другого, но удивительными будут казаться различные размеры, в которые они превращаются». Отгадать непросто, а ответ удивительно простой. Это тень, которая движется вместе с человеком. «Можно будет не раз видеть, как один человек остановится и все за ним следуют; и часто один из них, самый верный, его покидает». Это, пожалуй, один из самых «алгебраических» ребусов. Речь идет о… тени от солнца и об одновременном отражении в воде. «Видно будет, как мертвые носят живых в разных направлениях». Леонардо говорит о повозках и кораблях. «Большая часть моря убежит к небу и не вернется в течение долгого времени». Что это? Облака. «Видно будет, как все стихии, смешавшиеся в великом перевороте, бегут то к центру мира, то к небу, а когда из южных стран бешено несутся к холодному северу, иногда же с востока на запад, и так из одной полусферы в другую». Ответ на загадку занимает больше места, чем она сама. «О воде, которая бежит мутная и смешанная с землей, и о пыли, и о тумане, смешанном с воздухом, и об огне, смешанном со своей стихией…» «Все вещи, которые зимой будут под снегом, откроются и обнаружатся летом». Это о лжи, которая не может оставаться тайной. Читатель, наверное, заметил, что большинство ребусов Леонардо начинается почти одинаково. «Видно будет…» или «Можно будет видеть…». Он учил видеть мир, постигая неожиданную суть явлений обыденных и обыденную суть явлений неожиданных. Это игра ума. Говоря современным языком, Леонардо изобретал тесты на умение видеть вещи с непривычной, непримелькавшейся стороны. Кто из нас в детстве не кидал камешков в воду, наблюдая потом за микроволнами, расходящимися от места падения? Самое обычное из детских воспоминаний. Видел это и Леонардо и, уже будучи взрослым, записал (возможно, повторив детские опыты): «…Волна бежит от места своего возникновения, а вода не двигается с места — наподобие волн, образуемых в мае на нивах течением ветров: волны кажутся бегущими по полю, а нивы с своего места не сходят». Сегодняшние физики иллюстрируют этим наблюдением Леонардо явление, называемое энтропией. «Интеллектуальные ребусы» Кэрролла чем-то — и не отдаленно, если учесть, что они жили в разные века, в разных мирах, — напоминают загадки-ребусы Леонардо. «Что общего между вороном и конторкой?» — один из вопросов, заданных Алисе в Стране Чудес. Алиса на него не отвечает. На этот вопрос потом попытались ответить сотни ученых, создав целую литературу на эту тему. Мне кажется, что конторка — это нахохлившийся ворон. Ведь конторка — мебель бюрократа, высокий столик, за которым стоит человек лицом к посетителю, и ему хочется говорить «нет» и не хочется говорить «да». Поэтому конторка и кажется, особенно с известного расстояния и особенно когда человек сидит за ней, опустив голову и рассматривая некие бумаги, недобрым нахохлившимся вороном. К Кэрроллу мы еще вернемся, и не раз. Любимая мысль Леонардо — об универсальности живописца. Хочется повторить ее еще раз, объяснив подробнее: универсальность живописца заключается в том, чтобы все видеть в мире, все понять в мире и все запечатлеть в мире. Леонардо понимал себя универсальным человеком не потому, что сочетал в одном лице живописца, ученого, инженера, был и ботаником, и гидротехником, и анатомом, и астрономом… Он видел в себе универсального человека, потому что видел мир универсально: в единстве и разнообразии. Умение видеть сосредоточенно и обдуманно, охватывать всю бесконечность бытия было для него решающим условием универсальности. Видеть в мире все вещи, понимая их совершенство. Леонардо — человек-око. Но для него и все мироздание было оком. Вот послушайте: «Моя книга имеет целью показать, каким образом Океан вместе с другими морями заставляет посредством Солнца сиять наш мир наподобие Луны и для тех, кто находится далеко, казаться светилом». Углубимся в этот текст, чтобы понять: Леонардо из немыслимой дали, из бездны мироздания, видит нашу Землю. По его мысли, само мироздание — око, такое же, как око художника. И это око нас видит. Не только мы видим небо, но и небо видит нас. Это одно из самых возвышенных очеловечиваний космоса, когда человек, как бы обожествляя его, сообщает ему лучшее, что у него есть, — умение видеть. Так в эпоху античности люди наделяли собственными добродетелями бессмертных богов. Леонардо был гениальным мыслящим оком человечества. И именно поэтому весь сегодняшний мир уже существовал в его голове (в чем можно убедиться, побывав в одном из залов замка Клу в Амбуазе). Да, весь сегодняшний мир. Но не только мир вертолетов, автоматических линий, подводных лодок и радиотелескопов, улавливающих пульсацию невообразимо далеких галактик. Мир сегодняшней человеческой души, тревожной, сомневающейся и ранимой. Ищущей истину, страдающей от лжи. Я далеко-далеко ушел от бунинского рассказа «Далекое». В том же «Далеком» Бунин ощущает потерянность человека в мироздании и конечность его существования на земле. Он пишет: «В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы в общем весьма далеки от подобных чувств…» Это гуманизм в его восхождении от Сократа — через Возрождение — к нам и дальше, в будущие века и тысячелетия. И в час амбуазской ночи или дня, когда Бунин закончил рассказ о безвестном Иване Ивановиче, этот зауряднейший Иван Иванович стал равен бессмертному Леонардо, потому что в «иной час» коммивояжер равен любому великому, если этот иной час «есть час его великой скорби или радости». И герой рассказа «Далекое» равен Леонардо. И может быть, в этом вершина и бунинского, и итальянского, и мирового гуманизма. Вершина, к которой ведут все ренессансы. И может быть, именно в этом равенстве — в нем! — а не в стынувших в музейной тишине сокровищах живописи, — в этом равенстве скромнейшего Ивана Ивановича бессмертному Леонардо и наивысшее достижение Возрождения как Гуманизма. Умение видеть. В Иване Ивановиче — Леонардо да Винчи. Видеть в человеке вечно человеческое. Вертера — в юноше, который любит первый раз. Лизу из «Дворянского гнезда» — в девушке, которая любит первый раз. Гомеровскую Андромаху — в женщине, которая расстается с мужем. Потому что без этого видения не нужны «все искусства, вся поэзия, все летописи человечества» (Бунин). Вернемся к Кэрроллу. Кстати, Леонардо, как и Кэрролл, любил нонсенсы, он увлекался сонетами современного ему флорентийского поэта Буркьелло, которые были бессмысленным набором не соединенных между собой образов и строчек, рисующих нечто абсурдное и в то же время потаенно-интересное. Когда исчезает Чеширский Кот, один из персонажей первой истории об Алисе, в воздухе остается лишь его улыбка; кота нет, но улыбка парит. Это одно из гениальных открытий Кэрролла, которое потом осмысливали математики, физики, логики. И осмысливали настолько неожиданно, что Кэрролл, вероятно, был бы ошеломлен, узнав об этом. Например, физик Энрико Ферми (1901–1954), вычислив в атомных ядрах таинственную частицу, не имеющую ни инертной массы, ни заряда, единственная реальность которой выражается в том, что она вращается, подумал, как утверждают его биографы, об улыбке Чеширского Кота. Ведь частица (названная «нейтрино») — нечто нереальное, по традиционной логике ее не существует (при отсутствии массы и заряда), ее будто бы и нет — и в то же время она… «улыбается». Я думал в ту амбуазскую ночь: если бы исчезла Джоконда и осталась лишь ее улыбка — я даже осмеливаюсь думать фантасмагоричнее, — если бы исчезла вся человеческая культура и осталась парить в пустоте мироздания лишь улыбка Джоконды, можно ли было по ней восстановить историю человеческой цивилизации, мир человека? И можно ли было по ней в далеких мирах воссоздать этот мир (разумеется, существенно улучшив его)? Умение видеть стало источником величайших открытий в науке. Альберт Эйнштейн в «Творческой автобиографии» рассказывал об удивлении, которое он испытал ребенком, когда ему показали компас. Наблюдая за стрелкой, которая вела себя «так определенно», мальчик Эйнштейн понял: за вещами должно быть что-то еще, глубоко скрытое. Став взрослым, он не раз жалел о том, что люди, вырастая, утрачивают дар удивления перед ветром и дождем, перед тем обстоятельством, что Луна не падает на Землю. Почему их больше не удивляет различие между живым и неживым? Недалеко от Амбуаза — старинный город Труа, рядом с которым археологи обнаружили в пещерах гениальные рисунки художников каменного века. Труа — это Лувр палеолита и детство человечества. Там — ниша, расписанная фигурами северных оленей. Один из оленей в пещерах Труа — как «Джоконда» в Лувре. Первобытные художники нередко изображали раненых животных (самый известный рисунок из этого ряда — раненый бизон на стене Альтамирской пещеры), но те раненые были живыми. Они, может быть, умирали, но не умерли в видении живописца. Первобытный художник был и охотником, и добрым сотоварищем охотников и видел не раз, как умирают животные, раненные Насмерть или добиваемые после нетяжких ранений. Олень в одной из ниш пещер Труа — с надломленными передними ногами и твердо стоящими на земле задними, с наклоненной головой и непреклонными линиями туловища — не ранен. Он убит наповал. Он убит, но не успел умереть, ему осталось не дыхание — полдыхания. Художник увидел и запечатлел тот перелом от бытия к небытию, когда стрела настигает животное на бешеном бегу, когда оно бежит, стоя на месте, бежит с остановившимся сердцем, бежит не ногами — одним лишь телом, которое не может поверить, что бег уже навсегда окончен. Чтобы увидеть это, надо было обладать особой наблюдательностью, обостренным чувством опасности, голода и страха — страха не перед жестокостью жизни, а перед таинством перехода бытия в небытие. Это тот самый страх, из которого, возможно, и родилась культура как убежище, укрытие и надежда на бессмертие. В образах животных на стенах пещер эпохи палеолита уже потаенно живут все богатства живописи последующих тысячелетий. Один из наших исследователей первобытного искусства Владимир Николаевич Топоров по этому поводу напоминает нам стихи Мандельштама: «Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружилися листы…» Мне раньше эти строки казались недоступно-загадочными: шепот — раньше губ, листы — в бездревесности?! Обращение к первобытной живописи сообщает им наглядную понятность: эти олени, бизоны, лошади, не объединенные композицией, не вошедшие в единый художественный замысел, а существующие как бы отдельно, сами по себе, и есть тот шепот (до губ) и листы (в бездревесности), которые — начала начал . В ту амбуазскую ночь я думал и о том, что без взгляда Леонардо не было бы и углубляющихся в суть вещей взглядов Эйнштейна и Норберта Винера. Видеть для Леонардо было особым даром, но даром, который не дается даром, от рождения, он должен быть выработан, отшлифован. Леонардо разработал гимнастику этого умения. Вот интересное упражнение: один из художников чертит линию на стене, остальные держат в руках тоненькие стебельки или соломинки и отсекают от них куски, равные, как им кажется, линии на стене, находясь при этом на расстоянии от стены в десять локтей. Затем каждый подходит к образцу, чтобы измерить определенные им размеры, и тот, чья соломинка будет равна черте, получает награду. В совете Леонардо поражает точность: надо отойти от стены на десять локтей. За этой точностью угадывается обилие опытов самого Леонардо, изучавшего оптимальные условия для совершенствования умения видеть. Можно также рассматривать с известного расстояния дротик или трость, оценивая, «сколько раз данная мера уложится на этом расстоянии». Или: начертить линию, руководствуясь одним лишь «чувством расстояния», размером в один локоть, и потом с помощью натянутой нити удостовериться, насколько это удалось. Это рекомендации человека, который сам воспитывал в себе чувство расстояния, умение видеть, идя от опыта к опыту в поисках оптимальных условий и обстоятельств для самоусовершенствования. Через века кибернетики обоснуют «закон ограниченного разнообразия». А задолго до ученых его поняли художники. Гоголь, вспоминает Бунин рассказ своего гувернера, говорил о «законах фантастического в искусстве», по которым «можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе». «Закон фантастического в искусстве» — это, по существу, и есть открытый в XX веке кибернетиками, в первую очередь Норбертом Винером, «закон ограниченного разнообразия», который царит в мироздании и делает наш мир не царством хаоса, а «островом порядка» в океане энтропии, то есть «упорядоченной системой» в стихиях, стремящихся к беспорядку. «Закон ограниченного разнообразия» — это АНТИ-энтропическая тенденция, без которой не может существовать разумная жизнь и жизнь вообще. Но до чего же безгранично — для того, кто умеет видеть мир! — это «ограниченное разнообразие»! Различные фигуры, различные выражения лиц, различные пейзажи, различные деревья, различные равнины, различные долины, различные украшения, различные холмы, различные реки… Различные золотые яблоки на различных золотых яблонях… Но ни одной груши на вербе. Леонардо любил рассматривать лица мужчин и женщин вечерами и в пасмурную погоду, отмечая в них особую нежность. У немых он учился выражению души в жестах. Он делает замечательное наблюдение, достойное того, чтобы обогатить систему Станиславского: походка ребенка напоминает походку старца (речь идет о малых детях). Эта инверсия, то есть нарочитая перестановка, обостряет нашу наблюдательность и наше понимание человека. Не удивляет, что походка старца похожа на походку ребенка, много удивительнее сопоставление походки ребенка с походкой старца. Умение резко выделить некую странность в общепринятом, увидеть в обыденном, рождающем равнодушие, нечто печально и радостно удивляющее — великий дар. Это и есть та подвижная, гибкая черта, у которой художнический взгляд на жизнь переходит в философский. Избитое сопоставление старого с малым оборачивается метафорой человеческого существования, укладывающегося между двумя беспомощностями — в начале и конце жизни. Через столетие латиноамериканский писатель Габриель Маркес напишет о мальчике, который делает в жизни самый первый шаг, что это его самый первый шаг к смерти. Маркес, когда писал, разумеется, не думал о Леонардо. Но Леонардо «думал» о Маркесе, о Бунине, о Блоке, о Белом, о художниках будущих поколений, которых учил видеть. Дитя, напоминающее старца у Леонардо, и первый шаг к смерти ребенка у Маркеса — то художественно-философское постижение трагического мира, которое обостряет наше чувство бесценности расстояния между двумя беспомощностями , расстояния, имя которому — человеческая жизнь. Это расстояние не измеришь тонким стебельком или соломинкой, отрезая от них больше или меньше, тут нужны иные меры, и Леонардо об этом тоже думал, когда говорил: тот, кто жил хорошо, тот жил долго. Чтобы совершить подобное открытие — выработать такую меру ценности человеческой жизни, — надо было уметь видеть, уметь понимать, уметь создавать. Видеть, понимать, создавать — было триединой Леонардовой формулой бытия. Состояния души для него были не менее ценны, а может быть, и более ценны, чем состояния тела. В состояниях тела он в первую очередь усматривал те или иные состояния души. Леонардо в одной из записей отмечает: «Некоторые должны сидеть с переплетенными пальцами рук, держа в них усталое колено…» (Речь идет о том, как надо изображать людей в тех или иных ситуациях.) Вы видели когда-нибудь усталое колено? «Опиши пейзажи с ветром и с водой и с восходом и заходом солнца… Опиши ветер на суше и на море, опиши дождь». Но почему — опиши , а не напиши ? Ведь советует он не писателю, а живописцу. Опиши — нарисуй в душе. Увидеть, запомнить, запечатлеть в душе и лишь потом — на бумаге, на картоне, на холсте, на дереве… И тогда увидим их мы! И опять хочется мне вернуться к Льюису Кэрроллу. Читая его, думаешь о познаваемости мира, даже когда это — безумный мир! В сумасшедших ситуациях «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье» можно открыть «несумасшедшую» логику структуры мироздания. Образцы этого открытия показал отец кибернетики Норберт Винер. В классическом труде «Кибернетика» он замечает: «Если бы мир управлялся серией чудес, совершаемых иррациональным богом… то мы были бы вынуждены ждать каждой новой катастрофы в состоянии пассивного недоумения». Образ мира, управляемого серией чудес, Винер находит в «Алисе в Стране Чудес». Помните, Кэрролл рассказывает о крокетной игре, в которой молотки — фламинго, шары — ежи (они, когда им хочется, разворачиваются и идут по собственным делам), ворота — карточные солдаты (они тоже совершают те или иные действия по собственной инициативе). А законы игры определены декретами безумной королевы червей, поведение которой непредсказуемо. Фантасмагорическая картина, созданная Кэрроллом, помогла Винеру в осознании закона о необходимости существования явлений, которые не оставались бы изолированными и обладали бы определенной логикой поведения. Винер шел от обратного, ибо в крокете Кэрролла все изолировано и лишено элементарной логики. Это не тот мир, в котором могла родиться и достигнуть определенного совершенства жизнь. А безумное чаепитие в той же «Алисе в Стране Чудес»?! В нем современные ученые увидели поучительные модели «безумного мира», делающие наше мироздание все более постигаемым. Стоит заметить, что Норберт Винер, как и Эйнштейн, учился видеть у писателей и художников. Иногда это выражалось даже в непосредственных сравнениях. Рассказывая о математике Дирке Яне Стойке, Норберт Винер замечает, что борода делала его похожим на стариков Рембрандта. Мир Кэрролла, в котором отсутствует порядок и система, дал мощный стимул для поисков борьбы с дезорганизованностью, с «вторым законом термодинамики». Миссия человека состоит в том, чтобы в хаотическом мире «создавать островки порядка и системы». Это требует порой максимальных усилий. Для характеристики этих усилий Норберт Винер опять обращается к Кэрроллу, к одному из персонажей «Алисы в Зазеркалье», который, для того чтобы оставаться на месте, должен был бежать изо всех сил — настолько стремителен бег земли под его ногами… Умение видеть. В фантастических, безумных ситуациях — логику. Странную логику структуры мироздания, тайн Вселенной. Это, может быть, высшее умение. Высшая математика искусства видеть. Леонардо увидел образ вертолета в детской игрушке, изображенной на одной из картин XIV века. В эту минуту он сам стал ребенком, ощутив ошеломляющую новизну, казалось бы, обычных вещей. Наш современник — писатель Юрий Олеша в книге «Ни дня без строчки» задумывается о том, когда наступает минута, отделяющая «обыкновенного» мальчика от поэта или живописца. И уловима ли эта минута? Юрию Олеше уловить ее, возвращаясь памятью к детству, не удалось. Мне кажется, эта минута начинается не тогда, когда начинаешь видеть мир иначе, чем остальные: человек сам начинает видеть себя по-новому. Это особый взгляд — не от себя, а внутрь себя, в то таинственное «я», которое раньше не ощущалось как нечто единственное в мире. Пожалуй, нет человека, который на старости лет не был бы в той или иной степени одержим «поисками утраченного времени». Был ли Леонардо исключением? Авторы беллетристических повествований о нем утверждают, что не был. Он тоже возвращался мыслью к детству, юности, к первой работе, первым шагам в искусстве… Но мне кажется, что «поиски утраченного времени» были абсолютно чужды Леонардо, его время не было «утрачено». Настоящее, одно лишь настоящее захватывало его безбрежные интересы настолько, что, наверное, не оставляло на воспоминания ни телесных, ни душевных сил. Леонардо в записях все время возвращается к мысли об универсальности, но его волнует не универсальность личности вообще, а универсальность живописца, универсальность мастера, запечатлевающего все разнообразие мира обдуманно и, выражаясь современным языком, высококомпетентно. Видеть для Леонардо — это насытить око всем богатством видимости и, не дав ускользнуть ни одной подробности, углубиться в самую суть явления, таящуюся за видимостью, а потом опять насыщать и насыщать око, уже понимая суть явления и видя его в развитии, в изменении, в трепете и пульсации жизни. Увидеть, чем было это раньше и чем будет потом, через тысячелетия. Иногда в Амбуазе мне казалось, что по реке Луаре, за течением которой сосредоточенно наблюдал старый Леонардо, скользит лодка, в ней Кэрролл рассказывает девочкам свои истории. Порой об абсурдных вещах. Разве не абсурдна игра в крокет, где роль молотков выполняют живые фламинго, но если абсурд понимать широко, то чудо — тоже абсурд, потому что в нем нарушены или, точнее, будто бы нарушены некие законы бытия. О Леонардо часто сегодня говорят и пишут, что все научно-технические революции будущего уже жили в его голове. Это общая формула. Рассмотрим ее в подробностях. Хотите узнать, чем занимался серьезно и тщательно этот человек? Анатомией, физиологией, антропологией, ботаникой, геологией, географией, топографией, космографией, чистой механикой, гидравликой, гидромеханикой, океанографией, оптикой, термологией, физикой, астрономией, математикой… (Для одного человека более чем достаточно. Но мы лишь начали перечислять…) Он занимался всеми видами техники, включая инженерию, машиностроение и летное дело; он изучал рост растений и деревьев, течение рек, движение вод, геологические образования почв, атмосферные явления, окаменения… …Кровообращение, физические, биологические, оптические, математические и астрономические законы; он первым сформулировал закон сохранения энергии, первым объяснил до Галилея падение тел, вычислил величину трения… Не много ли для одного человека? Он разработал волновую теорию, анализировал в мельчайших деталях полет птиц и строение глаза, изучал и устанавливал законы рождения облаков, дождей и молний; думал о бесчисленности миров и идентичности Земли и небесных тел; открыл в рычаге прообраз всех будущих машин, конструировал сложнейшие аппараты, прообразы чудес техники XX века; он изобрел станки для витья веревок, прялки, буровые инструменты, конические мельницы для растирания красок, горизонтальные турбины, блоки и лебедки, токарные станки… (Но и этого мало!) …Машины для обтачивания напильников, пил и винтов, машины для прокатки золота и выбивания монет, паровую пушку, землекопалку, одноколесную тачку (все это можно увидеть в его музее в замке Клу в Амбуазе), парашют, водолазный костюм… И он же написал картины, совершенство которых кажется фантастическим. Один человек. Разве это не чудо? Разве это не «абсурд»? В рассказах, посвященных закату античности и заре Возрождения, Бунин увидел Лауру в портале церкви в Авиньоне, став в эту минуту Петраркой, и он увидел мысли Сократа о «божественном начале» в человеке, мысли, которые волновали Марка Аврелия в последнюю минуту его жизни. «Ты всегда должен мыслить мир, — писал Марк Аврелий, — как единое существо, с единой сущностью и единой душой». А мыслить — по Леонардо — это видеть. Видеть мир как единое существо. *** Тициан. Портрет французского короля Франциска I. Себастьяно дель Пьомбо. Портрет Колумба. Неизвестный художник. Портрет Америго Веспуччи. Вид Земли с поверхности Луны (фото). Леонардо да Винчи. Зарисовки движения воды. Днепрогрэс (фото М. Альперта). Леон Баттиста Альберти. Старинная медаль. Леонардо да Винчи. Анатомический рисунок. ГЛАВА 2 Жизнь как секрет, или… (Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Леонардо да Винчи и Верроккьо, «Крещение Христа», фрагмент ) Если верить Вазари, автору первого и самого популярного «Жизнеописания» Леонардо да Винчи, написанного в XVI веке (когда Леонардо умер, Вазари было восемь лет), то Леонардо ушел из жизни в замке Клу на руках французского короля Франциска I, который царственно обласкал его в последнюю минуту… Но потом исследователи «трудов и дней» великого флорентийца обнаружили в королевских архивах документ, доказывающий, что в тот день, когда Леонардо скончался, 2 мая 1519 года, Франциска I в Амбуазе не было. Судя по этому документу, король находился в Сен-Жермене. Но сторонники легенды не успокоились: они выдвинули версию, по которой государственный канцлер датировал документы сообразно с временем и местом, где пребывал сам. Сторонники легенды убеждали оппонентов, что Вазари о последних минутах Леонардо да Винчи узнал от его любимого ученика Франческо Мельци, который был рядом с великим учителем до конца. Но легенда постепенно тускнела, потому что все новые документы в архивах говорили о том, что Франциска I второго мая в Амбуазе не было. Легенда потускнела, но не умерла, от нее осталась не только возвышенноромантическая картина французского художника XIX века Энгра, но и романтические аргументации, которые, в частности, нашли отражение в итальянском телефильме «Жизнь Леонардо» (он был показан несколько лет назад в ста двадцати странах). Бруно Нардини — автор телеромана, положенного в основу фильма, один из самых талантливых современных исследователей жизни Леонардо — перенес события из реальной действительности в возвышенные видения самого Леонардо: умирая, он видит короля, который летит к нему на бешеном коне вдоль берега Луары, умоляя: «Маэстро, отец мой (Франциск I действительно называл Леонардо отцом), подождите меня!» Легенда не хочет умирать. И виноват в этом сам Леонардо. Его личность, казавшаяся даже современникам непостижимой и загадочной, располагала к легендам. Они рождались и уже не умирали. Живет легенда о его таинственной любви к жене флорентийского купца Франческо ди Бартоломео да Дзаноби дель Джокондо, которую он увековечил на портрете. По сей день не утихают споры, кто же действительно изображен на портрете, названном именем «Джоконда». Легенда не умирает, и экскурсоводы в Лувре рассказывают удивительные подробности об этом загадочном и трагическом романе. А легенда о путешествии Леонардо на Восток, в горы Армении! В его архивах были найдены черновики письма на имя высокопоставленного лица в Сирии, наместника «султана Вавилонского» (Вавилоном тогда называли Каир). В письме Леонардо повествует о путешествии по Армении и о желании посетить Сирию, для того чтобы осуществить ряд великих замыслов. Черновики действительно написаны рукой Леонардо, но абсолютно точно установлено, что ни в Армении, ни в Сирии он никогда не был. Леонардо был великим фантастом. Он воспринимал реальность настолько полно и ярко, будто был наделен не пятью чувствами, а пятьюстами, и, несмотря на это, ему мало было реальности. Повторяя часто в записях, что не надо желать невозможного, он невозможного хотел постоянно. Легко развенчать легенды, окружающие его имя, особенно сегодня, когда найдены новые рукописи, когда расшифрованы его странные, «зеркальные» письмена. (Он писал справа налево, и поэтому читать его можно лишь посредством зеркала.) Но легенды, если заимствовать термин из Льюиса Кэрролла, — Зазеркалье. А Зазеркалье, несмотря на всю фантастичность этой страны, отражает нечто реально существующее. Ведь это не мир чистых вымыслов, а третье или четвертое измерение Зеркала, в котором живет мир реальный. Да, Леонардо не был на Востоке, но совсем недавно в Стамбуле был обнаружен листок с турецким переводом письма Леонардо турецкому султану Баязиду Второму. В этом письме он писал: «Я слышал, что ты имеешь намерение соорудить мост из Галаты в Стамбул, но что ты не соорудил его из-за отсутствия знающего мастера». И предлагал построить мост, под которым могли бы проплывать парусные суда. Гидротехника была одним из самых любимых увлечений Леонардо да Винчи. Ему хотелось менять русла рек, строить каналы, осушать болота. В этом было что-то фаустовское — Фауст ощутил высший смысл бытия, осушая болота. Леонардо, как никто, чувствовал воду: «Река, которая должна повернуть из одного места в другое, — записал он однажды, — должна быть завлекаема, а не ожесточаема насильственно». Это можно отнести и к реке человеческой жизни. Но судьба самого Леонардо, к сожалению, бывала часто завлекаема насильственно. Рассказать об этой судьбе нелегко. Был у меня соблазн изложить биографию героя моего повествования строго хронологически, от первой строки: «Родился в апреле 1452 года в маленьком селении Винчи у подножия Албанских гор, между Флоренцией и Пизой», до последней строки: «Умер в мае 1519 года в замке Клу в французском городе Амбуазе». Но между этими двумя строками жизнь настолько странная, не остросюжетная, не авантюрно-детективная, чем отличаются биографии людей итальянского Ренессанса, а именно странная, не поддающаяся стройному или систематическому анализу, что для постижения ее, наверное, нужны — понимал я все полнее — иные решения. От строгого хронологического повествования удерживало меня и то обстоятельство, что в этом стиле выдержаны почти все жизнеописания Леонардо, начиная от самого известного из них — пера Джорджо Вазари. Располагая большой «библиотекой по Леонардо» (я собирал ее более тридцати лет), удержаться от соблазна изложения биографии, основанного на фактах, описанных уже тысячи раз, было нелегко. Но чем основательнее я погружался в жизнь Леонардо, тем ощутимее становился подводный риф, о который разбивался замысел строгого хронологического повествования: множество раз описанное не обладало неопровержимой достоверностью. Личность, которой посвящено более трех тысяч томов, оставалась загадочной. Я избрал иную композицию, основанную на логике моего постижения этой судьбы, имея в виду в большей степени жизнь духа, не поддающуюся систематизации. Помнится, Паустовский делился с читателем замыслом написать о чем-нибудь, не помышляя о канонах и традициях, настолько раскованно, когда рука повинуется лишь игре мысли. Я решил написать раскованно не потому, что этого хочет мое авторское «я», а потому, что этого, как мне кажется, хочет личность самого Леонардо. Я вглядывался в его жизнь, различая в ней все новые образы мира и не помышляя о том, чтобы уложить их в некую тесную систему. Леонардо учит видеть, в том числе видеть в одной человеческой жизни больше, чем… Начнем не с первой строки его сложного и странного земного странствия, а с последней. Он умер в Амбуазе 2 мая 1519 года… И был похоронен, согласно завещанию, в одной из амбуазских церквей, в часовне. Эта церковь была разрушена в 1808 году. «В это время, — отмечает Жозефен Пеладан, один из исследователей жизни Леонардо, — все амбуазские дети играли вместо игрушек человеческими костями…» Может быть, они играли и костями Леонардо… Но поклонники великого художника и ученого, пользуясь старинными документами и рисунками, искали его могилу и, как им казалось, нашли. То, что некогда было телом, приняло необычную позу. Голова опиралась на руку. Леонардо будто бы и по ту сторону жизни размышлял. О чем?.. Неизвестно, что стало потом с черепом Леонардо. «Мне стыдно признаться, — говорил Жозефен Пеладан в 1914 году, — что мои соотечественники отнеслись к этой находке с полнейшим равнодушием». (О, если бы, — думал я, читая эти горькие строки, — был там в то время наш Михаил Михайлович Герасимов, восстанавливающий с научной точностью лицо по черепу…) Но в Амбуазе меня, конечно, повели на могилу Леонардо да Винчи. На его символическую могилу: часовня и бюст Леонардо на высоком постаменте. Экскурсовод рассказал, что подлинная могила Леонардо уничтожена была в конце XIX века загадочным обвалом горы. Тоже легенда? В Амбуазе Леонардо дописывал картины, в том числе и ту, что названа «Джокондой», занимался математикой, играл на лире и пел. Но особенно увлекло его обследование водных источников. У него зародились новые замыслы сооружения каналов, соединения рек, орошения полей. Франциск, в отличие от других его покровителей, не настаивал на том, чтобы Леонардо писал картины: может быть, он был единственным из меценатов, который действительно его понимал и любил, хотя, конечно, не бескорыстно. Франциску импонировало, что он покровительствует великому человеку. Авторы итальянского телефильма уверяют нас, что в Амбуазе Леонардо возвращался мыслями к детству. Точная дата рождения Леонардо установлена лишь недавно, в 1931 году. Да… перед нами великий человек, «виновник будущего», о котором будущему, то есть нашей современности, известно гораздо меньше, чем можно было ожидать. Несколько веков не ведали, когда точно родился, и до сих пор неизвестно, где покоятся его кости. Немногим больше известно и о его матери. Может быть, она была, как утверждают некоторые исследователи, крестьянкой, может быть, из родовитой семьи. Обе версии одинаково убедительны и одинаково неубедительны. Подлинно из документов, не подлежащих сомнению, известно лишь одно: он был внебрачным сыном нотариуса Пьеро да Винчи. Мать Леонардо после его рождения вышла замуж за местного жителя Антонио. Леонардо жил в детстве с мачехами. Жёны Пьеро да Винчи умирали (в ту эпоху молодые женщины умирали часто), и он женился опять и опять, оставив после себя десять сыновей и двух дочерей. Нам почти ничего не известно о детстве Леонардо. Лишь однажды в записях он коснулся начала жизни, рассказав о странном сне: будто бы коршун подлетел к его колыбели, открыл ему рот и ударил хвостом несколько раз по губам. Леонардо потом часто возвращался мыслью к этому сну. Особенно когда думал о том, что человек может и должен летать. Бруно Нардини называет коршуна вестником судьбы. Но коршуны не были редкостью в той долине, где расположено село Винчи… Когда Леонардо уехал с Пьеро да Винчи и его первой женой — юной флорентийкой Альбиери во Флоренцию, ему было немногим более десяти лет. Альбиери умерла, молодой вдовец женился на шестнадцатилетней Франческе Ланфредерини, а маленький Леонардо переехал из родного (родного ли?) дома в мастерскую известного художника Андреа Верроккьо, став его учеником. Верроккьо мы обязаны тем, что можем увидеть подлинные черты совсем юного Леонардо. Мальчик послужил моделью для художника, когда он лепил, а потом отливал в металле юного Давида. Уже тогда Леонардо да Винчи был поразительно красив, что отмечали потом в воспоминаниях его современники. Поразительно красивым, «божественно красивым» он оставался до последних минут жизни. …В сухих, безэмоциональных записях Леонардо исследователи старались найти нечто относящееся к удивительным обстоятельствам его жизни. И они все больше убеждались, что Леонардо и в этом смысле уникален: при массе записей, при Гималаях исследований, ему посвященных, он остается загадкой. Автор «Трактатов» и «Кодексов», которые по сей день находят в библиотеках мира, «Мадридский кодекс», человек, о котором написаны тысячи книг, по-прежнему непонятен, как инопланетянин. Человечество располагает массой документов, массой аналитических попыток разобраться в этих документах, и все же что-то самое существенное, самое глубинное и, может быть, самое дорогое ускользает, не дается нам… Полемически заострив ситуацию, можно утверждать: нам известно все о нем и не известно ничего. Все о его научно-инженерной деятельности до мельчайших, не в состоянии быть измышленными самой богатой фантазией подробностей, почти все о его художественном творчестве, и ничего о его жизни внутренней, и далеко не все об обстоятельствах внешних. Он сообщил потомству, почему жужжат мухи, как рождаются разные типы волн и на что иногда бывают похожи облака в вечерний час, но нам неизвестны даже его отношения к отцу и к матери, мы не знаем, любил ли он женщин, были ли у него возлюбленные. (Писатели, в частности Мережковский, фантазируют на эту тему увлекательно, но неубедительно.) Неизвестны нам и важные события его жизни. Невольно создается впечатление, что, засекречивая зеркальным письмом мысли и наблюдения, он и этому письму все же не доверял тайн души. Они оставались в туманном, недостижимом Зазеркалье. И останутся там навсегда. Именно поэтому исследователи ловят обмолвки, повторения, усматривают в сухих сообщениях важных событий будто бы укрощенную эмоциональность. Через несколько десятилетий после разлуки с родным селением Винчи и женщиной, которая была его матерью и которую он, возможно, в детстве ни разу не видел, Леонардо записал: «В день 16 июля. Катерина явилась в день 16 июля 1493 года». Он записал это уже в Милане. На службе у герцога Лодовико Моро. Дмитрий Сергеевич Мережковский первым высказал версию, что Катерина — это мать Леонардо, которая совершила путешествие в Милан, чтобы повидать сына. Зигмунд Фрейд согласился с этой версией, заметив в сухой информационной записи одну странность: день и месяц повторены дважды. «В день 16 июля… 16 июля 1493 года». Фрейд увидел в этом повторе не рассеянность или небрежность, а высшую сосредоточенность взволнованной души, которая хочет скрыть беспокойство. Позже Леонардо заносит в книжку: «Расходы на погребение Катерины — 27 флор. 2 фунта воска — 18 Катафалк — 12 За перенесение и установку креста — 4 Людям, несшим тело — 8 За колокольный звон — 2 4 священникам и 4 клерикам — 20 Могильщикам — 16 За разрешение чиновникам — 1 Всего 108 флор. Прежние расходы: Врачу — 4 флор. Сахар и свечи — 12 …………………………16 Итого 124 флор.» Фрейд называет этот документ «непостижимым для потомства». И с ним соглашаются современные исследователи. Он убедителен именно этой непостижимостью, именно этой, как отмечает Бруно Нардини, «ужасающей бесстрастностью». Леонардо защищает от посторонних жизнь и муку собственного сердца. Леонардо не выдумывал мадонн. Он был первым из художников, кто делал обширные физиономические наблюдения. Недаром он утверждал, что «хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души». Поэтому Леонардо и советует художнику, где бы он ни находился, сосредоточенно и незаметно наблюдать, зарисовывать все разнообразие человеческих чувств и черт. В юности, как и в более поздние годы, он видел женщин, освещенных ожиданием и радостью материнства. Но из его собственной души, вероятно, что-то ушло — может быть, тоска по матери. Поэтому его поздние мадонны менее печальны, менее сосредоточенны, менее углублены в себя. Ранние мадонны и Джоконда — существа из разных миров. В Джоконде нет абсолютно ничего от тепла и очарования материнства, и вообще, чем взрослее становится Леонардо, тем менее ощутимо в его мадоннах то особое состояние души, которое отличало их раньше. Может ли быть Джоконда возлюбленной? Это, конечно, не исключено, хотя вероятно и даже вероятнее всего, что возлюбленной Леонардо она не была. Может ли быть Джоконда матерью? Мне кажется, никогда. Если есть чувство, которое абсолютно отсутствует в ее облике, то это именно чувство материнства. Джоконда — это судьба и это ответ судьбе. Ее мог написать лишь человек, у которого судьба отняла мать. Мы почти ничего не знаем о той поре жизни Леонардо, когда неосознанно складываются отношения между человеком и миром, оставляя неизгладимую печать на восприятии действительности, формируя склад души и ума. Леонардо был не только художником, ученым и инженером, но и писателем. Но о детстве он оставил нам лишь одно воспоминание — сон о коршуне. Был ли Леонардо ребенок-чудо? Нам об этом ничего не известно. О чудо-детях сохранились документы и легенды. Известно, например, что художник XV века Мантенья был записан в цех художников, когда ему было десять лет. Один из первых и самых серьезных исследователей культуры Италии в эпоху Возрождения Якоб Буркхардт отмечает, что в то время необыкновенные дети встречались часто. Гиулио Кампагнела, родившийся в 1440 году, в пятнадцать лет уже был известен как живописец, ученый, музыкант и поэт. Буркхардт упоминает о ребенке, который с шести лет изображал Меркурия с удивительной грацией и вполне соответственно обстоятельствам; о десятилетнем мальчике, который держал перед папой римским в течение двух часов речь, исполненную эрудиции и ораторского искусства. Полициано упоминает в одном письме об одиннадцатилетнем мальчике, умеющем диктовать одновременно пять писем на разные, заданные ему тут же темы. Семилетние дети писали латинские письма. Среди четырехлетних были ораторы, изумлявшие аудиторию чистой латинской речью. Был ли Леонардо необыкновенным ребенком? Вряд ли. Ведь мерилом исключительности было ораторское искусство или овладение латынью. Леонардо всю жизнь был к этому равнодушен. Мне кажется, необыкновенность Леонардо в раннем детстве (это, разумеется, не больше чем «рабочая версия») можно объяснить исключительностью Ивана Бунина, о которой он подробно, с величайшей точностью рассказал в романе «Жизнь Арсеньева». Самым содержательным в этой, в сущности, обыкновенной необыкновенности было ежеминутное, не прекращающееся даже во сне общение с землей, со всем тем чувственным, вещественным, из чего создан мир. Это было общение с солнцем, травой, дождем, с оврагами, с чащами, с животными, особенно с лошадьми — с «божественным великолепием мира». У Бунина это «божественное великолепие» — в рассказах и повестях. У Леонардо да Винчи — в рисунках и картинах. В «Жизни Арсеньева» можно найти строки, освещающие тайну детских лет Леонардо да Винчи. Бунин в старости писал: «Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь?» Бунин писал о том, что в детстве окружающий мир не только великолепен, но и «пленительно-страшен». И это тоже можно найти в рисунках и картинах Леонардо. Всю жизнь Леонардо волновали разнообразные растения, он рассматривал их с углубленной любознательностью ботаника и выписывал с величайшей тщательностью. Некоторые виды растений нарисованы Леонардо с научной точностью, позволяющей говорить о нем как о ботанике. И всю жизнь Леонардо испытывал огромный, так и не разгаданный до сих пор интерес к пещерам, массам камней, темным сырым гротам. Может быть, и в этом таинственном увлечении выразилась его скрытность и замкнутость. Леонардо о себе как о человеке почти ничего не написал, но разве мы не можем воссоздать — по картинам — его духовный облик, его человеческую уникальность, истоки которой в детстве? Мастерская Андреа Верроккьо, как и все мастерские художников итальянского Ренессанса, была удивительным миром, где соседствовали живопись с архитектурой, архитектура с инженерией, инженерия с самыми различными рабочими ремеслами. В этом выразился дух Ренессанса, его единая, цельная культура, формирующая универсального человека. В мастерской Верроккьо рядом с мастером работали и жили юные, веселые, талантливые художники. Но Леонардо с самого начала удивлял учителя и сверстников «фантазиями». Но это было не беспечное воображение художника. Его буйная фантазия питалась точными наблюдениями ученого. Он уже в юности изображал то, что одновременно и существует и не существует. В этом — будущий Леонардо, самый фантастический реалист мира. Одной из первых его работ был картон, по которому во Фландрии должны были выткать портьеру для португальского короля. Картон этот утерян (что потом станет трагической судьбой большинства работ Леонардо), нам о нем известно лишь по «Жизнеописанию» Вазари, который отмечает, что травы и животные на поляне были изображены с удивительной точностью, а листья и ветви фигового дерева исполнены с терпением, обнаруживающим упорство этого таланта. На этом картоне первый раз Леонардо-ученый соединился с Леонардо-художником. Он изучил строение пальмы, чтобы почувствовать ее гибкость и грациозность, он нашел идеальные формы, почерпнув прообразы в самой жизни. Одна из картин, изображающая Нептуна в колеснице, запряженной морскими конями, тоже не сохранилась. О ней рассказывает Вазари. Эти летящие, летящие кони всю жизнь сопровождали Леонардо — самого медлительного из живописцев! Он любил бешеный бег коня, его восхищал момент, когда этот бег укрощался сильной рукой опытного наездника. При всей научной точности его ума, при всем углубленном любопытстве к реальности у Леонардо всегда чувствуется желание создать то, чего в реальности нет. В жизнеописаниях Леонардо уже давно стала общим местом история фантастической росписи щита. Она почерпнута у Вазари. К серу Пьеро да Винчи однажды обратился некий поселянин с вопросом: можно ли во Флоренции найти художника, который расписал бы щит, собственноручно вырезанный поселянином из фигового дерева? Сер Пьеро, человек, умеющий ценить нужных людей, — а поселянин был большим мастером ловить птиц, удить рыбу, чем увлекался и серьезный нотариус, — пообещал, что щит будет расписан. Он поручил эту работу сыну. Леонардо отнесся к, казалось бы, маловажному делу с величайшим рвением. Щит был выправлен на огне, выровнен токарем, а затем… затем началось самое удивительное, заслуживающее особого осмысления в этой уже почти банальной, тысячи раз описанной после Вазари истории. Леонардо изобразил на щите ужасное чудище. Оно выползало из темной расщелины, из раскрытой пасти вырывался огонь, а из ноздрей дым. Не ожидавший ничего подобного сер Пьеро при первом взгляде на щит отшатнулся в страхе, ему показалось, что перед ним не изображение, а живое существо. Леонардо добился своего! Он создавал чудище, заимствуя формы у хамелеонов, ящериц, летучих мышей, которыми заполнил мастерскую, где они издыхали; в комнате стоял смрад, но он в упоении работой, наверное, этого не замечал. В этой истории мне хочется выделить одно не замеченное ранее обстоятельство: Леонардо создал чудище на щите . Щит должен устрашать! Через несколько столетий известный английский художник Теннил, иллюстрируя «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, нарисовал устрашающее чудище для обложки. Но насколько органично было подобное изображение на щите, настолько же неоправданно было оно на обложке «Алисы», поэтому Кэрролл и отказался от рисунка. А сейчас коснемся одной из самых странных загадок характера и мировоззрения Леонардо. Он уже успел уехать из Флоренции в Милан, он уже успел в Милане создать бессмертные вещи, в том числе «Тайную вечерю», когда наступили трагические для Италии дни. Началась война. Иноземцы грабили и уничтожали города, не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Судьба любимого Леонардо Милана висела на волоске. О чем же думал Леонардо в те трагические дни? Да, да, тут мы касаемся одной из самых странных и страшных загадок его характера и мировосприятия. Он записал в те тревожные, судьбинные дни: «Спроси жену Бьяджино Кривелли, как каплун высиживает куриные яйца, когда его напоят вином». Создатель новых видов вооружения, которые в соответствии с уровнем техники его эпохи сопоставимы лишь с атомными бомбами, был занят тем, чтобы… заставить каплуна высиживать куриные яйца, дав ему корм, насыщенный вином. Иные современные исследователи жизни Леонардо объясняют эту непостижимую запись тем, что в ней скрыта тайная метафора. Каплун — это сила, которая готова была уничтожить Милан. Куриные яйца — это вечная жизнь. Но мне этот образ кажется весьма надуманным. Более вероятно, что Леонардо действительно волновала «данная реальность»: пьяный каплун, высиживающий куриные яйца. Эта «модель» ничтожна и более чем неактуальна в сопоставлении с тотальными ситуациями современной ему действительности. Но при всей ничтожности это микрочастица вечно загадочного мира, который никогда, ни при каких обстоятельствах, не переставал его волновать. Этот микроэксперимент — в духе всех экспериментов Леонардо, пытающегося познать мир и изменить мир. В этом будто бы безразличии ко всему можно увидеть и острый интерес ко всему. В этом «индефферентизме» можно усмотреть и мудрость, мудрость человека, который, видя, что его большие мысли сегодня не нужны, пытается послужить человечеству маленькими мыслями. Он жил в остросюжетное время и умел в это остросюжетное время решать и микрозагадки. А постарев (об этом тоже рассказывает Вазари), Леонардо создал чудо-ящерицу. Однажды садовник (это было уже в Риме) показал ему в кувшине зеленую ящерицу с голубой шеей. Леонардо попросил отыскать и вторую ящерицу, хотя бы и мертвую. Из двух ящериц, живой и мертвой, он создал фантастическое существо с крыльями, рогами и бородой. Ящерица была похожа на дракона. Держал он ее в коробке. «Что там у тебя в коробке?» — спрашивали его. Он поднимал крышку, и люди отшатывались в ужасе, как когда-то отшатнулся нотариус Пьеро да Винчи. Когда сопоставляешь тот щит, который Леонардо перевоплотил во фрагмент ужасного фантастического мира, с ящерицей, которую он переделал в фантастическое существо, вызывающее страх и трепет у окружающих и веселье у него самого, кажется, что и первый, и второй — опыты юноши, лишь начинающего жить. Но щит действительно забава юности, а ящерица — забава или утеха старости? Старости? Нет. Эту ящерицу «лепил» из живого материала тот же юноша. Леонардо старел, не старея. Порой думаешь, что он тратил себя на веселую и странную чепуху, но эти забавы — забавы гения — заключали в себе ту же страсть к познанию мира, к неведомым формам, заложенным в его недрах, что и великие опыты в науке и искусстве. Страстная любовь к новизне (а творчество — это рождение новизны) видна и в серьезном и в «несерьезном»: в его летательных аппаратах, в его анатомических штудиях, в его архитектурных замыслах, научных изысканиях-и в мальчишеских розыгрышах и чудачествах. Новизна и в искусственных крыльях, которые должны поднять человека к небу, новизна и в чудище на щите, новизна и в ящерице, ставшей диковинным инопланетным существом, новизна и в желании, чтобы пьяный каплун высиживал, что несвойственно ему, куриные яйца. Наверное, эти диковинные вещи надо рассматривать как живые метафоры его духовного мира, помогающие лучше понять вообще мир человека . Многие современники не понимали его и даже осуждали. В их числе был, как это ни странно, и друг Рафаэля — Кастильоне, который обвинял Леонардо в том, что он губит «великое искусство». Но, обвиняя, Кастильоне невзначай высказал глубокую мысль — может быть, одну из самых верных и ключевых мыслей о Леонардо. Кастильоне объяснял «нелюбовь» Леонардо к живописи тем, что есть вещи, которые великий художник высказать в живописи не может. Трагедия Леонардо в том, что ему, гениальному живописцу, было мало живописи, он хотел созидать новые формы не в искусстве, а в самой жизни. (Через несколько веков это трагически повторилось в судьбе нашего Гоголя и заставило его кинуть в огонь рукопись второй части «Мертвых душ». Гоголю тоже было мало одной литературы…) При всей своей гениальности живопись Леонардо все же не могла выразить его грандиозное понимание мира, его неутолимую жажду новизны, его фантастическое (для современной ему эпохи) видение действительности, поэтому, кажется мне, и рождались странные забавы. Ему хотелось овладеть «последними тайнами» мира — тайнами бессмертия. Именно это и делает его бессмертным. Во всем, чем он занят, чувствуется желание победить разрушительную силу времени. Этого не понимали его меценаты, и в первую очередь — могущественный покровитель папа Лев X. Папа Лев X поручил ему написать фреску за алтарем церкви Сант-Онофрио. Это было уже в Риме, куда потянулись все художники к папе, любящему искусство. Через несколько месяцев папа поинтересовался работой Леонардо. Ему ответили, что Леонардо расписывать фреску не начал, он перегоняет масла и особые травы для получения лака, который обеспечит фреске долговечность. Лев X раздраженно заметил: «Человек, который думает о конце работы, даже не начав ее, никогда ничего не выполнит!» Между тем в том, что Леонардо начал работу над фреской с конца, выразился весь его характер, не понятый нетерпеливым заказчиком. Эти масла и травы были для Леонардо отнюдь не забавой. (Для него вообще забав в нашем понимании не было.) Овладеть тайной вечной молодости, тайной вечной жизни было мечтой той эпохи, недаром увлеченной алхимией. Алхимики искали «философский камень». Лак, который хотел создать Леонардо, и был для него «философским камнем». «Философским камнем», который дарует фреске вечную молодость, вечную жизнь. Все попытки охватить бытие Леонардо одной мыслью, единой системой бессильны. Поэтому, наверное, Поль Валери и назвал работу, посвященную ему, «Введение в систему Леонардо да Винчи». «Введение…» Нелегко отважиться на большее, чем введение, когда пишешь об этом человеке. Две будто бы несущественные подробности — мысль о пьяном каплуне и забота о травах, делающих фреску долговечной, — открывают, по-моему, нечто важное в характере Леонардо. А его фаустовское желание осушать болота? Фауст у Гёте, как мы помним, воскликнул: «Мгновение, повремени!»— то есть ощутил, что настал высший миг его жизни, насыщенный вечностью. Работа по осушению болот — а ее Лев X поручил Леонардо, разочаровавшись в нем как в живописце, — доставляла ему величайшую радость. Обследуя вредоносные Понтийские болота, он вновь почувствовал себя в родной стихии, «водных дел мастером», как в те времена, когда осушал болота для Лодовико Моро. В Виндзорском собрании сохранилась великолепная карта Понтийских болот, составленная Леонардо. Но через короткое время мирная римская жизнь оборвалась. Во Франции умер Людовик XII, и новый король — Франциск I собирался в поход на Ломбардию, чтобы вытеснить из Милана швейцарцев и сына Лодовико Моро. Леонардо выехал к войскам папы Льва X с Джулиано Медичи. Он уже не вернулся в Рим. Автор одного из самых тонких эссе о Леонардо да Винчи — Уолтер Патер пишет о нем, что он явился в мир с «секретной миссией ». В чем же была эта «секретная миссия»? Писать картины? Строить летательные аппараты? Изучать анатомию? Изобретать новые военные орудия и мирные машины? Задумывать «идеальные» города? Осушать болота? Леонардо никому не открыл этого «секрета». Но по всей вероятности, он и сам ощущал себя человеком, выполняющим в мире некую «секретную миссию». Отсюда и все его большие и малые «секреты» и в записных книжках, и в жизни. Известно, что одно время он тайно занимался оккультными науками, алхимией, его называли магом. В ту эпоху увлечение натуральной магией было велико, несмотря на первые успехи естествознания. Но не это, конечно, было его «секретной миссией». Астрологией и алхимией занималось немало людей в его окружении. Это была мода. Франциск I вошел с войсками в Италию, в Болонье Лев X с ним помирился, тогда же Франциск I убедил стареющего Леонардо оставить Италию ради Франции, где от него ничего не потребуют, кроме радости общения. Леонардо уехал из Италии. По дороге Франциск I наслаждался его рассказами, его открытиями, его наблюдениями. И наверное, его шутками, его остроумием. По всей вероятности, Леонардо был интереснейшим собеседником. Настолько интересным, что Франциск поселил его рядом с собственным дворцом в Амбуазе, в замке Клу, и устроил тайный подземный переход, чтобы в любой час навещать высокого гостя. Но не чересчур ли увлеклись мы логикой нехронологического повествования ради постижения загадок мира Леонардо? Не пора ли для того, чтобы читатель увереннее чувствовал себя, сообщить основные даты и события этой жизни в строго хронологическом порядке? Мне по-чему-то хочется отодвинуть этот момент нашего рассказа и вернуться опять к сумасшедшим загадкам, рисункам, играм Леонардо. В этом «сумасшествии» отразились не только особенности личности художника и ученого, но и дух эпохи — вероятно, самой фантастической и «безумной» из всех эпох, когда-либо существовавших в истории человечества. Леонардо испытывал особый интерес к старым стенам, на которых он умел видеть все образы мира. Этот интерес разделяли и его современники. Михаил Владимирович Алпатов отмечает, что Пьеро ди Козимо — художник-фантаст итальянского Ренессанса — с удовольствием всматривался в ветхие стены, угадывая в пятнах битвы, коней и фантастические города, облака. Был «фантастом» и Микеланджело, утверждавший, что «люди жаждут увидеть невиданное и казавшееся им немыслимым вместо общеизвестного». На исходе Возрождения об игре фантазии, о фантастичности мира, человеческих судеб и отношений размышляли трагические и комические герои Шекспира. Леонардо осуждал тех, кто не довольствуется красотой мира, и в то же время сам был фантастическим реалистом , то есть именно не довольствовался, желая чего-то невозможного. Фантастический реализм сквозит в его пейзажах и записях. И в то же время он любил именно эту реально существующую красоту мира, понимал ее, как никто, широко и подробно. В сущности, разгадка Леонардо — в этой любви-нелюбви, в этом довольственедовольстве — именно поэтому равносильна, может быть, разгадке мира, жизни. И эта неуемная, эта первобытная страсть увидеть все переходы, переплавки, перековки, перевоплощения, пере… пере… то есть схватить острым и точным наблюдением и запечатлеть карандашом или кистью самые интимные моменты в становлении реальности, когда нечто известное и явно существующее переходит в нечто неизвестное, совершенно новое, пока загадочное. Он отвергал алхимию как науку, но живая алхимия мира поглощала его целиком. Лаборатория его мысли — слепок лаборатории мира . Лаборант, алхимик, кудесник, Дон Жуан познания, искавший истину с той же страстью и непостоянством, как Дон Жуан красоту… По мере разделения труда и «распада» культуры на различные науки и искусства этот тип мышления можно полагать вымершим, исчезнувшим наподобие мамонта. Леонардо без конца экспериментировал, в сущности, экспериментирование было для него излюбленной формой разумного существования; он, экспериментируя, жил и, живя, экспериментировал. Один из русских исследователей жизни Леонардо — Аким Львович Волынский рассказал с ссылкой на анонимного биографа об эксперименте Леонардо над живыми людьми. Нет, в этом не было жестокости, а если и была, то бессознательная, почти простодушная жестокость ребенка. «Однажды, задумав изобразить смеющихся людей, он выбрал несколько человек, которые, по его мнению, подходили к намеченной цели, и, близко сойдясь с ними, пригласил их на пиршество вместе со своими друзьями. Когда они собрались, он подсел к ним и стал рассказывать им самые нелепые и смешные вещи в мире. Компания смеялась „до вывиха челюстей“… а сам он следил за тем, что делалось с нею под влиянием его смешных рассказов, и запечатлевал все это в своей памяти. После ухода гостей он удалился в рабочую комнату и воспроизвел их с таким совершенством, что рисунок его заставлял зрителей смеяться так же, как смеялись живые модели от его рассказов». В этой истории отражен и артистизм эпохи, и артистизм самого Леонардо. Повидимому, он был талантливым рассказчиком, если мог заставить людей хохотать до упаду. Но было ли ему самому при этом весело? Ведь, рассказывая, он холодно, тщательно и подробно наблюдал, а наблюдая, запоминал, фиксировал в памяти выражения лиц. Он ставил опыт. Он ставил опыты всю жизнь, во всех ситуациях, во всех положениях. И, ставя опыты, нес их «царице искусств» — живописи. Он отдавал этой «царице» все сокровища, найденные им во всех областях жизни. Исследователи Леонардо не раз отмечали, что в картине «Мадонна в скалах» художник не только мастерски, но и безукоризненно точно изобразил различные растения и даже различные стадии размыва горных пород и их разрушение под действием воды. Но чтобы изобразить это, он должен был изучить растения как ботаник, а действие воды как гидротехник. Он шел к живописи от ботаники и гидротехники, но можно утверждать и обратное: он шел от живописи к ботанике и гидротехнике. Это понимал он сам, записав однажды, что многие его наблюдения «живописи ни к чему». Ученый Василий Павлович Зубов верно отмечает, что к числу этих «ненужных» для живописи наблюдений можно отнести его интерес к концентрическим годовым слоям деревьев, позволяющим определять возраст. Живописи были «не нужны» и законы листорасположения (филлотаксиса), открытые Леонардо. А «к чему» живописи наблюдения Леонардо над явлениями гео- и гелиотропизма, его эксперименты с движением соков растения? Например, этот его вывод: «Если с дерева в какой-нибудь части ободрать кору, то природа, которая об этом заботится, направляет туда гораздо большее количество питательного сока, чем в другое какое место, так что из-за вышеуказанной недостачи кора там растет гораздо толще, чем в другом каком месте. И настолько сильно движется сок этот, что, попав в место, требующее помощи, часто поднимается вверх наподобие прыгающего мяча, просачиваясь или, вернее, пробиваясь так же совершенно, как кипящая вода». Действительно, это наблюдение «живописи ни к чему». Но может быть, именно «ненужное», «лишнее» и помогало — нет, не созданию той или иной картины — рождению того фантастически емкого синтетического метода отображения реальности, в котором Леонардо остался непревзойденным Мастером. Может быть, без этого углубления во все подробности мира, без этого стремления открыть в них математически точные закономерности и не удалось бы ему в картине «Мадонна в скалах» изобразить различные стадии размыва горных пород с точностью ученого, которую мы почти не ощущаем, будучи во власти магии гения живописца. Во власти магии искусства порой неощутим и неразличим гений Леонардо-ученого. Магия искусства действует на нас сильнее авторитета науки. Но может быть, у Леонардо — у него одного! — они неотделимы друг от друга, и в этом тоже уникальность его личности, в которой художник обогащал ученого, а ученый обогащал художника. Всю жизнь Леонардо интересовали волосы. Начиная с вьющихся легких кудрей ангела на картине Верроккьо и кончая бурным потоком шевелюры луврского Иоанна. Историк Матвей Александрович Гуковский отмечает, что виртуозность, с которой он выписывал волосы, можно рассматривать в какой-то мере как его подпись под картиной. И всю жизнь он сопоставлял в «зеркальных» записях человеческие волосы с волнами — волнами на воде, на которую начал часами засматриваться в детстве. Леонардо был красив, как свидетельствуют все его современники, и в юности, и в середине жизни, и в старости. Все исследователи жизни великого человека отмечают, что остались лишь портреты и автопортреты старого Леонардо. Кстати, интересно, что в найденных недавно текстах забытых и полузабытых поэтов и сочинителей того времени Леонардо называют Пифагором, Эпименидом, Архитом — именами мудрецов античного мира. Рафаэль в известной фреске «Афинская школа» тоже изобразил его в образе Платона… Не раз высказывалось сожаление, что, помимо бюста Давида работы Верроккьо, не осталось ничего, в чем был бы запечатлен Леонардо юный. Мне кажется это сожаление несправедливым. Леонардо в юности написал собственный портрет. Эту его работу ни разу не рассматривали как автопортрет, хотя написано о ней немало. Рассказывая о жизни Леонардо в мастерской Верроккьо, Вазари — а за ним и сотни исследователей и повествователей — подробно останавливается на одной истории. Верроккьо поручил юному Леонардо написать в большой композиции фигуру ангела. Эта картина находится сейчас во Флоренции, в музее Уффици. Ангел Леонардо — мальчик, очарованный жизнью и испытывающий к ней нежное и робкое любопытство, обещающее стать завтра неутолимой страстью. Леонардо написал себя. Чтобы убедиться в этом, достаточно положить перед собой две репродукции: на одной изображение юного Давида работы Верроккьо, на второй — юный ангел работы Леонардо на картине Верроккьо. Верроккьо создал бесстрашного воина, победоносного и чуть ироничного. У ног его лежит голова Голиафа, она лежит, как поверженный мир зла. Леонардо написал мальчика, видящего в жизни лишь добро и бесстрашно — тоже бесстрашно! — доверяющегося ему. Но это одно лицо, одна душа — непостижимое лицо, непостижимая душа Леонардо да Винчи. И когда рассматриваешь трагический автопортрет, написанный им в старости, чувствуешь, что мы в стране мудрости и одиночества, высшей сосредоточенности и высшей печали, безумного любопытства к тайнам жизни и горечи от сознания их непознаваемости. У врат в эту страну тихо и доверчиво, коленопреклоненно и с поднятой головой стоит ангел на картине Верроккьо — мальчик Леонардо… Я назвал эту главу: «Жизнь как секрет, или…» *** Лоренцо ли Креди (?). Портрет Веррокьо. Веррокьо. Давид. Рафаэль. «Афинская школа» (фрагмент). Платон и Аристотель. Рафаэль. Портрет папы Льва X с кардиналами Людовико дель Росси и Джулио дель Медичи. Леонардо да Винчи. Разные лица (рисунок). Запуск ракеты (фото). ГЛАВА 3 …или Секреты как жизнь (Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Леонардо да Винчи, «Благовещение», фрагмент, фигура ангела написана Леонардо да Винчи ) Были эпохи, когда людям казалось, что они родились чересчур рано. Были эпохи, когда людям казалось, что они родились чересчур поздно. Современники итальянского Ренессанса были уверены, что родились вовремя. Когда читаешь их, поражает гордость временем, в которое они живут. В этом смысле Леонардо был исключением. Часто непризнанный, с неосуществленными замыслами, он редко испытывал радость от того, что родился именно в эту эпоху… Существует немало версий, почему почти тридцатилетний Леонардо уехал из «благословенной Флоренции». Почему он уехал из Флоренции, которую поэты называли «цветком Италии», в которой видели тогда «современные Афины», которая казалась средоточием «золотого века», где расцвели красноречие, живопись, архитектура, скульптура, музыка? Леонардо покидает Флоренцию… А через несколько лет Флоренция дает почетное гражданство Пико делла Мирандола. Флоренция не могла дать почетное гражданство Леонардо ни во времена образованного мецената и талантливого поэта Лоренцо Медичи, ни потом, когда Медичи пали, потому что Флоренция никогда не любила Леонардо. А сам он любил ее? Нам об этом ничего не известно. Если и любил, то не настолько пламенно и яростно, страстно и «мстительно», как Данте. В сущности, хотя Леонардо и не был изгнан из Флоренции, как Данте, он все время оставался для нее пасынком. Иногда мне кажется, что и творчество Леонардо, его картины и изобретения, его мощь были не дочерью, а падчерицей Возрождения. А если и дочерью, то непризнанной и нелюбимой. Эта эпоха, которая его породила, была для него мачехой. Порой даже и любящей, но капризной, непостоянной и нередко жестокой. Он был незаконнорожденным сыном не только флорентийского нотариуса, но и Ренессанса. Лоренцо Медичи, не оценивший и не понявший Леонардо, был, как отмечают все исследователи его личности, одним из самых странных людей Возрождения. В нем сочетались высокая духовность и хитрость, художнический талант и жестокость (что совместимо как редкое исключение), сила воли и склонность к безвольной созерцательности. Если в образе Марка Аврелия мы видим в одном лице философа и императора, то в образе Лоренцо Великолепного нас не может не удивить поэт и государь. Его стихи распевались на улицах Флоренции, новелла, написанная им, вошла в сокровищницу литературы. Он любил читать мудрецов и общаться с умными современниками. И то, что он не понял и не оценил Леонардо, уехавшего из достаточно уютной в эпоху Лоренцо Флоренции в беспокойный Милан, пожалуй, ключ, которым можно открыть одну из тайн Леонардо. Леонардо был единственным художником, не понятым Лоренцо Медичи с его остро развитым чувством красоты. По-видимому, работы Леонардо казались ему некрасивыми. Повидимому, та высшая красота, красота истины , которой дышат эти работы, была недоступна даже лучшим из современников Леонардо да Винчи. Быть незаконнорожденным сыном в ситуации итальянского Ренессанса вовсе не означало быть социально ущербным человеком. Но в то же время незаконнорожденность выступала даже и в ту свободную от условностей эпоху как некое пятно. Это можно видеть из «Жизнеописания» сына Филиппо Липпи — Филиппино Липпи, о котором Вазари обмолвился (а подобные обмолвки особенно важны для постижения духа эпохи), что он «загладил пятно, унаследованное им от отца» успехами в искусстве и достойной жизнью. Этот штрих, который обычно игнорируется биографами Леонардо, ибо он будто бы не испытывал позора незаконнорожденности, все же открывает нечто тайное в его душе, в его повышенной ранимости и порой обостренном чувстве собственного достоинства — при всей мягкости, учтивости характера и поведения. Этот штрих открывает нечто важное и в его отношениях с современным ему миром. Разрешу себе очередное «мимолетное» отступление от темы. Нам на расстоянии веков та эпоха кажется почти инопланетной; но вот что писал в 1474 году посол Эколе д’Эсте во Флоренции господину в Феррару: «Ничего нового… только у Лоренцо потерялись два сокола». Нам эпоха Лоренцо Великолепного кажется исполненной живописной и непревзойденной новизны, а современник уныло констатировал: «Ничего нового»; Это еще раз подтверждает старую как мир истину: нет ничего более трудного, чем понять собственную эпоху. Хотя возможна и иная версия: нет ничего более рискованного, чем понимать не собственную эпоху… Поладим на том, что понимание любого времени — и того, когда ты живешь, и того, когда тебя не было, — дело нелегкое. Леонардо с его замыслами новых орудий и новых великих сооружений хотелось бежать из этой тихой заводи. Лоренцо, который не только не отпускал от себя талантливых людей, но делал все возможное для того, чтобы им при его дворе жилось хорошо, расстается с Леонардо с удивительной легкостью. Казалось бы, загадка. Но чтобы ее отгадать, надо почувствовать непохожесть Леонардо на современников и даже на собственную эпоху. Это было время, когда «разведчики» сообщали не стратегические секреты, а о положении и возможностях художников. Вот что писал Лодовико Моро в Милан его анонимный агент из Флоренции: «Доминико Гирландайо хороший художник в картинах и еще больше в стенописи». А Сандро Боттичелли отмечен особо «как художник исключительный в картинах и стенописи». Надо полагать, что анонимный агент сообщил Лодовико Моро, который стремился затмить блеском собственного двора популярность Лоренцо Медичи, и о Леонардо да Винчи. Но Лоренцо не отдал в Милан ни Гирландайо, ни Боттичелли. Уехал в Милан — на семнадцать лет! — гениальный Леонардо. Этот момент его биографии, момент расставания с любимой Флоренцией, необычайно важен для понимания той «непохожести», которая и делала Леонардо «незаконнорожденным сыном» итальянского Ренессанса. Существуют разные версии обстоятельств его неожиданного отъезда из родной Флоренции в неродной Милан. Лоренцо Великолепный хотел расположить к себе воинственного и коварного миланского государя Лодовико Моро, поэтому он послал Леонардо в Милан, чтобы тот передал Лодовико дивную лиру. Леонардо был (легче перечислить, кем он не был) и дивным музыкантом. Он создал из серебра в форме конской головы лиру, на которой играл. Лодовико Моро был, как отмечает Вазари, большим любителем игры на лире. Возможно, Лоренцо Великолепный ожидал, что Леонардо после нескольких услаждающих душу миланского тирана концертов вернется в родную Флоренцию. Леонардо остался в Милане на семнадцать лет — до падения Лодовико. Сейчас, видимо, стоит познакомить читателя с основными датами и событиями жизни Леонардо, которых я уже коснулся выше, пытаясь исследовать его духовный мир. В 1482 году тридцатилетний Леонардо покидает Флоренцию ради Милана. В Милане он живет семнадцать лет, работая над колоссальной конной статуей Франческо Сфорца — отца Лодовико Моро. В Милане он написал «Тайную вечерю» и «Мадонну в скалах». Но основные его силы были отданы научным исследованиям. В 1499 году, после захвата Милана французами, Леонардо возвращается во Флоренцию. В 1502-м идет на службу к правителю Романьи Цезарю (Чезаре) Борджа, одному из самых чудовищных людей в истории Ренессанса, затем опять живет и работает во Флоренции, снова покидает Флоренцию ради Милана, потом переезжает в Рим. Умирает во Франции… Известно письмо Леонардо к Лодовико Моро. Леонардо перечисляет секреты, которые могут заинтересовать миланского тирана: «Владею способами постройки очень легких и крепких мостов, которые можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля… стойкие и не повреждаемые огнем и сражением, легко и удобно разводимые», средства «жечь и рушить мосты неприятеля», способы «отводить воду из рвов…» Леонардо перечисляет секреты и умения, которыми, вероятно, в эту эпоху владел он один. Иначе они и не были бы секретами. Иначе Лодовико Моро, двор которого был средоточием технической, а не гуманитарной (в отличие от двора Лоренцо Медичи) интеллигенции, не отнесся бы к письму Леонардо с величайшим вниманием. Но никто из биографов Леонардо, насколько мне известно, не задался дотошно вопросом: когда, где, при помощи чего или кого овладел Леонардо этими секретами? Он не обучался в университетах (например, в Павийском, где уровень изучения технических и естественных наук был высок). В описи вещей, которые он захватил с собой, уезжая из Флоренции, нет ничего, что говорило бы о его занятиях наукой и техникой. Конечно, когда дело касается гения, подобные вопросы (когда? кто научил?) могут показаться детскими. Ведь для гения нет законов, он сам устанавливает их. Но важно учесть, что речь идет не о поэзии, не о живописи и не о философии, где все решают порой гениальные озарения и интуиция, дело касается вещей, требующих углубленных познаний и умений. А жил Леонардо в философски интеллектуальной (в ту пору интеллектуализм ограничивался литературой чисто гуманитарной) Флоренции, с ее особой философскиплатонической атмосферой, с ее поклонением античному искусству, а не науке, античной риторике, а не физике… Чтобы понять всю необычайность документа — письма Леонардо к Лодовико Моро, — который цитируют все, кто пишет о Леонардо, и цитируют как нечто если и вызывающее удивление, то не задающее загадок, рассмотрим подробнее, что же это за секреты. «Также устрою я крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся со своей артиллерией в ряды неприятелей, нет такого множества войска, коего они не сломили бы. А за ними невредимо и беспрепятственно сможет следовать пехота». А вот идет перечисление артиллерийских орудий — бомбард, мортир, метательных снарядов… В описи вещей, которые берет он с собой, уезжая в Милан, об увлечении техническими ремеслами говорит лишь серия рисунков печей. Если бы Леонардо написал, уезжая не из Флоренции в Милан, а из Милана во Флоренцию, нечто подобное Лоренцо Медичи, это было бы гораздо логичнее, потому что именно в Милане в то время жили физик Джорджо Валла, изучавший тексты античных математиков, юрист и естествоиспытатель Фацио Кардано, сыновья медика, философа и математика, одного из корифеев Павийского университета Джованни Марлиани, которые познакомили Леонардо с архивом отца. В Милане Леонардо общался с инженером и философом Пьеро Монти (кстати, автором книги «О распознавании людей»; это говорит о том, что в то время инженеры были одновременно и инженерами человеческих душ). В Милане Леонардо подружился и с Лукой Пачоли, замечательным математиком, работы которого Леонардо потом иллюстрировал. А во Флоренции — круг единомышленников Лоренцо Медичи, зажигавших в день рождения Платона лампады перед его бюстом. Во Флоренции — люди, обожествлявшие Цицерона, Сенеку, античных ораторов и мыслителей. Именно они определяли умонастроение города, а не мастерские живописцев, которые — об этом не нужно забывать — были средоточием и технических умений. И то обстоятельство, что именно Милан был городом инженеров, изобретателей и математиков, объясняет нам, почему Леонардо расстался ради него с любимой Флоренцией, но делает еще более загадочным его осведомленность в секретах, которыми он собирался удивить тех, кто этим секретам посвятил всю жизнь. Кувшин как бы шел к источнику. Удивительный кувшин шел к источнику. Не пустой, а наполненный до краев, расплескивающий воду. Самое поразительное в его миланской жизни это, пожалуй, то, что как военный инженер — а он был уверен, что именно в этом качестве заключает в себе особую ценность для Лодовико Моро, — Леонардо почти не работал. Лодовико Моро ценил в нем не военного инженера, а… мастера увеселений. Этот тиран, о котором мы еще будем писать, несмотря на то что он вышел из воинственной семьи кондотьеров, интриги любил больше, чем войну. Может быть, именно поэтому в конце концов и потерпел поражение. А где интриги, там и увеселения. Увеселение — маска интриги. Леонардо устраивал в Милане увеселения, в которых его технический и художнический гений выявились во всем фантастическом разнообразии. Об этих увеселениях ходили легенды и мифы по всей Италии. И в сущности, они соответствовали духу эпохи, который царил повсюду: и в жизни, и в литературе. Но Леонардо был этому духу чужд — точно это не его эпоха. Несмотря на то что он был постановщиком и изобретателем неслыханных аттракционов, в которых небо (разумеется, механическое) опускалось на землю, сообщая ей фантастическую новизну, в самом Леонардо (это чувствуется по басням, которые он сочинял в то время) ощущается чтото печальное. Но для понимания мира Леонардо эти увеселения важны. Они единственная форма его общения с античностью. В ту насыщенную культом античности эпоху Леонардо, быть может, был единственным великим человеком, который не испытывал по отношению к античности чувства поклонения (он даже высмеивал это поклонение, когда оно становилось рабским). А в увеселениях, изобретаемых им, он мифы язычества воскрешал, он общался с миром, который боготворила его эпоха, он общался с ним несколько шутовски. Это общение было для него даже не игрой — игрой в игру. Мир художника точно очерчен Борисом Пастернаком. Это мир, у порога которого кончается искусство — даже искусство! — «и дышат почва и судьба». Насколько же мир Леонардо был далек миру античности, если даже в его искусстве (за исключением искусства увеселения) не было ничего от этого мира. Писал он в Милане и портреты любовниц Лодовико Моро. Самый известный из них (по-видимому, это тот, который находится сегодня в картинной галерее Кракова) — портрет Чечилии Галлерани. Поскольку сама личность Леонардо располагает к легендам, то было бы странно, если бы не родилась легенда о любви Чечилии Галлерани к божественному мастеру. Чечилия Галлерани была одной из самых замечательных женщин итальянского Ренессанса. Писатель Банделло называл ее современной Сафо. Она свободно говорила и писала по-латыни, она сочиняла стихи на итальянском языке, в ее палаццо собирались, как отмечает французский исследователь жизни Леонардо Габриэль Сеайль, самые выдающиеся люди Милана. «Военные говорили там о воинском искусстве, музыканты пели, философы трактовали о высших вопросах, поэты читали свои и чужие произведения». Именно в этом палаццо рассказывались новеллы, которые были потом собраны и обработаны Банделло. Когда Леонардо писал ее портрет, Чечилия была совсем юной — шестнадцатилетней. Один из авторов итальянского телефильма — Бруно Нардини пишет об их отношениях: «Она его полюбила и уже догадывалась о невысказанных чувствах Леонардо». Основанием для легенды послужил действительно найденный в архивах Леонардо неоконченный черновик письма: «Несравненная донна Чечилия. Возлюбленная моя богиня. Прочитав твое нежнейшее…» У них была тайная переписка? Нам об этом ничего не известно. Но известна сухая и четкая запись, которая тоже относится к Чечилии, к работе Леонардо над ее портретом: «Если хочешь убедиться, совпадает ли твоя картина с оригиналом, возьми зеркало и посмотри, как отражается в нем живое существо». Любил ли он в Чечилии женщину, любил ли он в Чечилии богиню, любил ли он в Чечилии «зеркало», любил ли он в ней «живое существо» — образ телесного и духовного совершенства, — осталось одной из загадок его жизни. Но когда останавливаешься и подолгу стоишь перед краковским портретом, изображающим Чечилию Галлерани с горностаем в руке, перед этим холодноватозамкнутым, жестко-бесстрастным лицом, поразительно не похожим на Чечилию Галлерани — обаятельную, женственную и добрую — в сегодняшнем телефильме, перестаешь верить и в эту легенду. Чечилия с горностаем написана гениальной, но не любящей рукой. Нет, точнее, она написана художником, для которого искусство — зеркало жизни, зеркало холодное и беспощадно точное. Существует версия, что в Милане Леонардо нарисовал портрет и второй возлюбленной Лодовико Моро — Лукреции Кривелли. Ряд исследователей относят этот портрет к более позднему времени, видя в нем не Лукрецию Кривелли, а возлюбленную Джулиано Медичи. В одном из «Кодексов» Леонардо есть три эпиграммы на этот портрет, видимо сочиненные поэтами при дворе Лодовико Моро. Дух времени и дух Милана наиболее точно передает эта эпиграмма: «Имя той, которую ты видишь, — Лукреция, которой боги дали все щедрою рукою. Ей досталась в удел редкая красота; нарисовал ее Леонардо, любил Моро; один — величайший живописец, другой — вождь». «Величайший живописец» создал и портрет юной жены «вождя», умершей рано, Беатриче д’Эсте. Но основными художническими работами были «Тайная вечеря» и эскизы к памятнику Франческо Сфорца. О трагической судьбе этих двух величайших работ Леонардо мы с вами подумаем в конце нашего повествования. А сейчас обратимся к новеллисту итальянского Возрождения Маттео Банделло, который родился в 1485 году и мальчиком видел Леонардо, наблюдал за его работой в доминиканском монастыре Санта-Мария делле Грацие, на одной из стен которого Леонардо писал «Тайную вечерю». «Имел он обыкновение, — пишет Банделло, — и я столько раз сам видел это…» Мысль, что был человек, который видел живого, реального Леонардо, потрясла меня, будто я читал о человеке, запечатлевшем в памяти работу инопланетных существ, сооружающих циклопические постройки. Меня удивило не то, что реально существовал Леонардо, а то, что был человек, засвидетельствовавший, что видел его воочию. В чем же тут парадокс сознания? К существованию Леонардо я относился как к существованию героя мифа — Тезея или Геракла. Но если бы нашлись воспоминания реальных людей, видевших реальных Геракла и Тезея, это потрясло бы, наверное, меня больше описаний всех подвигов античных героев! Банделло рассказывает, что Леонардо имел обыкновение рано утром взбираться на мостки, потому что картина находилась довольно высоко над уровнем пола, и работать от зари до зари, не выпуская кисти из рук, забывая об еде и питье. Да, испытав удар при чтении Банделло, я первый раз понял, что Леонардо как живая личность вызывает у меня не больше доверия в его реальном, земном существовании, чем Зевс или Аполлон. «Я видел Зевса!», «Я видел Аполлона!». Покажите мне людей, которые их видели, дайте мне в руки их мемуары! Вот я читаю у Банделло о том, что иногда Леонардо по нескольку дней не дотрагивался до картины, а лишь созерцал ее, размышляя. Я читаю о том, что Банделло сам это видел, и испытываю нечто подобное тому, что Бунин назвал потом чувствами «жуткими, необыкновенными», когда рассказал о встрече в московской церкви с сыном Пушкина. Вот так же жутко и необыкновенно было читать у Банделло о том, что он не раз видел, как Леонардо, «побуждаемый внезапной фантазией, в самый полдень, когда солнце стоит в зените… выходил из Старого замка, где лепил из глины изумительную конную статую…». Но он не только видел Леонардо, он и слышал его! Это удивляет еще больше. И он слышал не обыденно-житейские речи (их, конечно, тоже!), а рассказ об Александре Македонском и Апеллесе. От великого художника античности Апеллеса не осталось ни одной картины, осталось имя, окруженное (как и имя Леонардо) легендами и мифами. Одна из легенд повествует о том, что Александру Македонскому захотелось, чтобы Апеллес нарисовал одну из его красивейших наложниц, Кампаспу, совсем обнаженной. «Апеллес, увидев нагое, совершеннейшей формы тело юной женщины, страстно в нее влюбился, и когда Александр узнал об этом, то под видом дара отослал ее Апеллесу. Александр был человек большой души… Он победил самого себя…» В этом рассказе, переданном Банделло, явно ощутима тоска Леонардо да Винчи по могущественному покровителю, понимающему ум и сердце художника, по «человеку большой души». Но Леонардо посчастливилось меньше: он не нашел такого покровителя (а в эпоху итальянского Ренессанса, несмотря на торжество искусств, художник без покровителя был беззащитен). Леонардо не нашел «человека большой души» ни в Лоренцо Медичи, ни в Лодовико Моро, ни в папе Льве X… Тоска по покровителю, который бы его понимал, и увела Леонардо из родной Италии во Францию, в замок Клу, к Франциску I… И в то же время нельзя утверждать, что Лодовико Моро не понимал Леонардо. Из литературы, посвященной итальянскому Ренессансу, широко известна история (первым изложил ее Вазари), когда настоятель монастыря пожаловался Лодовико Моро на то, что Леонардо работает чересчур медленно над фреской «Тайная вечеря». Лодовико Моро в «мягкой форме» попросил Леонардо поспешить, на что художник ему ответил, что ему не удаются две головы: Иисуса Христа, в которой «должно быть облечено вочеловечевшееся божество», и Иуды. Леонардо не надеется найти на земле человека, который красотою и небесным обаянием мог бы послужить прообразом Иисуса, но он ищет настойчиво «вторую голову». Однако если не найдет, то воспользуется головой назойливого и беззастенчивого настоятеля. Лодовико это рассмешило. Он обладал чувством юмора. Леонардо действительно всегда, над чем бы он ни работал, медлил. Иногда мне кажется: не хотел ли он исчерпать полноту жизни одной-единственной картиной?! Отсюда и мучительность работы, и постоянная трагическая незавершенность… Жизнь переживалась им настолько полно, едино, тотально и в то же время разнообразно, подробно-ярко, что найти адекватное воплощение в искусстве было целью фантастической. Если бы можно было все это единство воплотить в одной картине («Джоконда»)? Или в одном деянии (полет человека)? Но тогда… Но тогда жизнь стала бы созиданием не эстетических ценностей, а самого бытия, разрыв между искусством и действительностью был бы восстановлен… Трагедия Леонардо в том, что его медлительность, рождая совершенство, не рождала долговечности. У него с вечностью были достаточно странные отношения. Экспериментируя, он добивался наибольшей стойкости красок. Он делал все, что было в его силах, чтобы живопись была долговечной. Он хотел этой долговечности беспокойно и страстно, порой насилуя старые добрые методы и рецепты живописи там, где надо было суметь быть покорным старым законам и традициям ремесла. Но его эксперименты были настолько рискованны, что все созданное им оказывалось менее долговечным, чем у художников, верных старине. Он и тут разделил судьбу Икара, поднявшегося к солнцу чересчур близко. Воск таял… Краски тускнели, осыпались… То, что мы видим сегодня на стене трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, — лишь тусклый отблеск великой «Тайной вечери», о которой уже старшие современники Леонардо говорили как о безвозвратно погибшей. Фреска на стене писалась по сырому, то есть штукатурка не должна была успеть отвердеть, пока художник не завершит работу. Этот метод не мог импонировать Леонардо с его страстью к раздумьям, созерцанию, медленному совершенствованию, и поэтому он изобретал собственные методы и терпел поражения. Всю жизнь Леонардо размышлял о недолговечности земных вещей и стремился к их долговечности. Всю жизнь он экспериментировал, добиваясь наибольшей стойкости красок. Трагическая участь его лучших вещей, а особенно «Тайной вечери», разрушенной временем, говорит о трагической иронии истории. Но, работая над фреской «Тайная вечеря», Леонардо медлил и потому, что как художник-мыслитель он стремился воссоздать в образах абсолют . Абсолют добра в образе Иисуса Христа. И абсолют зла в образе Иуды. Возможно ли это в живописи? Если абсолют зла и оказался достижимым — Леонардо закончил голову Иуды, — то абсолют добра остался неосуществимым: голова Иисуса Христа не была завершена. Но по-моему, в ее незавершенности — особая сила. И особая мудрость. Мудрость и самого Леонардо, и жизни. Смысл истории в достижении абсолюта добра. История не остановилась на эпохе итальянского Ренессанса… Взгляд ангела, написанный мальчиком Леонардо на картине Верроккьо, полон не только любознательности, но и веры в возможность торжества добра. Этой вере Леонардо остался верен всю жизнь, поэтому и медлил он, мучительно создавая образ Христа. Но если фреска «Тайная вечеря» все же сохранилась, то от второй великой работы Леонардо миланского периода — гигантской конной статуи Франческо Сфорца — не осталось ничего. Леонардо не успел выполнить ее в металле, но после семнадцати лет раздумий, поисков, научных исследований (он составил трактат об анатомии лошади!) была создана в глине модель памятника гигантских размеров. После захвата Милана французами гасконские арбалетчики расстреливали эту модель: она была удобной мишенью… А Лодовико Моро, заключенный пожизненно в крепость, некогда могущественный государь, а теперь узник без настоящего и будущего, рисовал на стенах, в которые был заточен, очертания Леонардова коня. Единственное, может быть, что оставила ему память, что оставила ему жизнь… Эудженио Гарен, историк и философ, в опубликованной недавно статье «Беспокойный век Леонардо» пишет: «Мы не ошибемся, утверждая, что сам Леонардо во многих отношениях был фигурой трагической. Он был глубоко одиноким человеком. Незаконнорожденный ребенок, он не имел семьи и не занимал должного положения в обществе. На его глазах рушился мир, духовные ценности которого исчезали под напором слепых событий». Дальше Э. Гарен цитирует самого Леонардо: «Мне казалось, что я учусь жить, но учился я умирать». Леонардо вернулся в родную-неродную Флоренцию. Незадолго до этого он подружился с семьей капитана Джеролано Мельци. Сыну капитана, Франческо Мельци, было тогда семнадцать лет. Он мечтал стать художником, поклонялся «Тайной вечере»; он уехал из Ломбардии с Леонардо во Флоренцию и остался с учителем до последних мгновений его жизни в Амбуазе. Вазари в «Жизнеописании» писал: «Франческо Мельци, миланский дворянин, во времена Леонардо был очень красивым юношей, которого Леонардо очень любил, а в наше время он красивый и милый старик». Я видел портрет этого старика (не помню уже чьей кисти) в художественном музее Будапешта и запомнил те жуткие, необыкновенные чувства, которые охватили меня, когда я стоял перед ним. Я испытывал нечто подобное тому, что ощущал, читая Банделло: передо мной был живой, да, да, живой человек, на руках которого умер Леонардо… По дороге во Флоренцию Леонардо остановился в Венеции и там совершил, быть может, величайшее из открытий… не открыв его никому. Венеция в то время находилась в состоянии войны с турками, ожидая нападения и с суши, и с моря. Леонардо занес в тайную записную книжку: «Никому этого не открывай… Костюм надо шить дома. Все, что нужно под водой, — то есть костюм, закрытый наглухо… одежда водонепроницаемая… на голове маска…» Леонардо открыл водолазный костюм… Он оставил это открытие в тайне, боясь, что венецианцы употребят его не только для обороны от турецкого флота — и погибнут мирные, ни в чем не повинные люди. Он оставил это в тайне, боясь, что его открытие еще более усилит пиратство на море. То, что было изобретено лишь через три века, уже обрело жизнь в мыслях, чертежах, точных расчетах и записных книжках Леонардо. Часто пишут, что он, любя искусство и науки, находился как бы по ту сторону добра и зла, был равнодушен к моральным ценностям. Но в истории с водолазным костюмом Леонардо оказался нравственно совершеннее создателей атомной бомбы. И наш долг перед его памятью об этом не забывать… Из Венеции великий беглец держал путь во Флоренцию, и первый человек, которого он стал разыскивать по возвращении в родной город, был брат его первой мачехи, юной жены Пьеро да Винчи, каноник Александро Альбиери. Это говорит о бесконечном одиночестве Леонардо, о том, что во Флоренции у него после столь долгого отсутствия никого не осталось. …Одна из загадок — «нелюбовь» великого живописца к живописи. В то время феррарская герцогиня осаждала Леонардо мольбами что-либо написать для нее. Ее посол во Флоренции отвечал: «Он усиленно занимается геометрией и не хочет притрагиваться к кисти». Казалось, его волнует все, все, только не живопись. Ничего подобного мы не найдем ни у одного из великих художников. Ни у Тициана, ни у Рембрандта, ни у Гогена. Когда читаешь многочисленные жизнеописания Леонардо, эта загадка его личности и судьбы не может не вызывать странных мыслей. Он и до возвращения во Флоренцию, и после второго расставания с ней с большой неохотой начинал работу над картинами и часто не оканчивал ее. И опять думаешь: может быть, он хотел созидания не художественных ценностей, а самой жизни?.. Вот именно: он хотел созидать жизнь! Менять течение рек (все, что касалось воды, его особенно волновало), переносить с места на место церкви (это казалось тогда невозможным, лишь потом поняли, что замысел Леонардо осуществим), построить «идеальный» город (сегодняшние архитекторы, создавая города третьего тысячелетия, черпают идеи в архитектурных замыслах Леонардо), украсить мир водопадами. Он стремился к новизне и в искусстве, но особенно — в самой жизни. В искусстве рождение новизны часто зависело от него самого. А в жизни судьбу его замыслов решали герцоги, короли, папы. Величайшим замыслом Леонардо был полет человека. Все наблюдения, зарисовки, версии он держал в величайшем секрете. Пожалуй, не было работы, которую бы он, склонный вообще к секретам, окружил такой непроницаемой тайной. Ему, видимо, казалось, что он и родился для этого торжества. Работая над картинами, он медлил. Строя летательный аппарат, он торопился. Самая возвышенная (во всех отношениях) легенда о Леонардо — это легенда о полете с высокой горы Томмазо Мазини да Перетола, известного под именем Заратустры. Он был флорентийским механиком и помощником Леонардо. Если Франческо Мельци был рядом с великим учителем вторую половину его жизни, то Заратустра сопровождал Леонардо первую половину. Леонардо с ним подружился (не исключено, что он был «обыкновенным» талантливым флорентийским ремесленником-изобретателем) в юности, до первого отъезда из Флоренции. Заратустра был с ним все семнадцать лет в Милане. Вернулся Леонардо с этим загадочным (недаром он носил имя восточного мудреца Заратустры) человеком во Флоренцию после падения Лодовико Моро. Мысль о полете была самой капитальной идеей жизни Леонардо. Бесконечные зарисовки, штудии, наблюдения, сохранившиеся в его записных книжках, различные конструкции летательных аппаратов убеждают в том, что он никогда не расставался с этой мыслью. Они с Заратустрой построили летательный аппарат: искусственные крылья, которые должны были держать человека в воздухе, когда он, подобно лыжнику с трамплина, с высокой горы, разбежавшись, отрывался от земли. По легенде, Заратустра с горы под названием Чичеро (Леонардо называл ее чудесной) полетел. Новый Икар полетел к Солнцу. По легенде, он полетел и не вернулся. Он разбился? Легенда об этом умалчивает. Он не вернулся из неба, о котором с детства, как о родной стихии, мечтал Леонардо. Я думал об этом по дороге в римский аэропорт, где высится огромная статуя Леонардо. На его каменной ладони — летательный аппарат. И когда мы взлетели, беря курс на Москву, показалось мне, что взлетели мы с его ладони, и в окно реактивного авиалайнера я высматривал, высматривал Заратустру… И думал строками Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать». Если событие рассмотреть не как легендарное, а как реальное, то бесспорно, что Заратустра, полетев с горы на искусственных крыльях, разбился насмерть. И было это для Леонардо огромным личным горем и величайшим поражением. Его не утешили бы строки Пастернака, потому что он был больше, чем поэт, больше, чем художник, больше, чем (по нашей терминологии) авиаконструктор, — он был творец новых форм жизни, бытия. И когда одна из самых дорогих ему форм разбилась, это было для него поражением. Победой это стало для нас. И поэтому, повторяя строки Пастернака, я имел в виду не Леонардо — это было бы, наверное, кощунственно. Ведь он потерял верного помощника и любимого человека. Я имел в виду нас, его наследников. Наши поражения и наши победы, купленные дорогой ценой подвижников. Мы не должны отличать поражение от победы. Мы можем оплакивать поражение. Но не можем забывать об опыте, который подарил нам Леонардо: из поражений вырастают победы. Человек, который остался бы совершенно безвестным, если бы его жизнь не была освещена гением Леонардо да Винчи, флорентийский механик и ремесленник Томмазо Мазини да Перетола летел с нами рядом. Как мало мы знаем о Леонардо! Как хочется сочинять разные точные подробности даже о малосущественных обстоятельствах его жизни! Бруно Нардини пишет о втором отъезде, в мае 1506 года, Леонардо из Флоренции в Милан: «Его сопровождал Салаи2. На третьем коне, навьюченном поклажей, везли и незаконченный портрет Моны Лизы». Подкупающая точность. На третьем коне! До сих пор не умолкают споры о том, был ли написан портрет Моны Лизы именно в то время во Флоренции. И вот мы читаем и видим его на третьем коне, во втором путешествии из Флоренции в Милан. И по-человечески мне это понятно: хочется, чтобы действительно в этой таинственной жизни для нас, любопытствующих потомков, почти не осталось тайн. Этого хочет наша любовь. Леонардо был чужим… Он въехал в Милан чуть ли не тайком, боясь, что и миланцы, подобно флорентийцам, отвернутся от него. Ему не хотелось, чтобы люди, как это было во Флоренции, при встрече с ним делали вид, будто бы его не узнают. Он даже не выходил первые дни из дому. Читать об этом у Бруно Нардини тяжело. Леонардо, великий Леонардо! Для того чтобы увидеть хотя бы одну его картину, мы ночами стоим у подъезда музея. А он боялся выйти на улицу города, где были написаны лучшие его вещи. Рукописи не горят, но картины исчезают. В Милане Леонардо написал для французского наместника Шарля Амбуазского небольшую картину, которую немедленно отослали в Блуа, в резиденцию Людовика XII. Что с ней стало? Об этом нам ничего не известно. Она исчезла, сохранилось лишь несколько рисунков; а сюжет-то необычный, гуманный, нетрадиционный! Мадонна с младенцем Иисусом, играющим с котом. Подобного не найти в богатейшей сокровищнице «мадонн» всех стран и времен. Видимо, мысль о родстве всего живого, о великой космической миссии человека быть покровителем живых существ, нуждающихся в его охраняющей любви, — все это было выражено в оригинальном сюжете. В этот второй миланский период жизни Леонардо мы с особенным удивлением сталкиваемся с его страстью к секретам и тайнам. У него появились новые собеседники и единомышленники из окружения французского короля Людовика XII, который тогда был господином Милана. Леонардо подружился с Жаном Парижским и графом де Линьи — яркими ренессансными личностями, — углубленными в науку и искусства. Они задумали совместное путешествие в Рим и Неаполь. Казалось бы, ничего нет особенного: это же Рим и Неаполь, это же Италия, раздробленная на отдельные государства и герцогства, но Италия, а не далекие Нидерланды или туманный Лондон. И казалось бы, почему это должно быть тайной? Но Леонардо в записной книжке имя Линьи и название обоих городов записал не только «зеркально», то есть справа налево, но и в обратном порядке букв, то есть как бы зашифровал дважды, погрузил шифр в шифр: «Повидайся с Иьнил и скажи ему, что будешь ждать его в Емир, чтобы поехать вместе в Ьлопаен». Нам нетрудно догадаться, что «Иьнил» — это Линьи. «Емир» — это Рим, а «Ьлопаен» — Неаполь. Конечно, двойную секретность — хотя неизвестно, кто мог читать эти, существующие лишь для него, записные книжки, — можно объяснить тем, что Милан, занятый французами, был как бы уже не итальянской территорией, в то время как Рим и Неаполь существовали в чистом виде как итальянские города. Но это объяснение малоубедительно. Итальянцы не были отделены «железным занавесом» от итальянцев, живущих в Милане. Путешествия не были сопряжены ни с риском, ни с нарушением 2 Салаи — юный слуга и воспитанник Леонардо. государственных интересов; появление французов, которых не рассматривали как заклятых врагов в Риме и Неаполе, не вызвало бы сенсации, цели поездки были чисто научные и познавательные. По существу, это было задумано как путешествие ученого с двумя талантливыми дилетантами ради возвышенного общения и наблюдений и, может быть, отдыха от чересчур суматошной и суетной жизни французского двора. И если шифр в шифре при записях алхимических рецептов (что тоже можно найти в его записях) оправдан традиционными тайнами алхимии, то тут это стремление к секретности говорит о каких-то странных, не исследованных поныне особенностях личности Леонардо, об игре, которую он вел с самим собой, с миром. Эта игра немного напоминает любовь к шифрам и секретам Стендаля, который, будто бы повторяя Леонардо, тоже в рукописях зашифровывал мысли и замыслы. Параллель со Стендалем помогает понять, что дело не только в особенностях личности, но и в особенностях эпохи. Стендаль жил в опасную эпоху Меттерниха с его искусной полицией и секретными службами, постоянно наблюдающими за инакомыслящими. Леонардо жил в эпоху более патриархальную (в смысле государственности), но тоже достаточно опасную, когда жгли на кострах и рукописи, и людей, заточали в темницы не только за речи, но и за мысли, когда личности угрожали тираны, короли, инквизиция. Он жил в беспокойное время, когда неизвестно было, где человек переночует, даже в конце безмятежного дня, чем порадует его утро, даже после безбурной ночи. В окружении Леонардо люди или исчезали бесследно, или кончали жизнь под топором палача, или медленно теряли разум в темницах, как его некогда могущественный покровитель Лодовико Моро. Поэтому судить о склонности к секретности Леонардо надо с большой осторожностью, это не чудачество, а если и чудачество, то рожденное жестокостями века. (Что не устраняет вопроса о странностях личности, а лишь углубляет его.) Да, рукой Леонардо, когда он зашифровывал в уже зашифрованном письме имена людей и названия городов, водил не страх, а дух времени. В Милане он подружился с талантливым анатомом, уроженцем Вероны, Маркантонио делла Торре. Они задумали полный трактат по анатомии человека. Маркантонио делла Торре было тридцать лет, когда он поехал на берег озера Гарда лечить людей, заболевших чумой, сам заболел и умер. Чума во времена Леонардо, менее жизнерадостные, чем XIV век, уже не рождала ситуаций, подобных началу «Декамерона». В 1514 году умер покровитель Леонардо маршал Шарль Амбуазский… Мог ли Леонардо не думать о возможности совершенно реальной — неожиданного ухода из жизни? К кому тогда попадут его записные книжки? Кто будет их читать? Что станет с людьми, которые в них названы? Нет, любовь к секретности у Леонардо безмотивной не назовешь. А мир вокруг него рушился. На территории Италии воевали армии Франции и Испании. Милан с часу на час ожидал вторжения швейцарцев и венецианцев. Флоренция переживала трагические дни. Мы помним, что Леонардо был гениальным военным инженером, но ни французский король, ни один из полководцев воюющих сторон не захотели его участия в войне как изобретателя и создателя новых видов оружия. Они воевали по старинным законам рыцарства. Основными силами были кони и холодное оружие. Эта эпоха, столь беспокойная, в сущности, искусство любила больше, чем технику и войну. Наемные войска в битве старались выиграть бой с наименьшими потерями или создать иллюзию мощного боя для тех, кто им хорошо заплатил. Даже в самые тревожные дни государственные деятели ожидали от Леонардо не нового оружия (а в числе этих новых видов были, как мы помним из письма Леонардо к Лодовико Моро, даже пулеметы и танки) — ожидали новых картин. Объяснение этой странности можно найти у известного историка итальянской культуры Якоба Буркхардта, который рассматривает войну в ту «эстетическую» эпоху тоже как явление искусства. Новые военные изобретения делали войну менее «красивой» и живописной. Некоторые кондотьеры3, как замечает Буркхардт, настолько ненавидели ружье, что велели отрубать руки захваченным в плен мушкетерам. Им казалось унизительным, что жалкий пехотинец может убить ружейным выстрелом смелого и благородного рыцаря. Это отнюдь не устраняло из жизни ужасов войны, хотя они не могут быть сопоставлены с ужасами последующих войн. Макиавелли пишет, что в битве 1440 года флорентийцы потеряли лишь одного воина… «Эстетическая» эпоха относилась с известным неодобрением к новым военным изобретениям, которые нарушали «возвышенные и красивые» традиции рыцарских войн. Трагизм человеческого существования Леонардо выразил не в «Кодексах» и даже не в картинах, а в баснях, может быть самых откровенных его сочинениях. «Камень отменной величины, недавно извлеченный из воды, лежал на некоем возвышенном месте, где кончалась приятная рощица, над вымощенной мостовой, в обществе растений разных цветов, изукрашенных разнообразной расцветкой. И видел он великое множество камней, которые были собраны на лежавшей под ним мостовой. И вот пришло ему желание упасть отсюда вниз, ибо говорил он себе так: „Что делать мне здесь с этими растениями? Хочу жить вместе с теми моими братьями“. И, низринувшись вниз, окончил он среди желанного общества легкомысленный свой бег. Когда же полежал он так недолго, взяли его в неустанную работу колеса повозок, подкованные железом ноги лошадей и путников: тот его перевернет, этот топчет, порой поднимется он на малую высоту, иногда покроет его грязь или кал каких-нибудь животных, — и тщетно взирает он на то место, откуда ушел, на место уединенного и спокойного мира. Так случается с теми, которые от жизни уединенной, созерцательной желают уйти жить в город, среди людей, полных нескончаемых бед». Мораль этой басни ясна. Но был ли счастлив Леонардо «на некоем возвышенном месте»? Видимо, именно в одиночестве его посещали мысли, которые он выражал в форме загадок. Загадки для Леонардо были не только рассмотрением и познанием мира, о чем мы писали выше, но и потаенным выражением его чувства действительности. «Деревья и кустарники великих лесов обратятся в пепел». Воистину трагический, почти шекспировский образ. А на самом деле это не более чем дрова в печи. Или: «Водяные животные будут умирать в кипящей воде». Вареные рыбы… А вот настоящая фантасмагория, в которой ощутим будущий Гофман или Булгаков: «Будут явлены огромнейшие фигуры человеческой формы, которые, чем больше ты к ним приблизишься, тем больше будут сокращать свою непомерную величину». Леонардо имеет в виду тень, отбрасываемую человеком, который идет ночью со свечой. Читая эти загадки, думаешь: ведь Леонардо не миф, а человек, живой человек, он любил, страдал, работал, был ребенком, мужчиной, веселился, терпел неудачи, дерзал, наблюдал, беседовал, бедствовал, радовался, видел сны. Человека нет ни у Вазари, ни у последующих «жизнеописателей». 3 Кондотьеры — предводители наемных войск в Италии XVI–XVI веков. Есть не человек — литературный образ, более или менее удачный в романе Мережковского. Поэтому с жадностью ловишь мельчайшие живые подробности о нем, рассыпанные в немногочисленных воспоминаниях современников. Один из анонимных авторов биографии Леонардо да Винчи, по всей вероятности, человек, видевший его лично, пишет: «Он носил красный плащ длиною всего до колен, хотя тогда были в моде длинные одежды. До середины груди ниспадала прекрасная борода, вьющаяся и хорошо расчесанная». Почему он одевался не как все? Относился к себе самому как к явлению искусства? Был щеголем? При его равнодушии к женщинам отпадает самая банальная версия: он хотел нравиться. Но может быть, он хотел нравиться себе самому? Ведь вся эпоха Возрождения напоминала Нарцисса, любующегося собственным отражением. Он никогда, даже на улице (а может быть, особенно на улице!), не расставался с маленькой записной книжкой у пояса, куда заносил все, что видел, все, о чем думал… Во время второго миланского периода Леонардо пережил последнюю, самую тяжелую встречу с Флоренцией. Умер старый Пьеро да Винчи. Законные сыновья поделили его наследство, ничего не дав незаконному Леонардо. Он не отстаивал собственных интересов, хотя имел для этого юридические основания. Потом умирает его дядюшка Франческо, товарищ первых детских игр, первого познания окружающего мира. Дядюшка оставил ему небогатое имущество: небольшой дом в Винчи и маленький участок земли во Фьезоле. Видимо, это было дорого Леонардо как воспоминание о детстве. Когда он узнал, что его родственники стремятся опять оставить его ни с чем, то поехал во Флоренцию, чтобы бороться за эту малость. Но, увы, он не умел бороться. Умел бороться новый нотариус Джулиано — второй сын сера Пьеро. Леонардо оказался увлеченным центробежной силой юной, но мужающей флорентийской бюрократии. Дни, недели и месяцы он униженно ходил в поисках потерянного дела по канцеляриям, видя перед собой те самые конторки, которые похожи на нахохлившихся воронов. В сущности, Леонардо был первым европейским интеллигентом, который столкнулся с нарождающимся «кафкианским» миром бюрократии, исполненным анонимных опасностей. Несмотря на рекомендательные письма сиятельных миланских покровителей Леонардо, дело тянулось бесконечно. Леонардо томился, переживал унизительные часы общения с ловкими канцеляристами, и даже Макиавелли, изучивший хорошо молодую флорентийскую бюрократию, не мог ему помочь. Законные дети нотариуса Пьеро да Винчи были сильнее. …В Амбуазе, чувствуя, что его последний час недалек, Леонардо составил завещание, по которому большая часть наследства, в том числе все его деньги и скромное имущество, оставшееся в Италии, переходило к законным детям Пьеро да Винчи. По-видимому, это тоже было частью науки умирать , науки, которой, мы помним, он учился всю жизнь. Умирать, оставаясь в мире не только в великом и бессмертном, но и в малом, будто бы несущественном… «…О, если бы у человека было не пять, а пятьдесят или пятьсот чувств!» — восклицает Эпикур в диалогах современника Леонардо философа Лоренцо Валлы. А у Леонардо да Винчи и было их пятьдесят или пятьсот. В их числе и чувство великодушия. Миф о ледяном сердце Леонардо обычно иллюстрируют одной страницей из его записных книжек. Когда в дни его молодости казнили Бернардо ди Бандино БаБарончеллокоторый убил в церкви Джулиано Медичи, Леонардо нарисовал повешенного человека и записал то, что видел. «Шапочка каштанового цвета. Фуфайка из черной саржи, черная куртка на подкладке. Турецкий кафтан, подбитый лисьим мехом. И воротник куртки обшит черным и красным бархатом с крапинами. Бернардо ди Бандино Барончелло. Чулки черные». Он описывает его, как описывал бы естествоиспытатель расцветку экзотической бабочки, насаженной на иголку, в его коллекции. Интересно, что только после имени повешенного констатируется, что «чулки черные». Страсть к деталям, к абсолютной точности побеждала все: и сострадание, и отвращение, и даже — даже! — любопытство. «Чулки черные». Но обычно умалчивают о том, что Леонардо нарисовал повешенного и отметил черты его облика не из любви к казням, а потому, что тогда существовал обычай увековечивать казнь — для устрашения нераскрытых заговорщиков — фресками на стенах города. Повидимому, молодой Лоренцо Медичи, первый покровитель Леонардо, и поручил ему написать эту фреску, как поручил написать фрески, изображающие ранее казненных заговорщиков, нежному, меланхоличному Боттичелли. И Боттичелли создал эти фрески. Его никто никогда не обвинил в жестокости. Леонардо, по-видимому, жестокой фрески не создал (как мы помним, фрески ему не удавались), но рисунок повешенного Барончелло остался как аргумент «холодного» сердца. Но можно ли судить о сердце человека в отрыве от духа эпохи?.. *** Неизвестный художник школы Леонардо да Винчи. Мадонна на троне. Отцы церкви. Лодовико Моро и Беатриче д′Эсте с детьми. Джорджо Вазари. Портрет Лоренцо Медичи. Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря» (фрагмент). Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря». Христос (фрагмент). Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем». Портрет Чечилии Галлерани. Больтраффио. Портрет Франческо Мельци. Леонардо да Винчи. Эскиз памятника Франческо Сфорца. ГЛАВА 4 Метод Стендаля, или История Бьянки Капелло (Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Леонардо да Винчи, рисунок ) Ни один историк искусств не начинает исследование живописи итальянского Ренессанса столь оригинально и неожиданно, как Стендаль. Стендаль любил читать о старой живописи. Если ему верить, он «осилил» (с большим или меньшим удовольствием) сотни томов. Я лично этому верю. Стендаль любил живопись. Любил читать о ней и любил писать о ней. Искусство играло в его жизни особую роль, сопоставимую лишь с той ролью, которую играла в его жизни любовь (о чем я писал в книге «…Что движет солнце и светила»). Стендаль любил повторять о себе, что всю жизнь он был в ситуации неразделенной любви. И именно эта ситуация, когда он любил, а его — нет, формировала особый склад души. Возможно, искусство было любопытной формой компенсации: с ним он испытывал радость любви разделенной. Он любил. И его любили. Да, его любили картины, статуи, соборы, оперы, театры, пейзажи, запечатленные кистью или карандашом. Его любили женщины на портретах великих художников. И он писал об этих женщинах как о реально существующих. Этой взаимной любовью и можно объяснить то, что искусство открывало ему, пожалуй, все, что может открыть оно человеческой душе. Для Стендаля живопись была чудом. Можно даже утверждать, что она была для него «чудом в чуде», потому что основным чудом была и оставалась жизнь. Жизнью Стендаль и объяснял живопись. В юности для меня это было большим открытием и большой радостью — радостью, потому что устраняло ряд мучавших тогда сомнений. Меня в ранние годы никогда не удовлетворяли достаточно компетентные и достаточно однообразные объяснения экскурсовода в Эрмитаже ли, в Третьяковской ли галерее, в Музее ли изобразительных искусств имени Пушкина. Мне не хватало в них чего-то самого капитального. Став старше, я понял, что в этих объяснениях нет жизни. Живопись объясняют самой живописью. Став старше, я понял: это все равно что объяснять соблазнительность новогоднего торта тем, что в нем есть взбитые сливки, лимонные корки и орехи. Соблазнительность его в снеге — пушистом легком, падающем за окнами; соблазнительность его в белом чуде за стенами дома. Без этого белого чуда и взбитые сливки, и орехи не более чем источник физиологических ощущений. Но от белого чуда за окнами все переходит на иной уровень восприятия. Я надеюсь, читатель извинит мне «кондитерскую» метафору: я разрешил себе ее потому, что существует, на мой взгляд, и физиология искусства — объяснение искусства искусством, порождающее тоску, чувство неполноты жизни. Стендаль начинает «Историю живописи в Италии» не с характеристики художественного гения нации, не с жизнеописания того или иного живописца, не с очерка социально-экономического состояния общества и даже не с очерка нравов, как любили это делать те, кто писал об этой эпохе до и после Стендаля, — он начинает исследование живописи трагической историей семьи великого герцога Тосканы Козимо I, одного из последних членов могущественной семьи Медичи. Это уже середина XVI века. Стендаль тонко замечает, что хотя шедевры живописи относятся к более раннему времени, но в обществе и при Козимо I господствовали обычаи XV века. Обычаи инертнее и консервативнее искусств. Они меняются гораздо медленнее — нет ничего стабильнее обычаев. Марию, дочь Козимо I, полюбил паж ее отца, после чего Мария умерла от яда, а паж лет пятнадцать томился в темнице; потом ему удалось бежать на относительно дальний остров, но и там он пал от ножа убийцы. Честь, как ее понимал Козимо I, не позволяла, чтобы остались в живых его дочь и ее возлюбленный. Вторая дочь Козимо разделила участь сестры, с той лишь разницей, что была заколота по приказу мужа — герцога Феррарского. Их мать, жена Козимо, великая герцогиня Элеонора, думала найти утешение в сыновьях (доне Гарсиа и кардинале Джованни Медичи). Однажды на охоте из-за дикой козы, которую неизвестно кто убил — то ли Гарсиа, то ли Джованни, — они затеяли дикую ссору, во время которой дон Гарсиа убил брата ударом кинжала. Герцогиня настолько любила сына, что не отвернулась от него, она рассчитывала, как пишет Стендаль, на те же чувства со стороны мужа. Но великий герцог Тосканский убил сына-убийцу шпагой. Мать и обеих сыновей похоронили в одной могиле. То, что я рассказал выше, лишь увертюра к истории, которой открывает Стендаль исследование итальянской живописи. Это история гибели третьего сына Козимо I — великого герцога Франческо. Не будем ни на минуту забывать, что мы сейчас не во Флоренции Лоренцо Великолепного, когда начиналась юность Леонардо да Винчи, а во Флоренции достаточно отдаленных потомков Лоренцо, во второй половине XVI века, когда Вазари начал писать «Жизнеописания», а Леонардо уже не было в живых более сорока лет… Но обычаи, как мы помним, отстают в развитии от искусств. Собственно говоря, это не история великого герцога Франческо, а история очаровательной венецианки Бьянки Капелло. …В моем распоряжении две версии жизни Бьянки: Стендаля и забытого русского писателя Кондратия Биркина, автора трехтомного сочинения «Фавориты и фаворитки». Версия Стендаля — романтическая, версия Биркина — антиромантическая. У меня больше доверия вызывает Стендаль. Целью Биркина было развенчать, целью Стендаля — понять . И по времени он был ближе к той эпохе. Но важно оценить не только достоверность той или иной версии, важно осознать, почему Стендаль поставил эту историю в «возглавие» исследования (как и некоторые страницы, живописующие экзотические нравы папы Александра VI из дневника Бурхарда) о живописи в Италии. Стендаль был строго логичен как писатель, недаром он в юности увлекался математикой. Он был человеком четко и ясно мыслящим. Почему же он избрал именно эту историю в неисчерпаемом богатстве ей подобных? Почему он избрал именно ее, углубляясь в искусство эпохи Возрождения? Чтобы понять это, надо узнать историю Бьянки. Я изложу эту историю по Стендалю, дополняя ее подробностями, почерпнутыми из иных старых источников. Но чтобы понять головокружительную жизнь Бьянки, нужно понять и самого Франческо — великого герцога Тосканского. Человек, в сущности, уже послеренессансной эпохи, Франческо сохранил в себе чисто ренессансные черты, которые были сильны и ярки во всех Медичи. Он любил искусства и науки, вел оживленную переписку с последними гуманистами Матиолли и Альдрованди. Он сохранил чувство пиетета по отношению к античности, но самым большим увлечением тосканского герцога была алхимия: поиски «философского камня», эликсира бессмертия. С утра до вечера Франческо в дымной лаборатории пытался создать золото из неблагородных металлов. Он был женат на эрцгерцогине австрийской Иоанне, к которой относился более чем равнодушно. Бьянка Капелло родилась в Венеции. В Венеции она и полюбила Пьетро Буонавентури, молодого красивого флорентийца, бедного и непоседливого, который покинул родину в поисках удачи. Он остановился в Венеции у земляка, купца, дом которого стоял в том же переулке, что и палаццо состоятельного венецианца, управляющего коммерческим банком, Барталомео Капелло. Я не буду останавливаться на детстве Бьянки. Оно было нелегким, потому что Барталомео рано овдовел и его вторая жена невзлюбила его детей. Наша история начинается с той минуты, когда молодой Буонавентури увидел в окне юную очаровательную Бьянку, которой не разрешали даже выходить на улицу. Он увидел ее и полюбил. Дальнейшее напоминает сюжеты итальянских новеллистов XVI века. Девушка, видя, что вызвала сильное чувство в молодом красивом человеке, который тоже ей нравится, обманывает недобрую наблюдательность мачехи и ночами в объятиях возлюбленного забывает о тяжкой судьбе падчерицы. Однажды она забылась настолько, что очнулась не на рассвете, а гораздо позже, когда возвращаться домой было опасно. Понимал и молодой Буонавентури, что ему угрожает, если станут известны его отношения с дочерью сиятельного венецианца. Они бегут. Семья Бьянки обратилась за помощью в сенат Венеции. Была объявлена награда в две тысячи дукатов тому, кто убьет похитителя, то есть Пьетро Буонавентури. По городам Италии были разосланы наемные убийцы. Им не удалось настигнуть ни Пьетро, ни Бьянку — любовники бежали на корабле, нагруженном сеном, добрались до Флоренции и тут поселились тайно в небольшом домике на тишайшей улице. Бьянка никогда не выходила из дому, а Пьетро решался на это, будучи хорошо вооруженным. Но одному из фаворитов великого герцога Франческо Медичи удалось однажды увидеть ее в окне. Он рассказал о ней государю, и тому захотелось лицезреть легендарную Бьянку, за которой охотились все наемные убийцы Венеции. После многих перипетий наша история завершается тем, что Бьянка становится возлюбленной Франческо, к радости ее первой любви — Пьетро Буонавентури, который понимает, что головокружительный взлет Бьянки открывает и перед ним заманчивые перспективы. И действительно, его надежды поначалу не были обмануты, его положение становилось все более высоким, богатство увеличивалось, пока он (что само собой разумеется) не был убит, но не посланцами венецианского сената, а людьми «милостивого покровителя» Франческо, которому показалась неуместной нелепая заносчивость «первой любви» женщины, которую он любил. Убийство Буонавентури не особенно опечалило Бьянку, к тому времени она была полной госпожой и сердца, и ума великого Тосканского герцога. Когда его жена умерла от горя, сообщает Стендаль с той суховатой иронией, которую обретало его перо при описании подобных ситуаций, великий герцог по настоянию кардинала Медичи (четвертого сына Козимо I) удалился на некоторое время из Флоренции, даже хотел порвать с Бьянкой, но через два месяца тайно на ней женился, после чего Бьянка была объявлена в еще недавно ненавидящей ее Венеции «дочерью республики». Бьянка Капелло стала великой герцогиней, и лишь одно омрачало покой и радость новой четы: у Бьянки не было детей, а герцог Тосканский, естественно, мечтал о наследнике. И поэтому он испытал величайшую радость, когда молодая жена сообщила ему, что станет матерью. А когда настало время родов, Бьянка, несмотря на сильные боли, чувствуя, что, возможно, настает ее последний час, нашла в себе силы подумать о духовнике. И вот к ней идет духовник, он уже почти на пороге комнаты, где лежит роженица. В эту минуту его останавливает кардинал Медичи. Кардинал с самого начала ни на минуту не сомневался в том, что жена Франческо, которая была в его глазах хитрой авантюристкой, ненавидимой, разумеется, не за ее сомнительные моральные качества, а потому, что рождение сына лишало его возможности занять флорентийский трон, задумала фарс. Духовника останавливает кардинал и, обнимая, нащупывает под рясой толстого мальчугана. Великий герцог Франческо любил Бьянку настолько, что отнесся к обману более чем великодушно. Бьянке ничего не было, ее не наказали. Зато она наказала всех, кто имел отношение к осуществлению ее замысла. Они были убиты. И кормилица, которая ей помогала, и даже ни в чем не повинная мать новорожденного, которая «уступила» его Бьянке за деньги. Бьянка не была бы «женщиной итальянского Ренессанса» (особенно в понимании Стендаля), если бы не замыслила месть. После той трагикомической ночи (истинно трагической лишь для тех, кто после нее пострадал) она была особенно добра и обаятельна в общении с высокопоставленным шурином. Она однажды даже устроила для него обед с любимыми кушаньями, в одно из которых положила яд. Кардинала не обмануло расположение Бьянки. Он был мил и весел за столом. Но ничего не ел. Он не дотронулся до любимого кушанья, какого-то особого крема, фирменного лакомства семьи Медичи. И тогда великий герцог Тосканский, удивленный поведением кардинала, воскликнул: «Ну что ж! Если мой брат отказывается от любимого кушанья, я им полакомлюсь». Удержать мужа Бьянка не рискнула, этим она обнаружила бы задуманное убийство. Как и муж, ничем не выдав волнения, она положила себе на тарелку бланманже. И тоже его съела. Оба они умерли, а кардинал наследовал флорентийский трон и в течение двух десятилетий был Фернандо I. «В этот-то век страстей, — заключает Стендаль, соединяя историю Бьянки Капелло с историей итальянской живописи, — когда души могли открыто отдаваться величайшему неистовству, появилось такое множество великих художников». Стендаль не забывает все время напоминать читателю, что герои подобных историй действовали в эпоху Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. Эта логика кажется на первый взгляд странной. Можно ли соотнести авантюрную биографию Бьянки Капелло с появлением бессмертных художественных ценностей? Углубимся в логику метода Стендаля (что и автору этих строк было нелегко), перенесясь из Флоренции в Перуджу — родину учителя Рафаэля Перуджино — из середины XVI века в последнее десятилетие XV. В повести «Письма из Эрмитажа» я рассказал о трагедии семьи Болоньи — одной из самых богатых и могущественных в Перудже. Я повторю ее сейчас не потому, что мне лень искать подобные трагедии в других семьях и городах (нет ничего легче: история итальянского Ренессанса ими переполнена), а для того, чтобы углубиться в логику метода Стендаля, показав мой собственный путь от неполного понимания ее к более полному. Когда женился сын старого Гвидо Болоньи — отважный мессер Асторре, весь город, исключая явных врагов этой семьи, чествовал жениха и невесту. Жители Перуджи оделись в шелк и бархат, в парчу, золото и серебро; у городских ворот было устроено угощение и шествие; воздвигли даже триумфальную арку, расписав ее подвигами Асторре и стихами, посвященными ему. Перуджа наряжалась и веселилась, но радости было суждено обратиться в величайшую печаль. Явные враги этой семьи соединились с тайными, существовавшими в самом доме Болоньи, в том числе с молодым красивым Грифонетто; они устроили заговор, решив зарезать старого Гвидо, его сыновей и родных во время сна, чтоб обогатиться и захватить в руки управление городом. Ночью это и свершилось. Когда убивали Асторре, нанесли рану и юной жене его, старавшейся телом заслонить супруга. Ему же самому нанесли столько ран, что и пятой части было достаточно для умерщвления. В ту же ночь убили старого Гвидо и сына его Джисмондо и самого отважного из дома Болоньи — восемнадцатилетнего Симонетто и их оруженосцев… Утром толпы любопытных на улицах окружили неубранные трупы. В семье Грифонетто его участие в измене вызвало бурю: его мать, Аталанта Болоньи, и его жена, Дзенобия, надели траур и покинули дом, захватив с собой детей, — ведь Грифонетто был родственником старого Гвидо. Потом Болоньи, ускользнувшие от убийц, собрали войско и ворвались в Перуджу. Грифонетто убили солдаты на улице; тело было его покрыто ранами, но мать и жена застали его в живых. Он умер мужественно. А через пять лет мать Грифонетто — Аталанта Болоньи заказала ученику Перуджино, двадцатилетнему Рафаэлю, картину, которая должна была увековечить память ее несчастного сына. И Рафаэль ее написал (сейчас она находится в галерее Боргезе). В фигуре юноши, несущего тело мертвого Христа, художник изобразил Грифонетто… Работа молодого Рафаэля, несмотря на печальный сюжет, дышит умиротворением и покоем; она торжественна и тиха; даль, расстилающаяся за античной фигурой Грифонетто, ясна и безмятежна; трудно найти больший контраст между темными силами, которые усеяли в ту ночь узкие улицы Перуджи трупами, и ясным, высоким разумом художника, не желающего думать о насилии и жестокости. (Не раскаялась ли Аталанта Болоньи в том, что обратилась к молодому Рафаэлю?) «Когда было найдено на улице тело Асторре и тело Симонетто, — рассказывает хроника, — ими любовались как античными героями, настолько черты их были исполнены благородства и величия». Нам, людям XX века, совершенно непонятно, как можно, найдя на мостовой убитых с величайшей жестокостью юношей, любоваться ими, как римлянами эпохи Цезаря, не видя ужасных ран. Подобное восприятие кажется нам совершенно непостижимым. А век Рафаэля восхищался «героическими» телами, не думая об ужасах насилия. (Может быть, мать Грифонетто нашла в картине Рафаэля то, чего не находим сегодня мы?) Рафаэль оказал величайшую честь ее сыну, сообщив ему античное величие, как оказали величайшую честь Асторре и Симонетто те, кто сопоставил их с легендарными римлянами. Человечность людей эпохи Рафаэля не похожа на нашу, более утонченную и восприимчивую, но это не делает ее менее высокой. Постараемся ее понять. Постараемся ее понять с помощью Стендаля. Сегодня мне кажутся наивными вопросы, которые заключены в скобки: «Не раскаялась ли Аталанта Болоньи в том, что обратилась к молодому Рафаэлю?.. Может быть, мать Грифонетто нашла в картине Рафаэля то, чего не находим сегодня мы?» Я думаю сегодня, что мудрость Аталанты Болоньи состояла в том, что она узнала сына не в фигуре юноши на картине Рафаэля. Она узнала сына в самом Рафаэле. Она, может быть, не настолько осознанно, как Стендаль через несколько столетий, понимала: если бы не было ее сына, не было бы и Рафаэля. Когда Рафаэль закончил великую картину, он стал ее сыном. В этом жестокая логика и не менее жестокая мудрость эпохи. И в этом же логика метода Стендаля. Стендаль понимал: только в эпоху великих страстей и характеров возможно появление великой живописи. И в сущности, это не было его открытием. Это было лишь обобщением опыта человеческой души и опыта развития искусств. А открыл это, открыл это… Леонардо да Винчи! Тот самый Леонардо, который открыл немало вещей, открытых второй раз через ряд столетий после него. Открытие было совершено Леонардо и в его мыслях о живописи, и в фреске «Тайная вечеря». Суть открытия будто бы и очевидна: живопись показывает невидимое — видимым, жизнь души — в жизни рук, лица, «телесного состава» человека. Именно поэтому уровень развития изобразительных искусств (именно изобразительных) зависит от масштабов страстей и человеческих отношений века. В эпохи падения характеров и чувств возможна (возможна…) большая литература, но не большая живопись. Возможен Диккенс или Льюис Кэрролл — в тихой, стабильной викторианской Англии, но не неистовый Микеланджело. В безбурные века можно исследовать тщательно, талантливо, даже гениально человеческую душу, но не изображать ее. Чтобы изображать, нужен особый склад и стиль жизни, обуславливающий особенную жизнь души, иначе изображать будет нечего. Апостолы в «Тайной вечере» Леонардо — люди сильных страстей, открытых и бурных характеров, они могут опрокинуть стол, за которым сидят, они, кажется порой, как это ни кощунственно — ведь речь идет об апостолах Христа, — могут ударить, даже убить. Сообщение учителя, что один из них изменник, вызывает бурю чувств. И в этой буре вырисовывается самое дорогое для живописи: разнообразие личностей в разнообразии видимых форм душевной жизни. Ни один жест, ни один поворот головы, ни одна черта лица не повторяются дважды. Когда французский король Людовик XII увидел эту фреску — новорожденную, не поврежденную временем и реставрацией! — он захотел, чтобы его инженеры нашли возможность… перенести ее во Францию. И когда те объясняли ему, что это технически невыполнимо, он им не верил, он не понимал их доводов. И мы можем его понять — мы можем его понять, потому что для него эти апостолы были не изображениями на стене, а живыми людьми, которых можно посадить на коней, чтобы они поскакали на север, во Францию… Известно, что Леонардо советовал художникам «делать» фигуры с теми жестами, которые говорили бы о том, что творится в душе у героев. Это совет в духе «метода Стендаля» или, точнее, «метод Стендаля» в духе этого совета. Возможны ли великие картины, великие «фигуры» в душах невеликих? В ту эпоху было высоко развито чувство, особо ценимое Стендалем: чувство опасности . Стендаль полагал, что лишь это чувство, не расслабляя, а сосредоточивая волю, вырабатывает силу характера. И в этом он был абсолютно логичен. Когда читаешь «Историю живописи в Италии», кажется, что даже беды, несчастья, трагедии героев «итальянских хроник» вызывают у Стендаля чувство высокой зависти. Он завидовал даже их душевным мукам, потому что в этих муках было то богатство жизни, которого лишила его современная ему действительность. Из сумерек посленаполеоновского режима, с его суетой, тщеславием, себялюбием, непониманием больших страстей, — из этих сумерек Стендаль очарованно всматривается в игру красок итальянского Ренессанса. В нас, людях XX века, картины обычно возбуждают ум больше, чем сердце. Стендаль же, несмотря на весь его ум, воспринимал сердцем живопись. Я даже берусь утверждать, что он писал о живописи сердцем. Отсюда, может быть, и дилетантизм некоторых его суждений. Стендаль называл себя дилетантом в первоначальном, возвышенном смысле этого слова: дилетант — любитель. Но об универсальности Леонардо он написал по-дилетантски в понимании сегодняшнем, в смысле беглости и неглубины суждений, которые окрашиваются очарованием стендалевской личности. Отмечая, что Леонардо да Винчи усовершенствовал каналы миланской области, открыл, почему луна кажется пепельной и голубой, закончил в Милане модель гигантского коня и «Тайную вечерю», написал трактаты по живописи и физике, после чего мог «счесть себя первым инженером, первым астрономом, первым живописцем и первым скульптором», Стендаль затем пишет, что «Рафаэль, Галилей, Микеланджело явились за ним и пошли дальше, чем он, каждый в своей области». Не говоря уже о том, что Леонардо никогда не был первым астрономом, — земля занимала его гораздо больше, чем небо, — ни Рафаэль, ни Микеланджело, ни Галилей не пошли и не могли пойти дальше Леонардо — в совокупности живописи, науки и инженерии. Он в этом непревзойден. Как универсальная личность Леонардо уникален и несопоставим ни с кем. Стендаль дальше ясно и точно пишет о том, что Леонардо — создатель «науки о человеке», тем самым опровергая мысль о том, что те, кто явились вслед за ним, «пошли дальше». Человек, чья историческая заслуга в утверждении основ «науки о человеке», тоже абсолютно уникален как первооткрыватель. Но дилетантизм дилетантизмом, а в чем-то Стендаль опередил собственное время. Не лишено интереса, что, рассказывая о «Тайной вечере», он рассматривает Иисуса как молодого философа. В этом выразился не только атеизм Стендаля, но и его умение взглянуть на эпоху как бы изнутри. В век Леонардо на лестнице общественных ценностей философ стоял выше художника, хотя нам сегодня — на расстоянии веков — кажется, что именно художник стоял выше. Не случайно Вазари называл Леонардо философом. А французский король Франциск I, желая доставить Леонардо радость, называл его «величайшим философом», хотя, как известно, после Леонардо не осталось не только мировоззренческой системы, но и даже разрозненных философских эссе. Его философией были картины, его философией был образ жизни. Его философией было видение мира. В эту самую «художественную» и самую динамичную из эпох перестройка иерархии ценностей (а иерархию можно вообразить как лестницу) совершалась постепенно, отставая от новизны жизни. Поэтому, несмотря на весь блеск ее достижений в области изобразительных искусств, все же философ оставался фигурой более высокой, чем живописец. И хотя уже начались изменения в сознании и осознании ценностей и все чаще бога называли художником, но титул философа был настолько почетен, что, именуя Иисуса Христа философом, Стендаль отдавал дань духу эпохи, о которой писал. В этом выразился историзм его мышления. Он безумно любил разные сюжеты, обнаруживающие доблесть, силу души, ее величие. И при первой же возможности уходил от живописи в жизнь, чтобы потом вернуться опять к живописи, сопоставляя ее с живой действительностью и объясняя ее действительностью. Например, рассказывая о старинной копии «Тайной вечери» в Понте Каприаска, Стендаль сообщает, что она была выполнена молодым человеком родом из Милана, который бежал из этого города во время потрясений и укрылся в Понте Каприаска в 1520 году. Потом он получил возможность возвратиться в Милан. Высшие лица маленького городка Понте Каприаска хотели, расставаясь с ним, оплатить его работу. Он долго отказывался, потом, когда отказы стали вызывать обиду, получил семьдесят скудо, вышел на улицу и роздал эти деньги беднейшим жителям. Казалось бы, какое отношение имеет эта история и к Леонардо да Винчи, и к копии «Тайной вечери»? Стендаль в той же «Истории живописи» пишет: «Мне могут заметить, что по поводу искусства я говорю о посторонних ему вещах…» Стендаль часто пишет о «постороннем», касаясь собственного века, личных воспоминаний, даже мимолетных впечатлений. Они тоже по его логике имеют отношение к искусству. Мне жаль, что никто после Стендаля не додумался истолковывать уровень развития изобразительных искусств страстями, характерами, нравами эпохи и прочими «посторонними вещами». «Метод Стендаля» помог бы нам, наверное, лучше понять и французскую живопись XVIII века, и импрессионистов, и абстрактную живопись XX века. Углубляясь в историю итальянского Ренессанса, рассказывая о первых его великих мастерах — Никколо Пизано, Чимабуэ, Джотто, Стендаль замечает: «Страсти — это необходимое условие и вместе с тем содержание искусства — уже существовали». И, верный избранной им логике, тут же рассказывает в трех строках историю о том, как в 1293 году во Флоренции, то есть до начала первого века Ренессанса, Джано делла Белла, оскорбленный одним дворянином, устраивает во имя свободы заговор, который увенчивается успехом. И печально уточняет: «В 1816 году феодальная Германия такой высоты еще не достигла». Феодальная Германия — это канун нарождающегося мощного мира европейской бюрократии, убивающей и страсть, и характеры. Это канун мира Кафки. Может быть, Стендаль был первой личностью в истории европейского духа, ощутившей тайный, безотчетный страх перед ужасами мира Кафки, — отсюда его тоска по сильным характерам, безбоязненно и бездумно разрывающим ту или иную враждебную для них ситуацию. Как бесподобно даже это: «Ночью я, к сожалению, не думал о том, что буду утром убит посреди пира соперников и недругов!» Я испытываю особую склонность к подлинным документам и поэтому обращусь сейчас к двум самым достоверным источникам: к записям Стефано Инфессуры, в которых отражены нравы XV века, и к дневнику Иоганна Бурхарда. (Не надо путать с историком культуры XIX века Якобом Буркхардтом, написавшим классическую «Культуру Италии в эпоху Возрождения».) Убийство не только не вызывало возмущения, горестного удивления или раскаяния, но было — иногда — событием радостным, торжественным. «В лето 1424 года, второго июня, недалеко от Аквилы был убит полководец Браччио да Монтоне; по случаю убийства врага папы в Риме было большое торжество с увеселительными огнями и танцами. Римляне с факелами, на лошадях явились сопровождать синьора Джордано Колонна — брата папы…» Убивали в то время порой с жестокостью одновременно и утонченной и варварской. В записях Инфессуры то и дело мелькают строки: «Были казнены… были обезглавлены… ему отрубили голову, ему отрубили руки, повесили его и затем четвертовали». Убивали побежденных и убивали победителей. Убивали за измену и убивали за верность. Убивали тех, чья беспомощность делала их легкой добычей. Убивали тех, чья могущественность вызывала опасения. Убивали тех, кто с охотой участвовал в убийствах, и убивали тех, кто не желал участвовать в убийствах. Убивали кардиналов. Убивали обыкновенных горожан. Убивали художников. И убивали конюхов. Детей убивали наравне со взрослыми. Женщин наравне с мужчинами. Стариков убивали тоже. Люди исчезали таинственно, как в «Мастере и Маргарите», фантасмагория социальных страстей со всеми ее «чудесами» стала повседневностью и никого не удивляла… Рафаэль уже родился… Отмщенная жестокость казалась чудом, потому что обычно жестокость вознаграждалась. И тому, кто в ней отличался, доставались одни почести, тот был в милости у судьбы. …Бурхарда все это нисколько не удивляет. Иоганн Бурхард был юристом, который потом избрал духовную карьеру, должность церемониймейстера в Ватикане занимал при папах Сиксте IV, Иннокентии VIII и Александре VI. Человек рассудительный, педантичный, воспитанник юридического факультета в Страсбурге, точно мыслящий, наблюдательный, совершенно лишенный иллюзий и видящий все, при этом склонный к известному скепсису. Его не возмутило, когда одного из недругов папы «щипали раскаленными щипцами… отрубили руки… повесили и затем четвертовали». Он мыслит и действует в системе понятий, верований и норм эпохи. Бурхард ничему не удивляется. И это не только особенность характера и не только черта эпохи; ничему не удивляться при папе Александре VI было единственной возможностью остаться в живых. Именно из дневника Бурхарда мы узнаем об убийстве старшего сына папы Александра VI Хуана Борджа — Цезарем Борджа, который не хотел ни в чем и абсолютно никому в мире уступать первенство. Замечательная деталь. Когда слуги папы допрашивали некоего Георгия Склава, сторожившего склад на берегу Тибра, почему тот не сообщил, что чье-то тело было брошено в реку, он чистосердечно ответил, что видел это в жизни столько раз, что не обратил никакого внимания. Он тоже ничему не удивлялся. «В понедельник, 28 января, синьор Джерардо, генуэзский купец, супруг донны Теодорины, дочери счастливой памяти папы Иннокентия VIII, еще вчера ужинавший с высокочтимым кардиналом Беневента, здоровый и веселый, найден утром в своей постели мертвым и лишившимся жизни от удара, и был он в часы вечерни похоронен с величайшим почетом прелатами и придворными кардиналами, и сопровождали ею до сказанной церкви многие из принадлежавших к курии». Разумеется, Бурхард ни на секунду не верит, что синьор генуэзский купец умер от «удара». Ему, церемониймейстеру папы Александра VI, было хорошо известно, от чего умирают люди, имеющие богатства… Ирония в тексте Бурхарда почти неуловима. И эта ирония не Бурхарда, это ирония эпохи — самая убийственная и самая печальная из ироний. Это ирония человека, который вдруг на миг отстраняется от себя и видит как бы со стороны нечто само собой разумеющееся и в то же время странное. Бурхарда коробит только нарушение церемоний. Порой он открыто ироничен. Вот еще любопытный сюжет. Время действия — 1501 год. (Через год судьбы Леонардо и сына папы Александра VI — Цезаря Борджа — на недолгое время соединятся…) «В пятницу, 7 мая, в Падуе скончался достопочтенный кардинал Санта Мария в Портике. Да почиет душа его в мире! Говорят, что с разрешения верховных первосвященников он составил завещание, в силу которого сумма в двадцать пять тысяч дукатов предназначалась на благотворительные дела; из остального своего состояния он половину передал верховному первосвященнику или римской церкви, а другую половину, которая, как говорят, превышала сто тысяч дукатов, — правительству Венеции на ведение войны против турок. Но папа дал знать правительству, что он отказывается от своего согласия одобрить завещание указанного кардинала. Вследствие чего завещание было признано недействительным и все состояние, оставленное покойным кардиналом, было передано его святейшеству. Помимо сего, было предписано, чтобы все, у кого имеется названное имущество, под страхом немедленного отлучения в известный срок вернули его папе. Я не знаю последствий этого дела, но думаю, что папа на этом деле ничего не потерял». Мы еще вернемся к «Дневнику» Иоганна Бурхарда. А сейчас мне хочется задать вопрос: не чересчур ли великая цена уплачена за великое искусство? *** Леонардо да Винчи. Портрет Изабеллы д′Эсте. Леонардо да Винчи (рисунок). Пьетро Ломбардо. Палаццо Вендрамин-Калерджи в Венеции. Рафаэль. «Положение в гроб». ГЛАВА 5 Леонардо и Цезарь Борджа, или Стихи после Освенцима (Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Джорджоне (?), портрет Чезаре (Цезаря) Борджа ) Полагаю, что настала минута для небольшого уточнения метода Стендаля — метода гениального человека XIX столетия, когда было достаточно хорошо известно зло, ужасающее и потрясающее нашу человечность (а кто усомнится в человечности Стендаля?!), но не было известно зло тотальное. Тотальное зло — явление XX века, века Хиросимы, Освенцима, Эйхмана… Поэтому людьми XX века рассматривается иначе диалектика «сообщаемости» творческой мощи и мощи зла. Наш вопрос: «Не чересчур ли великая цена уплачена за великое искусство?» задан на излете XX века… Но дело не в одном лишь рассмотрении этой диалектики (то есть ее восприятии), иной стала и сама сущность диалектики мощи зла и творческой мощи. Алексей Федорович Лосев с полным основанием пишет об «оборотной стороне» титанизма в эпоху Возрождения. Для наглядности можно вообразить стороной «необоротной», то есть «чистым» воплощением творческой мощи, Леонардо, а стороной «оборотной», то есть воплощением мощи зла, — Цезаря Борджа. Но вот загвоздка: «оборотная сторона» титанизма подразумевает существование и самого титанизма. Стендаль склонен относиться романтически великодушно к великим злодействам, потому что усматривает за ними великие страсти и характеры. А тотальному злу страсти и характеры не нужны. Оно бесстрастно и бесхарактерно. Его особенность — не взрыв, порой дикий, злых человеческих чувств, а полная атрофия и добрых и недобрых сил личности. Более того, чем ничтожнее человек как личность, тем более соответствует он сущности и задачам тотального зла: ни чувствовать, ни размышлять, ни выбирать. Я, конечно, не исключаю, что если бы в распоряжении Цезаря Борджа была термоядерная бомба, он не удержался бы от соблазна пустить ее в дело. Но она убила бы и его самого, убила не как человека (физически), а как личность (морально). Ведь даже аморальную личность можно морально убить. Из демона зла он деградировал бы в чиновника, подписывающего убийственные документы и отдающего убийственные распоряжения, выполнение которых не нуждается в его уме, самообладании, вероломстве, коварстве, силе воли, личной отваге и личной жестокости. Он стал бы ничтожеством. И его «оборотной стороной» был бы не Леонардо, а тоже ничтожество, творчески абсолютно немощное и бесплодное. Метод Стендаля — метод XIX века. Будем помнить об этом и в то же время забывать не будем, что метод Стендаля в чем-то основном — метод на все века. Если даже под ударами нашего морального опыта метод Стендаля сегодня не устоит как метод и уцелеет лишь как романтический анахронизм, от него несмотря ни на что все же останется нечто ценное. Нечто ценное в качестве путеводной нити к истине. И ничего, что это «нечто» похоже на улыбку Чеширского Кота. Оно помогает понять то, что ускользает от понимания. Я не могу это выразить логически ясно и стройно. Может быть, потому, что искусство, как известно, говорит нам, в отличие от науки, о том, что недоступно систематическому анализу. Попытаюсь объяснить посредством чувств и образов. В старом, дореволюционном, захолустном Витебске родился и стал видеть мир, как до него не видел никто, один из самых удивительных художников XX века — Марк Шагал. Я пишу сейчас о Леонардо да Винчи, а не о Шагале (хотя он к миру Леонардо имеет отношение: учит нас по-новому видеть ) и не буду поэтому подробно рассказывать о картинах витебского фантаста. Отмечу лишь одну их особенность: сквозной образ — от юношеских работ до самых поздних, созданных уже во Франции: над хаосом деревянных уездных полуразвалившихся домов играет старый бедный скрипач. Соединяя небо и землю, он иногда стоит, иногда сидит на крыше, заполняя собой почти всю картину. Это музыкант, который фантастически расположился поверх домов, потому что в самом доме ему должно быть тесно. Земля ему опостылела, а небо недостижимо… Но мне важно не наше толкование загадочного изображения, то есть не наш ответ художнику, а вопрос, который художник задает нам. Толкования возможны самые различные, а вопрос-то, наверное, один. Я долго не мог понять вопроса Шагала, и помог мне в этом — нет, не Стендаль, а Бунин. Но по методу Стендаля, то есть объясняя живопись действительностью. В романе «Жизнь Арсеньева» герой Бунина томится — тоже в Витебске, на вокзале, — в бесконечном ожидании поезда на Полоцк, он одержим манией странствий. И в тоске вокзального ожидания испытывает чувство «страшной отделенности от всего окружающего, удивление, непонимание, — что это такое все то, что перед ним». А перед ним «тихий, полутемный буфет со стойкой и сонно горящей на ней лампой, сумрачное пространство станционной залы, ее длина и высота, стол, занимающий всю ее середину, убранный с обычной для всех станций казенностью, дремотный старик лакей с гнутой спиной и висящими, отстающими сзади фалдами, который, оседая на ноги, вытащил себя откуда-то из-за стойки, когда пряно запахло по буфету этим ночным вокзальным самоваром, и стал с недовольной старческой неловкостью влезать на стулья возле стен и дрожащей рукой зажигать стенные лампы в матовых шарах… потом рослый жандарм», напоминающий со спины из-за шинели до пят… дорогого жеребца. «Что это такое, — удивляется Арсеньев, — зачем, почему я среди всего этого?» Эти же вопросы задает нам и Шагал: что это? зачем? почему? Конечно, дело не в том, что совпали города: Шагал жил в Витебске и Арсеньев испытал на витебском вокзале, в обстановке казенного ночного буфета «страшную отделенность от всего окружающего, удивление, непонимание», — совпали душевные состояния. У бунинского героя это состояние обострено путешествием, у Шагала — художнической восприимчивостью. Что это? Почему? Зачем? Этот бедный город, эти бедные дома, эта бедная, странная жизнь… Арсеньев неожиданно для себя самого берет билет, но не в Полоцк, а в Петербург — бежит от этого буфета, старика лакея, жандарма. Старому скрипачу некуда ехать. Он взбирается на крышу, чтобы наполнить музыкой этот мир, чтобы победить музыкой страшную отделенность себя от этого мира. В сущности, перед нами два варианта, два классических варианта поисков новой красоты в старом мире. Первый, «арсеньевский», можно назвать «вариантом Гогена»— путешествие, странствие, бегство к иным мирам и берегам… Второй, со старым бедным скрипачом, можно назвать «вариантом Ван Гога» — это открытие в окружающей обыденности и бедности новой красоты и нового смысла. Великий вопрос искусства во все века: что это такое, то, что передо мной? Зачем? Почему? И относится он не к тому, что изображено на картине, а к тому, что окружает нас в жизни. Или окружало тех, кто жил сотни лет до нас, — современников античных Афин или ренессансной Италии. Ведь, понимая лучше их, мы лучше понимаем и самих себя. …Пока улыбка Чеширского Кота не растаяла, возьмем с собой в дальнейший путь этот вопрос. Это и есть та еле ощутимая нить к истине стендалевского метода, которую мы не должны выпускать из рук. Она ведет к новому уровню понимания «сообщаемости» жизни и искусства. Конечно же, великие страсти и великие характеры имеют отношение к великим картинам, но — ив этом наш очередной шаг с той нитью в руках — великие картины должны облагораживать и страсти, и характеры. Цена, которую жизнь уплачивает за гармонию в искусстве, оправдана лишь тогда, когда искусство делает и жизнь более гармоничной, чего и хочет шагаловский скрипач, возвысившийся над убожеством уездного бытия, чего хотят ангелы и мадонны Леонардо и Рафаэля, улыбаясь жестокому веку. Мы хотим внести гармонию в негармоничный мир, чем ты можешь нам в этом помочь? — этот вопрос они задают нам. И от нашего ответа зависит и судьба искусства, и судьба мира. А теперь вернемся к дневнику Иоганна Бурхарда. Одно из самых циничных деяний внебрачного сына Александра VI Цезаря Борджа — убийство мужа его сестры Лукреции Альфонса, герцога Арагонского, «который мешал новому, более выгодному союзу Лукреции с Феррарским герцогом». Но чтобы понять эти тонкие шахматные ходы, которые вел Цезарь в борьбе за власть, надо хотя бы бегло очертить фигуру самой Лукреции, ставшую почти легендарной. Дочь папы Александра VI и римской патрицианки Ванаццы де Катаней, поразительно красивая, изящная, остроумная и веселая женщина была игрушкой в руках Александра VI и его сына Цезаря. Все ее замужества основывались на точном политическом расчете. Первым мужем Лукреции был испанский дворянин Гаспаре де Просида. Не исключено, что это был первый и последний союз, когда чувства Лукреции играли известную роль. Во всех последующих союзах ее воля полностью игнорировалась. Когда папе понадобилось в сложных политических интригах иметь сторонниками членов могущественной семьи Сфорца, он выдал дочь за Джованни Сфорца. Однако нужда папы в семье Сфорца быстро миновала. Джованни Сфорца едва спасся от гибели и бежал. Папа объявил ее разведенной и выдал за герцога Бишельи, семнадцатилетнего побочного сына арагонского короля Альфонса II. Тогда он был заинтересован в поддержке этой семьи. Но и третье замужество Лукреции оказалось непродолжительным. Этот калейдоскоп замужеств оригинально отражает калейдоскоп политической жизни Италии того времени. Теперь папа был заинтересован в союзе с Францией, и поэтому муж Лукреции, герцог Бишельи, должен был быть устранен. О том, как его устранили, рассказывает Бурхард: «15 сего июля, около часа ночи, было совершено нападение со стороны нескольких лиц на Альфонса, герцога Арагонского, мужа Лукреции, дочери папы; герцог находился на паперти храма св. Петра, перед первым входом в церковь; он был тяжело ранен в голову, правую руку и ногу. Покушавшиеся бежали по ступеням лестницы св. Петра, внизу коей их ждало около сорока всадников, с которыми они, сев на лошадей, выехали через Пертузианские ворота. Во вторник, 18 августа, сиятельнейший Альфонс Арагонский… который вечером 15 сего июля был тяжело ранен и перенесен в башню Нуова над погребом папы, в большом саду дворца св. Петра, где за ним был установлен внимательный уход, около восемнадцати часов был задушен в своей постели. В час ночи его труп был перенесен в церковь св. Петра и поставлен в капелле Санта-Мария. Достопочтенный отец Франческо Борджа, архиепископ Козенцы, казначей папы, со своей свитой сопровождал его тело. Врачи покойного и один горбатый, ухаживавшие за ним, были арестованы и препровождены в замок Ангела. Против них начато было следствие. Затем их освободили как невиновных, что прекрасно знали те, кто дал приказ об их аресте». Стала крылатой фраза Цезаря Борджа: «То, что не удалось за обедом, совершится за ужином». Под обедом подразумевалось неудавшееся покушение на третьего мужа Лукреции, под ужином — убийство, которое последует за «неудачей». «Ужины» и «обеды» итальянского Ренессанса. В четвертый раз Лукреция в 1501 году вышла замуж за Феррарского герцога, союз с которым был нужен Александру VI и Цезарю Борджа. А через несколько месяцев, в 1502 году, Леонардо поступил на службу военным инженером к Цезарю Борджа. Лукреция умерла в том же году, что и Леонардо, — в 1519-м. Эта женщина была послушным и пассивным орудием в руках могущественных родственников. О ее порочности писали потом в течение веков историки и поэты. Но кто решит, порочность ли это личности или порочность века? Мне кажется, что жизнь Лукреции — один из путей к пониманию загадочной «Джоконды». Речь, разумеется, идет не о том, что Леонардо отразил в облике Джоконды нечто от облика Лукреции. (Хотя порой мне кажется, что женщина, изображенная на этом великом портрете, — Лукреция в последние годы жизни, умудренная, возвысившаяся над судьбой.) Леонардо, как великий художник, работая над изображением одной современницы, не мог не думать о судьбах тех замечательных женщин, которыми изобиловала его эпоха. По рассказу Вазари, чтобы Джоконда не выглядела меланхоличной во время сеансов, ее развлекали шуты и музыканты. Но лицо женщины на портрете не наводит на мысль ни о шутах, ни о музыкантах. Это лицо человека, понявшего трагическую неудачу великой эпохи… Это лицо женщины, понявшей, как понимал все больше и сам Леонардо, что красота в отрыве от добра не изменит мир к лучшему, даже если это ослепительная, тотальная красота. И может быть, именно поэтому Джоконда обладает одним непостижимым качеством: она одновременно красива и некрасива, человечна и бесчеловечна, очаровательна и уродлива. После того как ушли из жизни Александр VI и Цезарь Борджа, Лукреция мирно жила в Ферраре, не расставалась с мужем, была верной женой и старалась делать добро… Судить людей надо по абсолютным нравственным нормам или по нормам времени, в которое они живут. Но не по нормам времени, в которое живем мы. По нормам времени, когда жила Лукреция, она не была безнравственна. По абсолютным нравственным нормам она тоже не была безнравственна, потому что не ведала, что творила, и творила не то, что хотела. Она безнравственна по нормам нашего времени. Но если бы люди ее века судили нас по нормам современной им эпохи, возможно, и мы оказались бы менее безупречными, чем это нам кажется. Что имел в виду Бунин, когда говорил, что загадка «Джоконды» одна из самых великих загадок истории, наподобие Железной Маски. Разумеется, он имел в виду не только то загадочное обстоятельство, что до сих пор неизвестно, кто же именно на портрете изображен. (Хотя в то время, когда он это говорил, в Италии уже родились серьезные сомнения, является ли Джоконда женой флорентийского купца.) Что имеют в виду сегодня, когда все чаще и в зарубежных исследованиях, и в наших пишут о ее бесчеловечности? Что имел в виду австрийский историк итальянского искусства Макс Дворжак, когда писал, что ее улыбка лишена этического основания? Об этом надо думать и думать. Иногда мне кажется, что вся ее бесчеловечность лишь в том, что она задает нам вопросы, которые мы не в силах разрешить. Когда читаешь документы эпохи, те же дневники Бурхарда, создается впечатление, что тогда люди были заняты лишь одним: они веселились и воевали. Увеселения и войны. Войны и увеселения. Интересно сопоставить дневники Бурхарда с записями Леонардо. На службе у Цезаря Борджа Леонардо был с лета 1502 года до марта 1503-го. Именно тогда он записал то удивительное, что уже известно читателю: «Можно создать гармоничную музыку из различных каскадов, как ты видел это у источника в Римини». Потом он уточнил: «Как ты видел это 8 августа 1502». Август 1502 года — время наибольшего взлета могущества Цезаря. Он овладевает новыми городами, завоевывая мечом для себя королевство. Его коварство, жестокость, вероломство и хитрость в это время не только беспримерны, но и «высоко виртуозны», что и восхищало потом Макиавелли, когда он создавал образ Государя. Леонардо видит не только музыку. Записи и рисунки его тоже дышат войной. Он составляет стратегические карты, планы укрепления городов. Но наряду с этим посещает библиотеки, зарисовывает голубятни, окна, колокола… Он как бы видит мир поверх битв, он как бы идет сквозь время с какой-то секретной миссией. С миссией все увидеть, все запечатлеть, все понять. Цезарь Борджа тоже не забывал о голубях. «В пятницу, 25 августа (того же 1502 года), — как записывает Бурхард, — они обедали в замке Санто Доннино, съели большое количество цыплят и голубей, к большому смущению народа и собственному стыду». Замечание относительно стыда вызывает известное сомнение… Ни один роман не может заменить документа. Даже Банделло бессилен перед сухим, ироничным и точным пером Инфессуры или Бурхарда… Мы как бы осязаем пальцами ту ткань, из которой история «шьет» эпохи. Дышим воздухом века. Видим с несколько наивным удивлением, как изменился и не изменился мир. При всех своих порочных склонностях эта эпоха обладала одной замечательной чертой. Она обладала чертой, которая была особенно дорога Стендалю, угнетенному посредственностью посленаполеоновской эпохи. Тогда торжествовала не посредственность, а талант. Это делало для Стендаля особенно дорогим время Леонардо и Микеланджело. …Пышность, великолепие, триумфальные арки, дорогие одежды на женщинах, кони в серебре… Перед портретом Цезаря Борджа кисти неизвестного живописца в римской галерее Боргезе думаешь: ошибся Дарвин — человек развился не из обезьяны, а из тигра или пантеры. Дело даже не в голове, а в туловище, которого-не видно, потому что это портрет, перед нами лишь лицо. Но кажется, если бы художник очертил это существо целиком, мы увидели бы туловище тигра. А в лице даже больше ястребиного. Да, да… ястреб с телом тигра и… с высоким лбом мыслителя-стратега. Он стратегом и был. Цезарь Борджа одновременно фигура и исключительная, и неисключительная, если рассматривать ее на фоне современной ему эпохи. Действительность, подобно художнику, создала в самой жизни собирательный образ авантюриста и тирана, живописно соединив в нем черты определенного социального типа итальянского Ренессанса: вероломство, безумную личную отвагу, жестокость, ум, демоническое обаяние, абсолютное равнодушие к моральным нормам, тонкий артистизм. Это образ тирана XV века, который, по точному замечанию историка той эпохи Филиппа Монье, настолько отчетлив, будто «был навсегда отчеканен на медали». Он «не похож и на феодалов, выросших в битвах, в пирах и конюшнях. Его оригинальность заключается в его обособленности… он совершенно изолирован, рассчитывает лишь на одного себя и думает только о себе. Он высится над толпой, как ста туя царит над площадью. Он ни в чем не уверен: ни в поцелуе своей возлюбленной, ни в священнике, который ему подносит святые дары, ни в паже, который надевает ему шпоры…». Но от классических тиранов эпохи Ренессанса Цезаря Борджа отличает особая цельность. Лодовико Моро, который был покровителем Леонардо в течение семнадцати лучших лет его жизни, сочетал в себе жестокость, вероломство и любовь к искусству и наукам. Дикая жестокость в сочетании с любовью к искусству — экзотическая особенность этого исторического типа. Цезарь Борджа к искусствам и к наукам (за исключением науки войны) абсолютно равнодушен. Это умный, точный стратег. Он страстно хочет из небольших герцогств и государств создать единое итальянское государство, и жестокость его — не хаос, не взрыв страстей, а холодное орудие стратега, идущего к цели, которая стала смыслом всей его жизни. Через несколько веков Фридрих Ницше, тоскуя в буржуазной обыденности XIX столетия по сильным, живописным характерам, романтизировал Цезаря Борджа, полагая, что тот помышлял о могуществе Италии. Цезарь Борджа помышлял лишь о личном могуществе. В одной старой книжке, найденной мной в заброшенном библиотечном складе и растрепанной настолько, что мне не удалось даже установить имени автора, я нашел несколько немного высокопарных, но достаточно любопытных строк о Цезаре Борджа. Они были мне интересны, потому что соответствовали восприятию портрета в галерее Боргезе. «В сложном и беспокойном веке, в котором он живет, он устраивает засады и убивает, как индийский тигр в джунглях, он похож на него блеском, силой, гибкостью, жутким изяществом…» При всей целеустремленности он не чужд был странных и диких развлечений. Однажды, надев охотничий костюм, он отдал распоряжение доставить на загороженную балками площадь Святого Петра шесть человек, осужденных на казнь, и, сев на коня, травил их, пока не убил всех стрелами. Папа Александр VI и Лукреция Борджа наблюдали за этим на балконе. Стендаль, рассказав историю Бьянки Капелло, обращается к дневнику Бурхарда. Он заимствует те страницы у бесстрастного церемониймейстера, где речь идет о пире, устроенном Александром VI и Цезарем Борджа, о пире, во время которого плясали пятьдесят обнаженных куртизанок; на полу были расставлены канделябры, и куртизанки подбирали каштаны, которые им кидали на землю устроители пира. Но при всех этих забавах в Цезаре Борджа не было ничего больного, ничего безумного, ничего химерического, он не был садистом. Он понимал, что история отмерила ему мало времени для осуществления его замыслов. Александр VI был уже стар. Он торопился… Странно видеть их рядом: Леонардо да Винчи, любящего красоту, обладавшего тем благородством и изяществом души, которые Стендаль усматривал в линиях его рисунков, и страшного Цезаря Борджа. Но уточним: их странно видеть рядом сегодня, на расстоянии почти пяти веков. Полагаю, что современников этот союз удивлял меньше. На поверхности лежит аналогия с Мефистофелем и Фаустом. Леонардо — Фауст, Цезарь — Мефистофель. Эта аналогия соблазнительна, но в то же время несостоятельна. Она, наверное, потому и лежит на поверхности, что поверхностна. Ее опрокидывают и обстоятельства реальной жизни, и образы реальных исторических лиц. Цезарь не искушал Леонардо. По-видимому (точно утверждать нельзя, потому что у нас нет письма подобного тому, которое Леонардо писал Лодовико Моро), сам Леонардо его выбрал. Фауст выбрал Мефистофеля, а не Мефистофель избрал Фауста ради того, чтобы завладеть его душой. Цезарю не нужна была душа Леонардо. А если бы и была нужна, то он, при его уме, не мог не понимать, что никогда ее не получит. Самая большая трагедия для мыслящего человека — остывание страсти к познанию. Это начало согласия с дьяволом. Это первый акт гётевского «Фауста». У Леонардо эта страсть никогда не остывала, он отдавал Цезарю талант, умение, изобретательность, оставаясь духовно в бесконечном отдалении от него. Это тоже одна из странных леонардовских черт. Но почему он пошел в услужение к Цезарю? Было это летом 1502 года, когда сын папы Александра VI, не останавливаясь перед изменами, пытками, убийствами, захватил всю Центральную Италию, стал одним из самых могущественных людей. Я уже не раз упоминал о том, что Леонардо всю жизнь искал сильного покровителя. Он увидел его в Цезаре Борджа. Было в то время Леонардо уже пятьдесят лет. Он устал, чувствовал себя беззащитным в том беспокойном веке, но не утратил ни жажды деятельности, ни любознательности. Цезарь Борджа тоже нуждался в талантливом военном инженере. В сущности, как военный инженер Леонардо работал только для Цезаря Борджа. Мы помним, что его «секреты» были не нужны Лодовико Моро, увлекавшемуся интригами, любовью и искусством. Цезарь Борджа был целиком захвачен борьбой за власть. В этой борьбе он обнаружил качества, восхитившие одного из умнейших людей того века — Макиавелли. Кстати, Леонардо и Макиавелли познакомились при дворе Цезаря Борджа. Цезарь именовал Леонардо «герцогским инженером и архитектором». Леонардо усовершенствовал укрепления и крепости, захваченные Борджа, составил стратегические карты для жестокого победителя, в которых соединил научную точность с художнической мощью (не нужной Цезарю, но иначе Леонардо работать не мог). Они были рядом, и их разделяла бесконечность. Что видел Цезарь Борджа — неизвестно. Можно лишь полагать, что видел он то, что было мило его сердцу: покоренные города, поверженных и униженных недругов, войско, идущее на штурм крепости, горы трупов… Теперь посмотрим, что видел Леонардо, странствуя с Цезарем Борджа. В Сиене он поднялся на башню Манджа, чтобы осмотреть башенные часы. И записал: «Сиенские колокола, их движение и расположение, а также качание их язычков». Он записал это рядом с рисунком самих колоколов. В Урбино он отметил: «Лестницы домов… словно висят в пустоте». Цезарь Борджа видел войну и торжество силы. Леонардо видел мир в его разнообразии, неисчислимых, захватывающих его любопытство подробностях. И он видел человеческие лица. Возвратясь во Флоренцию, он написал один из лучших портретов — юной, красивой Джиневры Бенчи. Неизвестный автор его биографии писал об этом портрете, что он казался не живописью, а живой Джиневрой. «Как это было и с Чечилией Галлерани, — отмечает Бруно Нардини, — великий художник видел перед собой образ, отражающийся в идеальном зеркале. Он писал не только лицо, но и душу девушки, неуловимую улыбку сомкнутых, неподвижных губ, улыбку затаенную…» Нардини пишет об «идеальном зеркале». Но разве не чувствуется в его описании портрета и Зазеркалье? Усилие видеть состоит из умения видеть и то, что, казалось бы, в данную минуту не может составлять главного интереса жизни, но утоляет потаенные потребности души, что и выразилось в высоком художественном уровне стратегических карт. Умение видеть родственно затаенной улыбке Джиневры Бенчи. Вернемся к записи Леонардо в Урбино о лестницах, которые висят в пустоте. Это больше чем наблюдение. Это образ мира, соответствующий состоянию художника, когда он странствовал в качестве военного инженера по покоренным областям Италии рядом с воинственным Цезарем Борджа. Весь мир в эти минуты висел в пустоте, над бездной… Союз Леонардо и Цезаря не мог быть устойчивым и долговременным. Леонардо любил битвы, но… в образе фрески на стене, эскиза на бумаге, а не в жизни, не на театре войны. В сущности, этот человек, некогда пытавшийся соблазнить Лодовико Моро военными «секретами» и действительно создавший прообразы убийственных военных орудий, уложивших в землю в последующие века миллионы людей, был самым мирным человеком в ту немирную эпоху. «Покой и воля», о которых через века писал наш Пушкин, были и его заветнейшим желанием. И он мог бы написать, если бы был поэтом, равным по гению Пушкину: Давно, усталый раб, задумал я побег В обитель дальную трудов и чистых нег. Обителью этой и стал ненадолго Амбуаз… С Цезарем Борджа он расстался тотчас же после синигальской истории, восхитившей Макиавелли, но, видимо, не вызвавшей восторга у Леонардо. Суть ее в том, что несколько кондотьеров захватили крепость Синигалью, с тем чтобы низвергнуть Цезаря Борджа, союзниками которого они раньше были. Но Цезарь оказался и хитрее, и вероломнее, и артистичнее их. Он избежал открытого боя, острого конфликта, хитростью заставив врага расположить войска вне города, и как побежденный к победителям вошел в крепость. Он же сумел, разбив собственное войско на небольшие отряды, ввести его в крепость и, мирно, весело отужинав с заговорщиками, заверить их, что теперь он будет исполнителем их воли. Поздно ночью, когда они уже почивали, беспощадно их казнил. При Цезаре были тогда в Синигальской крепости и Макиавелли, которого восхитил этот «гениальный обман», и Леонардо да Винчи, видимо испытавший иные чувства. Я не берусь утверждать, что Леонардо расстался с Цезарем по чисто моральным соображениям. Вероятно, он покинул его потому, что тот был чересчур беспокойной фигурой, а Леонардо тревог не любил, к тому же был сыт ими после крушения надежд в Милане. Но нельзя полностью игнорировать и нравственные мотивы. В работе, и в жизни, и в мыслях, самых тайных, которые он редко поверял бумаге, Леонардо честь ставил неизменно выше денег. Он был человеком чести, понимая ее широко, как стремление к совершенству в работе и стремление к миру и согласию в человеческих отношениях. И это — выше золота всего мира, которое не делает человека бессмертным. Человека бессмертным делает только честь. И уже это одно сообщает его жизни высокую моральную цену. А поскольку честь едина и нельзя быть человеком чести в мастерстве и не быть человеком чести в жизни, то Леонардо и не мог долго быть в услужении у Цезаря Борджа, несмотря на то, что тот был единственным из его могущественных покровителей, кто открывал ему широкое поле технической, точнее, военно-технической деятельности и не ожидал от него картин. Он расстался с могущественным сыном папы Александра VI вовремя. Через несколько месяцев папа умер — как утверждала молва, выпив отравленное вино, которым он собирался угостить одного из кардиналов. Цезарь Борджа (по легенде, он тоже выпил это вино) был в то время тяжело болен, и единственное, чего он мог добиться у нового папы Юлия II, это возможности торжественно, не как побежденный, а как победитель, в окружении воинства уехать из Рима. Он бежал в Испанию, был заключен испанским королем, который видел в нем (не без основания) опасного авантюриста, в крепость, откуда ни одному человеку до той поры не удалось бежать. Он бежал, стал кондотьером, то есть командиром наемных солдат, и в войне французов с испанцами был убит ударом копья. Леонардо не волновала дальнейшая судьба этого самого мимолетного и самого страшного из его покровителей. Он не уделил ему и тех нескольких беглых строк, которых удостоил Лодовико Моро после его падения, когда писал о Миланском герцоге, что он потерял все и ни одно из его дел не было завершено. Но служба у Цезаря Борджа, несмотря на кратковременность, как мне кажется, не могла не отразиться на творчестве Леонардо. Сам запас его наблюдений лег в основу погибшей фрески «Битва при Ангьяри», которую он, вернувшись во Флоренцию, создавал на одной из стен Зала Советов, соревнуясь с молодым Микеланджело, который расписывал вторую стену. «Битва при Ангьяри», точнее, отблеск этой битвы сохранился потому, что молодой Рубенс, застав неповрежденным картон, то есть эскиз будущей фрески, зарисовал его. Сама фреска погибла во время рождения. Леонардо, вычитав у античного ученого Плиния рецепт особенно долговечных красок, не удержался от очередного эксперимента и потерпел полное поражение. Он не успел завершить серединную часть фрески, когда увидел, что его детище погибло: стена, загрунтованная особым составом, не удерживала красок, они безобразно таяли, как последний снег при первых лучах солнца… Рисунок Рубенса передает весь ужас, всю бесчеловечность войны. На этом рисунке красивы кони, которых особенно любил Леонардо, и безобразны люди, в которых ожесточение битвы не оставило ничего человеческого. Цезарь Борджа, как мы помним, не ожидал от него картин и не торопил его — надо полагать, к удовольствию Леонардо. Леонардо сам попытался создать картину, «посвященную» Цезарю Борджа, показав в ней озверение в борьбе… за власть? Да, в сущности, за власть. Воины на рисунке Рубенса одеты в условные, полу-античные доспехи. Это — одна из немногих — дань Леонардо античности… Возрождение возродило античность за исключением… античных характеров и страстей. Поэтому ей и не нужен был Плутарх, запечатлевший героев и доблести античного мира. На излете Возрождения, в его последние томительные минуты, Монтень мечтал о людях, выкованных из чистого золота, — о героях античности, а не о людях XV–XVI веков, которые были его современниками или почти современниками. Люди Возрождения в полном объеме повторили пороки людей античности, но никогда не поднимались до их доблестей. Убивали, за редким исключением, не тиранов, а политических соперников. На Цезаря Борджа не нашлось Брута и Кассия. А Макиавелли, беседовавший с ним в уединении, восхищался им, но отнюдь не помышлял о римском подвиге тираноубийства. Поэтому люди Великой французской революции и читали Плутарха, а не Вазари, читали жизнеописания «доблестных мужей», а не жизнеописания великих художников. Люди Возрождения боготворили Платона, но никто не читал его, как Катон Утический, который черпал из философии Платона силы для защиты идеалов Римской республики в I веке до нашей эры и отдал потом за эти идеалы жизнь, покончив с собой. Самое убийственное для Возрождения — сопоставление двух Цезарей: Юлия Цезаря и Цезаря Борджа. У людей, не верящих в реальную силу искусства, существует достаточно убедительный аргумент: искусство не уберегло человечество от ужасающих жестокостей и даже катастроф. Наиболее остро и четко выразил это современный немецкий философ Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи». Но неизвестно, что стало бы с человеком, если бы не было искусства. И наверное, в том, что пишут стихи и после Освенцима, — не забвение и равнодушие, а память и надежда. Торжествует ли это оптимистически разумное соображение над аргументами маловеров? Торжествует… Но не окончательно. Разрыв между ценностями искусства и ценностями жизни остается. Об итальянском Ренессансе написано страшно много, повторялось тысячи раз, что это культура городская, буржуазная, порожденная новым типом денежно-товарных отношений. Все эти социальные условия исследованы достаточно глубоко. Менее основательно изучена трагедия Ренессанса как трагедия разрыва между жизнью и творчеством. Почему существовали в одну эпоху Рафаэль, Леонардо, Боттичелли и вакханалия убийств, триумф жестокости, коварство, постепенное падение духовного начала человека при торжестве духа в искусстве? Можно успокоить себя мыслью Достоевского о том, что искусство не утеха, не роскошь и не вольная игра ума и души, а необходимость. Если бы не искусство, человек бы погиб, не найдя ответа на вопросы, развивающие душу и ум. Об этом, помню, думал в Лувре. Во власти искусства не только остановить мгновенье, но и вернуть его — через десятилетия и даже века; время становится обратимым. Я долго стоял перед любимой с юношеских лет, тогда она была известна мне только по репродукциям, картиной «Молодой человек с перчаткой» Тициана. Молодой человек напоминает мне лично Гамлета. Это одна из тех картин, которая, несмотря на то что она гениальна, не старится с нами, как картины Рембрандта или Леонардо. Мы стареем, а молодой человек с перчаткой — Гамлет — остается молодым. Более того, это единственный из великих портретов Тициана, который не старится, а стариться, как старится человек, как старится все живое, — странная особенность великих полотен, как и великих книг. Они стареют и становятся мудрее, а точнее, стареем и набираемся мудрости мы, находя в них новые опыты нашей жизни, поэтому нам и кажется, что состарились не только мы, но и автопортрет Рембрандта, и Андрей Болконский; а тициановский Гамлет остался молодым. Состарился я, и когда в последний раз стоял перед ним в полутемном музейном зале, то вдруг подумал: если бы Гамлет жил в наши дни, лишенные потусторонних страхов и суеверий, что удержало бы его от самоубийства? Ведь мы помним, что Гамлета удержала неизвестность. Он, как и все люди той эпохи, верил в иную жизнь. Но сегодня, когда в иную жизнь не верит почти никто, что удержало бы Гамлета? Если — вообразим невозможное — он очутился в той же шекспировской ситуации? Ну что, что могло бы его удержать? Что помешало бы ему уйти из мира, где царит «ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя»? Что помогло бы ему снести «несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала…»? Сам Шекспир в одном из сонетов дал если не философский, то лирический ответ на этот вопрос: «Все мерзостно, что вижу я вокруг, но как тебя покинуть, милый друг!» А если нет — а у Гамлета не было тогда — и милого друга? «Молодой человек с перчаткой» в зале Лувра — напротив леонардовской «Джоконды». Их обычно разделяет разноликая толпа, стоящая лицом к «Джоконде» и спиной к нему. В зале, где царит «Джоконда», все остальные картины, нет, не картины даже, а те, кто на них изображен, осуждены на невнимание и одиночество. Но на этот раз, в зимний будничный пасмурный день, зал был почти пуст. Между Гамлетом и таинственной женщиной, в которой Леонардо запечатлел собственную душу , не было никого. Я подошел к «Джоконде» и увидел себя в Зазеркалье, и Леонардо да Винчи объяснил мне, почему Гамлет никогда ударом кинжала не закончит земное существование, даже при уверенности, что во внеземном его не ожидает ничего более страшного, чем земная жизнь. Смысл жизни — есть жизнь, моя жизнь. Смысл чего? Смысл мира, смысл истории, смысл борьбы добра за торжество и добра, и красоты. Гамлет не может убить себя, не исчерпав все возможности и силы для познания и себя, и мира. Живопись, как некая тайнопись, в которой отражена жизнь минувших веков и моя собственная жизнь, осталась навсегда самой существенной страстью моей души. Поздние работы великих мастеров Донателло, Тициана, Микеланджело, Рембрандта отмечены большой серьезностью, разочарованностью, трагизмом и пониманием той почти детской (но постигается она лишь в старости) истины, которую удачно высказал английский поэт и романист XX века Эдвард Джон Дансени. Он создал образ бога веселья ЛимпэнгТанга. Вот что говорит этот бог: «Я пошлю в мир шутов и немного веселья. И пока смерть кажется тебе далекой, как лиловые тени гор, а печаль невозможной, как дожди в синие летние дни, молись Лимпэнг-Тангу. Когда же состаришься и будешь ждать смерти, не молись Лимпэнг-Тангу, ибо ты становишься частью замысла, который ему неведом». Искусство, особенно живопись, для меня навсегда осталось чудом. Чудом, которое делает нас частью великого замысла. Что это за замысел? Искусство Ренессанса обещало человеку бессмертие. Рембрандт надежду на бессмертие отнял. Ренессанс показал в портрете человека, который не может умереть (хотя все, кто изображен, умирали молодыми, как «Молодой человек с перчаткой» Тициана). Рембрандт показал человека, который не может не умереть. (Хотя все его старики доживали до почтенных лет и могли быть дедами тициановских молодых людей.) Может быть, дело в «уроках анатомии» Рембрандта, демонстрирующих нашу конечность? Но «уроки анатомии» Леонардо и Микеланджело (не на полотнах, а в жизни) были пострашнее рембрандтовских изображений, и это не мешало ни Леонардо, ни Микеланджело изображать человека бессмертным. Загадочная вещь: в эпоху Ренессанса человеческая жизнь, как и человеческая судьба, была более непрочной, открытой для ударов (капля яда в стакане вина — тоже удар), чем в последующие века, но люди на картинах художников этой эпохи бессмертны, как античные боги в мраморе Афин или Рима… Искусство итальянского Ренессанса делает нас частью того великого замысла, который очаровывает в картинах великих художников. Оно обещает бессмертие… Но можно посмотреть на вещи и более трезво. Искусство Возрождения формирует сознание бессмертия человеческих ценностей. Один из великих людей дела Альберт Швейцер отмечал, что в период Возрождения у человека появилось новое отношение и к самому себе, и к окружающему миру, именно поэтому родилась потребность самостоятельно создавать духовные и материальные ценности на благо дальнейшего развития человека и человечества… Я называю Альберта Швейцера великим человеком дела, потому что он посвятил жизнь лечению людей в тропической Африке. Но Альберт Швейцер был и великим музыкантом. Он пожертвовал искусством ради того, чтобы создать лечебницу в Ламбарене. В эпоху Возрождения, когда в системе человеческих ценностей первенство было за искусством, подобная жертва показалась бы совершенно невероятной. Она была бы невозможна. Но она была бы невозможна и в XX веке, если бы не было эпохи Возрождения (о чем говорил сам Швейцер). Именно искусство создало личность, которая могла этим искусством пожертвовать ради великого дела. В опыте человеческого духа первенство красоты было необходимым и мудрым моментом соединения красоты и добра, их нерасторжимости. Швейцер писал: «Когда исчезает сознание, что любой человек нам в какой-то мере небезразличен как человек, тогда расшатываются устои культуры и этики». Этот взгляд и это суждение были бы непонятны людям эпохи Возрождения. Но они стали возможны именно потому, что Возрождение было… …Стихи после Освенцима — поражение Освенцима. *** Леонардо да Винчи. Литье пушек (рисунок). Леонардо да Винчи. «Битва при Ангьяри». Пинтуриккьо. Портрет папы Александра VI. Неизвестный автор. Портрет Макиавелли. Освенцим (фото). Леонардо да Винчи. Чертеж военной и осадной машины. Франческо дель Косса. Итальянская мужская одежда эпохи Возрождения (фрагмент картины). ГЛАВА 6 «Джоконда», или Исповедь в красках (Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Леонардо да Винчи, «Джоконда», фрагмент ) О ней, о ее улыбке написаны тысячи страниц — в монографиях, романах, эссе. С чего же начать? Может быть, со стрекозы? Вы видели когда-нибудь, как летит стрекоза? Теперь послушайте Леонардо: «Стрекоза летает на четырех крыльях, и когда передние поднимаются, задние опускаются. Однако нужно, чтобы та и другая пара в отдельности была способна поддерживать всю тяжесть». Леонардо уловил почти неуловимое. Углубился в мир почти недоступный человеческому взгляду и… ошибся. Через века киносъемка показала, что Леонардо был неправ. Стрекоза поднимает переднюю и заднюю пару крыльев одновременно, опускание же задней пары начинается несколько раньше, чем опускание передней, причем обе пары крыльев никогда не соприкасаются. Установить это невооруженным глазом абсолютно невозможно, потому что число взмахов крыльев в секунду равно тридцати шести, а разница в опускании крыльев составляет одну восьмидесятую секунды. Василий Павлович Зубов, сопоставляя наблюдения Леонардо с новейшими исследованиями, восхищается не чудесами киносъемки, а умением великого художника и ученого дойти до последней черты видимого, уловить мельчайшие движения, ускользающие от человеческого взора. Леонардо ошибся, но это именно то поражение, которое неотличимо от победы. Что же общего между стрекозой, ее полетом и «Джокондой», ее улыбкой? Начнем рассматривать этот портрет с пейзажа, который изображен за фигурой «таинственной женщины». Интересно сопоставить, как видят этот фон разные исследователи. (Это имеет отношение к стрекозе.) Зубов отмечает, что горная речка, которая вырисовывается за Джокондой, написана настолько точно, научно точно, что могла бы быть иллюстрацией к строгим геологическим текстам Леонардо; и в то же время она погружена в те мертвеннохолодные, зеленовато-синие сумерки, которые не удается локализовать по времени и которые в неуловимости даже более странны, чем улыбка самой Джоконды. Иначе увидел этот фон искусствовед Наум Яковлевич Берковский. «Этот пейзаж, — пишет он, — отворяет в портретном образе все благородно человеческое, и он же делает героиню Леонардо несколько беспомощной». Этому исследователю фон, на котором написана Джоконда, кажется чересчур «раскованным… для этой женщины, воспитанной в стенах благоустроенного буржуазного дома». Один ученый увидел фон «Джоконды», как сам Леонардо видел полет стрекозы, стремясь уловить неуловимое. Второй ученый увидел этот фон, как видит его сегодня замедленная киносъемка, установив в этой неуловимости интересные закономерности и тем самым углубив загадочность образа. Стрекоза ведь тоже стала не менее непонятным, а более непонятным существом, когда удалось вычислить, что разница в опускании передних и задних крыльев составляет одну восьмидесятую секунды. Вот и «Джоконда» стала не более, а менее понятной, когда мы увидели ее фон как неожиданное напоминание о… беспомощности этой «непостижимой женщины». Она улыбается. Если собрать воедино все банальности и даже пошлости, которые написаны об ее улыбке, получится любопытная энциклопедия — не умения, а неумения видеть. Что же это за улыбка? Недавно в западногерманском городе Дуйсбурге состоялся экстравагантный конкурс на «Улыбку Джоконды». Женщины, участвовавшие в нем, должны были улыбнуться, как улыбается Джоконда. По суждению жюри одной из них это удалось. Победительницу увенчали наградой. Сегодняшний мир часто развлекает себя конкурсами, которые показались бы людям минувших веков явными симптомами сумасшествия. Почти одновременно с конкурсом на «Улыбку Джоконды» закончился конкурс на «Лучшее любовное письмо». Победил семидесятилетний пенсионер — к немалому удивлению жюри, выяснилось, что его любовное письмо, написанное ради конкурса воображаемой женщине, было первым любовным письмом в его жизни. Меня не удивит, если улыбка победительницы конкурса «Джоконды» была первой улыбкой в ее жизни. Меня это не удивит, потому что улыбка Джоконды — первая улыбка человека, который никогда раньше не улыбался или не улыбался долго-долго… Писать о «Джоконде» нелегко, ведь, кажется, в человеческом языке не осталось эпитетов, которые не относили бы к ней исследователи, романисты, экскурсоводы. Но нелегко и увидеть ее. Тем более нелегко, что ее изображение — не говоря уже о миллионах репродукций — на обертках конфет, воздушных шарах, на чашках и тарелках, на пепельницах. О ее лицо гасят окурки… «Мне хочется бежать от нее», — заметил один молодой француз-интеллектуал, воспитанник Сорбонны, после очередного посещения лавки сувениров, где она «загадочно», «таинственно», «непостижимо», «странно» улыбалась нам со всех витрин. «Мне хочется бежать от нее…» Это напомнило мне отношение Мопассана к Эйфелевой башне. Мопассан говорил, что ему хочется бежать от ее пошлости. Эйфелева башня казалась людям второй половины XIX века бессмысленным и бесполезным техническим ухищрением, ничего не говорящим ни уму ни сердцу. Ее изображения появились тотчас же на тысячах открыток и наводнили Европу и весь мир, вызывая у эстетов и снобов все бо льшее раздражение. Сегодня эта башня наделена новой, неожиданной миссией, она стала мощной телеантенной Парижа — наподобие Останкинской башни в Москве. То, что раздражало людей в XIX веке и отъединяло эстетов от технарей, стало орудием соединения, сообщения, общения, получило конструктивно объединяющую роль. Когда мы с интеллектуалом из Сорбонны выходили из лавки сувениров, в которой «Джоконда» действительно (ее можно было увидеть даже на надувных воздушных шарах) вызывала раздражение, я по ассоциации с Эйфелевой башней подумал: чем станет она завтра? Чтобы понять «Джоконду», надо увидеть ее в подлиннике — в картине, написанной Леонардо. Это, может быть, единственный из великих портретов, дух которого даже отдаленно не передают самые совершенные репродукции. Последним обстоятельством можно, пожалуй, в известной степени объяснить и то, что ни одно из явлений высокого искусства не стало в такой степени феноменом массовой культуры, оставаясь в то же время темой возвышенных размышлений интеллектуалов, содержанием новаторских поисков искусствоведов. Я познакомлю сейчас с тем, как увидел «Джоконду»— подлинную картину, когда она экспонировалась в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, — двадцативосьмилетний инженер Георгий Павлинов. Он записал о посещении музея в тетради, одной из многих тетрадей, отражающих его духовную жизнь. (Историю их я расскажу ниже.) «14 мая 1974 года. „Джоконда“. Первый раз увидел ее издали (раньше — лишь на репродукциях!) с большого расстояния. Внезапное чувство незащищенности. Стареющая женщина со слабыми плечами. Нежность. А через несколько шагов неприятное узнавание в ней мужчины, мужского лукавства… Что-то мефистофельское, бесовское. А совсем в упор — уже не мужчина и не женщина, а существо иного порядка. Веселая жестокость… Если бы она вдруг ожила, то показалась бы людям нашего века чем-то инопланетным, совершенно непонятным. И сама бы не поняла его, может быть, возмечтала бы о самоубийстве… Уходя, я обернулся и увидел опять стареющую беззащитную женщину, страшно усталую, тоскующую по пониманию…» В Московском музее изобразительных искусств «Джоконда» скромно царила на дальней стене одного из залов, толпа «омывала» ее, этим и объясняется отчасти странность видения «Джоконды» автором цитированных выше строк: издали, потом вблизи, потом опять издали. Запись Павлинова — непосредственная, живая стенограмма чувств. Он торопливо, боясь, что потускнеет живое восприятие, набросал эти строки тотчас же после возвращения из музея. Обратимся теперь к обдуманным и взвешенным суждениям известных историков искусств. И тут ожидает нас, наверное, сумбур куда более удивительный, чем в импрессионистических записках сегодняшнего молодого инженера. Я имею в виду не хаос мыслей того или иного ученого, а поразительное различие (точнее, разнобой) в суждениях. Вот что писал о «Джоконде» почти современник Леонардо, уже известный нам Джорджо Вазари: «Изображение это давало возможность всякому, кто хотел постичь, насколько искусство способно подражать природе, легко в этом убедиться, ибо в нем были переданы все мельчайшие подробности, какие только доступны тонкостям живописи. Действительно, в этом лице глаза обладали тем блеском и той влажностью, какие мы видим в живом человеке, а вокруг них была сизая красноватость и те волоски, передать которые невозможно без владения величайшими тонкостями живописи. Ресницы же благодаря тому, что было показано, как волоски вырастают на теле, где гуще, а где реже, и как они располагаются вокруг глаза в соответствии с порами кожи, не могли быть изображены более натурально. Нос, со всей красотой своих розоватых и нежных отверстий, имел вид живого. Рот, с его особым разрезом и своими концами, соединенными алостью губ, в сочетании с цветом лица, поистине казался не красками, а живой плотью. А всякий, кто внимательнейшим образом вглядывался в дужку шеи, видел в ней биение пульса, и действительно, можно сказать, что она была написана так, чтобы заставить содрогнуться и испугать всякого самонадеянного художника, кто бы он ни был». Эти строки хочется читать и перечитывать вслух, как стихи. А вот что через несколько столетий писал о той же «Джоконде» один из самых известных исследователей итальянского Ренессанса Бернард Бернсон: «В ее выражении нет ничего, что не было бы гораздо удовлетворительнее передано в искусстве буддийском. В пейзаже нет ничего, что не было бы еще более обаятельно и волшебно у Ма-Юаня, у Ли-Лун-Мыня и еще у множества китайских и японских художников». И это, пожалуй, самый большой комплимент (и наверное, единственный), который он делает великой картине. Для него Мона Лиза — это образ женщины, не вызывающей ни понимания, ни сочувствия, какая-то иноплеменница с выражением хитрости, осторожности, самодовольства на неприятном лице. Когда в 1911 году портрет Моны Лизы был из Лувра похищен, Бернсон (он, к его чести, об этом пишет чистосердечно) почувствовал… облегчение, даже тихую радость. Ему бы хотелось, чтобы этот образ перестал существовать, чтобы эта смущающая его реальность исчезла из мира… Он воспринимал «Джоконду» как кошмар. Конечно, соблазнительно не расставаться никогда с восторженными и возвышенными суждениями Джорджо Вазари и отнестись к высказываниям Бернсона так же, как он сам отнесся к «Джоконде», как к несуразности, как к кошмару. Но лучше, наверно, понять, почему с течением веков восприятие великой картины, восторгавшей людей XVI века, изменилось до неузнаваемости, будто бы речь идет о разных художниках или разных портретах. И все же Бернсон, может быть сам того не желая, высказал одну замечательно важную мысль: «Джоконда» соединила в себе Восток и Запад, язычество, христианство, буддизм; в этом, наверное, ее абсолютная универсальность. Русский исследователь творчества Леонардо да Винчи в начале XX века писал о «Джоконде» как о «гениальном уродстве». Он видел Джоконду старой, даже называл ее старухой. «Ее улыбка, — писал Волынский, — не более как выражение душевного бессилия». После этих четко ядовитых суждений популярный в то время английский писатель и историк искусств Уолтер Патер кажется смешным с его возвышенносубъективной риторикой: «„Джоконда“ была в самом подлинном смысле шедевром Леонардо, откровением его образа мыслей и творчества. По внушительности рядом с нею можно лишь поставить разве только Дюрерову „Меланхолию“. Эффект ее кроткой и грациозной загадочности не нарушается грубым символизмом. Все мы знаем лицо и руки этой фигуры, сидящей на мраморной скамье, среди фантастических скал, словно в тусклом освещении морского дна. Из всех старых картин эта картина, пожалуй, меньше всего потеряла от времени. Как часто бывает с произведениями, где фантазия достигает кульминационного пункта, и здесь есть нечто, данное мастеру, но не изобретенное им. В драгоценной тетради рисунков, некогда находившейся в руках Вазари, содержалось несколько рисунков Верроккьо — лица столь выразительной красоты, что Леонардо еще в отроческом возрасте неоднократно копировал их. Трудно удержаться от предположения, что с этими рисунками старинного мастера стоит в связи и та непостижимая улыбка, которая у Леонардо всегда имеет в себе нечто зловещее, словно в ней зародыш тайны. Впрочем, эта картина — портрет. Мы можем проследить, как этот образ с детства вырисовывается в его мечтах; не будь определенных исторических свидетельств противоположного свойства, мы могли бы подумать, что это найденный им наконец во плоти идеал женщины. Каково было отношение живого флорентийца к этому созданию его мысли? По какому странному сродству мечта и личность выросли отдельно — и все же вместе? Живя изначала бесплотною грезой в уме Леонардо, смутно очерченная в рисунках Верроккьо, она обрелась наконец в доме Иль Джокондо. Что мы здесь имеем дело с портретом, о том свидетельствует легенда, согласно которой тонкое выражение удерживалось на лице искусственными мерами — присутствием мимов и флейтистов. И далее: возник ли этот образ в четыре года, благодаря повторным, так и не завершившимся усилиям, или же он явился в четыре месяца, словно по мановению волшебной палочки? Фигура, столь странным образом выросшая у воды, воплощает тысячелетнее желание людей. У нее голова, в которой „сошлись все концы света“, а веки ее несколько утомлены. Это красота, действующая на тело изнутри, это как бы отложение, клетка на клетку, самых причудливых грез и фантазий, утонченнейших страстей. Поставьте ее рядом с белыми греческими богинями или прекрасными женщинами древности, и как бы их глубоко взволновала эта красота, в которую внедрилась душа, со всеми ее больными муками!.. Все мысли, весь опыт мира врезались в эти черты, придав утонченную выразительность внешней форме: тут животность Греции, сладострастие Рима, мистицизм средневековья с его церковным честолюбием и романтической любовью, грехи Борджа. Она древнее скал, ее окружающих, подобно вампиру, она много раз умирала, и ей ведомы тайны могилы, она ныряла в глубокие моря, и ее окружает полумрак отошедшего дня; она торговалась с купцами Востока за редкостные ткани; Ледой она была мать Елены Троянской, Святой Анной она была мать Марии; все это для нее было как звуки лир и флейт, все это живет в утонченности ее меняющихся линий, в мягких тонах ее рук и вежд. Представление о бесконечной жизни, сливающей десять тысяч опытов, — очень древняя идея; в современной же философии идея человечества вобрала в себя все виды мысли и жизни. И конечно, Донна Лиза может считаться воплощением древней мечты и символом современной идеи». Но читателям Уолтера Патера этот восторг не казался ни старомодным, ни комичным, они его чистосердечно разделяли. Патер был в XIX веке одним из первооткрывателей итальянского Ренессанса. Отвращение и страх Бернсона кажутся нам надуманными, если не абсурдными. Но ведь и Бернсон был одним из лучших исследователей эпохи Ренессанса и жизни Леонардо уже не в XIX, а в XX веке. Макс Дворжак, знаменитый исследователь искусства и создатель новых методов искусствознания, автор классической работы «История итальянского искусства в эпоху Возрождения», пишет об улыбке Джоконды, что это «первая попытка изображения естественно-духовного элемента, не обусловленного этически». Углубимся в века и историю человеческой мысли. Обратимся к великому мыслителю XIII столетия Фоме Аквинскому. Он о «Джоконде», разумеется, не писал, потому что тогда ее не было, но он писал о красоте, потому что красота существовала во все века. Фома Аквинский полагал, что в то время как благо является целью постоянных человеческих стремлений, красота является как бы достигнутой целью, когда успокаиваются человеческие стремления и желания и человек начинает чувствовать удовольствие при таком освобождении познающего и созерцательного интеллекта от всех стремлений и усилий воли. Даже по Фоме Аквинскому Джоконда некрасива, потому что, созерцая ее, мы успокоения не испытываем. Мы испытываем все усиливающееся — из столетия в столетие — беспокойство. Источник этого беспокойства в том, что «Джоконда» задает нам все новые и новые загадки. Льюис Кэрролл однажды заметил, что есть вещи, которые «нельзя понять». Может быть, к этим «вещам» относится и «Джоконда»? Эта картина окутана тайной, которая становится все более непроницаемой… В течение веков, доверяя Джорджу Вазари, любители живописи видели в ней жену флорентийского купца Пьеро Франческо ди Бартоломео да Дзаноби дель Джокондо. Вазари пишет, что Леонардо работал над ее портретом четыре года и, не завершив его, уехал с ним из Флоренции, а потом и из Италии. Возникал ли у читателей Вазари вопрос, заказан ли был этот портрет Леонардо или он писал его для себя? Если заказан был, то почему — незавершенный даже — не остался у мужа Моны Лизы? А если Леонардо писал для себя, чем объяснить, что Франческо ди Бартоломео да Дзаноби дель Джокондо, богатый торговец и политический деятель (он занимал должность одного из старейшин республики), мирился с тем, что его жена в течение нескольких лет посещала мастерскую художника, о котором ходили самые фантастические легенды (иные из них ставили под сомнение его нравственность). Все это необъяснимо. Если верить Вазари, Леонардо писал Джоконду ориентировочно с 1502 по 1505 год. В «Жизнеописании» точных дат нет. Версия Вазари в течение нескольких столетий не вызывала сомнений, может быть, потому, что сама личность Леонардо, окруженная легендами и мифами, казалась настолько загадочной, что уже ничто его в жизни не удивляло. В XX веке ряд итальянских ученых начали высказывать все более настойчивые сомнения в том, что на этом портрете изображена именно Джоконда и что он написан во Флоренции в самом начале XVI века. Ученые начали сопоставлять документы, находя все новые несоответствия. Старейший источник, который сообщает о «Джоконде», точнее, о портрете женщины, с которым Леонардо не расстался, покидая Италию, — это дневник путешествия неаполитанца, кардинала Луиджи Арагонского, составленный его спутником и секретарем Антонио де Беатисом. Под датой 10 октября 1517 года в этом дневнике описывается посещение замка Клу в Амбуазе. «Последний (то есть Леонардо) показал его светлости (то есть кардиналу) три картины — одну, изображающую некую флорентийскую даму, написанную с натуры по просьбе покойного Великолепного Джулиано де Медичи». Беатис не называет картину, которая сегодня висит в Лувре, но есть основание утверждать, что это та самая картина, потому что об иных женских портретах секретарь ничего не упоминает. Джулиано Медичи родился в 1479 году, умер в 1516-м. Его характеризуют современники как избалованного, капризного мечтателя, поклонника и покровителя разного рода чудаков, алхимиков и астрологов. Они переехали в Рим почти одновременно в 1513 году. Леонардо — после бегства из Милана, когда оттуда ушли его покровители французы; Джулиано — после избрания 11 мая того же года его старшего брата Джованни папой (это был Лев X). Два года Леонардо и Джулиано жили в Риме. Художник получал от богатого мечтателя постоянное жалованье, выполнял его поручения технического и художественного характера. Более чем вероятно, что он действительно мог заказать Леонардо портрет женщины, которую любил. Вероятно, но не бесспорно. Обратимся еще к одному упоминанию о «Джоконде». Оно содержится в анонимной биографии Леонардо, написанной ориентировочно в 1540 году. Вот дословно это упоминание: «Он написал с натуры Пьеро Франческо дель Джокондо». В этом упоминании первый раз возникает фамилия Джокондо, но речь идет не о жене, а о… муже. Биография и Пьеро Франческо Джокондо, и его жены Моны Лизы, которую, возможно, обессмертила кисть Леонардо, вызывали и вызывают обостренный интерес, и что-то достоверное о них известно. Дотошные исследователи, подняв архивы, попытались установить биографии этих, в сущности, ничем не замечательных, рядовых современников Леонардо. Впрочем, не столь уж рядовых. Пьеро Франческо Джокондо был богатым человеком и политическим деятелем. Мона Лиза ди Антонио Мария ди Нолдо Герардини выросла в семье родовитой, или, как ее называют, старейшей флорентийской семье. Во Флоренции она и родилась в 1479 году и в 1495 году, то есть шестнадцати лет от роду, вышла замуж за овдовевшего — даже дважды — Франческо ди Бартоломео да Дзаноби дель Джокондо. Этот Франческо в 1499 году занимал должность одного из двенадцати старейшин в республике, он умер в 1528 году, на девять лет позже Леонардо. Я уже писал, что в течение трех с половиной столетий версия Вазари рассматривалась как непреложная истина, и лишь в начале XX века исследователи жизни великого художника начали сомневаться в ее достоверности. Вызывали сомнение разные немаловажные обстоятельства и подробности. Обратили внимание на то, что Мона Лиза изображена в темных — вдовьих — одеждах, а она во время, называемое Вазари, отнюдь не была вдовой. Но даже и независимо от этого печальное одеяние необъяснимо, если вспомнить о стремлении Леонардо вызвать улыбку на лице женщины, которую он писал. Ведь, по Вазари, Джоконду развлекали и музыкой, и шутками, когда она позировала, потому что долгое позирование утомляет. Открыли «Трактат об искусстве живописи» художника XVI века Ломаццо, который ослеп тридцати трех лет от роду, после чего стал историком и теоретиком искусства. В конце этого трактата, разбирая искусство писать портреты, Ломаццо пишет: «Таковы общие и частные указания о создании портретов, причем насколько указания эти необходимы, особенно при изображении украшений, действий и движений, приличествующих государям, доблестным людям и дамам, которых изображают, можно убедиться из портретов, выполненных превосходными живописцами, славными также другими своими работами, и знаменитыми скульпторами. Среди них следует обратить внимание на портреты Леонардо, украшенные в виде Весны, как портрет Джоконды и4Моны Лизы, в которых он замечательно изобразил, между прочим, улыбающийся рот…» В известном луврском портрете «Джоконды» нет ничего, что наводило бы на мысль об образе Весны. Единственное, что совпадает с рассказом Ломаццо, — улыбка. Через шесть лет тот же Ломаццо назовет Мону Лизу неаполитанкой. Раньше, как мы помним, речь шла о ней как о флорентийской даме — ею и была жена Франческо дель Джокондо… Судя по документам. Многие исследователи полагают, что если «Джоконда» — не Джоконда, то это фаворитка Джулиано Медичи, вдова Пачифика ди Джованни Антонио Брандано, от которой Джулиано в 1511 году имел сына Ипполито, затем ставшего кардиналом. Но вдова Пачифика была не флорентийкой и не неаполитанкой, а уроженкой и жительницей Урбино. Это делает гипотезу тоже сомнительной. В начале 60-х годов известный советский искусствовед, посвятивший всю жизнь исследованию итальянского Ренессанса, Матвей Александрович Гуковский высказал интересную версию, что подлинная «Джоконда» находится не в Лувре, а в… Эрмитаже. Это «Коломбина» («Флора»), которую относили к кисти любимого ученика Леонардо Франческо Мельци. Именно она изображена в образе Весны. Версия Гуковского моментально вызвала ряд возражений со стороны маститого искусствоведа Виктора Никитича Лазарева. И тот ореол «загадочной недосказанности» (цитирую Гуковского), которым окружена картина, остался, по существу, нетронутым. Надо ли этому удивляться, если этим ореолом «загадочной недосказанности» окружена вся жизнь Леонардо? Я сомневаюсь, чтобы Бунин читал мало известные в его время, опубликованные в специальных журналах статьи о том, кто же в самом деле изображен на портрете в Лувре: Джоконда или не Джоконда? Версия о том, что подлинная «Джоконда» находится не на берегах Сены, а на берегах Невы появилась, когда Бунина уже не было в живых. Не устаешь удивляться бунинскому чутью, увидевшему величайшую загадку в картине Леонардо. Бунин понимал: это больше, чем загадка одного портрета, больше, чем загадка живописи, даже больше, чем загадка судьбы Леонардо. Это загадка самой жизни. Как все гении, Леонардо заключал в себе и мироздание, и его загадки. «Джоконду» часто называли бесчеловечной. Почему же она бесчеловечна? Может быть, потому, что задает нам загадки? Загадки, на которые мы не можем ответить. Кто же изображен на портрете в Лувре, известном всему миру под названием «Джоконда»? Новая романтическая версия: это была красавица, которая пользовалась милостями Франциска I, короля Франции. Леонардо написал ее, уже покинув Италию. Все версии о «Джоконде» заключают в себе нечто в одинаковой степени убедительное 4 Может быть, «или». и неубедительное. Ясное и неясное. Они одновременно и достоверны и неправдоподобны. Вызывают все большее доверие и сеют все новые сомнения. Кто она? Мы этого, наверное, никогда не узнаем. Можно лишь утверждать с уверенностью: Леонардо изобразил в ней и себя самого. Леонардо полагал величайшим недостатком живописцев «делать большую часть лиц, похожей на их мастера». Размышляя о причине такого недостатка, он приходит к заключению, что «душа, правящая и управляющая каждым телом, есть то, что образует наше суждение еще до того, как оно станет нашим собственным суждением… И так велико могущество этого суждения, что оно движет рукою живописца и заставляет его повторять самого себя…». Избежал ли этого недостатка сам Леонардо? Думаю, что он его не избежал. Гениально не избежал. «Джоконда» — это и портрет, и автопортрет. Философия самого Леонардо усложняет и углубляет тему автопортрета в портрете иного лица. Портрет-наваждение, портрет-тайна. Рождается странная мысль, что Леонардо писал его тоже секретным, «зеркальным» письмом, чтобы утаить нечто, зашифровать нечто, скрыть нечто от непосвященных. Было ли это нечто его личной тайной? Может быть. Если допустить, что у него — по Мережковскому — был «роман» с женой флорентийского купца Джокондо. Но по тому, что нам достоверно известно о Леонардо да Винчи, это высокоромантично, но маловероятно. Нечто подобное было у Микеланджело и Виттории Колонна. Он писал ей целомудренно-возвышенные сонеты. Их отношения — любовно-платонические — не были явными, но не были и тайными. Леонардо в этом, как и во всем другом, на Микеланджело ничем не похож. Тут у Леонардо тайна не любви к женщине, а тайна отношения к миру, может быть, тайна самопознания — последняя тайна Леонардо. Об этом надо думать и думать. Для чего думать? Чтобы лучше понять Леонардо? Да. И нет. Чтобы лучше понять себя. Найти шифр к себе самому. Работа над этой картиной была для Леонардо самопознанием, она и нам дает уроки самопознания. Самый доступный из уроков: надо воспитывать и беречь в себе то, что Эйнштейн через века назвал надличным, то есть умение отрешиться от сиюминутного, суетного. Да, человек должен жить по законам вечности именно потому, что он не вечен. Если бы он был вечен, то мог бы разрешить себе роскошь жить по законам мгновения. Но поскольку открыть в мгновении вечность — его единственная надежда на бессмертие, то должен жить он, отрешившись от мгновения. Книга Гуковского «Коломбина» — одна из самых субъективных, я бы даже сказал, интимных работ маститого ученого. В ней он как бы возвращается к детству, «закольцовывая» жизнь, пытаясь решить «детские загадки». В введении к книге он пишет о том, что начал подростком посещать Эрмитаж, подолгу стоял перед картинами, которые выбирал сам, посвящал им наивные, восторженные стихи. Он писал их на страницах каталога. А потом месяцами переживал и обдумывал особенности и достоинства любимых полотен. Первое место среди них занимала картина, известная под названием «Коломбина». В каталоге она была отнесена к кисти совсем неизвестного подростку художника Франческо Мельци. В «Коломбине» подростка пленяли «полуулыбка, лежащая легкой тенью в уголках рта, лукавый взгляд, сквозящий из-под почти опущенных век»… и «полумрак затененного необъяснимыми ядовитыми побегами зелени грота, из которого женская фигура, занимающая почти всю плоскость картины, возникает таинственно и маняще». И вот отшумело полстолетия. Полстолетия одного из самых бурных веков в истории человечества. Но и теперь «умудренный опытом, многое переживший человек», Гуковский не мог равнодушно видеть эту темную, в старинной тяжелой золотой раме картину, не мог, идя по залу, не остановиться перед ней хотя бы на мгновенье. Он уже не испытывал того будоражащего волнения, которое картина вызывала когда-то, зато невольно поддавался настойчивому, требовательному желанию разобраться, чем объясняется очарование «Коломбины». После тщательных изысканий и раздумий он высказал версию, что «Коломбина» и есть «Джоконда», именно о ней рассказывал восхищенный Вазари, именно на ней изображена очаровательная флорентийка, жена родовитого купца. В этой верности первым впечатлениям, в этом уважении к собственному сердцу, которое когда-то, на заре жизни, начинало биться сильнее перед «Коломбиной», есть нечто, вызывающее у меня глубокое уважение независимо от того, насколько версия Гуковского убедительна. Мальчик, став через полвека маститым ученым, захотел, исследуя «Коломбину», снять с нее тот особенный ореол «загадочной недосказанности», которым отмечена вся жизнь Леонардо да Винчи. Он начал еще подростком — потому что впечатления детства формируют наш характер до конца жизни — распутывать тугой клубок загадок и если и не распутал его, что, по-видимому, невозможно (настолько великий мастер засекретил великое детище), то дал нам урок кропотливой и целеустремленной любви к искусству. Перед «Джокондой» вспоминаются слова Достоевского: «Красота — это страшная и ужасная вещь!.. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей». Бог и дьявол — это добро и зло. А поле их битвы — сердце Джоконды. А отражения их битвы — ее лицо. В чем же все-таки шифры к тайне «Джоконды»? Все версии, в сущности, менее загадочны и менее существенны, чем кажется. Тайна не в истории создания портрета, а в самом образе. Действительно: кто она? Что увидел в ней — живой — Леонардо? Почему она мучает наше любопытство и нашу фантазию вот уже несколько столетий? Почему в ряду великих портретов Рембрандта, Тициана, Рокотова она занимает совершенно исключительное место? Она больше, чем портрет? Возможно. Она — сама жизнь? Да. Может быть, даже больше, чем жизнь? Она начало новой фантастической ветви разумных существ? Не исключено. Но это уже тема фантастического романа. Вернемся к реальности. Черты Джоконды чем-то — и не отдаленно — напоминают черты лица самого Леонардо. Но похожа она и на Анну в известной картине, и на Иоанна Крестителя, написанного Леонардо уже в старости. Этот тип наиболее — и духовно, и телесно — родствен самому Леонардо? Вероятно. Но в чем же тайна? Это не портрет любимой женщины. Любимую женщину видят в «идеальном зеркале». Леонардо видел ее иначе. Версия Мережковского малоубедительна. Не более убедительна и версия авторов итальянского телефильма о возвышенно-платоническом романе между Чечилией Галлерани и Леонардо. Кстати, и историю отношений Джоконды и Леонардо авторы телефильма почерпнули у Мережковского. О, это неуемное и нелепое желание романтизировать жизнь, которая в романтизации не нуждается! Кто же она — Джоконда? Душа самого Леонардо? Чересчур туманно. Леонардо был реалистом, порой фантастическим — да! — но реалистом. Кто же она? Человек, божество, женщина, мужчина, андрогин, то есть существо, соединяющее в себе мужчину и женщину? Кто же она? Собирательный образ, точное отображение? И в чем, в чем ее последняя тайна ? В сущности, любой великий портрет таинствен. Рембрандтовские старики, женщины Гейнсборо, мужчины Тициана… Но эти загадки нас не мучают, а возвышенно волнуют. Будят нашу мысль. И она находит ответ. Мы узнаем в тициановских мужчинах прообразы шекспировского Гамлета. Нам кажутся женщины Гейнсборо инопланетными существами, вышедшими из романов Брэдбери. Мы мечтаем, мы успокаиваемся, нам хорошо. А с «Джокондой» нам нехорошо. Можно возмущаться радостью Бернсона, когда он узнал, что «Джоконда» похищена и что ее уже нет в мире, что она уже не существует, наваждение исчезло. Можно возмущаться. Но можно и понять эту кощунственную радость. Мы задаем ей вопросы, на которые она не отвечает. Она задает нам вопросы, на которые мы не можем ответить. В этом, как я уже писал, ее бесчеловечность. Может быть, в «Джоконде» Леонардо высказал о человеке то, о чем лучше умолчать. Есть истины, которые открывать опасно. Философ, сосредоточенно размышлявший над ними, сошел с ума. Я, разумеется, говорю о Ницше, который видел в человеке лишь «переходную ступень» к таинственному высшему существу. Может быть, «Джоконда» — эта «ступень»? Или даже это существо? То самое существо, которое займет на земле место человека? Об этом в конце жизни фантазировал в рассказе «Орля» Мопассан. И он сошел с ума. Может быть, радость Бернсона можно объяснить тем, что он боялся тоже сойти с ума? Кто найдет шифр к этому портрету? Мне не удалось. Хотя «Джоконда» была со мной всю жизнь. Мальчиком я увидел ее на репродукциях, в поздние годы стоял часами перед ней в Лувре. Совершенно не важно, была ли она уроженкой Неаполя или вышла из старинного флорентийского рода, была ли она женой флорентийского богача или возлюбленной великолепного герцога Джулиано Медичи. Важно другое: Леонардо держал при ней шутов, о чем пишет не только Вазари. Даже ему, магу, музыканту и острослову, не удавалось ее развеселить. Но развеселили ли шуты? Она улыбается. Но для ее улыбки шуты не были нужны. «Техникой» улыбки неподражаемой, не похожей ни на одну из улыбок в мире, Леонардо владел настолько, что ввел потом в заблуждение маститых искусствоведов, которые по одной лишь улыбке относили к его кисти портреты, написанные искусными подражателями. И почему Леонардо хотел, чтобы она улыбалась? Авторы итальянского телефильма отмечают, что портрет Джоконды не «зеркальное отражение». То есть Леонардо ставил перед собой цель большую, чем верность натуре. Он заглянул в ее душу? А может быть, в собственную душу? Он заглянул в Зазеркалье, то есть в мир, существующий за видимостью явлений, мир, в котором все возможно? Все ответы на эти вопросы одинаково убедительны и неубедительны. Исследователи жизни Леонардо все чаще пишут, что он отразил в «Джоконде» состояние собственной души в один из самых сложных моментов его жизни. Да, да. Это состояние души человека, который бежал из Милана, из Флоренции, из городов, завоеванных Цезарем Борджа, это состояние души человека, который видел казни и даже запечатлевал их в рисунках, как казнь убийцы Джулиано Медичи Бернардо ди Бандино Барончелло. «Шапочка каштанового цвета. Фуфайка из черной саржи, черная куртка на подкладке. Турецкий кафтан, подбитый лисьим мехом. И воротник куртки обшит черным и красным бархатом с крапинами. Бернардо ди Бандино Барончелло. Чулки черные». Это состояние души человека, который видел чудовищные жестокости Цезаря Борджа, испытал все опасности и безумства века и не утратил веры в человеческое, вечно человеческое. Дело не в том, красива Джоконда или некрасива. Дело даже не в том, стара она или молода. Я думаю не о старой женщине, а о стареющей душе великого философа и живописца. О стареющей душе, которая вобрала в себя опыты мира в один из самых трагических моментов восхождения человеческого духа. Это состояние души человека молчаливого, скрытного, не умеющего и не любящего рассказывать о себе. И поэтому я все больше склоняюсь к мысли, что «Джоконда» — это исповедь в красках. Бруно Нардини пишет о «Джоконде», что она — «нарочито загадочный ответ будущему поколению». Но любой, даже загадочный ответ подразумевает вопрос. О чем станет вопрошать ее «будущее поколение»? И не может ли быть, что, наоборот, она сама задает вопросы будущему поколению о смысле жизни и смысле культуры и, может быть, услышит ответ, решающий судьбу человечества и цивилизации?.. …Когда я был во Флоренции, мне показали дом, в котором, если верить Вазари, шуты и музыканты развлекали Джоконду, когда ее рисовал Леонардо. Этот дом вызывает особое чувство. Кажется, — переступишь через порог — и увидишь их; и если даже Леонардо изобразил на бессмертном портрете не Джоконду, все равно хорошо, что нам дано испытать высокое чувство почти непосредственного общения с художником и женщиной, в которой он увидел собственную душу. Есть иллюзии, которых не нужно лишать человека. С течением веков вдруг человечество узнает, что иллюзия имела под собой основательную почву. Была Троя, о которой писал Гомер, — он ее не выдумал; была Беатриче, которая ожидала Данте в раю, — он ее не выдумал; была Лаура, которой Петрарка всю жизнь посвящал сонеты, воспевающие бессмертную любовь, — он ее не выдумал; и была Джоконда, в которой Леонардо узнал нечто бесконечно для себя дорогое, без чего человеческое существование лишается смысла. Он ее не выдумал. И жила ли она во Флоренции в доме богатого купца как его третья жена или в Риме, окруженная любовью Джулиано Медичи, — разве это существенно? Она была. Леонардо ее не выдумал. Из телеромана Бруно Нардини я первый раз узнал, что в одной из записных книжек Леонардо существует запись странная, похожая на стихи, начертанная незнакомым почерком; позже она была залита огромным чернильным пятном — может быть, Леонардо хотел ее скрыть. Нардини высказывает догадку, что это строки, написанные… Моной Лизой: «О Леонардо, почему вы так много трудитесь?» Мне тоже хочется думать, что это написала Мона Лиза. Вслед за строкой, будто бы написанной Моной Лизой, идет размышление самого Леонардо о красоте: «О время, истребитель вещей, и старость завистливая, ты разрушаешь все вещи и все вещи пожираешь твердыми зубами годов… Елена, когда смотрелась в зеркало, видя досадные морщины своего лица, сделанные старостью, жалуется и думает наедине, зачем два раза была похищена». Имеет ли отношение эта запись к «Джоконде»? Леонардо с его любовью к секретности, к шифрам мог изменить имя. Может быть, лицо Джоконды действительно было уже изборождено морщинами: ей было, когда ее писал Леонардо (если это жена купца Джокондо), лет двадцать восемь. А в те времена, мы помним по Шекспиру, юность женщины начиналась с четырнадцати. Но почему Елена была похищена дважды? Леонардо все-таки имел в виду, по-видимому, Елену — героиню античных мифов. Как известно, первый раз ее похитил Парис. Ну а второй? Второй раз — «истребитель вещей». Но осознала она второе похищение, лишь увидев себя в зеркале. Для Леонардо увидеть было величайшим событием, равным не событию-отражению, а событию-«оригиналу». Для него увиденное не отблеск реальности, не отражение ее, а сама реальность. Но может быть, он писал о себе? Леонардо редко-редко говорит о себе открыто, в первом лице. Все, что относится к жизни его души, к интимному миру человеческой личности, настолько утаено этим, может быть, самым скрытным из великих людей, самым замкнутым и неоткровенным (несмотря на общительность, жизнелюбие, склонность к розыгрышам и к шуткам, которые тоже, может быть, лишь форма самообороны от любопытствующего мира), настолько все личное погружено в нем на дно непроницаемой души, что мы можем лишь строить более или менее печальные или романтические версии. Не будем строить беспочвенных догадок. Личность Леонардо вообще в картинах — не в одной лишь «Джоконде» — отразилась потаеннее, «зазеркальнее», чем личность его современников в их работах. В то же время Леонардо никогда не ставил перед собой «потусторонних», метафизических, чисто философских задач. И он был бы, наверное, удивлен, если бы узнал, что века и века будут решать загадку улыбки Джоконды. Гуковский отмечал: «Работа над портретом одной из красивейших женщин Флоренции совмещается у этого удивительного мастера с анализом внутренних органов человеческого тела». Вывод естествен: работа художника, переплетаясь с работой ученогоэкспериментатора, создает в синтезе нечто поистине поражающее. Если рассматривать «Джоконду» одновременно с анатомическими зарисовками и записями Леонардо, в которых изображены кости, сухожилия, мускулы, все подробности человеческого организма, то невольно возвращаешься к его наблюдениям над течением воды, которое зависит от особенностей дна… Через века Пастернак напишет: Во всем мне хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте. До сущности протекших дней, До их причины, До оснований, до корней, До сердцевины. Это и есть метод Леонардо. Узаконенный и, может быть, чуть опоэтизированный XX веком. Бернсон писал о Леонардо, что он дает нам «камень науки» вместо «хлеба красоты», ему казалось, что в Леонардо ученый убил художника. Ошибка Бернсона (да будет мне позволено критиковать маститого ученого), наверное, в том, что он судил об итальянском Ренессансе по законам иной эпохи. В нем самом, как мне кажется, ученый убил художника, жесткий логический ум умертвил интуитивное постижение и помешал вообразить, восстановить духовную жизнь людей Возрождения, дух эпохи. В сопоставлении не только с вечностью, но даже с временем существования человека на земле эпоха Возрождения — минута или секунда. И в блеске ее Леонардо да Винчи! Вот и попробуй рассмотри его, пойми в этом мгновенном блеске! Мы помним, что в работе над «Тайной вечерей» Леонардо не давались особенно долго два образа: Иуды и Иисуса. Абсолют зла. И абсолют добра. Если абсолют зла был (художнически) завершен, то абсолют добра остался незавершенным. Сам Леонардо полагал образ Христа в этой картине неоконченным. Но может ли он быть художнически окончен? Леонардо всю жизнь стремился к абсолюту в познании человека и мира. В «Джоконде» логика познания вела его к абсолюту добра и зла в одном образе, что адекватно самой сущности жизни, ибо в чистом виде абсолют добра и абсолют зла существуют лишь в лабораторных условиях, то есть в умозрениях философов, но не в самом бытие и не в созданиях художников. Этот абсолют почти (почти, потому что сам Леонардо полагал «Джоконду» незавершенной) удался. Теперь Добро и Зло не сидели за одним столом, как в «Тайной вечере», а были объединены в одном образе. Если даже допустить, что восторженный Вазари и исполненный смуты, тревоги и отвращения Бернсон писали о разных портретах (Вазари — о «Коломбине», хотя допустить это нелегко ввиду негениальности этой работы, а Бернсон — о картине в Лувре), то и тогда остаются в силе полярно противоположные суждения умных исследователей, рассматривающих одно и то же явление искусства и духовной жизни. Совершенно бесспорно, что Уолтер Патер и Волынский имели в виду «Джоконду» Лувра, не менее бесспорно, что Бернсон и Мережковский имели в виду тоже именно ее. Не подлежит сомнению и то, что Дворжак и современные исследователи, очарованные не меньше Вазари «Джокондой», тоже пишут об одной и той же картине. Велик и непостижим художник, создавший это гениальное художественное уравнение с множеством неизвестных. Бунин, как мы помним, называл «Джоконду» одной из великих загадок истории, равную тайне Железной Маски. Тайна Железной Маски — это тайна лица, которое скрыто под маской; тайна Железной Маски — тайна политическая. Сомнительно, чтобы Бунин полагал, будто бы Леонардо в «Джоконде» потаенно изобразил человека, которого написать открыто было опасно. К тому же у Леонардо не было четких политических симпатий и антипатий. Для Бунина загадочность «Джоконды» — явление чисто духовное. Тут стоит отметить, что Бунин, полностью отвергавший Мережковского как писателя, ценил и любил лишь одно его сочинение — «Леонардо да Винчи». В романе Мережковского есть замечательное место. Леонардо, когда он пишет портрет, кажется, что не только изображенная на портрете, но и сама живая Мона Лиза становится все более и более похожей на него, на Леонардо, как это иногда бывает у людей, долгие годы живущих вместе. Леонардо возвращается из поездки, во время которой он осматривал гидротехнические сооружения. Он возвращается, решив больше никогда не расставаться с ней, с «единственной вечной подругой». Он идет к ее дому по улице, останавливается у широких каменных лавок, сидя на которых флорентийцы обсуждают стихи Данте, ссорится неожиданно и нелепо с Микеланджело, идет дальше и узнает от отвратительного, похожего на насекомого человечка, что мессир Джокондо в третий раз овдовел. В этом рассказе достоверно лишь одно: Мона Лиза действительно, возвращаясь из Калабрии во Флоренцию, неожиданно умерла в маленьком городке Лагонеро. Почему? Кто на это ответит? О самой Моне Лизе ходили по Флоренции романтические легенды. Говорили о том, что в ранней юности у нее была трагическая любовь, что замуж за купца Джокондо она вышла по настоянию родителей и первый жених ее после этого ушел из жизни, рассказывали о страстных, упорных и безответно обожающих ее поклонниках. И в то же время о ней говорили как о жене тихой, скромной, благочестивой, строго соблюдавшей обряды церкви, милосердной к бедным, доброй хозяйке, верной жене и не мачехе, а матери для двенадцатилетней падчерицы Дьяноры. Перед разлукой (как оказалось, вечной), во время последнего сеанса, Леонардо развлекает Мону Лизу рассказом о пещере: «Не в силах будучи противостоять моему желанию видеть новые, неведомые людям, образы, созидаемые искусством природы, и в течение долгого времени совершая путь среди голых, мрачных скал, достиг я наконец пещеры и остановился у входа в недоумении. Но, решившись и наклонив голову, согнув спину, положив ладонь левой руки на колено правой ноги и правою рукою заслоняя глаза, чтобы привыкнуть к темноте, я вошел и сделал несколько шагов. Насупив брови и зажмурив глаза, напрягая зрение, часто изменял я мой путь и блуждал во мраке ощупью, то туда, то сюда, стараясь что-нибудь увидеть. Но мрак был слишком глубок. И когда я некоторое время пробыл в нем, то во мне пробудились и стали бороться два чувства — страх и любопытство: страх перед исследованием темной пещеры и любопытство — нет ли в ней какой-либо чудесной тайны?» Пещера была одним из самых любимых образов Леонардо не потому, что он был склонен к странным и экзотическим затеям, а потому, что его влекли к себе все тайны жизни. В этом смысле он был действительно первобытным человеком. Джоконда с «неожиданно блеснувшим взором» замечает, что одного любопытства мало, для того чтобы узнать тайны пещеры. «Что же нужно еще?» — не понимает ее Леонардо. И в этом непонимании — по Мережковскому — самая большая его трагедия. Когда Леонардо понимает, «что же нужно еще», уже поздно: Джоконда ушла из жизни. Создатели телефильма о Леонардо в библиографии называют лишь одну русскую работу — роман Мережковского, в последний раз изданный в Милане в 1936 году. Их легко понять. В рассказе Мережковского есть некая высшая достоверность — достоверность не документов, имен и дат, а человеческих отношений. Трагических человеческих отношений, что не могло не волновать позднего Бунина. В одной из тетрадей Павлинова… Но прежде надо объяснить появление этих тетрадей у меня. Павлинов был инженером, работал в городе О., увлекался горными лыжами еще со студенческих лет, каждую зиму недели на две уезжал в Домбай, возвращался веселый, с новыми интеллектуальными завихрениями. Однажды он не вернулся. Его искали более трех лет. И не нашли. Это бывает иногда в горах, покрытых снегом, которые, даже оттаивая летом, не открывают всех тайн. Павлинов был совершенно одинок — рос в детдоме, в любви был несчастлив и, наверное, именно поэтому делал выписки из моей книги «…Что движет солнце и светила», порой сопровождая их ироническими или полуироническими замечаниями. Его товарищи и отдали мне его тетради. В одной из тетрадей Павлинова я нашел малопонятную мысль — малопонятную поначалу, — «повседневность начинается на улице, а кончается в бесконечности». Павлинов любил «интеллектуальные ребусы». Над этим ребусом я бился долго, пока не понял, что он имеет в виду КУЛЬТУРУ. Да, культуру, как понимал ее Сент-Экзюпери. Вот и о «Джоконде» тоже можно, наверное, говорить, что она начинается на улице — в лавках сувениров, на чашках, тарелках и пепельницах, — а кончается в бесконечности человеческого духа. *** Леонардо да Винчи. «Джоконда» (деталь). Леонардо да Винчи. «Мадонна Бенуа». Черная мадонна (фото К. Гайена). ГЛАВА 7 Театр как жизнь, или Жизнь как театр (Иллюстрация, использованная к шмуцтитлу: Леонардо да Винчи, рисунок ) Запись Павлинова о повседневности, которая «начинается на улице, а кончается в бесконечности», на мой взгляд, имеет отношение к Экзюпери, к его размышлениям о культуре. Эти мысли Экзюпери общеизвестны. Но стоит сейчас о них напомнить для того, чтобы вернуться с ними на улицу Флоренции начала XVI века, где Микеланджело обидел Леонардо в разговоре о Данте. Перед второй мировой войной и во время войны Сент-Экзюпери думал все чаще о том, что без духовной жизни личности невозможна и достойная человека цивилизация. Духовную жизнь он рассматривал не аристократически, не элитарно, а в лучших традициях демократизма. Для Сент-Экзюпери духовное бытие личности начиналось с общения. Человека с человеком, человека с деревом, с травой, с животными. Разумеется, он поднимался и на более высокие ступени духовности, понимая, что потребность в истине и поиск ее составляют смысл человеческой жизни. Он часто думал о жажде человека, именно о жажде, наверное, потому, что однажды, потерпев аварию, испытывал в пустыне нестерпимую жажду. Он думал о жажде человека в творчестве, в созидании ценностей, улучшающих и украшающих жизнь, и в созидании самой жизни, ее новых, более совершенных, более человечных форм. Возможно, он первым в истории европейского духа ощутил соблазнительность и опасность вещей и того феномена, который сегодня называют массовой культурой. «Поймите, — писал он в одном из последних писем генералу X., — невозможно больше жить холодильниками… и кроссвордами! Совершенно невозможно. Невозможно жить без поэзии, без красок, без любви. Достаточно услышать крестьянскую песню XV века, чтобы почувствовать, как низко мы пали». Пели тогда почти все и почти во всех обстоятельствах, пели, как отмечает историк той эпохи Филипп Монье, — водя хороводы, подрезая виноградники, погоняя лошадей, складывая стену, расчесывая шерсть, пели, когда мыли окна, и пели во время путешествий по опасным дорогам, пели в одиночестве и пели с толпой и в толпе, пели в церкви, на собраниях, на балах и на похоронах. Песня была жизнью. Пели, чтобы излить душу, пели, чтобы забыться, пели, чтобы танцевать, пели, чтобы шагать, пели, чтобы высказаться. Пели, чтобы петь. У песен не было авторов. Точнее, был один автор — народ. Пели, объясняясь в любви, пели, расставаясь с любовью, пели, чтобы угодить любимой женщине, пели, чтобы ей отомстить. Пели веселые, печальные, озорные, целомудренные, непристойные, шуточные и трагикомические песни. Я сейчас, пожалуй, был не совсем точен, когда сказал, что у песен не было авторов. Пели Данте. Да, пели стихи из «Божественной комедии». Об этом мы читаем у Франко Саккетти. Новеллист XIV столетия показывает нам Данте на улице. Наш современник Юрий Олеша в своей последней книге «Ни дня без строчки» тоже рассказывает о Данте. Он видит Данте в аду, в чистилище и в раю, он видит его рядом с бесами, рядом с ангелами и рядом с Беатриче. Лица ангелов похожи на мечи, отражающие солнце. Они ослепляют. Беатриче появляется на колеснице, запряженной грифонами, в бело-зелено-красной одежде, окруженная старцами. И сам Данте — величественный, как готический собор, старец. Легендарный, как Гомер. Олеша пишет о нем с восторгом, поклонением и детским трепетом, он сообщает читателю, что «с детства не покидает воображение фигурка в красном с зубчатыми краями капюшоне, спускающаяся по кругам воронки…» в ад. Олеша рассказывает (я не мог найти источника, из которого он это почерпнул), что, встречая Данте на улицах Флоренции, люди отшатывались в страхе: «О боже мой, он был в аду!» У Саккетти это обыкновенный человек, которому не чуждо ничто человеческое. Его, например, раздражает, что один молодой франт, едучи верхом на лошади, расставляет высокомерно колени настолько широко, что создает при встречах с ним на узких улицах неудобство, и Данте при первой возможности мстит этому щеголю. И никто не отшатывается от Данте в страхе, совсем наоборот. С ним ссорятся, его даже обижают. Ведет себя Данте не как полубог и величественный старец, а с чисто человеческой непосредственностью, не лишенной озорства. Однажды, выйдя из дома, он услышал, что кузнец, ковавший на наковальне железо, пел стихи из «Божественной комедии», перепутывая строки. Данте вошел в мастерскую, как рассказывает Саккетти, слышавший, возможно, эту историю даже от самого кузнеца, и начал выбрасывать на улицу весы, молотки, клещи, куски железа, а на возмущение кузнеца, который его узнал: «Черт вас побери, что вы делаете! Вы с ума сошли?» — поэт ответил, что он точно так же портит его инструменты, как тот сейчас портил его стихи. Кузнец надулся от обиды и, собрав вещи, выброшенные великим Данте, вернулся к работе… Как видно из этого в подлинности не вызывающего сомнения рассказа, современник великого Данте не только не отшатнулся в страхе, увидев того, кто «был в аду», но и задал ему весьма резкий и темпераментный вопрос, поставив под сомнение состояние его рассудка. Саккетти повествует и о более остром конфликте великого Данте — с погонщиком ослов. Поэт для развлечения гулял по Флоренции и услышал, как кто-то поет стихи из «Ада», добавляя обращение к ослам, которого, естественно, у Данте не было. Поравнявшись с погонщиком ослов, Данте основательно ударил его локотником. Тот, отойдя на несколько шагов, обернулся и, высунув язык, показал ему фигу, добавив при этом: «Возьми-ка». Послушаем Саккетти: «Увидя это, Данте говорит: „Я за сто твоих не дал бы и одной моей“». Ответ Данте восхищает Саккетти. Он восхитит и нас, если мы откроем «Ад» на его двадцать пятой песне, на первых трех ее стихах. В этих стихах и фигурируют фиги, то бишь кукиши, в рассказе одного из обитателей ада. Действующие лица новеллы Саккетти обменялись не строками, а жестами из его великой поэмы, что говорит о ее народности еще больше, чем песни кузнеца. На расстоянии веков повседневность тушуется. Все серое, будничное, обыденное перевоплощается в живописность, в экзотику или в величие. Но повседневная жизнь была во все столетия, была она и в эпоху Ренессанса. Думали о доходах, заботились о местах, печалились об утраченных благах, радовались удаче. Но в повседневности Ренессанса было и нечто особенное. Альберти назвал это особенное более чем оригинально: «Живопись иглой». Красота была растворена в самом быте: в одежде, мебели, колодцах, ступеньках лестницы, канделябрах, даже в корзинках кумушек. Живописцы, чьи имена украшают сегодня музеи и историю искусства, не видели для себя ничего унизительного в том, чтобы работать для «повседневности». Даже Боттичелли — один из самых утонченных, аристократических художников Ренессанса — гордился тем, что нашел более совершенный метод окрашивания тканей. Художники охотно и с любовью участвовали в украшении быта — расписывали сундуки, делали латунные шары для мебели, строили камины. Отчасти это объясняется тем, что и сами великие художники Ренессанса вышли из простонародья. Паоло Уччелло был сыном парикмахера, Филиппо Липпи был сыном мясника, братья Поллайоло — детьми торговца курами. По современной терминологии они были интеллигентами в первом поколении. И этим объяснялась их одержимость. …Авторы всех жизнеописаний Леонардо замечают (не больше чем замечают), что он хорошо пел и именно этим покорил Лодовико Моро и его двор. Музыка была, пожалуй, единственной областью культуры, в которой универсальный гений Леонардо выступал с импровизациями. Мы помним, что он не любил писать по сырой штукатурке, потому что все время медлил, сомневался, обдумывал, помним, что он работал долго и часто не завершал начатого. Музыка была единственной стихией, в которой он не боялся «писать по сырому», не испытывал страха, что «сырое» отвердеет раньше, чем он завершит работу. К сожалению, импровизация еще менее восстановима, чем осыпавшаяся фреска. Импровизацию реставрировать невозможно. Она живет лишь в те минуты, пока живет. Поэтому все авторы жизнеописаний Леонардо, излагая его импровизации, в сущности, лишь повторяли сюжеты записанных им басен и историй. И все же художественные исследователи этой жизни — Мережковский в начале нашего века и Нардини в наши дни — попытались что-то восстановить. Послушаем их, не забывая, что это не больше чем копия с того, что безвозвратно исчезло. Копия-фантазия. Вот что рассказывает Леонардо Джоконде в романе Мережковского: «— Корабельщики, живущие на берегах Киликии, уверяют, будто бы тем, кому суждено погибнуть в волнах, иногда, во время самых страшных бурь, случается видеть остров Кипр, царство богини любви. Вокруг бушуют волны, вихри, смерчи, и многие мореходы, привлекаемые прелестью острова, сломали корабли свои об утесы, окруженные водоворотами. О, сколько их разбилось, сколько потонуло! Там, на берегу, еще виднеются их жалобные остовы, полузасыпанные песком, обвитые морскими травами: одни выставляют нос, другие — корму; одни — зияющие бревна боков, подобные ребрам полусгнивших трупов, другие — обломки руля. И так их много, что это похоже на день Воскресения, когда море отдаст все погибшие в нем корабли. А над самым островом — вечно голубое небо, сияние солнца на холмах, покрытых цветами, и в воздухе такая тишина, что длинное пламя курильниц на ступенях перед храмом тянется к небу, столь же прямое, недвижное, как белые колонны и черные кипарисы, отраженные в зеркально-гладком озере. Только струи водометов, переливаясь через край и стекая из одной порфировой чаши в другую, сладко журчат. И утопающие в море видят это близкое тихое озеро; ветер приносит им благовоние миртовых рощ — и чем страшнее буря, тем глубже тишина в царстве Киприды. Он умолк; струны лютни и виолы замерли». А вот попытка восстановить невосстановимое у Бруно Нардини. Когда Леонардо писал портрет Чечилии Галлерани (известный сегодня как портрет «Дамы с горностаем»), по зале бегал горностай, пугая юных дам, окружавших неподвижно сидевшую Чечилию. Леонардо успокаивал их какой-нибудь импровизацией, обращаясь в первую очередь к Чечилии. «Однажды горностай бежал по заснеженной вершине горы. Охотники увидели его…» Я отношусь с большим уважением к работе Бруно Нардини, но ловлю себя на том, что мне не по себе сейчас. Нельзя воссоздать то, что безвозвратно утрачено, — как музыку, сочиненную в озарении, не записанную и забытую… забытую навсегда. Закончилась история тем, что горностай, оказавшись перед выбором, убежать ли в растопленный солнцем нечистый снег, испачкав белоснежное одеяние, или остаться на последнем клочке нерастаявшего снега, не тронулся с места, и охотники его убили. Иносказательный смысл этой истории не требует пояснения. Дар импровизации рискованно относить к фундаментальным и необходимым особенностям культуры. Были и культуры — великие «тугодумы» (в этот ряд, мне кажется, можно поставить культуру Ассирии, Вавилона, Египта, культуру майя). Но в Ренессансе, который воскрешал «золотое детство» человечества — античность, — была явлена и эта детски золотая черта: игра духа, игра мысли в импровизации. Улицы итальянских городов в ту эпоху не только пели — они были и театрами под открытым небом. Певцы и рассказчики перед детски зачарованной толпой развивали захватывающие сюжеты, заимствованные из рыцарских историй, рассказов путешественников (ведь это было время великих географических открытий), из фольклора. Сент-Экзюпери, как мы помним, писал генералу X.: «…невозможно больше жить холодильниками…» Сегодня он, наверное, написал бы: «…невозможно больше жить одними телевизорами и видеомагнитофонами». Любовь Леонардо к музыке, пению и импровизации не была еще одной чертой уникально универсальной личности. Это было чертой уклада жизни, быта, а точнее, музыка, песни, импровизации были самим бытом. Этот дар Леонардо получил от народа. От народа Леонардо получил дар и более существенный, с которого мы начали наше повествование, — умение видеть. …Итальянцы в эпоху Ренессанса наслаждались картиной мира, жизни гораздо больше, чем мы сегодня наслаждаемся картинами великих художников в музеях. Они любили видеть. Они видели с наслаждением. Из записей купцов, которые до нас дошли, из писем той эпохи мы узнаем об их удивительной наблюдательности. От их взгляда ничего не ускользало, и особенно были они «вглядчивы» в художественные подробности событий жизни, человеческого облика, костюма. Они чувствовали особенности красоты и некрасоты: «Оттенок цвета волос какой-нибудь девушки (я опять цитирую Филиппа Монье), цвет ее лица, контур ее щек, профиль ее горла, форму ее руки и ее пальцев… выпуклость и блеск ее ногтей…» Все это для них было важными обстоятельствами. Они по-детски неожиданно, со всеми подробностями и особенностями воспринимали шелковые башлыки, плащи, чулки, шляпы, капюшоны, юбки… Они были неравнодушны к «резьбе на золоченой пуговице». Мать Лоренцо Великолепного Лукреция Торнабуони в письме мужу Пьетро Медичи, рассказывая об их будущей невестке Кларичи Орсини, касалась подробностей лица, одежды, рук, которые могут восхитить самого требовательного художника. Крестьянин, не умевший ни читать, ни писать, вплетал в затылок белых быков бахрому разноцветной шерсти, чтобы усладить взоры тех, кто встретится ему в пути. Общеизвестен рассказ Вазари о толпах народа, которые в течение нескольких дней наводняли мастерскую одного из ранних художников Ренессанса Чимабуэ, когда он закончил работу над Мадонной. В более поздние десятилетия, в начале XVI века, когда Леонардо закончил для церкви Нунциаты картон «Святая Анна», в монастырскую комнату, как на торжество, шли мужчины и женщины, молодые и старики, чтобы «посмотреть на чудо, сотворенное Леонардо, поразившее весь этот народ». Чувство красоты было народным чувством. Новая картина, новый купол собора или фасад дома были в ту эпоху событиями не элитарно-художественными, а народно-художественными. О них говорили на улицах, в церквах, на дорогах, как и о стихах Данте. Живописцы итальянского Возрождения умели видеть. Все их современники любили видеть. Поэтому живопись и стала искусством, в котором эпоха наиболее полно себя выразила… Теперь мы подошли к ссоре Леонардо и Микеланджело на улице Флоренции. Леонардо искусство живописи ставил выше искусства ваяния. Об этом он говорил, об этом он и писал. В «Трактате о живописи» есть немало страниц на эту тему. Мережковский, как мне кажется, удачно выразил самую суть аргументации Леонардо: «Главное отличие этих двух искусств заключается в том, что живопись требует больших усилий духа, ваяние — тела. Образ, заключенный, как ядро, в грубом и твердом камне ваятель медленно освобождает, высекая из мрамора ударами резца и молота, с напряжением всех телесных сил, с великою усталостью, как поденщик, обливаясь потом, который, смешиваясь с пылью, становится грязью; и лицо у него замарано, обсыпано мраморною белою мукою, как у пекаря, одежда покрыта осколками, точно снегом, дом наполнен камнями и пылью. Тогда как живописец в совершенном спокойствии, в изящной одежде, сидя в мастерской, водит легкою кистью с приятными красками. И дом у него — светлый, чистый, наполненный прекрасными картинами, всегда в нем тишина, и работа его услаждается музыкою, или беседою, или чтением, которых не мешают ему слушать ни стук молотков, ни другие докучные звуки…» Эти мысли Леонардо, которые он не скрывал — они были часто темой диспута в собраниях художников и ученых, — стали известны Микеланджело и, естественно, его задели. Микеланджело был намного моложе Леонардо, в душе он восхищался им как художником, но угрюмый, болезненно-самолюбивый, застенчивый, в сущности, робкий и от робости иногда оскорбительно-резкий, он относился к Леонардо со сложным чувством восхищения и ревности. Мягкий, уступчивый, уклоняющийся от конфликтов и борьбы Леонардо был непонятен ему и его раздражал. В биографии «Анонима» мы читаем: «Однажды Леонардо проходил с Дж. да-Гавино мимо церкви Санта-Тринита, где на скамьях… собралось несколько мирных граждан, рассуждавших об одном эпизоде из Данте. Они позвали Леонардо, прося его, чтобы он объяснил им этот эпизод. Как раз в это время тем же местом проходил Микеланджело, и, так как ктото позвал и его, Леонардо сказал, чтобы за объяснением обратились к Микеланджело. Это показалось Микеланджело насмешкою, и потому он гневно ответил: — Объясни-ка, ты — ты, который сделал проект бронзового коня, но не смог вылить его и, к стыду своему, оставил его недоделанным. Сказав это, он повернулся к нему спиной и пошел. Леонардо остался на месте, покраснев от сказанных ему слов. Но Микеланджело, желая уязвить его еще раз, сказал: — И эти тупоголовые миланцы могли поверить тебе!». У Мережковского в романе это дано более развернуто, с подробностями, рисующими нравы и обстановку той эпохи. На широких каменных лавках, которые тянулись по стенам одного из палаццо, сидели флорентийцы, играя в кости, шашки, обмениваясь новостями, молчаливо отдыхая. На этот раз шел разговор оживленный о Данте. Обсуждали несколько загадочных стихов в «Божественной комедии»; один из купцов пытался объяснить их, когда появился Леонардо — он шел к дому Джоконды. Его попросили разрешить недоумения. Дальше Мережковский дает мотивировку обращения Леонардо к Микеланджело, которую полностью заимствует у него и Бруно Нардини. Леонардо советует обратиться с недоуменными вопросами относительно загадочных стихов Данте к Микеланджело не потому, что хочет его уязвить. Он искренне полагает, что тот разбирается в Данте лучше него. Он искал мира с Микеланджело, мира, который между ними не наступил никогда. Отношения Леонардо с современными ему художниками — особая тема, и мы не будем сейчас в нее углубляться. Они бесконечно интересны оба, два современника, два титана: Леонардо и Микеланджело. Двое бессмертных. Но для нас в этой истории сейчас особенно интересны не они, а те обыкновенные флорентийцы, которые, сидя на каменной лавке, тянувшейся вдоль палаццо, обсуждали не цены на шерсть (хотя это было самым насущным для Флоренции того времени вопросом), а загадочные строки Данте. Это и есть та повседневность, которая начинается на улице, а кончается в бесконечности. В любой культуре важны два этажа, составляющие ее суть: верхний этаж — элита и нижний этаж — народ. Величие культуры Ренессанса заключается в том, что, несмотря на фанатическое увлечение гуманистов (а тогда гуманистами называли людей, увлекающихся античностью и возрождавших ее) Цицероном, Сенекой, Марком Аврелием, несмотря на царивший во Флоренции дух Платона, на элитарные собрания, где обсуждались темы добродетели, бессмертия души и иные высокие материи, культура эпохи была цельной и единой, как дерево: с демократическими корнями и аристократической кроной. Это выражалось и в известных странностях, отличавших утонченных гуманистов, например Пико делла Мирандола, и в экзотических особенностях, характерных для обыкновенных людей, например купцов. О Пико делла Мирандола хочется рассказать несколько подробнее, потому что именно в нем сосредоточен наиболее обаятельно элитарный дух Возрождения. Но уделим несколько строк и купцу середины XV века — Джованни Ручелайи. В «Записных книжках» этого купца, дошедших до нас, содержатся философические раздумья о том, что такое судьба. Разумеется, судьба купца зависела от многих житейских обстоятельств, но автор «Записных книжек», рассуждая о ней, черпает у античных авторов гораздо больше, чем из собственного опыта. Пико делла Мирандола был одним из самых оригинальных умов той эпохи. Его универсализм выражался в том, что он хотел объединить учение Платона с учением Аристотеля, искал истины во всех религиях, для того чтобы создать единую истину, увлекался одинаково и античностью, и тайными учениями восточной философии, говорил и писал почти на всех живых и мертвых языках, которые были доступны в то время. Осенью 1486 года он удивил всю Италию и всю Европу. Он вызвал в Риме всех ученых на диспут, выдвинув для обсуждения «900 тезисов». Тогда ему было двадцать четыре года. За год до этого он тоже сумел удивить современников. Пико делла Мирандола полюбил красивую жену одного таможенного чиновника в Ареццо и решил ее похитить. И похитил. В маленьком Ареццо ударили в набат, пустились в погоню. Беглецов догнали, последовало настоящее побоище не только с увечными, но даже с убитыми. Пико делла Мирандола и его секретарю удалось ускакать, но их вскоре настигли. Однако преклонение перед ученостью в тот век было настолько велико, что молодого похитителя быстро освободили. Отныне его любовью стала лишь человеческая мудрость. Он даже уничтожил эротические стихи, написанные в молодости, и весь посвятил себя философии. Диспут в Риме не состоялся, потому что ортодоксально настроенное окружение папы Иннокентия VIII, известного тем, что именно он начал «охоту за ведьмами» в Европе, усмотрело в тезисах молодого философа ересь. Пико должен был держать ответ перед коллегией в Ватикане. Он покинул Рим, опять бежал, на этот раз ради любви к истине. Папа распорядился его задержать. В поимку философа был вовлечен даже великий инквизитор в Испании Торквемада. Пико захватили во Франции и заключили в тюрьму. Ходатайства его высоких ученых покровителей в Италии помогли ему быстро освободиться. В дальнейшем он жил во Флоренции близ Лоренцо Медичи, став одной из основных интеллектуальных фигур в его окружении. Но Пико делла Мирандола не был кабинетным философом, он стремился к тому, чтобы установить гармонию между мышлением и жизнью. Та духовная перемена, которая совершилась в нем после любовной истории, углублялась все более. Он отказался не только от любви к женщинам, но и от всех материальных благ. Деньги он роздал неимущим, большую часть богатейшей домашней обстановки раздарил. Как отмечает Роберт Зайчик, автор во многом устаревшей, но не утратившей интереса книги «Люди и искусство итальянского Возрождения», вышедшей в России в начале XX века, «никто из обращающихся к нему за помощью не уходил с пустыми руками». Он и на этом не остановился, поручая разыскивать неимущих для того, чтобы облегчать их участь. Пико делла Мирандола умер молодым. Иногда мне кажется, что «Молодой человек с перчаткой» Тициана — это и есть странный философ, родившийся в селении Мирандола. Как отмечают все его биографы, он любил одинаково и созерцание, и деятельность, боролся с суевериями, хотел создать целостное гармоничное мировоззрение, объединяющее мудрость всех веков и всех религий. И был он добрым, духовно высоким человеком. Он был добрым человеком. И тут мы подходим к наименее изученной и, может быть, самой интересной стороне итальянского Ренессанса. Якоб Буркхардт, автор исследования «Культура Италии в эпоху Возрождения», рассказывает о ренессансном мыслителе, толкователе Гиппократа — Фабио Кальви из Ровенны: «В глубокой старости он, живя в Риме, питался одними овощами, как некогда пифагорейцы, и его жилище в развалинах было немногим лучше Диогеновой бочки». Было это во времена папы Льва X. Папа назначил ему пенсию, но Фабио Кальви тратил из нее для себя лишь на самое необходимое, остальное делил между бедняками. Конец его трагичен. Во время опустошения Рима в 1527 году испанцами солдаты заточили девяностолетнего старца в темницу, рассчитывая получить за него выкуп, и он умер от голода. В ту эпоху любили морить голодом заложников. Имя этого второго Диогена сегодня почти неизвестно. Между тем его должно помнить уже потому, что Рафаэль любил Фабио, как учителя, и советовался с ним. Буркхардт полагает, что Фабио, возможно, помогал Рафаэлю как философ, когда великий художник создавал «Афинскую школу», в которой изобразил всех мудрецов мира. Рафаэль и Диоген. Может быть, это и есть истинное возрождение не архитектурных древностей, не потерянных и забытых манускриптов, а живого Диогена, живого мудреца античного мира. Он был возрожден Рафаэлем не на полотне, а в самой жизни. Любовью, общением, пониманием. Рафаэль осуществил то, что некогда не удалось Александру Македонскому. Гениальный полководец и — тоже личность универсальная — человек, чьи мысли и действия объединяли в великом синтезе Запад и Восток, хотел, как известно, сблизиться с Диогеном. По легенде, он подошел к нищему философу с вопросом: «Чем я могу быть тебе полезен?» Диоген подумал и ответил: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». Вряд ли можно найти в истории что-нибудь равное по величию этому ответу. Он мог в мгновение ока стать из бедняка могущественным вельможей, любимцем человека, у ног которого лежал весь мир, а он попросил этого человека, этого полубога лишь об одном — не заслонять ему солнце. Рафаэль тоже был полубогом — иной эпохи, возрождающей античность. Он не заслонил солнце новому Диогену. Он сам был для него солнцем. Рафаэль не увидел Рима после трагического 1527 года, когда чужеземцы опустошали вечный город. Он не увидел крушения мира, в котором, несмотря на «безнравственность века», жили люди, не лишенные античного величия, величия, которое всю жизнь восхищало Стендаля. Фабио Кальви не был одинокой фигурой в эту эпоху, завершавшую Ренессанс. Нравственное величие, которое, может быть, точнее назвать мудростью, отличало Витторино да Фельтре, Донателло и менее известного Помпонио Лето (Лет). Невзрачный на вид, странно одетый, он читал лекции в Римском университете, большую часть времени жил за городом, в маленьком домике с виноградником, где по совету античных мудрецов обрабатывал землю. Он был умерен во всем, равнодушен к богатству и к благам жизни, чужд зависти и тщеславия. Как и Диоген, он ходил с фонарем, но не днем, а на исходе ночи, в сумерках, чтобы как можно раньше начать общение со студентами, которые стекались в аудиторию ночью, чтобы успеть занять места. Он немного заикался, говорил с кафедры медленно, но это не мешало — настолько все были захвачены его мыслями, его любовью к античности, к памятникам древности, к высоким вопросам. Рассказывая об этой эпохе, обычно рисуют живописные фигуры тиранов, авантюристов, «демонических» личностей вроде Цезаря Борджа. И это касается не только Ренессанса. Дело в том, что зло живописнее, красочнее, эффектнее добра, особенно в экзотическом сочетании с любовью к наукам и искусствам. …Обаянию зла поддавались даже умнейшие люди, например Стендаль, видя порой в зле силу характера и большие страсти. Добро лишено эффектного обаяния. Оно ему не нужно. О Нероне помнят лучше, чем о Марке Аврелии. Нерон убил собственную мать, устроил пожар в Риме, заставил кончить жизнь самоубийством философа, который был его воспитателем, — Сенеку, — и всем этим себя обессмертил, став именем нарицательным. Именем, которое вошло в быт, в обиходную речь. Купцы и купчихи Островского, никогда ничего не читавшие об античном Риме, называли «неронами» людей, по их суждению, бесчестных или опасных. Имя Марка Аврелия не стало нарицательным. Он не убивал, не посылал центурионов к философам с повелением уйти из жизни. Он сам был философом и размышлял о добре, удивляясь, почему его в мире мало. В бесчисленных сочинениях искусствоведов, историков культуры, популяризаторов с большой живописностью повествуется о том, что современные ученые называют оборотной стороной титанизма. Это действительно увлекательная и захватывающая тема. О мудрецах и подвижниках пишут куда меньше. Жизнь подвижника и мудреца менее сюжетна, чем жизнь авантюриста. Но наверное, судить об эпохе нужно все-таки не по оборотной стороне титанизма, а по тому, было ли в ней хотя бы два подвижника. По библейской легенде, бог, осудив на уничтожение город, погрязший в разврате, пощадил его лишь потому, что в нем нашлось два подвижника. Эти два подвижника были во все времена. Они суть и соль человечества. Поэтому и нет в истории человечества века, который заслуживал бы того, чтобы его изъять без сожаления. Мне кажется, что именно сегодня, когда все чаще и настойчивее говорят о «безнравственности» итальянского Ренессанса, важно воскресить имена и образы этих подвижников. Экзотические рассказы об оборотной стороне титанизма обычно содержат в себе мысль, родоначальником которой, как мы помним, был Стендаль, — что без этой оборотной стороны не было бы и великого искусства, и зло надо рассматривать как «накладные расходы», как цену за великое искусство, которое рождается лишь в ситуации великих страстей. А там, где великие страсти, — великое зло. Но вот Рафаэль общался с мудрецом и подвижником, и Донателло был бескорыстен и добр, известно, что в жилище его висела сумка, полная денег, из которой черпал каждый, кому они были нужны. И даже «индифферентный» к добру и злу Леонардо да Винчи, который был военным инженером у чудовищного Цезаря Борджа, удержался от соблазна открыть современникам секрет водолазного костюма, чтобы не были потоплены корабли с безвинными людьми. Человечностью насыщены строки Данте. Человечностью насыщены были уроки великого педагога Возрождения Витторино да Фельтре. Тема подвижников имеет самое непосредственное отношение к теме народных корней ренессансной культуры. Тираны вне народной культуры; тираны — в лучшем варианте — относятся к чисто элитарной культуре (за исключением, может быть, Лоренцо Великолепного, песни которого тоже распевала флорентийская улица). Тираны Возрождения живописно сочетают в себе невероятные жестокости с утонченным пониманием красоты. Один из тиранов, поймав крестьянина, который посмел похитить в его лесу зайца, заставил несчастного съесть этого зайца живьем, с шерстью. Это не мешало подобным «неронам» участвовать в утонченной полемике с философами и художниками и восторгаться искренне явлениями искусства. Но к чисто народной культуре, к культуре улицы, которая поет Данте, тираны отношения не имели. Они не унижали себя до этой улицы. Надеюсь, историки культуры извинят мне писательскую вольность, если я выскажу мысль, что итальянский Ренессанс погиб, потому что истощилась народно-этическая почва, питавшая его. Я об этом думаю часто перед картинами и фресками Боттичелли. Боттичелли — это Блок итальянского Ренессанса. По ощущению надвигающейся катастрофы. Может быть, бессознательно, но удивительно точно Боттичелли ощутил обреченность, хрупкость, беззащитность и неминуемую гибель красоты итальянского Ренессанса. Самое замечательное в работах Боттичелли — чувство сострадания, которое ощутимо в его иллюстрациях к дантовской «Божественной комедии». Боттичелли сострадает тем, кто страдает в аду, и это чувство — не характерное для безразличного к добру и злу итальянского Ренессанса — не только обогатило живопись Боттичелли, но и вернуло ей новизну и современность во второй половине XIX века, когда полузабытый художник был воскрешен для нашего XX столетия. Эта особенность живописи Боттичелли относится не к стилю в искусстве, а к жизни его души. Он был одним из немногих людей итальянского Ренессанса, томимых вопросами совести и морали. Невольно подумаешь; вот мы говорим; «Это была типичная для итальянского Возрождения личность». Но ведь и Леонардо можно назвать типичной для этой эпохи личностью, и Боттичелли, и Макиавелли, и Савонаролу, и Цезаря Борджа… Кто же действительно типичен? Или вот мы говорим: «Это типичная для второй половины XX века личность». Но стоит посмотреть вокруг, и мы увидим потрясающее разнообразие характеров, судеб, отношений, стилей поведения, мировосприятия. Разве не то же самое было и в эпоху Ренессанса? Разумеется, человек неотделим от века. Рассматривать его вне времени — дело пустое и бесплодное. Но не менее рискованно и отрешаться от уникальных особенностей, которыми наделены люди, являющиеся современниками. Более того, чтобы понять уникальность века, надо понять человеческие уникальности, из которых складывается разнообразный и неповторимый образ эпохи. Кювье, как известно, по одной кости восстанавливал облик исчезнувшего животного. Восстановить по одной, чудом сохранившейся биографии образ исчезнувшей эпохи — дело, может быть, увлекательное, но, увы, бесполезное. В лучшем случае мы восстановим не время, а лишь один из фрагментов его. Боттичелли велик тем, что первым во второй половине XV столетия совершил шаг к сближению культуры и этики, шаг, который может быть оценен по достоинству лишь в наше время, когда нравственное сознание настолько возвысилось и усложнилось, что культуры вне этики мы не мыслим. И в этом отношении Боттичелли, пожалуй, в чем-то антагонист Леонардо. Я вовсе не хочу унизить нравственную ценность жизни и деятельности великого создателя «Тайной вечери». Капитальнейшая этическая ценность жизни Леонардо в его верности истине, в его кропотливых и титанических поисках ее, в том, что потом назовут интеллектуальной честностью . Он мог делать вид, что не замечает жестокостей Цезаря Борджа (хотя, разумеется, замечал все), он мог уклоняться от непосредственного участия в борьбе с этим демоном Ренессанса, понимая, что силы неравны, он мог бесстрастно зарисовывать лица и одежду людей, ведомых на казнь, но он ни в чем никогда не уклонялся от истины, исследуя, постигая мир, окружающий человека. В его записных книжках почти ничего не написано о добре и зле, но нет ни одной строки, в которой были бы ложь, лукавство или фальшь. Поиск любой истины — художественной, научно-технической, а не только нравственной — заключает в себе большую этическую ценность, потому что любая истина убийственна для лжи. Поэтому «антагонист» Боттичелли — Леонардо в чем-то несказанно родствен ему не только как человек, как товарищ по мастерской Верроккьо, но и как художник. Не случайно Боттичелли — единственный из современных ему живописцев, имя которого упомянуто им в записных книжках. Широко известна формула Якоба Буркхардта: «Эпоха Возрождения — это открытие человека и мира». Буркхардт высказал ее в середине XIX века. Сегодня, когда нам несравненно больше известно об истории европейской культуры, она кажется несколько наивной. Но тем не менее под обаянием формулы Буркхардта находились целые поколения ученых. Я сейчас рассмотрю ее не как откровение, а как версию. Когда совершилось открытие человека ? Буркхардт утверждает, что в эпоху Ренессанса. Немецкий философ XX века, автор некогда весьма известной книги «Закат Европы» Освальд Шпенглер утверждает, что в эпоху ранней готики. Известный швейцарский историк Андре Боннар, написавший художественно-философское исследование о древнегреческой цивилизации, утверждает, что в античности. Археолог Анри Лот, обнаруживший в Сахаре фрески Тассили, полагает, что человек был открыт в эпоху первых наскальных рисунков, в которых отразилась не только гениальность рода, но и гениальность личности первобытного живописца. Формула Буркхардта стала классической, но мы видим, что существовали и существуют иные версии. Когда же был открыт человек? На этот вопрос ответить труднее, чем на вопрос, когда была открыта Америка или гелиоцентрическая система мироздания. Наверное, открытие человека совершалось с появлением человека, совершается в наши дни и окончится лишь с исчезновением человеческой культуры и человеческого рода. Пока человек существует, он будет себя открывать. Когда начинаются новые эпохи — например, когда начался итальянский Ренессанс? И тут существует немало версий. Я не буду утомлять читателя изложением их. Периодизация Возрождения до сих пор тема полемик и дискуссий. Когда же начинаются новые эпохи? Стоит обратиться к интересной мысли французского ученого Тейяра де Шардена. В книге «Феномен человека» он пишет о «черенках», о начале начал, которые эволюция — любая — тщательно и загадочно убирает. Начало начал остается тайной эволюции. Для меня Возрождение началось с любви Элоизы к Абеляру (о чем я уже не раз писал), и несмотря на явную ненаучность этой версии, я дорожу ею и поныне. Хотя, если мне возразят, что итальянский Ренессанс начался с Франциска Ассизского, открывшего, что мир, окружающий человека, родствен ему и красив, я соглашусь. И если услышу, что Ренессанс начинается с той минуты, когда Петрарка, поднявшись на высокую гору в Альпах, осознал себя как насыщенную духовной силой частицу мироздания, — и эта версия тоже покажется мне заслуживающей доверия и уважения. И если мне станут доказывать, что подлинный Ренессанс начался с Альберти и Леонардо да Винчи, в которых тип универсальной личности достиг наивысшего развития, у меня и это положение не вызывает полемического пыла. Я лишь попытаюсь уточнить, возможен ли был Петрарка до Абеляра и возможны ли были Альберти и Леонардо до Франциска Ассизского? Но ведь и Абеляр не начало начал. И любовь Элоизы к нему тоже не исток всех истоков. Были поэты и ученые при дворе Карла Великого. Были монахи, переписывающие в темных кельях Цицерона и Гомера в самые темные века, когда, казалось, умерли и искусство, и наука, и даже умение выводить буквы. Огонь вечно потухающий и вечно возгорающийся, как писал Гераклит о мироздании… Возможно ли, чтобы у этого огня было начало начал? Он весь состоит из начала, явного или тайного, ослепительного или почти неразличимого, но тем не менее существующего реально. В тетрадях Павлинова, среди его «интеллектуальных ребусов», я нашел и такой: «Две модели культуры: первая — театр как жизнь и вторая — жизнь как театр. Что истиннее?» Театр как жизнь. И жизнь как театр. Мне кажется, что народный итальянский Ренессанс с его рассказчиками, толпами, красотой, насыщающей весь уклад жизни, с его мастерскими художников, где толпятся ремесленники, с его великими поэтами, которые ссорятся с погонщиками ослов, с суконщиками, которые, непринужденно расположившись на каменных лавках, обсуждают загадочные строки Данте, с сундуками и ларцами, расписанными гениальными художниками, импровизаторами и кузнецами, дерзящими гениям, — что этот Ренессанс и есть театр как жизнь. Его живописность, экзотичность, игра красок не театральны. Это сама жизнь. А в понимании Шекспира это театр как жизнь, театр жизни (именно в ту эпоху родились «театральные» формулы, одной из самых долговечных оказалась, к сожалению, — «театр военных действий»). Это театр жизни, лишенный театральности, это наиболее истинная, высшая модель культуры. На закате Ренессанса во Флоренции было отмечено летописцами шествие, выдуманное и оформленное художником Пьеро ди Козимо, в котором место античных богов и веселых сатиров и нимф заняли тени потустороннего мира. Начался закат великой эпохи. Это было почти накануне расставания Леонардо не с Флоренцией, не с Миланом, не с Римом, не с Венецией, а со всей Италией, расставанием навеки, потому что и похоронен он в чужой стране. Шествие потусторонних теней по улице, по которой еще недавно текла поющая, веселая толпа, которая еще недавно была украшена художниками, бесконечно любящими все земное, — это шествие, поскольку оно уже по ту сторону нашего видимого мира, можно назвать бесконечностью, которая начинается на улице, а кончается… Эпоха умирала. Эпоха умирала, оставаясь бессмертной. Незадолго до этого странного шествия, в последние флорентийские дни, Леонардо занес в записную книжку строки о нескольких загадках бытия. О камне, который, упав в воду, «оставляет круги в месте падения», о голосе, «отдающемся эхом в воздухе», о разуме «угасшем, который не уносится в бесконечность». Эпоха умирала, но оставалась бессмертной, потому что создания разума уносятся в бесконечность. Культура умирает и возрождается. «Культура, — писал генералу X. Антуан Сент-Экзюпери, — есть благо незримое, потому что она основана не на вещах, а на незримых связях, соединяющих их друг с другом так, а не иначе. У нас будут великолепные музыкальные инструменты, выпускаемые целыми сериями, но будет ли у нас музыкант?» Мудрость Сент-Экзюпери — это мудрость середины XX века, когда «вещей, выпускаемых целыми сериями» стало больше, чем незримых соединяющих связей. XV век в этом смысле не понял бы XX. У него были иные «вещи», на которых лежал и лежит до сих пор отблеск бессмертной красоты. А вот ценность связей, соединяющих людей, соединяющих и телесное и бестелесное, — эта мысль, пожалуй, могла быть дорогой и Леонардо, и Пико делла Мирандола, и Боттичелли. Культура, не оторванная от земли, обладает особой долговечностью и взывает к воскрешению. Когда крестьяне, строя дома или распахивая землю, находили обломки античных статуй, они, сами того не помышляя, участвовали в созидании не оторванной (в наибуквальнейшем смысле!) от земли культуры. Народность ренессансной культуры порой носит характер, удивляющий сегодняшнего человека или, если он не чужд возвышенных настроений, умиляющий его. Например, один старый-старый учитель из Перуджи, который настолько одряхлел, что уже ничего не видел, узнав, что Петрарка гостит в Неаполе у короля, пошел из небольшого городка Понтремоли, опираясь на руку единственного сына (а путь был не ближний!), лишь для того, чтобы услышать голос Петрарки. Но он не застал его в Неаполе. Петрарка уехал в Рим. Король, узнав о старом поклоннике поэта, посоветовал ему поспешить, иначе он не застанет Петрарку и в Риме, потому что тот собирался в путешествие на север — во Францию. Старец невозмутимо ответил королю, что он пойдет за Петраркой и в Индию, чтобы услышать голос великого поэта. И он шел, опираясь на руку сына, он в холодную зиму через снега одолел горы и застал Петрарку в Парме, услышал его голос, поцеловал его руки и голову и три дня был рядом с ним. Те, кто не понимал, зачем он, слепой, совершил этот непосильный путь, услышали в ответ: «Я созерцаю его духовными очами». В этой атмосфере поклонения искусствам и наукам и созидалась культура Ренессанса — золотой фонд европейской и мировой культуры. Кто-то может возразить, что учитель — это все же интеллигент и поэтому его поклонение не доказывает народности истоков ренессансной культуры. Но не меньший восторг вызывал Петрарка у людей, не умеющих читать и писать. Один ремесленник в городе Бергама умолял Петрарку осчастливить его дом посещением, и, когда Петрарка согласился, бедняга чуть не лишился рассудка от радости… Эти исторические анекдоты (анекдоты, потому что отражают нечто для сегодняшнего сознания курьезное) убедительнее трактатов гуманистов говорят о духовной атмосфере, в которой раскрывалось человеческое сердце при зарницах великой эпохи. Во всем этом было что-то театральное, но театральное в том высоком смысле, когда театр становится жизнью. Всю эпоху Возрождения можно увидеть в образе театра — театра как жизни, а наступившая за ней эпоха барокко это — жизнь как театр. Бессмысленно устанавливать шкалу ценностей. Стили рождаются не людьми, хотя созидаются, разумеется, ими. Стиль — выражение духовной жизни народа и человечества в их непрестанном развитии. Ренессанс — театр как жизнь. Барокко — жизнь как театр. Первым дал обоснование Театра Жизни Шекспир в пьесе «Как вам это понравится» в монологе Жака. «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той…» Известно, что над входом в шекспировский «Глобус» висела надпись, которая объясняла современникам Шекспира, что они сами — действующие лица Театра Жизни. Любопытно сопоставить конные памятники Ренессанса и барокко. Это сопоставление в нашем повествовании тем оправдано, что мы помним: самым большим замыслом — трагически неосуществленным — Леонардо был конный памятник кондотьеру Франческо Сфорца. Но были осуществлены замыслы конных памятников Донателло и учителя Леонардо Верроккьо. В конных памятниках Ренессанса все целесообразно, содержательно изнутри. В конных памятниках барокко захватывают воображение пьедестал, величие позы, аллегории. Это более красиво и менее подлинно. В жизни страшно оказаться под копытами коня кондотьера Ренессанса. Защищенней чувствуешь себя под сенью этой помпезной и нестрашной красоты барокко. Если верить искусствоведам, то человечество в художественном развитии, начиная от наскальных рисунков на стенах пещер, все время что-то утрачивает. Мне кажется, что сами эти утраты говорят о неисчерпаемом богатстве человеческого духа, и не стоит чересчур строго относиться к той эпохе, которая в чем-то не соответствует нашему пониманию красоты или естественности. В XIX веке, отмечает исследователь барокко Александр Клавдиевич Якимович, даже Стендаль и Буркхардт недоумевали, как могли мастера семнадцатого века создавать всерьез весь этот «дурной театр», эти балетные позы, актерские жесты, как они могли любить такую безвкусную и чрезмерную напыщенность, далекую и от благочестия, и от человеческого достоинства? Но в том-то и дело, что в самом естестве барокко заложено актерство, театр, игра. Поэтому судить о его «искусственности» надо осторожно… Ренессансу не удалось создать новый, более человечный мир. На излете его запылали костры инквизиции, за последним «актом» Ренессанса шел один из самых жестоких веков в истории человечества — век религиозных войн. Варфоломеевская ночь была пострашнее «Страшного суда» Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. Пока великие художники Испании Веласкес, Мурильо и Сурбаран писали на полотнах очаровательных женщин, очаровательных женщин в жизни вели в шутовских колпаках на костры… Иногда кажется, что «красивейшее» барокко помпезно и меланхолично хоронило то, что было воскрешено и осознано как новорожденное в Ренессансе. Иногда кажется, что барокко — дитя разочарования, героическая попытка подняться над хаосом, в который перевоплотилась гармония, возвысить хаос до эстетической категории ценностей. Иногда кажется, что театр как жизнь лучше жизни как театр. Это казалось и Сент-Экзюпери, когда он тосковал в «искусственной» цивилизации XX века, в этом «технократическом барокко». Стили меняются. А улица остается улицей, а повседневность остается повседневностью. Культура не умирает. *** Джотто. Данте Алигьери. Филиппо Липпи. «Коронование мадонны» (фрагмент). Рафаэль. Автопортрет. Антонио Поллайола. Женский портрет. Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты в Падуе. Джулиано да Сангалло. Вилла Медичи в Поджо-а-Кайано.