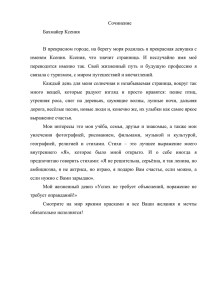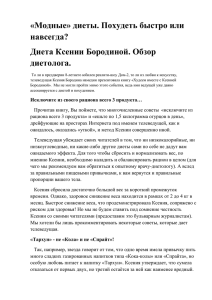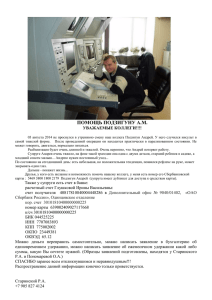Из книги Монологи от Сердца. Омск : Изд. дом “Наука”
advertisement
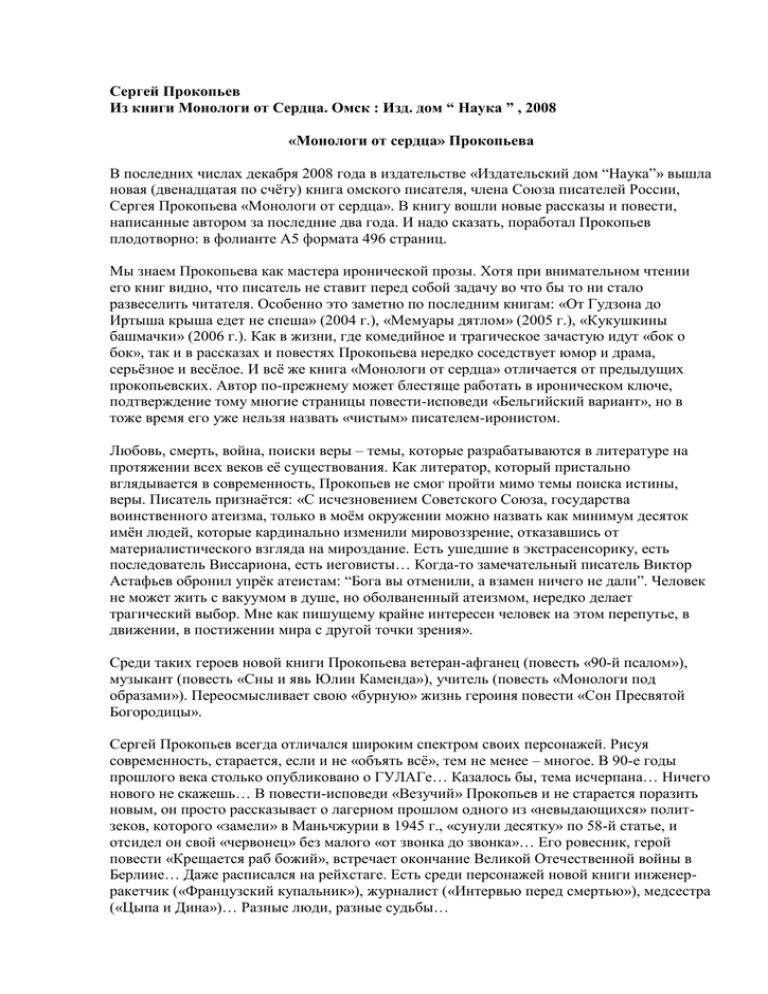
Сергей Прокопьев Из книги Монологи от Сердца. Омск : Изд. дом “ Наука ” , 2008 «Монологи от сердца» Прокопьева В последних числах декабря 2008 года в издательстве «Издательский дом “Наука”» вышла новая (двенадцатая по счёту) книга омского писателя, члена Союза писателей России, Сергея Прокопьева «Монологи от сердца». В книгу вошли новые рассказы и повести, написанные автором за последние два года. И надо сказать, поработал Прокопьев плодотворно: в фолианте А5 формата 496 страниц. Мы знаем Прокопьева как мастера иронической прозы. Хотя при внимательном чтении его книг видно, что писатель не ставит перед собой задачу во что бы то ни стало развеселить читателя. Особенно это заметно по последним книгам: «От Гудзона до Иртыша крыша едет не спеша» (2004 г.), «Мемуары дятлом» (2005 г.), «Кукушкины башмачки» (2006 г.). Как в жизни, где комедийное и трагическое зачастую идут «бок о бок», так и в рассказах и повестях Прокопьева нередко соседствует юмор и драма, серьёзное и весёлое. И всё же книга «Монологи от сердца» отличается от предыдущих прокопьевских. Автор по-прежнему может блестяще работать в ироническом ключе, подтверждение тому многие страницы повести-исповеди «Бельгийский вариант», но в тоже время его уже нельзя назвать «чистым» писателем-иронистом. Любовь, смерть, война, поиски веры – темы, которые разрабатываются в литературе на протяжении всех веков её существования. Как литератор, который пристально вглядывается в современность, Прокопьев не смог пройти мимо темы поиска истины, веры. Писатель признаётся: «С исчезновением Советского Союза, государства воинственного атеизма, только в моём окружении можно назвать как минимум десяток имён людей, которые кардинально изменили мировоззрение, отказавшись от материалистического взгляда на мироздание. Есть ушедшие в экстрасенсорику, есть последователь Виссариона, есть иеговисты… Когда-то замечательный писатель Виктор Астафьев обронил упрёк атеистам: “Бога вы отменили, а взамен ничего не дали”. Человек не может жить с вакуумом в душе, но оболваненный атеизмом, нередко делает трагический выбор. Мне как пишущему крайне интересен человек на этом перепутье, в движении, в постижении мира с другой точки зрения». Среди таких героев новой книги Прокопьева ветеран-афганец (повесть «90-й псалом»), музыкант (повесть «Сны и явь Юлии Каменда»), учитель (повесть «Монологи под образами»). Переосмысливает свою «бурную» жизнь героиня повести «Сон Пресвятой Богородицы». Сергей Прокопьев всегда отличался широким спектром своих персонажей. Рисуя современность, старается, если и не «объять всё», тем не менее – многое. В 90-е годы прошлого века столько опубликовано о ГУЛАГе… Казалось бы, тема исчерпана… Ничего нового не скажешь… В повести-исповеди «Везучий» Прокопьев и не старается поразить новым, он просто рассказывает о лагерном прошлом одного из «невыдающихся» политзеков, которого «замели» в Маньчжурии в 1945 г., «сунули десятку» по 58-й статье, и отсидел он свой «червонец» без малого «от звонка до звонка»… Его ровесник, герой повести «Крещается раб божий», встречает окончание Великой Отечественной войны в Берлине… Даже расписался на рейхстаге. Есть среди персонажей новой книги инженерракетчик («Французский купальник»), журналист («Интервью перед смертью»), медсестра («Цыпа и Дина»)… Разные люди, разные судьбы… В заключение хочется сказать, что в «Монологах от сердца» Прокопьев продолжает удивлять уровнем достоверности своей прозы, умением писать «как в жизни», способностью донести до читателя нерв быстротекущего времени. Новую книгу Сергея Прокопьева «Монологи от сердца», как и другие его книги, можно приобрести в сети магазинов «Омский книготорговый дом»: «Пятёрка», Герцена, 38; «Мысль», Б. Хмельницкого, 162; «Наш друг», Красный путь, 80 (ост. Водников); «Учебная литература», 24-я Северная, 165; «Слово», Волкова, 9; «Книги», Волховстроя, 90 (городок Водников). Представляя новую книгу Сергея Прокопьева «Монологи от сердца», даём её содержание, «От автора» и две повести: «90-й псалом» и «Сон Пресвятой Богородицы», рассказы «Оброненный билет», «Интервью перед смертью». СОДЕРЖАНИЕ ПОВЕСТИ 90-й псалом Сон Пресвятой Богородицы Крест для родителей МОНОЛОГИ Бельгийский вариант Монологи под образами Сны и явь Юлии Каменда Везучий Крещается раб Божий Нежеланная Ирэн Два баяна РАССКАЗЫ Рукомойник Оброненный билет Интервью перед смертью Диспуты из детства Лёнюшка Любовь из сора Странносторонний треугольник Французский купальник Дед Семён Цыпа и Дина Мама-мачеха МОНОЛОГИ ОТ СЕРДЦА ОТ АВТОРА Этой книгой разочарую тех, кто ищет в моих рассказах и повестях только иронию. Она имеет место и на этот раз, но далеко не на всех страницах, лишь там, где её присутствие диктуется логикой развития сюжета. Пожалуй, лишь рассказ «Два баяна» выполнен от начала до конца в ироническом ключе. Любителей этого жанра в моём «исполнении» обещаю порадовать следующей книгой, над ней работаю, а пока написалось несколько иное. Один из разделов книги назван «Монологи». Монологическая форма повествования имеет свои «за» и «против», она хороша тем, что даёт возможность в исповедальной форме, «без авторского вмешательства» рассказывать героям о себе. Эта обнажённость позволяет придать повествованию пронзительную тональность. И если материал просился к такому изложению, он писался от первого лица. Георгий Филиппов (повесть-монолог «Везучий») в 1945 году был арестован в Маньчжурии на станции Хайлар Восточной Китайской железной дороги, осуждён по 58-й статье, более девяти лет был узником ГУЛАГа, а это унижения, каторжный труд на лесоповале и в шахте, полное истощение… И вдруг почти чудесное освобождение, первым из политзеков лагеря. Огромную жизнь прожил человек (Маньчжурия, лагеря, Омск, разбросанность семьи – брат и отец из Хайлара уехали в Австралию), на себе испытал противоречия жестокого двадцатого века. Рассказывая в повести о себе, видит давно ушедших людей, воскрешает в памяти события прошлого… Говорят, что в капле воды отражается море. Так и эпоха, она отражается в жизни каждого из нас… «Бельгийский вариант» – откровенный монолог женщины, которую перестройка «выталкивает» в Бельгию с фиктивным мужем. Обретена свобода от идиотизма «времени перемен», но возникает несвобода от ставшего не фиктивным мужа... В стране, куда поехала в естественном стремлении к счастью, душевному равновесию, приходится пройти через «тернии» семейной жизни. При этом судьба сталкивает в Брюсселе с соотечественниками, что тоже ищут в Европе лучшей доли. «Монологи под образами» – исповедь женщины, пришедшей к Богу с «чёрного хода». Разрушающее воздействие тёмных сил на любимых людей заставляет в корне пересматривать материалистическое мировоззрение, искать защиту в молитве к Богу… Воцерковление – одна из тем книги. Герой повести «90-й псалом» воевал в Афганистане. Через двадцать два года, будучи в госпитале, пытается понять, что его берегло в течение двух лет под пулями? Как сумел вернуться из этого пекла, где каждый день мог стать последним? Кто-то из роты демобилизовался, кого-то перевели в другую часть, но в общей сложности их «точка», что находилась на трассе Кундуз – Файзабад у городка Тулукан, отправила грузом «двести» в Советский Союз за два года как раз роту. Начиная с командира и кончая рядовыми. Музыкант Юлия («Сны и явь Юлии Каменда») – человек по большому счёту далёкий от церкви, но наделённый даром горячей молитвы, который проявляется в критических ситуациях. Покаянно переосмысливает свою жизнь Ксения («Сон Пресвятой Богородицы»). Не так просто совладать ей со страстями, если вообще удастся что-то сделать, но движение началось… Герой рассказа «Диспуты из детства» пытается понять, что повлияло на его мировоззрение, где и в какой момент жизни атеистическое воспитание «дало трещину», что в конечном итоге привело к Богу? Как-то подумал: я становлюсь «историческим писателем». Стимулом к работе зачастую является история того или иного человека. Собственно, жизнь и судьба каждого человека – это важнейшая составляющая времени, составляющая века. Стоит изъять человека из эпохи, и она исчезнет. Всё идёт через человека… Мария Никандровна, героиня повести «Крест для родителей», на закате жизни вспоминает город своего детства и юности, русский город в Маньчжурии – Харбин. Он, несмотря на революцию 1917 года, японскую оккупацию, жил (как и все станции КВЖД, многие десятки сёл и деревень Маньчжурии) русским укладом до середины пятидесятых годов. Затем под воздействием китайской цивилизации Харбин начал утрачивать свою неповторимость, разъехались русские харбинцы. Однако ещё стоят православные кресты на кладбище, ещё возжигают около них свечки, таинственным образом жива русская душа Харбина. Мария Никандровна, человек пожилой, одинокий, снова и снова воскрешает картины прошлого. В Харбине осталось солнце детства. В Харбине похоронила родителей. Почти полвека носила в душе занозу – как там осиротевшая могила? И лишь на закате своей жизни увидела фотографию памятника, крест к которому несла когда-то на плече через полХарбина. Повесть родилась из долгих телефонных разговоров с харбинкой Марией Николаевной Тепляковой. В течении двух лет мы время от времени звонили друг другу, я слушал-слушал… Сначала из любопытства, а потом «замкнуло», начал целенаправленно расспрашивать, уточнять детали… Всего один раз довелось побывать в гостях у Марии Николаевны, там познакомился с её земляками, тоже «китайцами», тоже из Маньчжурии: Георгием Михайловичем Филатовым – человеком интересной и трагической судьбы и его женой – замечательной Наталией Иннокентьевной. Напросился на беседу… Встречались мы несколько раз, но та самая первая встреча (правда, длилась она более восьми часов) стала определяющей в решении написать повесть-исповедь, повесть-монолог, о которой говорил выше и которая получила название «Везучий»… Прошлым летом родственница полушутя обронила: «Почему обо мне не хочешь написать?» Я дежурно поулыбался: «Надо подумать». Она тут же поведала несколько эпизодов из своей биографии, и я «сделал стойку», начал напрашиваться на обстоятельную беседу. Так появился рассказ-монолог «Нежеланная». Скромный по объёму. Но что такое линия судьбы человека? Ряд узловых точек, ряд определяющих, поворотных событий. Рисуя жизнь, можно неспешно двигаться от «точки» к «точке», а можно пролететь на одном дыхании. Это не значит – в последнем случае повествование поверхностное. Если за краткостью не утрачен нерв описываемой судьбы, если она берёт за живое, значит, автор не зря водил ручкой по бумаге или терзал клавиатуру компьютера. Хотелось бы, чтобы не зря… ПОВЕСТИ 90-й ПСАЛОМ Своего Дня Победы у ветеранов афганской войны не имелось. Ругай матерно бумажных стратегов из московских штабов, не ругай – делу не поможешь. Но у тех, кому довелось воевать по приказу свыше, и по воле Создателя вернуться живым – повелось собираться 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, завершения этой не ахти какой славной кампании. Встречались в девять утра у кафедрального собора, стояли на службе, потом ехали по кладбищам, где похоронены собратья по оружию, и в завершении – поминальный обед. 15 февраля 2004-го событие подошло к юбилею – пятнадцать лет. Панихиду по убиенным служил митрополит. Процентов на восемьдесят в храме стояли мужики. Были холёные, хорошо, даже очень, одетые. А кто-то в потёртой курточке с похмельными глазами. Много женщин в чёрных платках – матери погибших. Седой старик попросил женщину, что торговала свечами: «Дочка, найди внука». Назвал фамилию. На северной стене храма висели три мраморных доски с именами погибших афганцев. Женщина взяла длинную свечу, как указкой, привстав на цыпочки, показала нужную старику строчку. «Внук», – повторил он. Панихида шла к завершению, когда появились двое колясочников, им дали дорогу поближе к амвону… Потом митрополит поехал с афганцами по кладбищам. Возвращаясь после поминального обеда по темноте, Андрей Левко, «окопный» афганский стаж исчислялся с 1981 года по 1983-й, купился на элементарную мякинку. «Как лох гражданский!» – смеялся в госпитале. Подленький фокус не удался бы клоуну с камнем за пазухой ни через год после возвращения Андрея из Афганистана, ни через два. В первое время у жены – его дорогой, терпеливой, любимой Олюшки – прорывалось: «Ты как затравленный волк!» Вечером пойдут прогуляться, машина из боковой улицы выскочит, или резкий звук откуда-то, или кто-то появится из темноты, Андрей тут же напрягался. В гостях, тем более в кафе, так садился, чтобы за спиной никого, но сам видел всех. Делал это спокойно, машинально, за собой ничегошеньки не замечал, будто так и должно быть. Казалось, каким был до Афгана – таким остался. «Брось городить! – не без раздражения перебивал жену. – Чего бы изменился!» Но случалось, что уж тут скрывать, – ловил себя, как мгновенно реагирует на резкий звук за спиной, а по руке молнией проскакивает въевшийся во все поры импульс – схватить автомат. Давным-давно нет стрелкового оружия под боком, а поди ж ты… Впервые автоматный казус случился в хоровом исполнении. Только-только навсегда пересекли воздушную границу с войной, прилетели в Ташкент. Возбуждённые – теперь уж точно живыми вернулись!.. Взлетев с аэродрома в Кабуле, суеверно побаивались думать: «Всё! Конец войне!» Как и лётчики, которые поздравили по громкой связи с возвращением на Родину лишь в момент, когда самолет достиг территории Советского Союза. Вчетвером, все из их дивизии, мчались на такси по Ташкенту, вдруг по крыше «Волги» ударила ветка, и все разом, как по команде, дёрнулись за отсутствующими автоматами. И тут же разом, опять же – как по команде, расхохотались. И не могли остановиться в смехе. Безудержно всю дорогу гоготали над собой, ржали над мнимыми страхами, над этой засевшей в мозгах заряженностью на опасность. «Во дурни! – повторял старший лейтенант из третьей роты. – Куста на ровном месте забоялись!» Андрей шёл с автобусной остановки домой после встречи в Доме офицеров. Конечно, выпили, конечно, подняли третий тост с перехваченным горлом за погибших… За длинным столом слева от Андрея сидела женщина лет шестидесяти, перед ней фото сына в парадной форме. «Витя курсы водителей от военкомата окончил, – рассказывала, вытирая слёзы, – возил топливо в Афганистане». Тактику душманов в отношении «наливняков» Андрей прекрасно знал. В растянувшейся гусенице колонны КамАЗы или «Уралы» с горючим норовили подбить в первую очередь. Подкладывая Андрею в тарелку винегрет, женщина приговаривала: «Как Витенька любил винегрет! Только без зелёного горошка. Наделаю целую кастрюлю, за один присест слупит…» Кто-то за столом, напившись, не стесняясь, плакал… Кто-то, наливаясь водкой, наполнялся злобой. В конце коридора перед дверью в туалет Андрей увидел картинку: мужик лет сорока пяти с Красной Звездой на светлом пиджаке, со стеклянным взором стучал по подоконнику кулаком-оковалком и заведённо повторял: «ВДВ! ВДВ! ВДВ!» И тут же, резко переключаясь, зло твердил по другому адресу: «Суки! Суки! Суки!» Возвращался домой Андрей с болью и тоской в душе. Знал, теперь, как минимум на месяц, пойдут мучительные сны. Обязательно приснится Валентин Скоробогатов. Десять месяцев воевали бок о бок, жили в одной землянке. Валентин родом из Ачинска. Танкист. Обещал, когда отвоюют, устроить медвежью охоту. «Дядька в Чёрной Речке, ростом метр с кепкой, с первого взгляда кажется – соплёй со ста метров перешибёшь, а он первый медвежатник на весь район. Медведей своих считал до четвёртого десятка, потом сбился. Обязательно съездим с ним в тайгу чернореченскую». Танковая рота стояла в Тулукане. Один из оплотов Советской Армии в тягучей войне без линии фронта. Сводный танковый батальон был разбросан по «точкам». Первая рота стояла в Тулукане, здесь располагался штаб батальона, вторая – в Кишиме, третья – поначалу в Ханабаде. А потом её перевели в Кундуз, охранять аэродром. Первые две роты обеспечивали проводку колонн машин по участку в 150 километров в сторону Файзабада. К этому последнему оплоту перед Пакистаном и шли караваны. Дивизия стояла в Кундузе, на плато, дальше дорога забирала вверх, в горы. Их «точка» обеспечивала проводку на участке в 70 километров. Из Союза идёт колонна с горючим, продовольствием, боеприпасами и всяким-разным армейским скарбом, необходимым для жизнеспособности театра военных действий. Задача роты провести колонну на своём отрезке дороги и с наименьшим количеством потерь передать следующему подразделению. Обезвредить мины, отбиться от засад. Ни разу моджахедам не удавалось полностью уничтожить караван, на это кишка была тонка, но и ни разу не обошлось без боестолкновений. Нередко теряли по пять машин в одну сторону и столько же при возвращении колонны. Ну и человеческие потери… Он был старшиной роты. Одна из его обязанностей – это вывоз с боя убитых и раненых – «двухсотых» и «трёхсотых». Их подбором при следовании колонны занималась свободная рота. Если первая вела караван в сторону Кишима, то кишимская вывозила потери, и наоборот, если вторая обеспечивала прохождение в сторону Тулукана. В этом случае Андрей ждал на «точке» приказа: «Вывозить раненых!» Для чего выделялось два БМП и танк. Случалось, колонна попадала в такой переплёт, что набивали этот транспорт под завязку, а то и не хватало места за один раз увезти. Как-то из Файзабада порожняком шла колонна, и так зажали под Кишимом, двадцать человек погибло, восемь разорвало – страшно смотреть. Руки, ноги, куски… Бой идёт, они подлетели раненых, убитых вывозить. Обычная тактика в таких случаях – ударить из всех стволов по духам, заставить вжаться в камни, хотя бы на краткое время заткнуть их пулемёты и автоматы. Дать возможность забрать потери. Счёт идёт на минуты, знай поворачивайся, таская раненых, подбирая всё от убитых в простыни, брезент… На «точке» Андрею распределять, где чьи останки, писать для каждых записку перед отправкой в Кундуз, там готовили «двухсоте» для «Чёрного тюльпана». Собирали в бою фрагменты чаще с фельдшером, солдат, особенно молодых, при виде кровавых, обгорелых кусков, вскрытых внутренностей выворачивало… Поэтому Андрей сам формировал «кульки», солдатам приказывал лишь грузить их в БМП, дефицит времени требовал скорости… Старались забирать всё, но чтото могло и улететь… А сколько смертей нелепых, страшно обидных… И тогда на «точке», развернув брезент, выстраивал солдат-салаг вокруг окровавленных трупов и пытался достучаться до чувства самосохранения. «Зачем он высунулся из люка? Идёт бой, он механик-водитель, в любой момент жди приказа развернуть танк, отъехать в укрытие, или наводчику не видно из-за дерева... Выполняй свои обязанности. Нет, ему стало скучно, высунулся из люка посмотреть. Он же знает, танк стреляет прямой наводкой, дуло опущено. Нет, вылез! Дуло поворачивается – и он без головы…» Андрей заводился от вида по глупости погибших ребят, совсем пацанов, кричал на живых, чтобы не легли вот также на брезент. Из-за дурацкой сигареты, из-за детского любопытства. «Сколько раз вас предупреждал: ни на секунду не расслабляться! Вот он, Антонюк, лежит! Что ему надо было? Зачем вылез на броню? Скажите?» Задавая вопросы о причинах смерти не за понюх табаку, требовал ответов, пусть засядет в мозгах кровавой меткой, пусть отпечатается жутким видом погибших товарищей, с которыми утром сидели за одним столом, чтобы не повторили чужих неисправимых ошибок. Но повторяли… «Правильно, надо было головой думать! Бой затих, отбились, моджахеды уходят. Забирайся в БМП и отдыхай! Ему невтерпёж посмотреть. Ну, глянь в триплекс. Нет, с брони виднее. И подставился снайперу. Эти флегматики часами могут сидеть и ждать ротозея! Не верьте тишине на операции!» Антонюка привезли на «точку» живым. И вдруг умирает. «Миша, сердце останавливается!» – крикнул Андрей фельдшеру. Тот ставит прямой укол в сердце. Не помогает. И не видно, куда ранило? Грудь, спина, голова – никаких следов. Руку левую подняли… Пуля снайпера попала под мышку... Было и такое: снимают раненому гимнастёрку, брюки – чисто, ни одного пятнышка. А он кончается… Снимают трусы… В мошонку вошла пуля. Китайского производства, калибр 5,45, со смещённым центром тяжести. Крутится в теле… Как кипела в нём злость, когда прилетали за ранеными и убитыми, а моджахеды успевали в суматохе боя изуродовать ножами труп, а то и не только труп... Подбили бензовоз, дымища, гарь, ничего не видно, духи вынырнули с обочины в советской форме, оттащили труп, отхватили уши, нос, отрубили кисти рук и голову – восточный бизнес. Однажды раненого без сознания схватили, но наши вовремя заметили, пустились в погоню, моджахеды, тоже в советской форме, на ходу успели отрезать уши, чтобы сдать за оплату… А как бывало сложно определить принадлежность обезглавленного тела… Андрей однажды проговорился жене, потом ругал себя. По какому-то поводу заспорили, он бросил: «Да что тело? Спал рядом с человеком полгода, а без головы... Вроде Саня, очень похож, мощный был парень, старлей, но не могу точно сказать. И никто не уверен до конца… Потом всё же решили – да, это он…» Гробы были с окошечком напротив лица, а были и без. Тогда военкомату шло уведомление «без вскрытия». Андрей как-то занялся подсчётами, вышло, что за два его афганских года погибших у них в батальоне как раз на батальон набралось. Погиб командир батальона, зампотех, гибли командиры рот, взводов, старшины, солдаты. Комбат, капитан Вениаминов, погиб через два месяца, как принял батальон. Просили его не садиться в БМП. Нет: «Я должен видеть, куда вас веду!» Не сел в танк. И на фугасе подорвались. Скорее всего – управляемый. В рисовом поле сидел в ямке душман и сёк, что и как. Танк пропустил и соединил контакты, когда подошёл БМП... Из семи человек только командир взвода остался жив. Он не доверил механику-водителю комбата, сам сел за рычаги. Участок был из миноопасных, без асфальтового покрытия. Летели на скорости на случай фугаса, чтобы взрыв пришёлся вскользь на корму, и весь урон – швырнул БМП вперёд. Рвануло посредине. Башня метров на десять отлетела. Командира взвода выкинуло из люка. Как огурец из банки вылетел. Кожу от затылка до пояса сорвало вместе с одеждой, как и не было. Кровавое мясо на спине. Думали: всё... Нет, дышит. Андрею показалось и комбат живой. Подбежал к нему, переворачивает, а из горла придушенный стон. С таким не раз сталкивался, голосовые связки трупа, когда ворочаешь его, издавали звуки похожие на хрип. У капитана был расколот череп, умер мгновенно. В самый первый день Андрея на «точке» пятерых воинов отправили в Кундуз, оттуда на «Чёрном тюльпане» навечно домой: старшину, сержанта и троих солдат. Одни погибали, на смену присылали других. Такая «ротация». Уезжали домой отслужившие, и не было месяца без потерь. И как уж там статистики насчитали за все годы войны всего пятнадцать тысяч погибших?.. Боевой кулак Тулукана – тринадцать танков Т-62, два БМП-2, батарея артиллерии – три орудия, мотострелковый взвод, сапёры. Из живой силы порядка ста бойцов. В Тулукане располагался штаб батальона. Практически каждую неделю они проводили колонну. Сначала в направлении Файзабада, а дня через три она порожняком двигалась обратно. На свой участок дороги выдвигались заранее. «Проверим духов на вшивость!» – неизменно говорил Валентин. Сапёры исследовали дорожную колею, особенно участки без асфальтового покрытия, корректировщик давал цели артиллеристам – те с «точки» обрабатывали «узкие» места… Затем принимали колонну от соседей и вели её… Иногда колонна ночевала на плато у Тулукана... Во главе каравана ставили машины с боеприпасами: если что случится у них с двигателем или с колёсами, танк берёт на крюки и тащит. Излюбленные цели душманов – наливные машины. Эти бомбы на колесах. Их распределяли по всей колонне. Подожгли – надо убрать танком с колеи, столкнуть. Только бы не возник затор. Что полная цистерна, что пустая горит со страшной силой. Подобьют, главное – людей спасти, пылающее железо быстрее на обочину. Не останавливаться. Тормознулись, стоячих мишеней – стреляй не хочу. В колонне пятьдесят и более машин. Плюс бронетехника сопровождения. Автоцистерны горели бушующим чадящим пламенем. Зрелище огня, дыма до неба давило на психику. Поэтому душманы в первую очередь целились в бочки с горючкой, дабы создать сумятицу, сломать порядок движения, застопорить колонну и работать по ней из крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов, щёлкать воинов из снайперских винтовок… …Танк Валентина прикрывал арьергард каравана. За что и подбили. Шли из Тулукана в Кундуз. Примерно на средине дороги самое партизанское место – гора, дорога огибает её, а сразу за поворотом на склоне метрах в ста от шоссе «зелёнка». Пологий участок с арыком, по берегам полосой заросли. Из них душманы ударили. Относительно удачно для танкистов – в гусеницу попали. Танк обезножел. Душманы не те партизаны – напакостить и умыть руки. Знали: колонна из-за одной бронеединицы не остановится, можно воевать до лёгкой победы, прикончить экипаж. Стали подбираться вплотную. Валентин руки вверх не поднял, прямой наводкой долбит моджахедов. Наводчика не брали в экипаж: зачем лишним человеком рисковать. Командир сам вёл стрельбу. По грудь высунулся из люка, крышку вертикально поставил и посылает один за другим жаркий привет от советских воинов. Ход предстоящего боя противник, устраивая засаду, нарисовал загодя. В рисовом поле, что тянулось с другой стороны дороги, залёг стрелок – а может, не один – с винтовкой Бур. Знатная машинка. Созданная в девятнадцатом веке в Англии, она использовалась англичанами в Африке в англо-бурской войне в 1899–1902 годах. Потом её не раз модернизировали. Калибр 7,7. Были варианты патронов с дымным порохом и бездымным. В Афгане попадались самые разные модели. Немало винтовок осталось ещё с англо-афганской войны. Убойная сила жуткая. Прицельная стрельба – более километра. Бронежилеты пуля из Бура пробивала на раз. Да что бронежилеты, случалось – вертолеты сбивали. Из такой винтовки ранили Валентина. Грудь и голову крышка люка защищала, а спина, как в тире… Стрелок, может – лёжа, может – с колена, а может – поднялся с рисового поля и совершенно спокойно, был в полной безопасности, времени прицелиться достаточно… Пуля играючи пробила тело. Рядом с сердцем прошла, чуть бы влево, и всё закончилось ещё там... Момент ранения совпал с выстрелом пушки. Теряя сознание, командир рухнул внутрь танка, в это время пушка делает откат, нога оказывается в этой зоне, её ломает пушкой, как спичку… На выручку Валентину примчались Андрей с ротным Валерием Доброхотовым на двух танках и БМП. Но не сунешься на простреливаемый участок. Душманы и не подумали утихомириться, уйти в горы с прибытием подмоги для раненого танка, наоборот – перенесли огневую мощь на новые цели. Танк к тому времени перестал быть грозным оружием. Гора железа. Заряжающий передал: механик убит, Валентин дважды тяжело ранен. Самую малость осталось душманам поднажать и праздновали бы победу, отрезая головы танкистам в качестве вещдококов для получения премиальных. И вдруг появляются ещё одни желающие забрать экипаж. Обозлились моджахеды – жалко терять верный заработок, с горы из пулемётов, автоматов поливают, с рисового поля стреляют, устроили котёл, как из него вызволить экипаж? Решение припылило со стороны Тулукана в виде двух лёгких грузопассажирских «тойот». Открытый кузов с низкими бортами в каждой машине был под завязку набит мирным населением. Афганцы придумали приспосабливать «японцев» под пассажирские перевозки. Ставили на борта металлические дуги, за которые пассажиры держались во время движения. В результате модернизации получался вместительный салон для неприхотливых местных жителей. А куда аборигенам деваться? Выбирать из транспортных услуг приходилось между автопёхом по жаре, лошадью и автомобилем. Железной дороги в отсталой стране нет, воздушный флот между деревнями не летает. Ротный скомандовал Андрею остановить афганские машины и максимально задействовать местный гражданский материал. «Кто будет сопротивляться – стреляй!» Пассажиры по требованию Андрея сошли на землю. Под автоматом Андрей начал строить живой щит. Какая тут гуманность, когда душманы ждут не дождутся, как говорилось выше, обезглавить танкистов или хотя бы уши, носы обрезать и утащить для заработка. Пулемёты на горе нехотя смолкли на военную хитрость с человеческим фактором, автоматы утихли. В щите были дети, бородатые мужики, женщины в паранджах. Андрей и ротный ради друга шли на всё, ставили живое прикрытие без разбора на возраст и пол. Подобрались к танку, ротный посадил туда наводчика, скомандовал: «Бей по ним, снарядов не жалей». Танк ожил огнём. Под его прикрытием и под сенью живого забора начали раненых и убитого транспортировать. Афганские пулемёты и автоматы молчали, но из винтовок, несмотря на наличие соотечественников на линии огня, душманы начали стрелять. И с «зелёнки», и с рисового поля, со стороны которого живой защиты не было. Андрей с Доброхотовым не догадались о наличии второго фронта. Валентину, пока тащили его в бессознательном состоянии, опять досталось – снайпер угодил в руку. Ротному попало в ногу. Андрею пуля чиркнула по бедру. Только и всего – брюки продырявила. В Кундузе другу сделали операцию, пуля прошла в миллиметрах от сердца. Собрали ногу, сломанную родным танком, укрепили аппаратом Илизарова, дабы кость нарастить до прежних размеров, извлекли пулю из руки. Госпиталь палаточный. Реанимация – такая же палатка, только сверху каркас деревянный, в двери окошко, стеклом забранное. Андрей постучал, друг увидел, улыбнулся, помахал слабой рукой. «Ещё повоюем, братишка, попляшем!» – сказал в стекло Андрей. В Валентина что-то вливалось из капельницы. Андрей показал большой палец: молоток! И вернулся в хорошем настроении в роту на вертолёте, надо был доставить на «точку» кое-что из провианта. Через два дня столкнулся у землянки с Доброхотовым. Тот шёл сам не свой. – Валера, что случилось? – Да голова раскалывается, – отвёл глаза ротный и не выдержал... – Валентина больше нет. – Что ты сказал? – подался к нему Андрей. – Что ты сказал?! Повтори!! – Валентин умер! – Как умер? Не может быть?! Его перевели из реанимации в общую палату, и вдруг кричит: «Мне плохо!» Сердце останавливается. Ставят прямой укол в сердечную мышцу. Не помогает. Врачи без понятия – в чём причина? Богатырь, столько операций перенёс... При вскрытии оказалось – тромб закупорил сердечный клапан. Валентину оставалось всего две недели до отправки в Союз. Мог бы поберечься, не ехать на операцию. Таких жалели. По возвращении домой он собирался жениться. На той свадьбе Андрей мечтал погулять за всю роту. Ему как раз предстоял отпуск. Ребята уже обдумали, что подарить молодожёну – видеомагнитофон японский. В 1982 году это была большая редкость. Договорились скинуться, и на чеки Андрей купит. Кроме того, порешили чайный сервиз на двенадцать персон вручить от всех, в первую очередь для молодой жены. «Соберёмся у них в гостях и будем после водки чай пить!» – мечтал Валера Доброхотов. «Ты повезёшь Валентина домой, – сказал ротный, – у тебя скоро отпуск. Комбат не против». Валентин снился в двух повторяющихся сюжетами снах. Один: на базаре в Тулукане Валентин покупает апельсины и раздаёт мальчишкам. Так поступал в жизни. Приедут на базар, конечно, на БМП, а то и двух. Группой человек десять. Пока воины отовариваются, броники наготове, красноречиво говоря пушечно-пулемётным видом: сравняем с землёй всю торговлю, если что. Валентин всегда угощал вечно голодную местную пацанву. Купит килограммов пять апельсинов и раздаёт. Те рады-радёшеньки подаркам. Как он приезжал на базар, сразу сбегались… Случалось, какой-нибудь мальчишка на ухо предупреждал Валентина об опасности: «Мистер, туда не ходи». Значит, там кто-то мог быть из банды. Истина: делай добро, и оно к тебе вернётся тем же – в Афганистане не утрачивала силу… Пацанва тоже соображала: если «мистера» сегодня убьют, завтра угощения не жди. Когда Валентину говорили: «Корми-корми, а потом этот пацан тебе в спину из автомата засадит!» – он отмахивался или улыбался: «Может, этот как раз и не будет стрелять». Во сне Валентин был загорелый, белозубый… И неожиданно падает на гору апельсинов с ножом в спине. Андрей подхватывает его, кричит про вертолёт и госпиталь, несёт к БМП… На руках друг умирает… Во втором сне они охотились в заснеженной тайге. Вдруг из берлоги выскакивал медведь, Валентин вскидывает ружьё – оно заклинивает… И Андрея как парализовало – ни рукой, ни ногой пошевелить не в силах… Сны мучили, стоило разбередить душу воспоминаниями… Возвращаясь домой после юбилейной встречи с афганцами, Андрей понимал, теперь не обойтись без ночей, когда будет вскидываться с криком, а Олюшка успокаивать шёпотом: «Андрюша, ты дома, всё хорошо, спи». Но он обязательно поднимется, будет сидеть на кухне перед чашкой чая, отходя от увиденного во сне, не желая его повторения… Откуда вынырнул этот расхлябанный в шарнирах типчик в кепке с длинным козырьком – не заметил. Случись щекотливая ситуация после Афгана – не опростоволосился бы. За двадцать один год мирной жизни растерял окопную бдительность. Ночной незнакомец нарисовался как в киношной сказке. Трах-тебедох – и любуйтесь на туго обтянутую кожей рожицу. «Слушай, брателло, – из ничего возник паренёк, – дай закурить!» Андрей не успел сказать антиникотиновое: не курит и другим не советует, как последовал удар сзади. Просящий курево в оном не нуждался – играл подлую роль подставы. Андрей так и не понял: то ли успел инстинктивно уклониться, или бивший пропил твёрдость руки. Удар вышел вскользь. Череп остался цел. Но без сильного сотрясения не обошлось. Нашла потерпевшего Олюшка. Стало тревожно на сердце от долгого отсутствия мужа, позвонила по сотовому, вместо Андрея из трубки бодрое сообщение: телефон отключен или вне зоны приёма. Самое ценное на поживу грабителям при Андрее были – сотовый да сумма денег на пару пива. Ну, ещё два ордена – Красного Знамени и Красной Звезды. Олюшка занервничала, куда муж подевался из зоны приёма? Надела поводок на Чибу, чёрного пуделька, и на улицу. На Андрея наткнулась в двух кварталах от дома, валялся без сознания на детской площадке у деревянной скульптуры «Лесовичок». Вызвала «скорую», отвезла в больницу. Вернувшись домой, почти не спала, рано утром поехала к мужу. Андрей виновато улыбался, подмигивал, дескать: не дрейфь, мать, всё путём. Она принесла какую-то снедь, любимый Андреем сушёный чернослив, а также протянула мелко исписанный листок, запаянный полиэтиленом, и булавку: «Пристегни». И ещё дала тоненький, размером А6, молитвенник. Когда жена ушла, он отыскал 90-й псалом. «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…» Андрей не мог вспомнить ни того солдата, ни его мать. Олюшка подробно описывала женщину: «Как не помнишь? Среднего роста, лет сорока пяти, высокий лоб, красивые брови дугами…» Нет, не помнил, стёрлась из головы. Сколько было солдат и матерей за десять лет работы в учебке. Каждые полгода сто восемьдесят человек выпуска. На принятие присяги приезжало по пятьдесят и более родителей. «Она говорила на «о», – пыталась жена подтолкнуть его память, – из-под Горького приезжала, посёлок Шахунья». Саму ситуацию помнил. День будничный, кажется пасмурный. Поздно вечером вышел из части, торопился, но у КПП зацепил глазами женщину. Ту самую, что не мог потом восстановить в памяти. Она сидела на скамье, у ног сумка. Не сразу отреагировал, через месяц предстояло отправляться в Афганистан, голова загружена скорым отъездом. Прекрасно понимал: с его военной специальностью воевать придётся не в штабе. Сделал пару шагов мимо женщины, потом что-то заставило обернуться: – Что вы здесь делаете? – К сыну приехала, а уже, говорят, поздно. Может, вы его вызовете? Товарищ офицер, я всего на один день, завтра вечером домой… – Конечно, нет. Только что их уложил. – Андрей вознамерился идти дальше, но снова обернулся. – Где будете ночевать? – Вот здесь на лавочке и посижу, тепло ведь. У меня куртка есть. Андрей решительно взял сумку: – Пойдёмте к нам. Завтра рабочий день, но освобожу вашего сына, побудете с ним вволю. Жена приветливо встретила женщину. Случалось и раньше солдатским матерям ночевать у них. Втроём поужинали на кухне. Андрей пошёл смотреть телевизор, убавив звук до минимума – сын спал. А женщины на кухне пили чай. Гостья, узнав, что Андрею отправляться в места боевых действий, достала из сумки потёртый молитвенник, сказала жене: – 90-й псалом очень сильная молитва, обязательно будет беречь, перепишите, и пусть днём и ночью находится при нём. Днём и ночью, постоянно. И вы сами молитесь за него, каждый день, во что бы то ни стало… И рассказала про брата. Тому мать молитву перед отправкой на фронт в медальон вставила. До Праги в артдивизионе дошёл и всего с двумя ранениями. После первого в госпитале три месяца лежал, во второй раз и того меньше, боясь потерять своих: отказался от госпиталя. Начал воевать под Курском в 43-м. И первое крещение – попали под бомбёжку. Двигалась колонна к передовой, и вдруг налетели самолёты с крестами. Посыпались бомбы. Солдаты в разные стороны от дороги. Брат плюхнулся на землю, а вокруг светопреставление – гул, грохот, земля ходуном. Вдруг рядом как жахнет, уши заложило, брат понять не может – жив ли, нет, собирать руки-ноги или бесполезно. Когда стихло, поднял голову. Ездовые лошади побитые, бочка с водой перевёрнута, ящики с боеприпасами разбросаны, у ездового вся спина в крови, кричит истошно: «Перевяжите! Перевяжите!» Старшина в трёх шагах валяется – полголовы осколком снесло. А брат рядом с воронкой, рукой до края подать, лежит, и ни одной царапины. Попал в мёртвую зону взрыва. Осколки над ним прошли в ездового, лошадей и старшину. Всего-то и досталось – комья земли по скатке ударили… По сей день живой, чарку за Победу и погибших за неё поднимает… Накануне отправки в Ташкент Андрей по настоянию жены прочитал молитву с тетрадного листка в клеточку. Пытался вникнуть в текст, но ничегошеньки не понял. Жена сложила несколько раз листок, завернула в полиэтилен, при помощи утюга надёжно запечатала, подала вместе с булавкой: – Андрюша, пристегни к трусам. Гимнастёрку или брюки снимать будешь, а тут всегда при тебе. И перестёгивай каждый раз, как меняешь трусы. Христом Богом прошу: не забывай. Не забывал. Не всегда к трусам пристёгивал, носил в кармане гимнастерки. Но не расставался никогда. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него… Андрей медленно читал, смотрел в больничное окно, пытался вникнуть в смысл слов. Они были непонятны, и в то же время звучало что-то знакомое, будто этот ритм, эта мелодия сидели где-то глубоко-глубоко. Как вернулся из Афганистана, на второй день Олюшка попросила пойти с ней в церковь. «Надо поблагодарить Бога, – сказала, – поставишь свечки Богородице, Николаю Угоднику, а потом, если захочешь, постоишь со мной на литургии. Сможешь, крестись, когда я крещусь». Он совершенно не понимал, что и почему в службе. Разглядывал многоярусный иконостас. Слушал пение хора. Слушал женский голос, который с клироса оглашал объем храма молитвами. Из высоких окон лился солнечный свет. Поначалу какое-то время Андрей маялся, потом поймал себя на мысли: его не томит это, казалось бы, бесцельное пребывание в церкви, он не нудится необходимостью выполнить просьбу жены. Непонятный язык службы не раздражал, в нем было что-то отдалённо близкое… После службы Олюшка заказала благодарственный молебен. В церкви они остались одни из прихожан. Из алтаря вышел старенький седобородый священник. «Зачем вам?» – спросил. «Надо», – твёрдо сказала Олюшка. Батюшка посмотрел на неё долгим взглядом и согласно кивнул. Возвратившись из Афганистана, Андрей узнал: разнарядка была на Веню Самохвалова. Тоже прапорщик. Коммунист. Лозунг: «Коммунисты вперёд!» – тогда действовал, как в Великую Отечественную. Андрей не был членом партии. Но отправили на войну его. Из округа пришла разнарядка на двух человек. Ехать предстояло старшине роты сапёрного батальона Самохвалову и политработнику Стеклову. Был такой майор. Тот поступил категорично, бросил на стол командира части партбилет и ушёл из армии: «Я рос без отца, не хочу, чтоб и мои дети осиротели!» Веня поступил хитрее. Лет пять назад Андрей выгуливал Чибу по набережной и услышал своё имя, обернулся – Лена, жена Вени, догоняет. Поздоровались. Обменялись информацией о детях. Потом Лена повинилась, глядя в сторону противоположного берега: – Прости нас, Андрей, Веня должен был в Афган ехать. – Я в курсе. – Лучше бы он воевал… – Кто его знает… – Ты ведь живым вернулся… – Мог погибнуть не один раз… Хизнь такая штука, от неё не скроешься… С командиром части Веня жил «вась-вась». Рыбачили на пару. Веня особенно по зимней ловле мастак. Летом тоже не из последних рыбарей, но на льду не имел равных. И уху варил эксклюзивную, самогон гнал вкуснейший, сало коптил отменное. В результате вместо войны поехал в Венгрию. Газеты о кровавых событиях в Афганистане не распространялись. Советский народ делал выводы по цинковым гробам, что прибывали в каждый город. По основным аэропортам страны пролегало несколько скорбных авиамаршрутов «Чёрных тюльпанов». Они-то и разносили красноречивую информацию о войне. Веня договорился с командиром и поехал в мирную, благостную Европу, в Венгрию, на завод по ремонту бронетехники. В один день у сына возьми и отвались звёздочка на велосипеде. Веня, будучи не в совсем трезвом состоянии, отправился с рамой и звёздочкой на своё предприятие. Бетонная балка сорвалась с крана как раз в тот момент, когда он пересекал цех, направляясь к сварщикам. Вернулся в Россию в цинковом гробу. – Лучше бы в Афган поехал… – промокнула платочком слезу Венина жена. – Кто его знает… Жизнь такая штука, от неё не скроешься Последнюю фразу Андрей не сказал. Удержал на языке. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его… В госпитале Андрей решил выучить псалом. Он запоминал одну строчку, пытался присоединить другую. Получалось не сразу. В молитве угадывался внутренний ритм, но тут же ускользал... Не удавалось удержать, чтобы нанизывать на эту основу слова, откладывая их в памяти… В детстве в доме родителей не было икон, не звучали молитвы. Мама лишь перед смертью, окончательно обезножев, стала держать подле себя листок с «Отче наш». В домике бабушки в углу висела икона, обрамлённая рушником. «Может, когда был совсем маленьким, бабушка молилась вслух при мне? – подумалось Андрею. – Что-то вошло в кровь, потому и знакомо…» Виктор Седов подал рапорт, вернувшись из отпуска. Он сопровождал гроб с Валентином, так как Андрею отпуск отложили. С командованием не поспоришь. Валентина повез Седов. Сорок пять суток отпуска, плюс двадцать гробовые, плюс дорога. Почти два месяца находился в Союзе. Седов был командиром батареи, с ним Андрей получил кровавое крещение. Андрей прилетел на вертолете из Кундуза в Тулакан во время операции. Колонна попала в засаду между Кишимом и Тулуканом. Вторая рота обеспечивала охранение. А они с Виктором возили раненых и убитых. Подлетали на БМП, опять же: главное – на максимальной скорости идти, если мина – есть вероятность взорвётся сзади, тогда только и всего – получишь «пинка», и езжай дальше… Подскочили к месту боя. Картина не для слабонервных: БМП подорвалась на фугасе. Там нога в сапоге валяется, тут боец с развороченным животом… «Ты как? – спросил Андрея Виктор. – Выдержишь?» За спиной у Андрея была Чехословакия в 68-м. Он служил в Каунасском десантном полку, их выбросили в Чехословакию в первый день, и с 21 августа по 5 сентября по ним стреляли безнаказанно из окон, из-за углов. Было и такое: подошёл вплотную наглец, задрал водолазку, достал из-за пояса пистолет и всадил пулю в солдата. Лишь 5 сентября министр обороны Гречко разразился разрешительным приказом – отвечать на стрельбу стрельбой. Андрей, отправляясь в Афган, считал: у него-то, в отличие от многих, есть опыт боевых действий. Пороха понюхал. Но уже в первый афганский день понял: Чехословакия – даже не цветочки, слабенькая пыльца… «Нормально», – ответил Андрей. «Тогда быстро собираем, чья рука-нога, потом будем определять, афганцам-шакалам ничего не должны оставить»… Они загрузили в БМП два трупа, брезент с фрагментами тел… Как кричал на обратной дороге стрелок БМП без ног: «Мама, не хочу умирать! За что?!» Механика-водителя убило при взрыве фугаса, стрелка выбросило, обрезав бронёй ноги… Виктор воевал достойно. Раз возвращались после операции. В их колонне была бронетехника и пять автомашин. Виктор на «Урале»-бензовозе, что порожняком шёл. В кабине, кроме него, сержант-артиллерист, ну и, естественно, водитель. Душманы подбили бензовоз. Пустой-то он пустой, да бак полон паров бензина. Не зря бензовозы старались залить под завязку с перехлёстом, чтобы не оставлять в баке взрывоопасного пространства. От меткого выстрела пустой бензовоз взорвался. Машина запылала. Воины из кабины выскочили, упали на обочину за камни от пулемётного огня. Старший колонны – зампотех майор Логинов – после взрыва бензовоза командует заполошно: «Не останавливаться! Всем вперёд! Не останавливаться!» Было ему под сорок, и он панически боялся стрельбы. Из тех воинов, которым война категорически противопоказана. Как уж в Афгане оказался? Приказным порядком или, может, по жадности напросился. Рассчитывал перед пенсионом подзаработать на войне с туземцами. Да те оказались не с луками и бумерангами. Белый как стенка, майор, вернувшись на «точку», докладывает комбату о потере бензовоза с людьми. Комбату наплевать на психологическое состояние подчинённого. Орёт по матушке и не Волге, по батюшке и не Амуру: «Почему бросил людей?» И отправляет майора обратно. Андрей видит, с зампотеха толку ноль, губа трясётся, всего колбасит. Вызвался съездить вместо него. Комбат осадил добровольца: не суй нос не в свой навоз. Комбат был из выскочек. Папа командовал в Союзе военным округом, сына, что без году неделя как из училища, за звёздами отправил в Афган. Не взводом, само собой, командовать. Вступил в должность вообще старлеем, все замы – майоры, он вскоре капитана получил. Папины дрожжи работали вовсю. Вёл себя по-хамски. При проводке в сторону Файзабада был участок километров в тринадцать, где поблизости от дороги добывалась соль. В жару невидимые микрочастицы наполняли воздух, попадая в глаза, раздражали слизистую, вызывали жжение, боль. Както вернулись после тяжёлой операции оттуда. Комбат сидит, развалившись, и требует доклада. Ротный опустился на табуретку. «Что это вы расселись? Встать!» – приказал. Два капитана, два майора стояли перед ним уставшие, глаза красные… Комбат Андрею рот с инициативой заткнул, зампотеха наладил обратно. Тот на БМП помчался к месту взрыва. Застал одну сгоревшую машину. Возвращается на всех парусах обратно: так и так, все сгорели. «А автоматы, – комбат орёт, – тоже бесследно сгорели?! Железо?! Езжай хоть что-то от трупов привези!» Рано Виктора записали в трупы. Он сначала с бойцами отстреливался, а потом под огнём троица побежала к крепости. Метрах в трёхстах от места, где подбили машину, располагалась древняя крепость, там стоял афганский полк защитников апрельской революции. Моджахеды, человек двадцать, пустились за лёгкой добычей в погоню. Русские не просто сверкали пятками, перемещались перебежками, огрызались автоматными очередями. Перед крепостью стояли пушки с боевыми расчётами. Защитникам революции нет бы помочь освободителям-союзникам, угостить контрреволюционеров из всех стволов, они как увидели ораву моджахедов, что на них движется, драпанули в крепость. Побросали пушки вместе с боеприпасами, прицелами… Ничего не надо, лишь бы шкуру спасти… Наши подскочили к орудию, развернули и ну долбить прямой наводкой. Артиллерия не зря бог войны. Быстро изменила соотношение сил в пользу Советского Союза. «Бегу к пушкам, – смеясь, рассказывал Виктор Андрею, – вижу афганцы, всё, думаю, сейчас они нам огоньком подсобят. Эти вояки хреновы драпать, будто танки на них прут! Я матом: куда вы?! Не понимают русского слова. Пришлось самим отстреливаться. Дали мы духам просраться! Афганцы из крепости увидели нашу героическую стрельбу, заговорила совесть, прибежали снаряды подносить!» Окончательно помогли отбиться от моджахедов наши разведчики. Они возвращались из рейда на БТРе, вдруг слышат – стрельба, зашли в тыл душманам, а дальше дело техники... Из отпуска Виктор вернулся сам не свой. «Всё, – сказал, – ухожу из армии, подаю рапорт. Не могу больше. Ты бы слышал, как кричала сестра Валентина, когда внесли гроб! Отец спрашивает: «Как сын погиб?» А я не могу говорить. Внутри сдавило. И мать криком исходила… Но с сестрой что творилось… Отпаивали лекарствами, не помогало. Кричала и кричала. «Родной мой, братик мой! За что?» На кладбище обхватила гроб: «Не отдам!» Даже мать её пыталась успокоить. В детстве не раз слышал, как голосят. Но здесь что-то невыносимое. Думал, с ума сойду. У самого сердце останавливалось. По сей день крик в ушах… А невеста была как замороженная. Она платье приготовила к свадьбе… После похорон, рассказывали, пришла домой надела свадебное платье, фату, а потом сняла, облила бензином и сожгла в огороде». Не помогла Виктору ни водка, ни встреча с семьёй. Вернулся на «точку» потухшим. Как только начинал рассказывать о похоронах, весь напрягался, руки тряслись. «Сдулся, – сказал Андрею ротный, – не боец. Видишь, на чём сломаться можно». Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от сряща, и беса полуденнаго… Что же такое в этих словах? Что? Как они могут защищать?.. Олюшка призналась: молилась за него, как уехал в Афганистан, каждый день. Старалась хотя бы раза два в месяц попасть в церковь, заказывала молебны. Они прожили семь лет до Афгана, никогда богомолкой не была. «Всё та женщина, – объясняла, – она про сына рассказывала, не про младшего, к которому к нам приезжала, про старшего. Пока тот служил в армии, каждый день молилась за него. Один раз не получилось, так его именно в тот день избили. Меня учила молиться всем сердцем, не тарабаня слова…» Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия… Тулукан – большое селение, как городок районного статуса. Рота стояла сразу за ним. Рядом с «точкой» проходила дорога, по которой проводили караваны машин. Участок дороги напротив «точки» – одно из самых опасных мест. Духи могут на нескольких машинах подлететь и ударить из пулемётов, гранатомётов. Надо как-то защищаться. Китайцы в далёкие времена, обороняясь от набегов захватчиков, поставили свою Великую китайскую стену. Русские возвели параллельно дороге глинобитный забор в два метра высотой. Закрыли свою территорию от чужих глаз, чтобы не любопытствовали через бинокль и прицел. По древней технологии кирпичи лепили. Земля кругом глинистая. Самое сырьё. Месишь с мелко нарезанной сухой травой. Потом форма на три кирпича песком обмазывается во избежание прилипания, заполняется массой, затем сырые кирпичи вываливают на просушку. Температура летом под 70 градусов. Солнышко не хуже печи спекает стройматериал. С гор, конечно, видно, тут забор не спасёт, да хотя бы с дороги соглядатаи не зыркали, где что. Любопытные случались. И не праздные. Ходили днём разведчики. Измеряет такой «мирный» житель шагами расстояние, готовит данные для ночных миномётных стрельб по русским… Стену возвели метров на шестьдесят длиной, а сами врылись в землю. Землянки. Два с половиной метра глубина, двухъярусные нары… Андрей жил с ротным и зампотехом. На потолок шли стволы деревьев, что рубили в окрестностях, затем слой хвороста, на него насыпался грунт, который образовался при копке рва под землянку. Изнутри потолок обшивали досками от ящиков для снарядов. Надёжное укрытие. Мины миномётные не брали. В надземной части «точки» имелось глинобитное здание, ещё до войны построенное афганцами для школы. Его использовали под технические нужды, в частности – как столовую. Днём партизаны-моджахеды не нападали, действовали в бандитскую пору – по ночам. В такой обстановке одними часовыми не обойтись. Половина танков была задействовано в ночной охране. БМП держали под прицелом дорогу с двух сторон. Само собой часовые. Но кроме этого – минные заграждения в местах, где можно подобраться близко. В частности, вдоль арыка, что тёк рядом с «точкой». Ночь в горах падает обвально, без вечерних зорек. Задача сапёров – по первой темноте пехотные мины с растяжками тайком от соглядатаев и как можно быстрее поставить. Обезопасить себя от бандитского времени. Утром надо снять, но конспирацию соблюдая. Будто не по взрывному делу воины вышли к арыку, дрова собирать или ещё что. Будто ничего и не ставили вечером… Попадались на минную уловку душманы. Ни от одной ночи хорошего ждать не приходилось. Поэтому с наступлением темноты постоянное слежение за округой через приборы ночного видения. Чуть движение началось – приготовиться! Душманы хитромудрые завозятся в одной стороне, отвлекая – стрельбу откроют, а сами основные силы с другой стороны бросают… По глубоким руслам арыков, по этим естественным, водой проложенным ходам, со стороны Тулукана незаметно подходили как можно ближе к «точке», метров на восемьдесят, а дальше конец лафе – надо высовываться, выбираться на поверхность, и попадали в поле видимости. Нападали разными группками: по пять-десять человек, могло быть – двадцать-тридцать, случалось и до сотни. И тогда танки выезжали из укрытия на дорогу, давили огнём… Артиллерия подключалась… Бывали собачьи периоды, почти каждую ночь лезли. Постоянно держали в напряге. Кто их поймёт, как действовали: очерёдность ли устраивали – сегодня одни, завтра другие – или, как работники ночной смены, днём отсыпались? А на «точке» одни и те же бойцы. Доходило: начинается стрельба – Андрей лежит в землянке с автоматом и по звуку определяет: «Ещё можно подремать». Какие-то секунды прошли: «Ещё чуть-чуть…» Ведь днём некогда спать, дел по горло: воды привезти, людей накормить, хлеб испечь, помывку, стирку организовать… Спать некогда, поэтому и секундам рад… Наконец стрельба набирает опасную громкость, всё, хорош ночевать... Подскакивают с ротным и вперёд – выяснять обстановку, организовывать оборону… Фронт без линии фронта. Какое там кино, как, к примеру, в дивизии в Кундузе? Какие там концерты московских артистов? Однажды магазин солдатский приехал на «точку». Привезли нитки, иголки, печенье, конфеты солдатам, мыло, зубную пасту. Так мало что не обделались продавцы… Майор, зам. по тылу, прилетел и две женщины, товар в ящиках. Вертолёт их забросил. Но забрать вечером, как планировалось, не смог. Погода испортилась, ветер афганец поднялся. А ночью душманы полезли. Майор выглянул из землянки, а там пули свистят, мины рвутся… Заскочил обратно: «Ни фига себе, сказала я себе! Стреляют!» А ты как думал? Это не по Кундузу гулять. Женщины в угол забились, визжат: «Вызывайте вертолёт, у нас материальные ценности!» Сейчас, может, рассказывают, как геройски воевали в Тулукане. Что бесило душманов – изматывают русских, давят и давят в надежде: сломаются от напряжения, не устоят в одну из ночей или днём застать их, чумных от бессонницы, врасплох. А не дождётесь! Стоят мужики. «Точка» живёт в обычном режиме. Не спит вповалку, солдаты на операции выезжают. И не сонными мухами... Наши тоже приноровились к предложенному графику. Одних бойцов раньше в приказном порядке укладывали спать. Другие в это время бодрствовали. Поэтому днём душманы не отваживались нападать – силёнок не хватало. Разве что случайная стычка. Однажды группа бойцов у крайних жилищ столкнулась с бандитами. Пошли за дровишками. Зима своеобразная в тех местах – днём жара под тридцать, ночью вода замерзает. Околеешь без обогрева. Пошли солдаты к зарослям у арыка. Вода шумит, из-за неё не услышали душманов, и те по той же причине проворонили шурави. Возможно, к ночной атаке готовились. В месте неожиданной встречи стояло заброшенное жильё. Наши воины с одной стороны к углу дувала подходят, душманы с другой. И салам алейкум лоб в лоб. Не мирные крестьяне-рисоводы – при автоматах. Наших пятеро, их шестеро. Буквально нос к носу. Опешили обе группы. Автоматы у всех не наготове, не в атаку шли. Пару секунд молчания. С русской стороны был справный в плечах грузин Тенгиз Асатиани. Перед ним афганец не дохля, крепкий мусульманин, борода чернущая. Дух первым среагировал на рукопашную атаку. Рассчитал: каждый из соплеменников сцепится с русским, и, пока будет идти борьба, по парам, свободный перережет неверных. Подавая сигнал «делай, как я», схватил Тенгиза за горло. Да ошибся в расчётах. Не ожидал, нападая, что зубы Тенгизу даны не семечки щёлкать. Проиграв первый раунд, грузин во втором применил ошеломляющую тактику – обхватил душмана, как брата родного, прижал к себе, как от переизбытка чувств, и тигром вонзил зубы в ненавистную щёку. Вырвал кусок мяса с волосами, выплюнул, чтобы дальше рвать зубами духа… От вампирского приёма тот заблажил на своём языке, испугавшись уродства – так можно и без носа остаться, оттолкнул от себя Тенгиза. Тому только это и надо. За автомат и короткой очередью завалил укушенного, вместе с его рядом стоящим подельником… На стрельбу с «точки» подмога несётся, а на Тенгиза затмение нашло. Губы в крови душманской, глаза собственной налились. Выхватил нож и режет голову моджахеду… За тех друзей, которых накануне обезглавили на операции… Потом солдатики с моджахедской головой ухитрились сфотографироваться. Тайком от командиров откопали и устроили фотосессию. На кол посадили, сами вокруг… На границе у одного из дембелей при шмоне особисты обнаружили обличающий советского воина снимок. Приехал КГБэшник разбираться на «точку»: – Что за садизм развели? Позорите Советскую Армию! Головы отрезаете? – и показывает фото. – Да это чучело! – не растерялся ротный. – Как чучело? Вот же борода… – Чучело! Ребята из глины вылепили, бороду приделали… – Да? – Конечно! И сошло. Повезло: качество фото не ахти какое… Та стычка с душманами, благодаря находчивости Тенгиза, без потерь закончилась. Можно сказать, без единой царапины. Да не всегда такой расклад выходил. Восток – дело хитрое. Вблизи «точки» река протекала, что делила Тулукан на две части. Дорога на Файзабад через неё шла. Капитальный бетонный мост соединял берега. Специалисты из СССР до войны возводили. Можно и документы не смотреть на предмет выяснения, кто руку к объекту приложил. Самодельные надписи на мосту – любит наш человек увековечиться при первой возможности – гласили, что строили его спецы из Черкасс и Куйбышева. Наши много мостов в Афгане возвели, дорог проложили, качественных, надо заметить, танк развернётся – и только царапины на асфальте. Мост, он и в мирное время объект стратегический, в военное – втройне. Рота мостовой переход первым делом взяла под круглосуточный контроль. Построили укрепление – будку глинобитную, и танк в охране стоял. Из живой силы пять человек. Рано утром, чуть рассветает, афганцы на базар в Тулукан спешат. Кто апельсинымандарины везёт, кто промтовары транспортирует к своим торговым точкам, кто в качестве покупателя едет. Эти две машины двигались за другим заработком. Ударили из двух гранатомётов по будке и танку. Наши начали отстреливаться. Взводного срезало очередью, заряжающий сразу в танке сгорел. Механик-водитель умер в госпитале. Когда с «точки» подскочила на стрельбу подмога, душманов как и не было. Второй раз они тонкую уловку придумали для усыпления бдительности. Похороны устроили. Покойник в материал завёрнут, его бегом несут на кладбище предать земле. Картину необычных для русского человека похорон не раз советские солдаты видели. Душманы решили на человечности поймать охрану. Дескать, пропустите через мост похоронную процессию. Но взводный что-то почувствовал. Сыграл в душе – или где ещё может возникнуть – сигнал опасности. Что-то насторожило в скорбной картинке. Почему и сам не знает. «Приготовиться к бою!» – скомандовал. Душманы подбегают, у них всё рассчитано было, дали знак «мёртвому», тот белый материал с себя срывает, который не только «почившего» прикрывал, но и гранатомёт. Однако очередь из пулемёта опередила. Душман с гранатомётом на самом деле перешёл в разряд покойников, к нему присоединился ещё один из процессии, остальные скатились под мост и ушли. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от срящя, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится… За окном госпиталя шёл снег, мелкий, игольчатый. Он возникал из серого низкого неба и пролетал сквозь стылые ветки тополя, сквозь обвислые ветви берёзы… Казалось, конца не будет этому движению белого на фоне мрачного больничного корпуса… «Точка» в Тулукане для моджахедов была бельмом на глазу. Долго кусали бандитскими набегами, потом порешили в душманских штабах сравнять с землёй русский гарнизон. Показать, кто в горах хозяин. Завладев Тулуканом, брали под контроль дорогу на Файзабад, отрезали Кишим и Файзабад от Кундуза. Самое весёлое – вплоть до Москвы было известно о готовящейся крупной операции. Кундуз трезвонит: ребята, не волнуйтесь, держитесь, одних не оставим, если полезут, тут же прибудет подмога. Легко сказать, до дивизии в Кундузе семьдесят с гаком километров. Не семь с половиной. За полчаса не покроешь. И время в бою другого измерения, каждая минута может чашу весов перетянуть в смертельную сторону. Да и километры длиннее. Душманы тоже понимают, откуда русским придёт подмога, а мусульманам погибель. Встретят засадой на дороге… Горные партизаны и сами опыта поднабрались, и советников против русских понаехало разномастных: итальянцы, китайцы, американцы… Сразу после смерти Валентина как-то Андрей ходил в рейд с разведчиками, и наткнулись на трёх душманов на дороге. Что уж они замышляли? Побежали при виде наших. Андрей в два прыжка достал одного… В халате, всё как полагается. Но вместо фарси другой прононс: «Мусью, мусью!» Руки вверх тянет. Не убивай, дескать, сдаюсь, я безоружный. Андрей после смерти друга злой был. Всадил во французскую грудь густую очередь… Что ты здесь потерял, мать твою парижскую… Двое дерутся, куда третьим лезешь?.. Перед штурмом Кундуз сообщил: по разведданным две тысячи семьсот моджахедов готовится к захвату. Это на сто с небольшим наших воинов. Сравнение не в пользу Советской Армии. Душманы пошли на рассвете, только-только развиднелось. Сначала с гор, что начинались сразу за дорогой, метрах в двухстах от «точки». Высоко на перевалах началось движение. И тут в небе появляются пять вертолётов непонятной принадлежности. Ми-8, но густо-зелёные, с тёмными пятнами. Наши светло-зелёные. Неужели, спускаясь с гор, душманы бросили десант на «точку»? Ничего не говорил факт – вертушки советского производства, мало ли кому продаём военную технику. Комбат командует БМП: «Пушки к бою!» В сторону воздушных целей БМП пушки задрали, а те на четыре тысячи метров 30-миллиметровыми снарядами бьют. Свалить вертушку ничего не стоит. Хорошо с вертолётов на связь вышли, увидев целящиеся стволы: «Свои!» Отряд пограничников в триста человек бросили из Пянджа по воздуху на подмогу. Только приземлились, из Кундуза сообщают: «К вам пограничники сейчас прилетят». Ага, мы уже их чуть не посбивали. Андрей потом много раз думал: устояли бы или нет? Число «две тысячи семьсот», очень может статься, было занижено штабистами, дабы не пугать обороняющихся. Пускай, дескать, знают про нешуточные намерения противника, а уж насколько нешуточные – незачем раньше времени голову забивать. Душманы начали спуск. Расстояние до перевалов километра четыре-пять. Из пушек неэффективно по воробьям. Надо подпустить поближе. И вдруг в бинокль заметили движение и на дальних от «точки» горах – за Тулуканом… Спустись в долину вся эта масса – бой даже с учётом погранцов был бы страшным. Жуткая сила катилась по русские души. Судя по душманским планам, перед духами, что двигались с ближних гор, стояла задача ввязаться первыми. Отвлечь русских на себя. В это время вторая часть, с дальних гор, входит в Тулукан, растворяется в нём, затем моджахеды по руслам многочисленных арыков – были такой глубины, лошадь можно провести – как можно ближе подходят к «точке», по команде вырастают из земли и наваливаются… Танкам остаётся бить прямой наводкой. Но их в упор будут расстреливать из гранатомётов… Пока подойдёт подмога, мало что останется от гарнизона… Если три-четыре гранатомётчика сразу выстрелят по каждому танку… Пушки и танки начали обстрел, как только авангард моджахедов с ближних гор стал спускаться в долину перед «точкой». Артиллерия била за спину моджахедам, отсекала отход, танки работали по наступающим. Несколько залпов батарея сделала через Тулукан, накрывая группы скатывающиеся с дальних гор… И вдруг повалил снег, такой редкий для Афгана. Чистейший русский снег обрушился с неба. Будто Россия вспомнила о сыновьях и послала им спасение. До того мощный грянул заряд, за какую-то минуту покрыл горы толстым слоем. У душманов халаты, накидки под цвет горного серо-коричневого ландшафта. В обычной обстановке упал в горах – и не различишь, где мёртвый камень валяется, а где глазастый с автоматом. В пыльные бури они ложились на землю, закутывались в накидки и так спасались от злой стихии. Когда моджахеды пошли с гор, в бинокль было видно: началось. Но сколько их там? Где пусто, а где густо? Сливаются с горами. И вдруг вся маскировка псу под хвост. Как у бедолаги зайца, не успевшего вовремя поменять шерсть летнего колера на зимний окрас. Чёрно-белая графика в несколько секунд проявила картину штурма до последнего партизана. Моджахеды на снежный момент как раз в предбоевой сосредоточенности заполнили склоны гор. Снег не только мишенями подставил их под прицельный огонь, ещё и по ногам ударил. Горной козочкой не побегаешь по скользкому покрову. Надеялись подойти вплотную и смять горстку русских. Снег переломал планы на сто восемьдесят градусов. Наши как начали кромсать скученные мишени. Танки, артиллерия, БМП заработали по мишеням, как на учениях. Душманы под прицельным огнём забыли о захватнических амбициях, беспорядочно – быть бы живу – ломанулись назад к перевалам, дабы свалиться на другую сторону по принципу «ведь это наши горы, они помогут нам». Больше моджахеды не сунулись. «Точка» в напряжении ждала штурма ночью, на следующий день, через день. Нет. Возможно, полевые командиры, узнав, что появились пограничники, поняли – малой кровью не выйдет операция. Могло случиться и такое: среди них разгорелись разногласия после неудачи, и они увели отряды по своим вотчинам. «Взяли бы простыни вместо маскхалатов, – в разговоре с Валентином рассуждал Андрей, – то, что надо, по снегу идти в наступление». «Ты чё, им западло простыни – мёртвых в них заворачивают». Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от срящя, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешникам узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему… Он попросил Олюшку поискать старославянский словарь, а пока упрямо запоминал. Какие-то фразы не понимал вовсе, в других лишь угадывал смысл. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему… – это было ясно. В партизанской войне трудно бывает понять – мирный житель или с гранатой за пазухой. Днём за сохой идёт – кажется, орарь до мозга костей, только ночью он орало на автомат меняет. Или крестьянствует с мотыгой, а винтовка невдалеке припрятана. Если это Бур, то, как говорилось выше, и вертолёт такой земледелец может снять. В жаркой стране вода – особый продукт. «Точка» поначалу снабжалась тулуканской водой. В посёлке скважина, насос глубинный английского производства. Цистерну набрал и пользуйся. Но среди потенциальных врагов лучше независимо жить. Поковырялись наши знатоки на территории «точки» и раскопали мощный ключ. Очистили его, обложили камнями. Отличная вода. Пограничники, прилетев на подмогу в критическую минуту, остались в Тулукане. Командование решило усилить «точку»: слишком моджахеды обнаглели. Погранцы на другой стороне реки обосновались. В большом байском саду землянок нарыли. «Точка» получила прикрытие с заречной части. На сопровождение колонн пограничники не ходили, но в некоторых операциях помогали танковому батальону. Погранцы задачу водоснабжения решали своим способом – поставили машину для очистки воды. Из арыка берут, пропускают через фильтры, и готово. Машина – не из ключа набирать. Русский человек технике больше доверяет. Мало ли что в том же ключе, вдруг зараза какая-нибудь, а там машина очищает, значит, надёжность стопроцентная. Никаких тебе желтушных и других вредоносных бацилл. Стала рота пользоваться водой от погранцов. Хотя солдаты предпочитали из ключа пить. В тот вечер Андрей на водовозке привёз от погранцов воды, слил в баки. В пять утра солдат-повар докладывает: «Товарищ прапорщик, молоко свернулось». Что за фокус кулинарный? Не из-под коровки молоко, сгущённое. «Закипятил воду, – докладывает на недоумение командира солдат последовательность поварских действий, – сгущенку вылил в котёл кофе делать, она свернулась, привкус горьковатый». Андрей посмотрел на варево – лохмотья белые плавают в котле. Попробовал на язык, выплюнул – горечь. Впервые с таким поведением сгущёнки столкнулся. «Выливай к едрёной бабушке, чай заваривай!» Не успел повар котёл вымыть, летит БТР от погранцов: «Все живы? Никто воду не пил? Отравлена!» У погранцов научная основа, с периодичностью двух раз в неделю брали воду на анализ. Накануне вертолёт прилетал, взял в лабораторию три бутылки. Из тулуканской скважины, из ключа, и после очистки из арыка. Какая предпочтительнее для русского желудка. Он может долото переварить, да на кой лишний раз напрягать. Пяндж после химанализа, захлёбываясь, передаёт: вода в бутылке № 3 отравлена сильнейшим ядом, срочно ликвидировать запасы! Качественней всего оказалась вода из бутылки № 2 – ключевая. Из скважины тулуканской тоже пойдёт на суп с чаем. Но откуда в арыке отрава? Это не вредоносная палочка холеры, которая может в водной среде жить поживать бактериологической миной до встречи с благотворной средой человеческого организма. Призвали афганца Хакима. Наш представитель в Тулукане. Имел свой отряд приверженцев афганской революции. Позже его убили. Личный охранник застрелил в бою. Андрей сколько раз удивлялся в Афганистане: какой продажный народ! Сегодня он за одних воюет, завтра заплатили больше вчерашние враги, стреляет с удовольствием в недавних однополчан. Бизнес есть бизнес. Но в последнее время Андрей стал приходить к мысли: продажность, подлость вовсю проникают в русский народ. Условия, когда ты на грани выживания, когда озабочен куском хлеба, оскотинивают… Но и когда этот кусок с икрой, а деньги застят глаза – тоже… Хаким предложил сделать вид, будто ничего не случилась, машина для очистки работает, народ вокруг не паникует. Сам с помощниками стал следить за берегом вверх по течению от места забора воды. Оп-па! Появился земледелец с мешочком. Рисовое поле к арыку подходит. Декханин сел у поля и вроде чем-то сугубо мирным занялся, положив рядом с собой сумчушку. Время от времени руку как бы невзначай в торбу запустит, сыпанет в арык, дальше прикидывается рисоводом. Ясно-понятно. Бойцы Хакима – они ничем не приметные, в халатах, как тот крестьянин-отравитель, – обошли диверсанта, он и не понял, что по его душу земляки, схватили за жабры с поличным. И не стали в Пяндж в лабораторию отправлять содержимое сумки для определения химического состава реактива. Экспресс-анализ на месте произвели с привлечением подозреваемого. Тут же на бережке повалили «химика» на спину, засыпали в рот добрую порцию порошка. Водичкой напоили, у того глаза повылезали от дозы, что на табун лошадей. Хорошо, погранцы воду на анализ сдали. Всех мог бы травануть «мирный крестьянин»… И Андрей на его счастье кофе с молоком любил с утра, а если бы чай заказал?.. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешникам узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил, еси прибежие твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему; яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих … У каждого вернувшегося с войны есть личные примеры везения. Пуля прошила одежду в миллиметре от тела, или осколок чикнул по щеке. Стой чуть левее или правее – и как минимум рана. Два раза Андрей сталкивался с невероятными случаями... Андрей спал, был четвёртый час ночи, когда рядовой Камалов затормошил: – Товарищ прапорщик! Товарищ прапорщик! Голый идёт! Как голый? Откуда? Пришелец оказался разведчиком из уничтоженного разведбата. Бандой, положившей более семидесяти человек разведчиков, командовал Рахим, выпускник академии имени Фрунзе. Наши получили информацию: со стороны Пакистана идёт караван с оружием. Приготовились к операции. Рахим не зря выкормыш СССР, мыслил в соответствии с советскими учебниками по тактике и стратегии. Применил отвлекающий маневр – его бандиты завязали бой в стороне от основных событий. А разветбат на исходе дня заманили в ловушку. Разведбат должен был караван взять в тиски. Ему самому устроил котёл в ущелье. Зажали душманы разведчиков перед самым закатом, дабы помощь по свету не успела подойти. Рахим прекрасно знал: ночью в горах воевать бесполезно. И уничтожил разведбат. На каждом разведчике бронежилет, но и это не помогло. Когда утром прилетели вертолёты, на месте боя были только полностью обнажённые обглоданные шакалами трупы. Но один разведчик остался в живых. Две пули прошли впритирку с черепом. Распороли по виску кожу головы. Кровь хлещет, лицо залило, грудь, но это совсем другое, чем мозги наружу. Бой затих, афганцы двинулись трофеи собирать, раненых добивать. Услышав бородачей, разведчик дышать перестал. Добивали выстрелом в голову. Это обязательно. Живот разворочен, ног ли до основания нет – всё одно контрольный в голову непременно. Добивали и раздевали вплоть до трусов. Пулей скальпированного разведчика тем более освободили от обмундирования – всё целёхонькое, без дырок. И, посмотрев на голову – вся в крови, кожа висит – посчитали: череп вскрыт. Зачем пулю тратить, когда сразу получил контрольную. Лежит разведчик на камнях, не шелохнётся. Там выстрел, там… Наконец стихло, закончили душманы мародёрство, ушли. Шакалы завыли им на смену, чувствуя кровь… Поднялся разведчик и пошёл в направлении Тулукана. Это километров 12–14. Вышел с гор на дорогу, побежал. Два раза слышал звук мотора, падал на обочину. А потом увидел в ночи лампочку. Она была только на «точке». Дизель станции работал. Побежал на огонёк. Ему с танка, что в оцеплении: – Стой! – Свой я, ребята! – прокричал на русском разведчик. А у самого от радости горло перехватило, не в состоянии членораздельно слова вымолвить, мычит, рот раскрывши… Ротный командует танкистам: «Не стрелять. Пусть подойдёт на несколько шагов, и смотрите вокруг!» Подумалось, может, моджахеды затеяли какую-нибудь хитрость с голым живцом, как с похоронной процессией на мосту… Усыпить бдительность и ударить... Разведчик приблизился. Ему опять с танка: «Стой!» Танкисты смотрят в прибор ночного видения: чисто вокруг незваного гостя. На дороге стояли треноги с колючей проволокой, что на ночь устанавливались, и гранаты на растяжках. Визитёр мог элементарно подорваться. Выслали сапёра провести голого. На «точке» разведчик рассказал историю спасения. Голову ему обработали, забинтовали. Одели, сообщили в дивизию. Утром командир полка на вертолёте за ним прилетел. Дальше началась комедия. Служба «молчи-молчи» прицепилась к выжившему с дознанием. Капитан с костистым лицом пристал: «Где ваш автомат? Какое вы имели право бросать оружие?» От всего разведбата осталось восемнадцать человек, кто был в наряде на базе... Остальные полегли в горах. Понятно, какое настроение у разведчиков, и вдруг узнают об оружейных претензиях «молчи-молчи» к своему товарищу, кинулись к капитану с самыми серьёзными намерениями. Тот едва ноги унёс в штаб дивизии. Начальник политотдела предложил особисту срочно делать ноги от греха подальше в Кабул. «Ты думаешь, что несёшь? Они каждый день смерть видят! Убьют! Не улетишь, пеняй на себя!» Уразумел, что разведчики разорвут капитана за неусыпную бдительность. «Всё равно кончим суку!» – пообещали разведчики, узнав, что тот слинял. История, конечно, уникальная. Во-первых, пули только чиркнули по голове разведчика. Во-вторых, афганцы, стягивая с него штаны, трусы и другую амуницию, не разобрали, что перед ними не труп, а раненый враг. В-третьих, совершенно голый сумел выйти к своим. На счёт везения со службой «молчи-молчи» говорить не будем – не бериевские времена. Второй случай ещё удивительнее. После Афгана Андрея отправили служить в Европу, в Чехословакию, которой в 1968 году помогал отстаивать идеи социализма. Своего рода награду получил за Афганистан. В Европах и встретил в 1985 году Эдика Мамедова. Эдик служил в роте, что стояла в Кишиме. Танкист, капитан. Попал в ситуацию, нередкую на той войне. Из гранатомёта подбили танк, Эдика отбросило метров на десять от развороченной машины… Три трупа, среди них Мамедов, отправили в Кундуз. Там тоже определили к «двухсотым», и в морге ничего не поняли, обработали, помыли, одели, положили в деревянный гроб, тот в цинковый запаяли. Гробовой Ан-12 шёл из Кабула, приземлился в Кундузе, догрузился, поднялся. Гробы друг на дружке стоят в грузовом отсеке. Тут же сопровождающие летят. И вдруг стук. Сопровождающие заволновались: «Что такое? Откуда? Может, в самолёте неисправность?» Один пошёл к лётчикам, проинформировал экипаж о нештатном звуке. Бортинженер вышел, послушал: – Ребята, это ваш стучит. – Как наш? Быть не может! – Ваш, ребята, ваш! А стук продолжается. Определили, из какого гроба сигнал, крикнули: – Если нас слышишь – отзовись, стукни два раза! Отозвался. Во время полёта гроб не начнёшь доставать, груз закреплен. – Браток, скоро приземляемся, если можешь потерпеть, дай знак! Эдик постучал. У него был повреждён позвоночник. Всю дорогу, как его записали в разряд «двухсотых» – и в морге, и в гробу лежал без признаков жизни. Сдвиг в чувствительности организма, скорее всего, произошёл при перепаде давления во время взлёта, сознание вернулось. Эдик очнулся – темнота кромешная... Где он? Что? И вдруг понял – в гробу. Но не в могиле. Шум за «бортом» гроба, гул самолёта. И какие-то голоса… Принялся стучать… В Ташкенте его в госпиталь поместили, потом в Ленинград отправили, затем в Минск. Тогда как домой пришло сообщение: погиб. Отцу орден Красного Знамени вручили. Эдик воевал геройски. Уже имел две Красные Звезды, посмертно наградили Красным Знаменем, которое редко кому на той войне давали. Получилось так, что сопровождающий был не из кишимской роты, Эдика не знал, это раз, второе – относился к счастливчикам, кому пришла замена, войну покидал навсегда. Радуясь за ожившего «двухсотого», за себя – не надо выполнять скорбную миссию – и, считая, что о «воскресшем» будет доложено по всем инстанциям, со спокойной душой и совестью отправился домой. Писем в Афган писать не стал. Но ничего подобного. Бюрократическая машина запнулась на уникальном случае. Родителей никто не оповестил. Они ждут тело сына хоронить, а оно живучим оказалось. Эдик проходит интенсивное лечение. В Минске над беспомощными героями пионеры шефствовали. У Эдика руки не слушались. Попросил пионера написать под диктовку письмо домой. Пионер и накатал, где по-русски, где по-белорусски. Не очень прилежный попался. Родители в Махачкале получают странное письмо. Якобы от сына. Но почему из Минска? Почерк абсолютно не его. Может, до гибели писалось? Нет, штамп свежий. К тому же пишущий спрашивает о деталях, которые только ему известны. О сестре, друзей по именам называет. Как тут реагировать? Родители, продолжая сомневаться, делают запрос в госпиталь. Приходит официальный машинописный ответ от главврача, подтверждающий факт, что Эдуард Мамедович Мамедов находится в госпитале после ранения. Эдик едва снова контузию не получил, когда мать с отцом приехали и мать упала в обморок при виде живого сына. До последнего сомневалась, а не чудовищная ли ошибка. Боялась, зайдёт в палату, а там чужой человек. Сколько жила с мыслью – погиб сын… На ту пору в Минске проходил симпозиум с участием кудесника-хирурга Илизарова, он забрал воина с тяжелейшей травмой позвоночника в Курган, в свою клинику. «Я его поставлю на ноги! Плясать будет!» И поставил. А всё равно Эдика подчистую комиссовали: отдыхай, инвалид-ветеран-орденоносец, на заслуженной пенсии. Он не согласился на завалинке штаны просиживать в тридцать лет. Поехал в Москву, прорвался на прием к министру обороны, добился восстановления в армии. Андрей вскоре, как Эдика отправили грузом «двести», закончил афганскую эпопею, вернулся в Союз, а в 1985 году, как говорилось выше, в Чехословакию направили. И вот как-то сидит на балконе, дышит свежим воздухом, наслаждается мирной вечерней тишиной, а из квартиры, с которой соседствуют балконами, голос раздаётся. Мужчина разговаривает с собакой. И страшно знакомый голос. Обязательно его слышал. Но кто? Балконы впритык, тогда как подъезды у квартир разные. На лестничной площадке не столкнёшься. Да и дома почти не бывал Андрей, то на полигоне, то в наряде. С утра до позднего вечера на службе. Говорит своей Олюшке: «Слышал я этот голос раньше. Где и когда, не помню, хоть убей. Но слышал, до боли знакомый». Прошло какое-то время. Сидит Андрей в комнате, время летнее, дверь балкона нараспашку, снова знакомый голос раздаётся. Да кто же это? Вышел на балкон, снедаемый любопытством, и нехорошо стало, чёрным ломануло сердце. Человек один к одному похожий на Эдика стоит, рядом немецкая овчарка. – У вас брат Эдик был? – заикаясь, спросил. – Да это я сам, Андрей! Это я – Эдик! Перескочил Мамедов через перила балкона, сгрёб Андрея в охапку: – Я, мой родной! Я! И два взрослых мужика заплакали от радости чудесной встречи, от боли за тех друзей, кто не воскрес. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему; яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою… Псалом звучал в Андрее. Просыпаясь среди ночи, принимался повторять по памяти. Молитва успокаивала, отвлекала от тягостных воспоминаний. Повторял раз, другой… Иногда забывался сном, не дойдя до последних строк. Жена принесла письмо от однополчанина по Афганистану – Миши Ложкина. Миша писал, что бросил медицину, работает менеджером в фирме, торгующей запчастями для автомобилей. Звал к себе в гости. Жил Миша в Нижнем Новгороде. Они два раза встречались после Афгана. В 1986 году Андрей был в Москве в командировке, Миша специально приехал на пару дней повидаться. В 1990 году Андрей выкроил неделю отпуска и съездил к боевому другу. Созванивались по праздникам. Не по праздникам Миша обязательно звонил, будучи в подпитии. «Андрей, держи член бодрей! – кричал в трубку. – Это я! Докладываю: ещё жив!» В последний год такие звонки участились. Ложкин был фельдшером от Бога. Колонна двигалась в боевом порядке со скоростью пешехода. Впереди трал – инженерный танк с двумя 5-тонными катками. Мина или фугас такой махине не страшны, переднюю часть подкинет сантиметров на тридцать, и дальше танк прёт. Брал всё – фугасы, пластиковые «итальянки». Моджахеды знали это, тоже не лаптем рис хлебали с инструкциями советников. И посреди дороги, если нет асфальтового покрытия, жди от них мин, и по сторонам, что не попадали под катки, не надейся на авось. Так может вознести… Где трал не захватывал, сапёры проверяли. В тот раз Иван Ермаков, дальневосточник из Белогорска, и Борис Семёнов из Тюмени, шли по разные стороны от танковой колеи. Сапёрное вооружение – миноискатель да щуп, который методично в почву впереди себя воин втыкает. Если стальная заострённая 5-миллиметровая проволока подозрительно легко входит в грунт, значит, стоп. Миноискатель не среагирует на «итальянку»: в ней металла грамм какой-то, эту адскую машинку собаки хорошо вынюхивают, но их на «точке» не было. Фугасы моджахеды любили делать из гильз от танковых снарядов. Как ими разживались? Подбитый танк улетит в пропасть, доставать бесполезно. Душманы размундирят боекомплект… На много фугасов добычи хватит. Дальше берётся пустая гильза, начиняется взрывчаткой и закапывается на метр-полтора в вертикальном положении. А контактные пластины выведут наверх и так, чтобы взрыв на середину машины пришёлся. Получался он мощнейшей, направленной вверх силы. Башня БМП подлетала на десять и более метров. Контактные пластинки делали из консервной банки. Для конспирации пылью присыплют – валяется, дескать, неприглядный сам по себе кусочек металла. Столкнувшись с такой технологией, сапёры реагировали на любую железку на дороге. Собаки неплохо чуяли фугасы, но, опять же, увы – не было их… Иван и Борис идут за тралом, следом, прикрывая сапёров, танк движется, естественно, с пешеходной скоростью. А позади бой идёт. Подбили КамАЗ-цистерну, ударили из пулемётов. На заминированных участках моджахеды специально создавали огнём сумятицу, дабы сломать чёткость движения. У водителя при движении в колонне одна задача – следовать строго за впередиидущей машиной. Моджахеды огнём давили на психику водителям, заставляли дёргаться – выскакивать из проверенной колеи. В суматохе боя попробуй удержись. Один затормозил, другой от столкновения крутит руль под свист пуль. А чуть в сторону вильнул – можешь нарваться на взрывоопасную неожиданность… Сапёры – мишени для моджахедов, но делают свою работу. Километров пять дороги впереди без асфальтового покрытия, самое место для закладки мин. И как нередко бывает, где не чаешь – оттуда получаешь. Из гранатомёта подбили танк, что следом за инженерным шёл. Механика-водителя кумулятивная струя режет наповал, танк продолжает самопроизвольный ход. Иван откуда знал, что за спиной уже не грозная бронированная машина со скорострельной пушкой, а неуправляемая громадина. Всё внимание сапёра на мины: быстрее проскочить опасный участок. А на него многотонная махина прёт... Борис закричал: «Берегись!» Иван услышал предупреждение с запозданием, прыгнул, но подбитый танк врезается в инженерный, правая нога Ивана оказывается в точке столкновения. Много ли надо человеческой плоти… Танк смял, раздробил, искалечил… Иван в первый момент смалодушничал, как увидел раздавленную ногу – это кровавое месиво... Парень плечистый, рослый. Дружок его Борис нередко подшучивал: «Иван, ты прямо орёл! Ух, девки до армии сохли! Многих, поди, перепортил?!» Иван упал с размозженной ногой, схватил автомат и начал поворачивать дулом на себя… Потом признался Андрею, что носил мысль: «Если что – калекой жить не буду!» Борис молнией среагировал, подскочил, пинком саданул по автомату: «Ты что, братан! Дурак!» Обнял друга: «Мы ещё будем жить, Ваня!» Андрей с Мишей Ложкиным подхватили Ивана. Кундуз – там госпиталь, там врачи – всего-то в тридцати километрах. Но бой идёт, день на исходе. – Миша, как он? – Андрей спрашивает с надеждой. – Ничего хорошего. В госпиталь бы его быстрее… На искорёженную ногу страшно смотреть. Кости торчат, лохмотья кожи висят, куски раздавленных мышц, пыль смешалась с кровью, грязь… – Миша, надо спасать ногу! – Андрей просит. С Мишей в каких только переделках не побывали. Миша и с автоматом умело обращался, и в своём деле ас. Всегда до последнего боролся за жизнь воина. Жаль, не всё от него зависело… Как-то с колонной вот также попали в засаду. Механику-водителю разрывная пуля попала в шею, кровь хлещет. Замечательный парень – Славик Заикин из Горького. До дембеля оставался месяц с небольшим. Молодого на смену подготовил, но сам ходил на операции, боялся: вдруг убьют сменщика, и опять жди другого. «Миша, сделай что-нибудь! – Славик рукой зажимает фонтан крови. – Не хочу умирать! Не хочу!» «Всё хорошо будет», – Миша успокаивает, обезболивающий укол поставил. Сам отвернулся, сжал в бессилье кулаки, а по лицу слёзы. Они со Славиком земляки, корешили. В первый и последний раз видел Андрей плачущего Ложкина… – Надо спасать ногу! – повторяет Андрей. Вертолёт, что шёл за ранеными, моджахеды сбили на подлёте. Ночь упала. Колонна встала. По темноте двигаться нельзя. Охранение выставили, любой шорох подавляется огнём. А как быть с ранеными? Рядом с дорогой заброшенный кишлак. Занесли туда Ивана и ещё шестерых бойцов. Те-то ничего, в сознании, Иван самый тяжёлый. При свете фонариков принялись очищать ему рану. Андрей сельского воспитания, с четырнадцати лет рос без отца. Кур рубил, свиней разделывал, овец. Крови с первых дней войны не боялся. Новичков, да и не только, выворачивало при виде картин фрагментов человеческих тел, с кровью выворачивало, случалось, что тут скрывать, обделывались новобранцы. Сколько раз Андрей части воинов собирал. Но скальпелем орудовать не доводилось. Миша вручил: «Помогай!» Держит ногу и командует, где резать. В четыре руки очищают рану. Главное – заражения избежать. При свете фонариков орудуют. Обычных карманных фонариков. Батарейки сели – Андрей сбегал к колонне, попросил ещё... В полевых условиях случалось, сапёру, попавшему на мину и лишившемуся ноги, прижигали рану специальной лопаткой. В огонь её, затем к ноге. Варварский способ, но надёжный во избежание заражения. В жару гангрена протекает скоротечно… Перед операциями старались не есть, чаем ограничиться уже с вечера, и на завтрак чайку попил – и хватит… Если ранят в полный живот, при такой жаре перитонит обеспечен, до госпиталя не довезут… Капельницы с физраствором Ивану Ложкин ставит. Нога раздроблена, раздавлена... Но повезло – главные кровеносные артерии целы. Задача – сделать, что в силах, а потом пусть в госпитале решают, как быть с конечностью. Поначалу Иван, находясь в шоке, не чувствовал боли. Работали по-живому. Жгутом пережали ногу. Но долго держать нельзя, а стоит отпустить, кровь опять пошла. Так раз за разом. Боец пришёл в себя, кричит. Боль – сил нет. Обезболивающий укол Миша вколол. Но всё медленно получается, что там при свете фонариков сделаешь толком. Второй укол для наркоза можно делать в экстренных случаях. Иван опять кричит: «Лучше умру, не могу терпеть!» «Работаем!» – Миша жёстко командует. «Терпи, мужик! – Андрей просит. – Терпи, родной!» А времени всего три часа. Боль адская. «Всё, не могу!» – кричит боец. Второй раз Миша набрал шприц, обколол ногу. Под утро опять очнулся Иван. Опять стонет, кричит. Рану ему обработали, забинтовали, шину сделали из четырёх досок снарядного ящика… Лишь рассвело, на двух БМП, командир дивизии дал лучших водителей, отправили раненых в Кундуз. Первая БМП шла порожняком, на случай мин, вторая след в след за ним. Долетели без потерь. Душманы предусмотрительно ушли ночью. Побоялись, что днём придут вертушки и будут с воздуха утюжить их позиции. Не зря боролись за ногу Ивана – кость аппаратом Илизарова в госпитале в Кундузе нарастили. Мог Иван в Союз после тяжёлого ранения улететь от войны. Отказался. Вернулся в Тулукан. Сначала хромал. «Ничего, – твердил, – разойдусь к дембелю!» Разрабатывая ногу, старался больше ходить. «Дурилка ты, – подначивал друг Боря, – сейчас бы летёх и капитанов строил в Союзе, они пороха не нюхали, а ты с Красной Звездой на груди! Боевое ранение. Всех бы посылал! Как сыр в масле катался напоследок службы! В самоходы бегал девок портить! Они, дурочки, с орденами любят!» – «Вот и не хочу калекой к ним вернуться! Мужиком должен прийти домой!» – «Чё калекой-то? Основную для девок конечность успел от танка спасти! А нога не играет роли!» Демобилизовался Иван «к девкам» без хромоты. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему; яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия… Его действительно будто на руки взяли… Об этом не рассказывал жене. Зачем нагружать без того исстрадавшееся сердце? Ранили и ранили… Хаким передал: его бойцы прознали, что в Тулукане банда из восьми человек. Готовят провокацию. В такой ситуации лучше в зародыше ликвидировать. Комбат отряд из пятнадцати человек направил на уничтожение душманов. Окружили дом и вперёд. Двухметровый глинобитный забор, тактика преодоления препятствия, как у мальчишек, что по садам лазят. Один подставляет спину, другой с неё, как с подставки, взлетает на забор, подаёт руку товарищу – вот уже и второй на верхотуре. Андрей первым заскочил, помог забраться напарнику, рядовому мотострелку Сергееву, и прыгнул во двор, рассуждать некогда – тактика натиска: смять с ходу, не дать опомниться. Прыгнул, смотрит в точку приземления, ноги бы не переломать. И, мать честная – не один летит туда. Граната Ф-1. А это не лимонка. Сергеев увидел полет «эфки» и прыгнул обратно с забора на улицу. Крикнуть он крикнул: «Берегись!» – но Андрей уже летел на гранату. И не свернуть от точки взрыва. Падают навстречу друг другу посланница смерти и определённый в жертву объект. Всего и смог Андрей за мгновения обречённого полёта – защитился автоматом: приклад между ног, ствол к груди, на которой никакого бронежилета. После чего приземлился в самую сердцевину взрыва, откуда тут же вырос «куст» осколков. У Ф-1 они серьёзные… Спасло, что попал в эпицентр. Осколки разошлись веером по сторонам. Не все. Панаму, как шашкой казацкой, полосануло. Сразу не понял, видит: что-то перед глазами телепается. Но что? Рукой потрогал. Поясок от панамы. Осколок бритвой просвистел впритирку с левым виском, разрезал ремешок панамы. Самой малости не хватило до плоти. Андрей прислушался к себе. Болью нигде не отозвалось. «Живой!» Ринулся продолжать атаку, давить душманов. А не совпадают боевые намерения с возможностями ног: правая готова вести погоню, пружинисто упёрлась в землю для рывка, левая как не родная. Будто нет её вовсе. Что за напасть? Ещё раз дёрнулся в сторону моджахедов. Потом глянул вниз – левая ступня неестественно вывернута, из ботинка кровища... Голову крупный осколок пощадил, зато мимо ноги аналогичный не прошёл бесцельно. Вонзился на полную. Кость ступни, как топором, развалило. Нога занемела, будто от анестезии. Потому и не почувствовал. Сергеев потом говорил: «Прыгнул на другую сторону дувала и думаю: всё – погиб старшина, такой взрыв». Сразу после взрыва он перескочил к Андрею. – Старшина ранен! – закричал. Бойцы подбежали. – Что, – спрашивают, – в грудь? – Нога, – показывает Андрей. – Какая нога, вся грудь в крови?! Посмотрел Андрей и решил: вот она, смерть его. Размечтался – прыгнуть на гранату и живым остаться. Показалось: грудь и живот разворотило до внутренностей. Кровавое месиво. Да велики глаза у страха – ни один осколок внутрь не вошёл. Только и всего – мелочью кожу посекло. В Кундузе в госпитале ногу восстановили за четыре недели. Рана заживала как на собаке, а душа ныла. И что-то непонятное случилось с организмом – пищу не принимал. Вылетало всё обратно уже на подступах к желудку. Ну, день можно поголодать, другой. На четвёртый сознание начал терять. Только на капельницах держался. Да и то, как сказать, в туалет пойдёт – туда дошкандыбает, обратно – брык и упал по дороге. Несут воина на кровать, капельницу поставят… Анализы раз сделали – никаких инфекций, здоров по этим параметрам. Откуда неприятие первых-вторых блюд? И даже чай не хочет задерживаться в желудке. Медицина ничего понять не может. Стресс ли, ещё что… Повторно анализы взяли. Никаких отклонений. Десять дней усыхал Андрей, на одиннадцатый стало восстанавливаться пищеварение. На медицинских простынях старался о доме, отпуске не думать. Гнал травящие душу мысли. Нельзя подсаживаться на опасные мечтания, когда ещё десять месяцев воевать. Больничное безделье давило тоской. Кто-то снотворные таблетки глушил, чтобы забыться. Андрей попробовал и отказался: сон тяжёлый, голова после него чумная. Тошнота хотя и прошла, ел через силу. Привезли Лёшку-связиста из Кундуза, с третьей роты. Контузия. Рассказывали, Лёшка любил ходить в рейды в кишлаки, стрелял во всё, что движется, особо не разбирая статуса – мирный житель или бандит. «Мирные они для меня, когда мёртвые», – говорил. Контузия не прошла даром. Вроде нормальный, но вдруг пожаловался Андрею: «Лидка, жена брата, заглядывала вчера в палату, посмотрела в мою сторону и, сука такая, не поздоровалась. Сделала морду, что не узнала. Я им перед армией всё лето дом помогал строить, специально уволился из сельхозтехники. А теперь она нос воротит, чё с калекой разговаривать?» Никакой жены брата, конечно, в Кундузе быть не могло. По выписке Андрея из госпиталя его едва ветром не унесло. Вышел из палатки на волю, вдохнул полной грудью, а ноги побежали-побежали. Ветер не ураганный, а тащит, что клочок газеты. Ему-то казалось: каким был, прыгая на гранату, таким и остался после. А он усох до дистрофического состояния. Брат родной не узнал. Андрей, будучи в отпуске, у подъезда лавочку ремонтирует, брат, как мимо чужого, прошёл… «Ты на себя посмотри в зеркало! – сжал Андрея в объятиях. – Живое кино про Бухенвальд!» На двенадцать килограммов похудел Андрей в госпитале. Олюшка через десять минут, как он приехал, после радостных восклицаний сказала: «А ну, раздевайся, показывай, где ранен?» Пытался отшутиться. «Я же знаю!» – настойчиво требовала. Ей приснился сон. Едут на «ГАЗ-51», так в её детстве возили школьников на прополку. В кузове устанавливаются сиденья – доски с крючьями в торце за борт цепляются. И будто едут в кузове втроём. С краю Андрей, потом сын Сашок и Олюшка. Вдруг машина переворачивается на бок, левая нога Андрея попадает между бортом и землёй. У остальных ни царапины, а его левая нога раздавлена. Олюшка сразу написала письмо. Старалась как можно чаще посылать письма Андрею, и он, несмотря на всю занятость, обязательно отвечал. Нередко получал одновременно пачку весточек из дома, военная почта не отличалась бесперебойной доставкой корреспонденции. Увидев сон с перевёрнутой машиной, Олюшка написала: «Андрюша, умоляю, будь осторожен! Я видела тревожный сон». Получил предупреждение уже в госпитале. Можно сказать, с первого афганского месяца Андрея Олюшка начала просыпаться в четыре утра. Не понимая – в чём дело? С завидной постоянностью в четыре зачем-то срабатывал внутренний будильник. Спать бы ещё… Выяснила происхождение «будильника» при встрече с мужем: Андрей поднимался в Тулукане около пяти утра, а временная разница между ними по часовым поясам была один час… Но не почувствовала приезд мужа. Зато сын… Когда после ранения отпуск дали, Андрей телеграммой предупреждать домашних не стал. Мало ли что. Отменят в последний момент, или до границы не доберёшься. Прибыл сюрпризом. К дому подходит, в этот самый момент четырёхлетний Сашок сел на кровать, с матерью спал, тормошит: «Мама, мама! Мне приснился сон!» Раза два снилось ему, собаки за ним гоняются, бодливые коровы. «Хорошо, спи!» – Олюшка успокаивает. «Не хочу спать, мне приснилось, тётя говорит: твой папа на корабле приехал с парусами! Он приехал!» Утром в садик не добудишься, каждый день с боем поднимался... Сроду не вставал в такую рань. И вдруг вскинулся среди ночи – «папа на корабле приехал». «Хорошо, хорошо, – мать гладит по спинке, – ложись, рано ещё!» В это время звонок – открывайте папе-воину. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему; яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби… Повторяя псалом, вспомнил Валентина. Они были в дивизии в Кундузе, и о диво: посмотрели кино. В дивизии бойцы сетовали: привозят в основном про войну и басмачей. Андрей с Валентином с киноголодухи были согласны на всё. Тогда показывали «Они сражались за Родину». Андрей как-то не заострил внимания, Валентин заметил после сеанса: «Помнишь, как креститься начал боец во время бомбёжки. Ничего уже не зависело от него, земля вставала на дыбы вокруг окопчика…» «Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби…» Отпуск пролетел быстро. Андрей возвращался в Афганистан на подъёме. Тянуло к своим, в привычную атмосферу. В Тулукан прилетел на вертолёте, и как обухом по голове Миша Ложкин сообщил: «Нету твоего Юры Яценко». Как нету? И показалось сумка спортивная, что держал в руке, свинцово потяжелела. В ней лежала баночка мёда, что мать Юры отправила сыну. Она приехала перед самым отъездом Андрея. «Пожалуйста, – попросила, – отвезите». Пока Андрей неделю проходил адаптацию в Ташкенте, пока ставили прививки, Юра погиб. Андрей, уезжая в отпуск, просил: «Ну, хоть этого парня сохраните, у него одна мать». Юра мог не служить. Настоял: что я, не мужик. И в Афганистан была возможность не ехать. Парень толковый, разбирался в электронике, в телевизорах, часто выполнял поручения начальника штаба. Тот однажды вызвал и сказал: «Вас отправляют в Афганистан, если хочешь – оставлю в Союзе». «Я всегда мечтал защищать негров!» – с бравадой отказался Юра. Он был отличным пулемётчиком. В школе занимался стрельбой из малокалиберной винтовки, в армии освоил пулемёт. Перед отъездом Андрея в Союз Юра попросил передать матери платок и брошку. Пожимая на прощание руку, наказал, подмигивая: – В Кундузе перед отлётом не ешьте фарш сосисочный! С Юрой Андрей познакомился едва не в первый день в Афгане. Прилетел в Кундуз, командир полка приказал «сгонять» в Термез с колонной битой техники. «В Тулукан успеешь, – сказал. – Бери БТР и вперёд. Дам тебе лучшего пулемётчика. Кстати, земляк твой». Колонна небольшая, три трала с БИМэшками, пару автомашин, один БТР раненый – днище покорёжено, в пропасть роняли, а так на ходу. В сумме семь единиц, считая БТР сопровождения. Дорога в сторону Союза не горная, пустыня вокруг, асфальт ровненький. Асфальт вообще в Афганистане, как говорилось выше, замечательный. Юра понравился не по земляческому признаку. Основательный боец. Как только получил приказание готовиться к операции, требование выписал и побежал на склад за боеприпасами. У нас ведь как: на охоту ехать – собак кормить. Ленты пулемётные готовить, а лентонабивочная машинка сломалась, запасной на складе нет. Юра бойцов поднял, давай ленты вручную набивать. Расстелили их в палатке, патроны высыпали – и вперёд до мозолей на пальцах. Полночи потратил, но с полным боекомплектом отправился. Подошёл к начальнику штаба полка. Был такой Мазурин. Большой мастер по «купи-продай» операциям. Часы электронные японские закупал коробками, технику японскую. Юра ему: «Гранаты нужны?» – «Зачем?» – «Восемь штук положено на броневике». – «Нет, не проси – ещё взорвётесь». И хоть кол ему на голове теши – не даёт. Наплевать, что на операцию едут, главное – ЧП бы не было. Юра походил по знакомым, набрал десятка полтора. «Не на себе, товарищ прапорщик, тащить. Вдруг, тьфу-тьфу-тьфу, пригодятся». Выдали сухпай. В нём сосисочный фарш консервированный. Он-то и подкузьмил воинов. В броневике сопровождения трое было: водитель, Юра-пулемётчик и Андрей. Водила и Юра навернули по банке фарша. По второй открыли. Андрей, глядя на молодёжь, тоже воспылал аппетитом. Фарш, на самом деле, вкусный – деликатес для солдатского рациона. Наелись от пуза. Реакция не заставила долго ждать. Как по команде, началась революция в желудках. БТР замыкающим колонны шёл, функцию прикрытия осуществлял. А кто прикрытие будет прикрывать, если ему по надобности приспичило? Некому. Но и сил пересилить вулкан в животе ни у кого из троицы не оказалось. «Стой!» – Андрей водиле командует. Колонна идёт вперед, они выскакивают, спина к спине втроём садятся, автоматы на взвод, гранаты под руку, готовы к круговой обороне даже без штанов. Только суньтесь. Моджахеды не решились. Облегчились бойцы, штаны натянули и ну догонять колонну. БТР – скоростная машина, километров девяносто по асфальту даёт, а колонна шла не больше пятидесяти. Только нагнали, Юра кричит: «Не могу больше!» И так километров сто пятьдесят свистопляска. Юра погиб за три недели до дембеля. Подбили из гранатомёта БМП, Юра выскочил, его из пулемёта в голову. Последних десять месяцев служил в Тулукане. Сам попросился на «точку», командир полка с неохотой отпустил лучшего пулемётчика. Надо было видеть Юрину мать, когда Андрей вручал платок и брошку от сына. Обрадовалась, зарылась в платок лицом: «Юрочка, сыночек! Скорей бы уж сам приехал!» «Всё будет хорошо, – обнял за плечи Андрей. – Вернусь из отпуска, ему как раз на дембель. Отправлю Юру, как положено. Парень у вас настоящий! Спасибо!» Как было тяжело от этой смерти… Будто сам виноват. Он и никто другой… Отговори Юру от службы на «точке», может, остался бы жив… И в том бою окажись с ним рядом… Знал, что все эти «бы» – ерунда на войне, но ничего с собой поделать не мог. Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему; яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое… Спроси его в Афганистане честно: верит ли в защитную силу молитвы на листке, запаянном в полиэтилен? Он, повидавший столько смертей, затруднился бы ответить. Но держал псалом при себе постоянно. Это был закон, сделать иначе – как предать Олюшку, которая заклинала, провожая: «Не выбрасывай! Ради меня и Саши не выбрасывай! Держи при себе постоянно!» Как-то, будучи в гостях у родственников на Украине, на рынке зашёл в павильон, где работала племянница. Вдруг заезжает инвалид на деревянной платформе с маленькими колёсиками. Таких Андрей видел в детстве в пятидесятых-шестидесятых годах. Фронтовики, у которых от ног ничего не осталось. Ездили на аналогичном «транспорте», перемещаясь с помощью рук, в которых держали колодки – отталкиваться от земли. У этого мужчины вместо рук культи. Ног тоже не было. Остаток правой длиннее, сгибался в колене и обут в кроссовок. С его помощью инвалид ловко передвигался на своей платформе. Посмотрел на Андрея пронзительными синими глазами, повернулся к прилавку: – Наташа, – сказал свежим напористым голосом, – сегодня мне не повредит фронтовых пятьдесят граммов и водички запить, а Валерке моему шоколадку. Проворно открыл своими культями кошелёк-«аппендицит», закрепленный на теле, какими-то невероятными движениями, даже показалось, что пальцы есть, отсчитал деньги. Племянница вышла в зал, инвалид был на голову ниже прилавка, принесла пластиковый стакан. «Как пить будет?» – подумал Андрей. Инвалид уверенно взял обеими культями мягкий стакан, опрокинул. Зазвонил сотовый, вытащил его, и опять удивительная проворность: ткнул кнопку и поговорил, прижав культей к уху аппарат. «Это Антон, – пояснила племянница, проводив посетителя до двери, – афганец. Страшно обижается, если относятся к нему как к инвалиду. Живёт в селе. Приезжает по выходным, привозит табуреточки, детские стульчики – под заказ делает. Этого на жизнь не хватает – семья у него. Стоит на рынке в проходе с коробочкой из-под майонеза, но никогда не попросит: “Подайте”. Просто стоит. Не возьмёт, если кто начнёт жалеть. Ни за что. Казалось бы, калека, увечный, но в нём такая сила жизни! “Я мужик – должен кормить семью!” – говорит. У него жена, тоже инвалид, а сын – нормальный мальчишка». Андрей посмотрел через стеклянную стену на улицу. Антон двигался на своей платформочке в сторону остановки маршруток. Так могло изувечить механика-водителя БМП, если под ним взрывался фугас. Инстинктивно сжимает рычаги, а ему бы отпустить их: взрыв швыряет вверх, рычаги изгибаются, руки рвёт, ноги калечит взрывом, режет об металл при выбрасывании. «Рассказывал, – продолжала племянница, – один в живых остался после боя. Очнулся в госпитале, лежал и думал: “Всё, я не человек, никому не нужен”. Хотел покончить с собой. Придумывал, как бы исхитриться безрукому. В одну ночь снится сон, спускается к нему с неба женщина в сиянии и говорит: “А ты не думал, почему живой? Мог бы погибнуть со всеми. Но раз даровано тебе – должен жить! И за друзей тоже!” Проснулся и такую силу в себе почувствовал, так быстро пошёл на поправку...» СОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Литургия шла в правом приделе. Служил отец Николай, седовласый, седобородый, с аскетическим лицом и глухим голосом. Диакон, наоборот, был плотный, крепкий, с сочным баритоном, аккуратной русой бородкой. Прислуживал чересчур серьёзный юноша в очках. На душе у Ксении было хорошо и покойно. Служба в центральной части храма – это всегда многолюдно, торжественно. Величие пятиярусного золочёного иконостаса, пение хора и клироса, наполняющее устремлённое под купол пространство обволакивающими сердце звуками, высоченные Царские врата, за которыми таинственный престол… Совсем другое – служба в правом приделе. Она проходила по-домашнему. Певчие стояли тут же – рядом с молящимися, не на возвышении. И алтарь на одном уровне с тобой, в каких-то пяти шагах. Волнующе близко, рукой подать, за невысокими Царскими вратами чудесно Святой Дух нисходил на чашу с хлебом и вином. Это произойдёт и сегодня… Впереди Ксении стояла молодая женщина. Беременная. Месяце на седьмом. Животик жёлудем. «Мальчик», – предположила Ксения. С беременной двое деток. Мальчишечка года три, девочка постарше – лет шесть, не больше. Дочь держалась вплотную к матери. Сын на месте устоять не мог. То садился на пол, то ходил. Но молча. Ксения старалась не пропустить ни одного слова службы. И любовалась счастьем женщины. И завидовала. Не стоять ей никогда вот так с детьми, не молиться рядом со своими малышами, чувствуя в животе умопомрачительную тяжесть новой жизни, которая ещё неразрывно с тобой, с которой омываешься одной кровью, маленькое сердце бьётся в унисон с твоим, а крохотные ножки вдруг – так сладко! – начинают требовательно толкаться… Она всегда хотела пятерых детей. Почему пять? А кто его знает? Будто с этим появилась на свет. Может, маленькой восприняла от старших сестёр: пятёрка – лучшая оценка в школе? Недавно прочитала, что идеальная семья вшита кодом в самом названии ячейки – «семь я». Мама, папа и пятеро детей. Как бы там ни было, хотела именно столько. В девятнадцать родила первую дочь, четыре года спустя – вторую. И не собиралась останавливаться. Домовитой никак не назовёшь. Не из тех, у кого ничего, кроме семьи, в голове. Телесное со старших классов бурлило, манило сладкой тайной, настойчиво требовало своего. Легко сходилась с мужчинами и до замужества, и после. За грех не считала. Беспокоило одно-единственное – муж бы не узнал. Никаких угрызений совести. Мужчины были женатые и холостые, младше и старше её. В кого-то влюблялась, кто-то проходил мимолётным приключением. И сейчас до полного осознания не видела в этом греха. Но пойти на исповедь с этим не могла. Два раза пыталась… Не испытывала смущения покаяться в абортах. Но мучительно стыдилась признаться священнику в многочисленных связях с мужчинами, в изменах мужу… Первый раз в очереди на исповедь стояла в страстную субботу. Придел с желающими исповедаться был полон. Добрых полтора часа с колотящимся сердцем снова и снова повторяла про себя, что скажет священнику. Очередь двигалась медленно. Уже шла литургия, а исповедь продолжалась и продолжалась. Наконец женщина, стоявшая перед Ксенией, шагнула к священнику. Ксения повернулась к очереди покаяться: «Простите, братья и сестры», – чтобы затем пойти под епитрахиль, и… смалодушничала. Почти бегом устремилась из церкви… Через два года уже под епитрахилью залилась слезами. Священник пытался успокоить: «Начинайте, будет легче…» «Нет-нет, в следующий раз!» – вся в слезах выскочила на улицу. Иногда думала: почему мать не приучала к молитве. Ни в детстве, ни позже… Мать и отец были из старообрядцев. Называли себя двоеданами. В Тюменской области, откуда они родом, было несколько старообрядческих деревень. В одних жили долгие годы только двоеданы, в их Турушево двоеданы и православные половина на половину. Отца Ксения молящимся не видела. Не помнит, чтобы перекрестился когда. Являл собой яркий пример грешного человека. Пил, курил, всю жизнь куролесил с женщинами. В пьяном угаре гонял жену, дочек… Тогда как мама на памяти Ксении без Бога ни до порога. Но исключительно сама. Ни старших сестёр, ни её саму не учила молитвам. Почему? Боялась за их будущее в атеистической стране? Боялась неприятностей в школе? «Без Бога, дочка, – как-то обронила, – я бы не выдержала с твоим отцом. Царствие ему небесное. Самые страшные мысли приходили в голову. Взять и избавиться от постоянной муки, себя и вас освободить от непрекращающихся издевательств. Отравить. Да так, чтобы никто не догадался… Не допустил Господь… Но пришла к Богу поздно, как тебя родила. А надо бы раньше, глядишь, и по-другому жили…» На что подмывало спросить: «Но почему, мама, нас не приучала? Пусть не к церкви, тогда это невозможно было, но к молитве… Ведь знала её силу…» Сразу после войны с матерью произошёл поразительный случай. Она – семнадцатилетняя девица Маремия – работала почтальонкой. За почтой в районное село за восемь километров сходит, змейкой по деревне от дома к дому пробежит, разнесёт газетки, письма, уже и вечер… Сумку, опустевшую, в сторону, начинаются домашние обязанности. Первая – встретить корову из стада. Жила Маремия с бабонькой – бабушкой по отцовой линии. Отец умер перед самой войной, мать – в 45-м. Надорвала сердце непосильной работой в колхозе, надорвала постоянным страхом невыплаты налогов. Осталась Маремия с бабонькой. Скорая на ногу, в тот памятный на всю жизнь день с почтой справилась быстро. Стоял август, самую голодную летнюю пору – до Петрова дня – деревня пережила, и пусть хлеб нового урожая ещё не попробовали, вовсю подкармливал лес: грибы пошли, ягода... За рекой Исетью поспела боярка. За ней Маремия нацелилась сплавать. До стада два часа в запасе. Как раз хватит. Бабонькин огород, начинаясь под самым домом, дальним краем уходил к Исети. Маремия с веслом и ведёрком миновала грядки, по тропинке пересекла лужок, вот и берег. Села на корму батика – лодки-долблёнки и погребла на другую сторону... Девушка невысоконькая, миниатюрная, да весло в руках, натренированных деревенской жизнью, работало споро, попеременно толкая воду с правого и левого бортов. Перемахнула реку, вытащила батик на берег, подхватила ведёрко... Боярка не смородина, собирать быстро. Одно, второе деревце обобрала… Ещё бы немножко, и наполнила ведёрко, да послышался рёв коров – стадо идёт. Как бы не опоздать. Заспешила Маремия к батику, и, Боже мой!.. Откуда что взялось? На небе солнце, а на реке во всю ширь волны! Да с пеной. Ходит Исеть набычившимися буграми. Заметалась Маремия. Подумалось: может, выше по течению тише, там криулина – река делает поворот. Села в батик, волны его мотают, грести невозможно… Что делать? У берега над водой тальник нависает, хватаясь руками за ветки, начала подтягивать лодчонку от куста к кусту. При этом читает вслух молитву «Сон Пресвятой Богородицы». Бабонька с детства учила: «Мы у воды живём, как на реке что – обязательно твори эту молитву». «Выехала за криулину, – рассказывала мама, – там ещё страшнее. Волн по верху нет, рябь, вода прозрачная, но бурлит всё, крутит. В такое варево на узком батике угодишь – обязательно перевернёшься». Маремия, цепляясь за тальник, стала спускаться вниз по течению, в надежде найти более спокойное место. Молитву беспрестанно читает: «Спала еси Пресвятая Дева Мария в городе Иерусалиме у истина Христа на престоле, и приди к ней Исус Христос, и рече Пресвятая Богородица: о Чадо мое милое, спала я на сем месте и видела сон чуден и страшен: видела Петра в Риме, Павла в доме Симона, а Тебя, моего Сына Исуса Христа, видела в городе Иерусалиме у жидов пойман, вельми поруган, и биши Тебя жиди, в лице Твое святое плеваше, и к Понтийстему Пилату на суд поведоша, и осудил Тебя Пилат на казнь, и казнили Тебя на горе Голгофе, на трех древах, на кедре, певге и кипарисе, руци и нози Твои ко кресту пригвоздиша, на главу Твою святую надели тернов венок, напоиши Тя оцтом, копием прободаша ребро Твое, а из него истечет кровь и вода за спасение всего человечества, а я, мате Твоя, у креста стояла с возлюбленным учеником Твоим Иоанном Богословом и вельми плакала и рыдала, и речешь Ты мне со креста: о мати Моя, не плачь, Я со креста снят буду и во гроб положен, и на третий день Я воскресну и вознесусь на небо с ангелами Херувимами и Серафимами, а тебе, мати Моя, прославлю. И речет ей Исус Христос: о мати Моя, сон твой не ложен, словеса твои паче меда устам Моим. Слава Отцу, и Сыну, и Святому духу. Аминь». Потом читала Маремия: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй мя». И снова «Сон Пресвятой Богородицы». Творила молитву и, цепляясь за тальник, плыла вдоль всей деревни, что была на противоположном берегу. Достигла нижнего её края, места, с которого бабонькин дом как на ладони видно. В пять минут бы долетела через реку, кабы не волны. Ходуном ходят, и думать страшно в такую погибель направить батик. «Спала еси Пресвятая Дева Мария в городе Иерусалиме у истина Христа…» – Маремия беспрестанно молитву читает… И вдруг смотрит… Сколько бы ни рассказывала потом, как доходила до этого места, мурашки по коже… Поперёк взбесившейся реки дорога пролегла. Слева и справа волны, а полоса шириной, как зимой санный путь, только рябью мелкой покрыта. От берега до берега протянулась чудесная дорожка. Маремия упёрлась в дно веслом, отпихнулась со всей силы и, не помня как, промчалась по тихой воде. Нос батика ткнулся в родной берег, в этот момент волна как ударит, захлестнула батик, ведёрко с ягодой перевернулось. Маремия глянула за спину: дорогу, только что лежавшую перед батиком, захлопнуло, как и в помине не было, река волнами пенными ярится. Перебежала с кормы на нос, цепь схватила, на плотик прыгнула. Плотик – мостки, чтобы воду на полив брать, бельё полоскать… Большие тележные колёса на оси, к которой три широких доски прибиты. Бесколёсый конец плотика на берегу закреплён. Обмелела река – плотик к воде пододвинут, прибыла вода – в другую сторону переместят. Рядом с плотиком кол с кольцом вбит – батик привязывать... Маремия цепь на кол намотала, боярку со дна лодки в ведёрко собрала, весло подхватила и на гору домой. Гора высокая, тридцать восемь ступенек. Во двор заскочила, корова в пригоне стоит, бабонька навстречу внучке: «Где была?» Рассказала Маремия о чудесной дорожке. «Это тебе Никола и Богородица дорожку сделали и перенесли, – сказала бабонька. – Я ведь их просила». Бабонька, как увидела волны на реке, начала молиться: «Святитель Христов Никола, спаси рабу Божью девицу Маремию принеси её домой целу и невредиму». И к Богородице: «Матушка Пресвятая Богородица, спаси рабу Божью Маремию девицу, принеси её домой целу и невредиму». Кто из них двоих вымолил дорожку?.. «Бабонька неграмотная была, – рассказывала мама, – она от своей матери приняла молитвы и мне передала». Мать любила вспоминать бабоньку, голос обязательно теплел: «Никто так за меня не молился, как бабонька. На каждый мой шаг. Куда идти, одной или с подружками, прошу: «Бабонька, благослови». “Бог, – скажет, – благословит, айдате со Христом”. И бегу довольнёхонькая». Читали часы. Читала девушка, почти девчонка, в белом платочке, ладненькая, с румянцем на щеках. Читала без нередко присутствующей на службах скороговорки, чуть нараспев: «…Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии воссташа на мя, и крепцыи взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред тобою…» Звонкий молодой голос выпевал древнюю молитву… Её словам внимали прихожане, иконы, стены храма… Беременная женщина слушала, наклонив голову, губы шевелились – повторяла про себя псалом. Дочь стояла рядом с матерью и смотрела на чтицу, сын отошёл к аналою. Был он в синих джинсиках, лёгкой цвета морской волны курточке, чёрных кроссовочках. Русые волосы аккуратно, даже стильно пострижены под горшочек. Видно, стригла мама, как руки подсказали, спереди они слишком коротко взяли, от чего волосики торчали. Мальчишечка постоял у аналоя, разглядывая светлый покров, потрогал ткань ладошкой, потом посмотрел на маму… Убрал руку… Ксения, спрашивая себя: «Почему мать не приучала к молитве?» – тут же возражала: «А был бы толк?» И снова задавалась вопросом: «Неужели совсем никакого, начни в раннем возрасте…» «Как я замуж вышла и родила Танечку, – рассказала мама, – совсем сделалась мирской. Закрутила суета-маета, утром поднимусь, три поклона не положу… Потом родилась Леночка… Только когда тебя родила и жить вконец невмоготу сделалось, опять начала к Богу поворачиваться». Мама в своём довоенном детстве отказалась идти в пионеры. Отрубила в школе: «Бабонька не разрешает галстук надевать, клеймо антихристово». Крамольное заявление, как ни странно, не вызвало карающих последствий. Может, на заре советской власти в деревне, наполовину старообрядческой, со снисхождением относились к нововведениям идеологическим? Потому санкций к ребёнку за политический выпад не применили. Своим детям Маремия ни слова не говорила о «бесовской повязке», о силе молитвы, о смертных грехах… Попробуй бы она, Ксения, в школе заявить про «клеймо антихристово»… У беременной женщины был с собой складной стульчик, она опустилась на него, давая отдохнуть ногам. Мальчишечка – до этого он, подперев голову руками, сидел на корточках у колонны – поднялся, подошёл к матери и полез на колени. С животом женщине было неудобно держать сына… Но он умостился. Всё молча. «Понимает, – подумала Ксения, – где находится». Первый раз Ксения изменила мужу, когда того призвали в армию. Проводила Петра в солдаты на два года, но и полугода разлуки не выдержала, схватила дочку-малышку в охапку и сорвалась к мужу под Новосибирск. За пару месяцев до этого решительного шага вынырнул из небытия Коленька Семёнов, первый её мальчик-мужчина, классом старше учился. Года два не виделись, тут столкнулись в сумерках на улице. Коленька бурно обнял, притиснул к груди, назвал, как раньше: «Ксюся!» – и поплыло у женщины перед глазами. На душе было так одиноко, так не хватало тепла, ласки. Дома через день да каждый день ругань родителей… Под разными предлогами оставляя дочь на мать, несколько раз бегала к Коленьке… Потом поехала к мужу, пусть он в казарме, зато рядом. Устроилась работать в госпиталь при военном городке, дали квартирку. На площадке, дверь напротив, жил обаятельный хирург из Харькова – Лёня Кошелев. Как-то Ксения загрипповала, температура под сорок. Лёня заботливо потчевал лекарствами, дочери Ксении Катюшке кашу варил, кормил малышку да и маму её. Жена Лёни, надменная Лариса, смотрела на это снисходительно. Как она отбыла в Харьков к родителям, Лёня стал поздними вечерами захаживать к Ксении. Или она к нему тайком ныряла. Когда Лёню перевели в Тюмень, его интимную роль стал играть сверкающий новенькими погонами лейтенант-первогодок, что жил этажом ниже… На пару с мужем «отслужили» срочную, вернулись домой. Она совсем-совсем молодая женщина, энергии через край, и, если нравился мужчина, а его тянуло к ней, результат, как правило, случался один. Муж – это обязательное, само собой разумеющееся, а вокруг столько разных интересных мужчин… Влекло любопытство: «Как будет с этим? Какая буду с тем? Какая нужна тому?» Родила вторую дочь. В год отдала в ясли, пошла на работу. Мужу дали квартиру. Жили дружно и негрустно, частенько выбирались за город большими компаниями. Муж, мужчина рукастый, купил старенькую «Победу», восстановил. На ней ездили на озёра… Любили весёлые застолья, принимать гостей, ходить по друзьям… На одной из таких вечеринок познакомилась со Славиком, праздновали день рождения его двоюродной сестры – сотрудницы Ксении. Славик на восемь лет младше Ксении, месяц назад аттестат зрелости получил. Пели с ним на два голоса, танцевали вальс, а через два дня Славик позвонил на работу и пригласил в кино. «Фильмец – боевичок, не пожалеешь», – агитировал. Как ни скрывал, в голосе чувствовалось волнение, опасался отказа. Работала Ксения воспитателем в общежитии. С начальником повезло, не из ретивых, свободно распоряжалась служебным временем, отлучиться ничего не стоило. В середине буднего дня рванули со Славой на «фильмец». В темноте кавалер взял за руку, потом положил горячую ладонь на гладкое женское колено. Не досмотрев кино, поехали к Славику домой, пока родители на работе. Едва захлопнулась входная дверь, Славик бросился прямо в коридоре раздевать женщину… Руки дрожали… После торопливых объятий включил магнитофон, пел Бутусов: «Ты моя женщина, я – твой мужчина!» Позже всякий раз после близости Славик восторженно повторял эту строчку, гордо подчёркивая «я – твой мужчина». Мужчина был губастый, голенастый, долговязый… При любой возможности набрасывался на неё с поцелуями. Славик водил Ксению к вчерашним одноклассникам. На этих вечеринках Ксения ловила себя на ощущении навсегда ушедших в прошлое школьных компаний, с их щенячьим восторгом, где парни и девчонки пыжатся казаться взрослыми, а будущее видится им сплошным праздником. В кругу друзей Ксении атмосфера была приземлённей. Собираясь вместе, случалось, гуляли дым коромыслом, дурили от души, но у всех за спиной семейная круговерть, дети на шее… Щёки Славика украшал плотный румянец. Ксения любила в постели положить ладонь на его лицо и медленно-медленно гладить ещё детскую кожу. Такое было только с тем самым Коленькой – первым парнем в десятом классе. Потом пошли щетинистые мужчины. С Ксенией Славик жадно открывал для себя женщину. Однако при всем мальчишестве голову не терял, дескать, «ты моя женщина навеки». Его забрали в армию, а через полгода комиссовали по здоровью. Но больше не встречались. Однажды столкнулись в трамвае. Славик ехал с молодой женщиной. Подошёл. «Моя жена», – кивнул головой в сторону спутницы. И произнёс как-то нехорошо: «Хотел жениться на деньгах и женился». В сказанном было и хвастовство, и упрёк. Ксении послышалось: вот были бы у тебя деньги… Ответила «нет», когда тихо предложил: «Может, созвонимся?» Хотя в первое мгновение, как увидела, была не против… Редко в какой период у неё не было мужчины на стороне. Любопытная до впечатлений, охочая до сладких ощущений, адреналина, что давали любовные приключения, – легко заводила знакомства. Угасала связь с одним, появлялся другой, ктото из прежних выныривал из прошлого. Как правило, не отказывала. «Много у меня было женщин, – признался однажды Дима-адвокат, – но как ты – ни разу». Не только он говорил такое. Любили её мужчины… Возвращаясь домой с очередного свидания, вела себя как в ни в чём ни бывало. Мужу женского доставалось сколько хотел, без ограничений, даже если час назад горела в чужих объятиях и пригребла в родную гавань в состоянии «никакая». Виноватой себя не чувствовала… Почему бы и нет, искренне считала… Скрывать от мужа свои интрижки всегда везло… Это много позже подумает: а вдруг погиб оттого, что постоянно изменяла, истончая невидимую, связующую сердца супругов нить… При всех изменах мужа любила. И мечтала о детях от него. Чуть, считала, девчонки подрастут, нужно третьего заводить... Не пугала серьёзная проблема: у неё был отрицательный резус-фактор крови, у него положительный. Было время, настойчиво звала: «Петя, бросим город, поедем к твоим в деревню, дом построим». Корова с целебным молоком не входила в планы, навоз не вдохновлял, а вот деток нарожать среди сельской идиллии – рисовала картину. Удерживающих, эгоистичных мыслей: «Пожить для себя» – не лелеяла. Те самые, вшитые в сознание, «пять детей» должны быть. Не суть важна пропорция «мальчики – девочки», главное – пять… В детстве соседка-подружка Галка располагала немыслимым богатством для их полусельской, с частными домами улицы. У Галки было две куклы из мягкой, телесного цвета пластмассы. Одну называли московской, другую – ленинградской. Из Москвы и Ленинграда привёз Галке отец. Большие, с полным функциональным набором: глаза открываются-закрываются, говорят «мама». Любо-дорого одевать их, заворачивать, нянчиться. Как живые. Было Ксении с Галкой лет по шесть, ещё до школы. Ксения куклу снарядит на прогулку, бант себе завяжет, выйдет на улицу, у калитки их дома стояла лавочка, из школьной парты сделанная, сядет и «прогуливает» куклу. Убаюкивает, колыбельную поёт. Ребятишки, та же Галка, зовут в казаки-разбойники играть, в лапту, вышибалу. Она – нет. Если вышла с куклой, никаких игр. Как же бросить своего «ребёнка»? Росла не паинькой – кошкой по деревьям, заборам лазила, не всякий мальчишка угонится, но, если занялась «дитём», остальное по боку. Нянчить, купать, одевать – на первом месте. На руках шила куклам платьица, трусики, колготочки. Однажды в шкафу нашла новую, самую красивую наволочку, из неё скроила игрушечную одёжку своей ляльке. Что самое интересное – мама не ругала… Поохала: «Ксюша, Ксюша, какая ты ещё глупенькая…» Она и взрослая была неравнодушна к куклам. Сумасбродный кавалер Боря Чернов, прознав про это, штук пять подарил. То резиновую, со свистком в боку вручит. «Закрой глаза», – попросил как-то, сам поднес к уху любовницы куклу и как нажмёт на неё, вызывая резкий свист. То привезёт Барби. «Деточке-конфеточке», – хихикал над её слабостью. Боря был водителем-экспедитором. Разъезжал на красном «Москвиче»каблучке. В течение трёх лет нет-нет и пассажирское сиденье занимала Ксения. Боря – парень весёлый, моторный, с поговоркой «без бэ»... «С Ленкой когда женихался, – рассказывал Боря, – у её матери частенько деньги перехватывал, тайком от Ленки. Без бэ… То «червонец», то «пятёрку». Занимала по первой просьбе. Дело к свадьбе завертелось. Думаю: чё отдавать? Можно сказать, общие финансы уже. Займу и, морду тяпкой, как забуду. Тёща не намекает. Боялась, что сделаю ручкой доченьке. С полгодика на халяву занимал… Как-то, уже далеко после свадьбы, заругались с Ленкой. Ей поскандалить только дай. Знаешь что, говорю ей, я вообще женился на тебе за-ради денег, чтобы матери твоей долги не отдавать. Она в визг: “Врёшь?! Какие долги?” Спроси, говорю, у мамочки. Она за телефон. И в слёзы, как услышала: “Да-да! Занимал и не отдавал!”» Ксения любила вырываться среди рабочего дня за город. «Без бэ», – каждый раз согласием отвечал Боря на просьбу подружки съездить к берёзкам или куда-нибудь на бережок. Встречались эпизодически, но было негласное правило: если кто-то изъявил желание свидеться, другой – все дела по боку. Боря влетел, без Ксении, на огненном «каблучке» в аварию. Разбил «транспорт любви». Сам остался целым и невредимым. «А чё со мной сделается?!» И завербовался на север… Приезжая в Омск на побывку, звонил: «Это, без бэ, я! Покатаемся?» Теперь у него были свои «Жигули» и снова красные. «На краснуху по жизни обречён!» Возил для уединения к себе на дачу, когда домой, пока жена на работе. Пару раз заруливали к нему в гараж. По-партизански, чтобы соседи не засекли постороннюю женщину. Ксения, перед тем как пересекать зону повышенной опасности, укладывалась на заднее сиденье, Боря драпировал с головой покрывалом «контрабанду». И не догадаешься, что под драпировкой недозволенный для женатого человека груз. В гараже имелся полный постельный набор: простыня, подушки, одеяло. Боря раскладывал сиденья, застилал… Любовники радостью украшали будни. Романтика секретных свиданий, праздники тела, обожание наполняли жизнь яркой новизной. В кровь вливалась лёгкость от предвкушения очередной тайной встречи. Кто-то из мужчин любил носить её на руках, кому-то нравилось мыть «девочку», как маленького ребёнка, под душем, кто-то именовал княжной, кто-то солнышком… Так было и в двадцать, и в двадцать пять, и в тридцать… Толю-камазиста звала в счастливые минуты Топтыжкин. Коренастый, он помедвежьи переваливался при ходьбе. И сильный. Ксению, как ребёнка малого, подхватывал рукой, согнутой в локте, под попу и легко к её визжащей радости перебрасывал с руки на руку. И всегда бережно. Во всём относился бережно. Что в самые интимные моменты заботился, прежде всего, о её сладких ощущениях, что при встречах первым делом наседал с вопросом: «Есть хочешь?» Да не за-ради вежливости – лишь бы отметиться. При любом раскладе старался подкормить. Пусть хоть крошечку съест. Всегда имел при себе конфеты или шоколадку. А уж если обстоятельства позволяли, исстарается приготовить вкусненькое для возлюбленной. Искусным поваром с широким репертуаром деликатесных блюд не был, но картошка с мясом, макароны по-флотски, наваристая уха из судака или стерлядки – получались на зависть. Чистюля. КамАЗ не «Волга», а всё одно – исключительно в белой футболке сидел за рулём. Толе по его уму-разуму не водилой быть. Но не смог из своей деревушки под УстьИшимом выше баранки подняться. Познакомились стыдно вспомнить как. Конец июня, у Ксении, студентки-заочницы института культуры, сессия. После экзамена подружка пригласила к себе домой в девичьем кругу отметить день рожденья. «Поалкашируем за моё здоровье!» – весело предложила. Ксения на вопрос: «Что будешь пить?» – загусарила: «Водку! От вина башка в жару трещит». Когда в шесть вечера поехала к матери за детьми, головной боли не ощущалась, но имелись другие признаки, говорящие, что наалкашировалась чересчур. «Надо протрезвиться», – оценила ситуацию и направилась в район посёлка Рыбачий, намереваясь, используя прохладу Иртыша, вернуть себе нормальное состояние. Купальник летом всегда наготове лежал на дне сумочки. На берегу стояло два КамАЗа, а в Иртыше, зайдя по пояс, смачно фыркали, густо намыливались четверо мужчин. Ещё один, лет тридцати крепыш с атлетической фигурой стоял в плавках у среза воды. Как бы в раздумье: купаться или нет? Видный по физическим данным мужчина. – Поплыли или как? – не могла не задеть его, входя в воду, Ксения. Она на Иртыше выросла, плывёт и плывёт. Толя, так звали атлета, поначалу вперёд умахал, дабы показать, кто из двоих сильный пол, но потом, как от берега далеко ушли, рядом стал держаться. – Ну, и что, – спрашивает, – на ту сторону рванём? – Можно и на ту… С берега закричали: – Толян, уезжаем. – Вот так всегда, – не успеешь с парнем познакомиться, его забирают, – продолжала кокетничать Ксения, теперь уже на обратной дороге к берегу. – Так айда с нами! – Если до автобусной остановки подбросите, то айда! – Подбросим, не на себе везти! Это была её ошибка. Подвела водка, которая к тому моменту ещё не вся выветрилась. Ксения громогласно заявила, выходя из воды: – Парни, еду с вами! Таку красавицу берёте? – Конечно! – загалдели они. – Не пожалеешь! Забираясь в машину, Ксения забыла сумочку с паспортом на берегу. Полиэтиленовый пакет с конспектами Толик ей подал, подсадив на верхотуру кабины, а про сумочку, куда сунула босоножки, забыла. В суматохе – водилы торопили: «Едемедем!» – сумочка вылетела из головы. В кабине сидело ещё двое мужчин. Вспомнила о паспорте, когда прилично отъехали. – Надо вернуться, – попросила Толю, – там паспорт! – Давай сначала на стоянку парней отвезём. Тут недалеко. На стоянке дальнобойщиков было ещё три КамАЗа. Горел костёр, что-то варилось в котелках. Мужчины выбрались из машины и Толя тоже. Тут же с двусмысленной улыбочкой в кабину вбросил себя мужик, щёки в чёрной щетине, с голым торсом. Потом узнала его прозвище – Рябой. – Ух, какая кралечка! – оценил Рябой. – Ты чё пришёл? Мы с Толей сейчас поедем за сумочкой! – возмутилась Ксения. – Чё за дела? Рябого не остановило категоричное заявление, он без прелюдии перешёл к активным действиям, сжав женское колено, начал задирать платье: – Чё ломаешься, как целка, не знаешь, зачем привезли? – Я с Толей! – пыталась остановить притязания Ксения. – Ты теперь и с Васей, и с Мишей… общая! Тебя подобрали по дороге, и не нервируй меня! Я психованный! Могу и врезать! И занёс руку… Ксения поняла: кричать, сопротивляться бесполезно, только больше разозлит. Перешла на деловой тон: – Не пугай! Пуганая! Презерватив есть? – На хрена? – На хрена попу война! Ты женат? – Ну! – Гну. Лезешь на первую попавшуюся! Хорошо, если нарвёшься с какой «придорожной» на хлам или трепак, а если СПИД подцепишь? И привезёшь на конце неизлечимое богатство! Иди, ищи презерватив! Надеялась, пока будет искать, удастся выпрыгнуть и рвануть через луг на трассу. Или, может, Толя придёт. Рябой высунулся из кабины: – Мужики, дайте презерватив! Кто-то из водил оказался запасливым... Рябой навалился на Ксению. Было противно, но быстро. – Следующим пусть Толя придёт! – потребовала у застёгивающего джинсы Рябого. – Толян, тебя девушка следующим требует! – спрыгнул Рябой на землю. – Только резинку надень, она с принципами. От Толика шёл свежий запах водки. – Толя, чё за дела? – зашептала ему в лицо. – Ты ведь обещал! Едем отсюда! – Это не моя машина! – Прошу тебя, милый, дорогой! Нельзя мне здесь оставаться! Может всё плохо кончиться для тебя и меня! – Я пьяный! Рябой убьёт за угон! – Будь человеком. Я ведь из-за тебя приехала, ты мне очень понравился, а ты бросил с этой обезьяной! Хочешь, чтобы через строй пропустили? Никто, кроме тебя, не нужен… Мотор взревел. Мужики, что сидели у костра, повскакали с мест, закричали. Толик сдал назад, разворачиваясь, а потом рванул через луг, срезая путь к трассе. Машину мотало из стороны в сторону… Сумки на берегу не нашли. – Как я к маме без босоножек поеду? Как босота… Дёрнуло связаться с тобой! Они заехали к её подруге, взять какую-нибудь обутку. Подружка усадила за стол, поставила бутылку… А потом постелила им на кухне на полу… – Рябой меня точно убьёт! – шептал Толя, забираясь к Ксении под лёгкое покрывало… – Будем надеяться: мама считает, что я ночую дома, а муж – что осталась у мамы. Утром, усаживая Ксению в такси, Толя сказал решительно: – Я приеду обязательно. Жди. Приехал в июле с большущей дыней. И признанием: – Люблю тебя, Ксюшенька! Постоянно думал о тебе! Встречались больше года. Он приезжал в Омск, когда на сутки, когда на две-три недели. Уединялись днём у его друга-холостяка, что жил в двухкомнатной квартире на Левобережье. Нравилось Ксении, она вообще любила машины, кататься с Толей на «КамАЗе». За городом он, не боясь, уступал баранку. Вот где адреналин! Огромная машина легко слушается тебя. Летит под колеса дорога, в сердце страх с восторгом, какая-нибудь песня из магнитолы… От Толи забеременела. И как только вкрались подозрения, решила: если что – буду рожать. Муж ничего не поймёт, а Толе, скорее всего, не скажет, что его ребёнок. Зачем? Но точно знала – от него. Резус-фактор крови у Толи был отрицательным, благоприятный для Ксении. Для Толи она была параллельным миром, четвертым измерением, куда нырял при первой возможности, где грело сердечное тепло, не было дрязг, претензий, попрёков, дышалось легко и свободно. В привычном мире бросала и возвращалась жена, мучила душевная неустроенность, была тупая деревенская пьянка. Никогда не жаловался Ксении на жизнь, но чувствовала – дома ему плохо. Приезжал улыбчивый, весёлый, любил вворачивать в речь строки Есенина или Маяковского. Школьная программа хорошо засела в памятливую голову. «Когда-нибудь сгребу тебя и твоих девчонок, – говорил в светлые мечтательные минуты, – и на самолете полетим в Усть-Ишим. Обязательно на самолёте, чтобы разом рубануть, раз – и мы в моей деревне, у мамы. Она тебя обязательно полюбит». Многие мужчины, расслабленные близостью, куда-нибудь мечтали с ней уехать. Но Топтыжкин был другое. Кто его знает, предложи категорично – может, и решилась бы Ксения на бесповоротный полёт… А потом его безрадостный мир стал вползать в их отношения. С Ксенией Толя никогда не садился за руль пьяным, однажды приехал за ней на работу с хорошим запахом. «Ксюша, не казни – сегодня под банкой!» Через день снова под той же «баночной» посудиной. За месяц до этого попал под следствие. На стоянке дальнобойщиков за городом под задним колесом его «КамАЗа» был обнаружен труп мужчины с раздавленной головой. Когда появилась милиция, Толя спал в кабине пьяный. Следствие быстро установило, что труп подложен. Но Толе пришлось понервничать. Под стражу не взяли, однако потаскали в милицию. «Похоже, Рябой хотел меня подставить», – сказал Толя Ксении. Каким счастливым, просветлённым вышел из милиции, когда с него окончательно сняли подозрения. Ксения ждала в машине, Толя попросил поехать с ним. Забеременела перед их разрывом. Начался он, когда Толя опять приехал к ней на работу подшофе. Заметным. Пригласил на квартиру друга, который куда-то уехал. «Поехали, Ксюшенька, я так соскучился!» В центре города, выворачивая из боковой улочки на проспект Маркса, впритирку прошёлся с КамАЗом-седёлкой, сорвал у коллеги зеркало заднего обзора. Тот выскочил из кабины, Толя тоже. Один другого в плечах шире. Кулаки у обоих с детскую голову. «Ты куда смотришь, пьянь?» – презрительно оскалился потерпевший и коротким ударом врезал Толе по скуле. Потом снял в качестве компенсации зеркало с его машины: «Вас, пьяниц, за яйца подвешивать надо!» Униженный в присутствии женщины Толя забрался в кабину, зло бросил в бессилии: «Ещё и ты тут сидишь!» И понёсся. Огромная машина с бешеной скоростью, километров сто – не меньше, полетела по городу. Ксения вжалась в сиденье. Промчались по мосту через Иртыш. Встречные машины шарахались, будто в западном боевике… Как они не перевернулись? Как не врезались в троллейбус или автобус? Как не погналась милиция? После той поездки Толя пропал. Ксения знала: он ещё неделю будет в Омске, остановился у двоюродного брата в частном доме. Женское сердце тревожно ныло. В один день Ксения не выдержала, рано утром поехала на поиски. Знакомая машина стояла у палисадника. Заглянула в кабину. Толя спал на сиденье. Постучалась. Открыл дверцу. Босой, глаза лихорадочные, дышит перегаром, ноги в засохшей грязи. Как ходил по лужам у машины, так и уснул. Белая футболка серая. Сдерживая злые слёзы, Ксения ушла. Не хотела видеть таким. Через два дня Толя приехал сам. У Ксении с утра поднялась температура. На работу не пошла, сидела дома, и вдруг звонок в дверь, мальчишка сообщает, что дяденька зовёт. Вышла. Толя из кабины высунулся. – Ксюшенька! – расплылся в пьяной улыбке. – Цветочек! Полезай ко мне! – Больше никогда не приезжай! Слышишь, никогда! – развернулась, зло хлопнула дверью подъезда. Он не приехал… К вечеру у Ксении начался жар. Обычно сбивала температуру аспирином. Муж на кухне резал капусту на борщ. Взяла горсть и отправила в рот с целью бросить на донышко пустого желудка что-нибудь перед приёмом лекарства, выпила таблетку. Через три часа её вывернуло со сгустками свернувшейся крови. Потом ещё раз. Вызвали «скорую», в больнице симптомы расценили как прободную язву. Стали готовить к операции, но после того как снизили температуру капельницей, кровотечение не повторилось. Решили отложить операцию до утра. Утром сделали ФГС, нашли эрозивную поверхность на стенке желудка. Посчитали: таблетка аспирина прилипла и разъела ткань. В больнице Ксения окончательно поняла: беременна. Толя не раз весело повторял: «Как бы ни предохранялась, Ксюшенька, – забеременеешь! От меня все беременеют!» «Не испугаешь! – смеялась. – Я женщина замужняя, а резус-фактор твой в самый раз для меня и нашего ребёнка – отрицательный!» И она бы родила, но лечащий врач, к которому обратилась за советом, категорично сказал: нельзя оставлять ребёнка. После интенсивного двухнедельного лечения, активной медикаментозной атаки на организм, оставлять беременность нельзя. «Тогда выписывайте, – попросилась, – пойду на аборт». И пошла впервые в жизни. Диакон вышел из алтаря, густым голосом нараспев произнёс: «Благослови, владыко!» Мальчишечка заробел, поспешил к матери, обхватил её ногу ручонками и прижался головой. Ксении показалось, что она физически ощутила бедром детскую щёчку, плечо, щупленькое тельце… Началась великая ектения. Диакон повторял нужды и прошения к Господу: «…еще молимся о патриархах, митрополитах, епископах и архиепископах… о граде сем… о плавающих, путешествующих, недугующих…» Боязнь у мальчишечки прошла, он отлип от матери, пододвинулся ближе к сестрёнке, дёрнул её за руку, сестрёнка отмахнулась. Мальчишечка подошёл к колонне, присел около неё... Диакон нараспев продолжал: «Молимся» Клирос пел: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Второй раз забеременела через десять лет. Срок их знакомства с Аркашей к тому времени подходил к семи годам. Познакомились за два года до гибели мужа. В графе «семейное положение» у Аркаши стояло чин по чину: женат, сын растёт. Влюбилась Ксения отчаянно. Аркаша в их лучшие дни был как ребёнок ласковый, осыпал нежностями. Позови насовсем Ксению через год отношений – разошлась бы с мужем, в их семье уже пролегла трещина отчуждения. Пётр начал теряться в стремительно меняющейся жизни начала 90-х годов сумбурного двадцатого века. Надо было на что-то решаться. Его завод разваливался, денег дома не было. Но он упрямо выжидал. Подрабатывал таксованием. Это были крохи. Начал прикладываться к бутылке. Часто ругались. А тут Аркаша, тысячу раз за встречу повторяющий «люблю», ловящий каждое её желание. Баловал подарками. И не только безделицами. Деньги у Аркаши, хорошего компьютерщика, водились. Но бросить мужа не позвал. И после гибели Петра не перешёл к Ксении с вещами. Было время – надеялась, разойдётся с женой. Но нет… Помогал во всём. Не тот случай, когда пламенно поделили постель и разбежались до следующего свидания. Как Петра не стало, взял на себя мужские заботы по дому Ксении… Будь то ремонт или на даче сделать ломовую работу. Практически каждый вечер появлялся. Дня без неё не мог. Ксения называла себя «незамужней женой». Бывали срывы, ревела по ночам в одинокой постели. Случались мужчины на стороне, теперь, как прежде с мужем, беспокоило – Аркаша бы не узнал. Залетела с беременностью в феврале. Возраст миновал планку «сорок лет – бабий век», в актуальные вышла проблема современных женщин – лишний вес. Ксения села от него на диету. Да так удачно – три килограмма удалось скинуть для стройности. Живот исчез за пару недель, по её конституции он являлся основным средоточием целлюлита. До диеты раздражающей преградой выступал, как застёгивать замки у сапог. И смех и грех по утрам. После диеты наклонялась к сапогам, будто в давней юности – легко и грациозно. Аркаша с восторгом отметил аккуратность форм. Но почти по закону сохранения веществ: в одном месте убыло, в другом аукнулось побочным, не сразу выявляемым эффектом: женский цикл сдвинулся. Под занавес февраля поехали с Аркашей на субботу-воскресенье за город зиму проводить, на лыжах напоследок покататься… У Аркаши имелась стопроцентная возможность под предлогом командировки в район срываться из дома. Уикэндовским залётом и опростоволосилась Ксения, беззаботно считая дни календаря безопасными. Тогда как диета передёрнула расчёты. Месяц после отдыха прошёл, и симптомы не заставили себя ждать. Упало давление до «как у космонавта». С некоторых пор рабочим сделалось повышенное – тут 120 на 80. Плюс к данным тонометра тошнота. Заволновалась не на шутку. Тест купила в надежде на опровержение тревожных подозрений. Тест бесстрастно показал: беременность имеет место. Сделала контрольную проверку – а вдруг ошибка, вдруг сбой… Ничего подобного. Понесла... При обширном списке обнимавших её мужчин как-то удачно всегда получалось, всего один раз, как упоминалось выше, была оплошка… И вот второй случай. «А что если родить?» – задалась вопросом. И принялась исподволь проверять близких на тему третьего ребёнка. Аркаша не замахал руками «нет-нет», заговорил о том, что не сможет быть полноценным отцом, значит – ребёнку расти без постоянной мужской поддержки. В постельных разговорах, когда роднее двоих нет никого на свете, они случалось пускались в рассуждения: кого им лучше завести из детей, кто краше получится? В «итоговом протоколе» всякий раз записывалась доченька. Сын у Аркаши рос, а у Ксения большой опыт с девочками обращаться. Поэтому на дочке останавливали перебор половых вариантов. Когда вопрос «кого лучше им родить?» из умозрительной сферы перешёл в реально зреющий, Аркаша заговорил о безотцовщине. Но начал монолог с более веской причины – резус-конфликта. Тяжеловесный аргумент. На отрицательный резус-фактор крови Ксении, у него был положительный. Оба уже не молодые для материнства и отцовства, у потенциальной матери две беременности за плечами, аборт: несовместимость резусфактора может обернуться серьёзной патологией в организме ребёнка. Младшая дочь на братика или сестрёнку взорвалась: «Я уйду из дома! Без того жить негде! Ты с ума сошла! В твои-то годы! Позор!» Старшая реагировала спокойней: «Тебе решать». И только мать порадовала: «У нас бабы в деревне и в пятьдесят рожали, тебе только сорок. Рожай, я уж не та помощница, да, глядишь, и подсоблю где…Что может быть лучше детей? Вон какие у тебя дочечки умницы да красавицы…» Клирос пел третий антифон: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи…» Царские врата были открыты для Малого входа, мальчишечка отошёл от матери к купели для крещения, что стояла у стены. Упёрся в стенку ёмкости обеими руками, попытался проверить её на прочность, мать повернулась в его сторону, сделала строгое лицо. Мальчишечка опустил руки, и тут же снова упёрся в ёмкость, как только мать обратила лицо к алтарю… Ксению крестили так, как это было заведено у старообрядцев, что жили в Турушево. Крестила женщина… Бабонька называла Никона антихристом. Таковым патриарх не был, но дьявол поиграл им вволю. Человек ражий, одеяния Никона, в коих проводил службы, тянули под шесть пудов. А уж энергии на десятерых. И церковный экстремал, в монашестве брал на себя чрезвычайные подвиги. Этот богатырь возмечтал о третьем Риме на Руси, новом Царьграде для Православия. Государь Алексей Михайлович был с патриархом «за» в этом вопросе. Да на всякое действие во славу Божию, дьявол тут как тут. Рогатый победно сыграл на гордыне Никона, стремлении властвовать в государстве от имени церкви… Как гласит история, для начала патриарх Никон воспламенился навести порядок в церковных обрядах и чине, там накопилось немало отсебятины. Но корректировать обряды и книги круто взялся не по древним славянским текстам, а по современным греческим. Из соображения: греки прямые потомки втрого Рима – Византии. Однако на Руси небезосновательно считалось: именно Русь сохранила в чистоте православную старину, горячо молясь, защищая веру мечом. Так считали и предки Ксении. Древнееврейское имя Исус на всех языках мира пишется и произносится с одном «и», лишь на украинском и греческом удвоенное. Никон через колено вводит новую редакцию. Директивным прямолинейным методом учреждает троеперстие для крестного знамения. Двумя перстами учил креститься Русь святой князь Владимир на берегу Днепра в 988 году. Вдруг на раз всё меняем. Даже эти две позиции несут для верующего человека глубокий сакральный смысл. Так пять веков молились деды и прадеды... Конечно, с верой в сердце получишь благодать Божию, крестясь и тремя перстами, и двумя. Да истинно верующий постоянно в ожидании конца мира, пред коим в мерзкой красе проявится антихрист, прельщая слабые души, обрекая их на погибель… Повсюду начались проповеди против диктаторских нововведений. Примешь их, начнёшь креститься троеперстно, повторять аллилуйя не два раза, как на Руси заведено было, а три, читать изменённый «Символ веры» – значит, предашь Христа. Бабонька рассказывала матери Ксении – предания старообрядческие и за три века не выветрились из памяти, – как сжигали себя люди целыми сёлами, как умерщвлялись постом, закапывались, принимая мучительную смерть – только бы не осквернить душу. Бросали обжитые места, бежали в глухие леса. А следом шли воевать с непокорными стрельцы… Всего каких-то шесть лет патриаршил Никон, но раскол, посеянный им на радость рогатого, продолжался и продолжался… И продолжается… Давние предки Ксении пошли в бега за Каменный пояс, за Урал. Осели на территории нынешней Тюменской области. Власти, повоевав с диссидентами, вынужденно согласились с существованием староверов, но на церковное инакомыслие набросили экономический хомут. За приверженность древлеправославной вере обложили двойной данью. Отсюда – двоеданы. Хотите верить на свой лад – платите. Крестилась мама Ксении двумя перстами, Псалтирь, молитвослов, иконы, большой медный крестраспятие и даже нательный крестик имела старообрядческие. Вместо священников у них в деревне были наставники. Поначалу мужчины, обычно кто-то из грамотных стариков, а как пошли революции и войны, как взвил знамя победы атеизм, женщины взяли на себя институт наставничества. Проводили моления в молельном доме, крестили, отпевали. Ксению крестили старообрядческим чином. И вкрадчи, как говорила мама, то есть – украдкой. Коммунистов в семье, кроме старшей дочери-пионерки, не имелось, да завеса секретности не помешает от лишних языков. Крестили в домашних условиях. Купелью служил бак алюминиевый. Готовясь к таинству, мама специально приобрела. Литров на пятьдесят. Потом, пока жили в своём доме, в сенцах стоял. С колонки возили воду и в бак наливали. Крестила мамина крестная – кока Елена. Кока – в переводе с деревенского на современный и есть крёстная. Кока Елена жила в родной маминой деревне, но сама все молитвы чина крещения наизусть не знала. Прочитать по уважительной причине – абсолютной неграмотности – не могла. К наставнице, тётке Манефе, пошла. Так и так, говорит, у Маремии дочь родилась, надо крестить. Наставница поехать в такую даль не имела возможности по состоянию здоровья. Благословила коку Елену. Договорились старушки включить заочный элемент в таинство введения младенца в Церковь Христову. Условились, в какой день проводить крещение, в какое время. Роли распределили: кока Елена в Омске всё делает, тётка Манефа параллельно молитвы читает в Тюменской области, те самые, неведомые коке Елене: Честному Животворящему кресту и 31-й псалом. Говорили, надо докреститься после такого обряда. Не было таинства миропомазания. Старшая сестра Таня перекрещивалась. Ксения суеверно не хотела. Кто-то ей сказал: перекрещиваться – это от беса. Ксения своё крещение помнить не могла. Но мама по благословлению наставницы крестила дочерей Ксении, своих внучек. Тоже вкрадчи обряд совершала. У младшей Аннушки восприемницей, то бишь крёстной, была, за неимением других кандидатов, старшая Катюша, которой четыре с половиной годика от роду на тот момент исполнилось. Как услышала начальные молитвы, так под стол залезла от обряда. Сидит, глазёнками испуганными хлопает. На вопрос: «Отрицаешься ли от сатани?» – за несмышлёного младенца, которого крестят, должен отвечать восприемник, то бишь – крёстная. Но та под столом. Да и что она могла сказать? Поэтому Ксения глаголила: «Отрицаюсь от сатани и всех дел его, и вся службы его, и вся сили его, и всех агел его, и вся студа его». Следом ещё раз: «Отрицаешься от сатани?» Ксения: «Отрекохся сатани». И через правое плечо, поворачиваясь на запад, плевала. Тогда никаких молитв не знала, но у мамы имелся весь порядок крещения. Написала Ксении «роль» на бумажке, дочь по ней читала. Крестили Аннушку в воскресенье. С вечера мама принесла с колонки воды, поставила вёдра у печки. Греть на печке нельзя, так пусть хоть до комнатной температуры вода дойдёт. Утром мама перелила воду в ёмкость – купелью на этот раз служил бак для выварки белья – зажгла свечу перед иконой, дала Ксении тексты молитв: «Положим сперва начал, читай за мной». Начал – краткое молитвенное правило, с которого начинается моление старообрядцев. «Боже, милостив буди мне грешной, – читала Ксения. – Создавый мя, Господи, и помилуй мя. Без числа согрешила, Господи, помилуй и прости мя, грешную». Потом «Достойно есть…», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…» Много позже сравнила «двоеданские молитвы» с текстами из православного молитвослова. Были различия. Песнь Пресвятой Богородице оканчивалась: «… яко родила еси Христа Спаса, избавителя душам нашим». А не: «…яко Спаса родила еси душ наших». Читала при крещении, совершенно не понимая, не вникая. Делала одолжение маме. «Раз ей так хочется – у меня не убудет». И с одной мыслью участвовала в обряде: скорей бы всё окончилось. Какой там трепет? За неделю до этого познакомилась с Мишей – студентом сельхозинститута… Сговорились встретиться как раз в день крещения у него в общежитии, пока товарищ по комнате домой в деревню на выходные уехал. Ксения заведённо, проглатывая незнакомые слова, протарабанила прощённую молитву, предназначенную в обряде крещения сугубо для матери ребёнка. Толики смысла не отложилось в голове. Через двадцать лет попросила у матери найти текст: «Простите мя, отцы святые, елика согрешила во все дни живота моего. Сей день и сей час без числа согрешила душою и телом, сном и леностью, помрачением бесовским, в мыслях нечистых, забытии ума и во осуждении. Согрешила сердцем и всеми моими чувствами, слухом и видом, волею и неволею. Несть бо того греха на земли, его же не сотворила, но во всех каюся. Простите мя, отцы святые, и благословите и помолитесь о мне грешной Ксении». Бак-купель стоял на табуретке. Три свечи на краю купели мама укрепила, зажгла, раскрыла тетрадку с молитвами, начала читать… После «Отче наш» произнесла: «Богоявление во Иордани крещающиеся Господи младенец Анна». Следом за этим как раз и спрашивается: «Отрицаешься ли от сатани?» За отречением следуют ещё три вопроса с восклицанием имени младенца, на которые крёстная отвечает «Обещаешься ли Христу?» «Обещеваюся Христу и верую в Бога без конца», – отвечала Ксения за крёстную, сидящую под столом. «Обещаешься ли Христу?» – «Обещахся Христу». – «Веруешь ли во Христа?» – «Верую во Христа, поклоняюся ему, покланяюся Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и Святой Троице». После этого мама покадила воду, убрала свечи, взяла правой рукой Аннушку за спинку, левой ушки, носик зажала, окунула с головой со словами: «Крещается раба Божия младенец Анна во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». По солнцу повернула Аннушку, опять окунула… Так три раза. Затем младенец по обряду передаётся крёстной. В виду несостоятельности последней, Ксения сама приняла Аннушку в новую пелёночку. Тельце Аннушки раскраснелось, но не плакала малышка. Крестная наконец вылезла из-под стола, захотелось посмотреть на «крещаемую», из воды вытащенную. Мама прочитала 31-й псалом. С молитвами надели крестик на Аннушку, одели в крестильную рубашечку, поясок повязали. И это не всё, как надеялась Ксения. Ей бежать надо, украдкой на часы поглядывает, что на комоде стоят. Думала: крестик надели, и сеанс окончен, свободна для Мишистудента, что ждёт не дождётся в своей комнате без свидетелей. Нет. Мама «поспасала» младенца: «Спаси, Господи, и помилуй рабу свою младенца Анну, избави от всяких скорби, гневы и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, прости ей всякое согрешение, вольное и невольное». И снова не всё. Мама заставила в завершении «положить начал» вместе с ней. Только после этого Ксения, под предлогом «поработать часика три в библиотеке», сорвалась на свидание... Кстати, дурацким получилось. Миша играл на гитаре, пел студенческие песенки и… заметно нервничал. Суетился, голос подрагивал. Наедине оказались впервые. Познакомились в студенческой столовой, по парку гуляли, целовались... Ксения с интересом наблюдала за поведением студента. Была уверена: всё получится, как она хочет, и эти руки с не по-деревенски тонкими пальцами будут жарко обнимать её… Миша вдруг бросил на кровать гитару, вскочил со стула, подбежал к двери, повернул ключ в замке и со словами: «У меня на ночь останешься» – выбросил ключ в форточку. После этого ей захотелось одного – уйти. Миша попытался сгрести в объятия, но выходка с ключом отбила все желания. Она замужняя женщина, дома дети, он вздумал решать за неё… Два часа сидели, надувшись, в разных углах. Миша нудно бренчал на гитаре, она листала журналы, что лежали в беспорядке на подоконнике… Наконец приехал товарищ Миши по комнате и открыл дверь. При чтении Евангелия прихожане придвинулись к аналою, мальчишечка встал рядом с матерью. С началом сугубой ектении: «Рцем вси от всея души и от всего помышления рцем…» – задрал голову, заинтересовавшись росписью потолка. Поза была неудобной, ручки повисли вдоль тела, однако что-то там наверху сильно привлекло мальца. С поднятой к потолку головой стал поворачиваться, ноги заплелись, сел на попку. И тут же, перейдя от потолка к противоположной плоскости, увидел интересную щербинку на полу. Поковырялся, затем, встав на четвереньки, поднялся на ноги… Началась ектения об умерших, беременная женщина несколько раз перекрестилась чему-то своему. «Ещё молимся об упокоении душ усопших рабов Божиих…» В записке «О упокоении» первым Ксения всегда писала мужа. Потом шёл отец, остальные родственники… В Радуницу старалась пораньше, пока никого не было, попасть на кладбище. У могилы мужа молча вытирала слёзы, просила прощенье… Девяносто второй год, дома хронически не хватало денег. Муж начал активно таксовать. У них как раз годовщина свадьбы предстояла, он упрямо задумал отметить. Время шло бандитское, муж опасался ночью и поздно вечером ездить. И не изменял этому правилу. Стоял июль. В десять вечера было ещё светло, махнула с обочины девица. На суде сидела накрашенная, как на вечеринку собралась. Она послужила приманкой и даже помогала душить, как потом выяснилось. Муж остановил машину, девица стала садиться на переднее сиденье, в это время появились два парня и разместились сзади от водителя. Действовали нагло. Приставили обрез: «Деньги!» Отдал какую-то мелочь, часа два всего и таксовал. Стали гонять: свози в одно место, в другое… Потом потребовали ехать за город. Парням было чуть больше двадцати. Один жилистый, сутулый, на суде нервно улыбался, второй в армии шоферил в стройбате. Взгляд наглый, постоянно бросал реплики на суде, вёл себя, будто его не очень волнует дальнейшая судьба. Муж отказался ехать за город. Его оглушили. Бросили на заднее сиденье и повезли за сажевый завод. По дороге он очнулся, начали душить шнуром. Приехав на место, избили, а потом два раза выстрелили, в голову и грудь. Закопали в отвалы. И поехали восвояси. Ксения в милицию отправилась на следующий день, часов в двенадцать. Муж никогда не ночевал на стороне. В милиции стали успокаивать: не паникуйте, в девяти случаях из десяти мужья находятся, надо подождать три дня, может, где-то гуляет. Обычное дело. В ту пору и милиция была нищета нищетой. Машины без бензина, людей не хватает. Она стала обзванивать друзей, знакомых. Никто ничего не знал. Но вдруг откликнулся бывший сослуживец мужа. Ему позвонила одному из первых, он сказал «не знаю». Но через полчаса перезвонил сам. Сознался: видел утром машину Петра в соседнем дворе. «Я ещё удивился, почему здесь стоит». – «Что ж сразу не сказал?» – «Да как-то…» Из мужской солидарности, в общем. Ксения заспешила с полученной информацией в милицию. Сообщение о машине органы восприняли вполне серьёзно. Оперативники быстро вычислили: её оставил бывший стройбатовец. Дома его не оказалось. Милиция просеяла круг знакомых подозреваемого и вышла на подельника – парня с нервной улыбкой. Он не стал запираться, поведал, что и как. И доложил: стройбатовец с девицей собрались «делать ноги» в восточном направлении, в Красноярск. Беглецов прихватили, когда садились в вагон. Вот такую блестящую операцию провела милиция. Труп мужа Ксения опознала по шраму на груди от карбункула. Лицо было изувечено, в гробу лежал как другой человек. Клирос запел «Херувимскую песнь», мальчишечка начал, как бы танцуя, переступать с ноги на ногу. Раскачиваясь, медленно повернулся лицом к молящимся, покачался, снова развернулся в сторону алтаря. Потом остановился и принялся, присев, натягивать курточку на колени. Курточка была коротковатой, но он упрямо тянул ткань, выполняя задуманное. В клинику с нежелательной беременностью Ксения поехала на исходе шестой недели возникновения оной. Наступала граница медикаментозного аборта. Доктор Антонина Сергеевна, у неё приходилось бывать раньше по женским вопросам, выслушав «проблемы», направила на УЗИ. – Хорошая беременность! – отреагировала врач на УЗИ, милая кареглазая, совсем ещё юная Леночка. – Редко в наше время такую беременность встретишь. Просто прелесть. Жёлтого тела маловато, но это легко корректируется. Ксения опасалась: в клинике посмотрят на неё как на старуху, которой о вечности думать пора, она мало того, что с мужиками кувыркается – ещё и головой о предохранении, как неопытная дурочка, не думает. Вместо этого – «хорошая беременность, редко такую встретишь». Гордость наполнила сердце: вот я какая! На вопрос Антонины Сергеевны: – Что будем делать? – вылетело: – Рожать! – Наверно, муж молодой? – предположила доктор. – Да, – не зная зачем, соврала Ксения. И спросила, а если всё же делать аборт, какие сроки. Врач бесстрастно проинформировала: сегодня препарат в наличии, завтра его не будет, но в воскресенье точно подвезут. И предоставила пятнадцать минут на раздумье. Ксения вышла в холл, где гордость за «хорошую беременность» мгновенно испарилась. «Куда рожать? – застучало в голове. – Сегодня есть физиологический отец, завтра сдуется, и что? Останется одна-одинёшенька с «хорошей беременностью». Кому нужна с ребёнком в сорок лет?» И что тянуть-откладывать. Отваляется за субботу-воскресенье, а в понедельник на работу. Она уже три года работала в частной фирме, это не та вольница, что была в общежитии. Как корила потом себя за поспешность. Выпила препарат, отторгающий яйцеклетку. Посидела с полчасика. Заехал Аркаша и отвёз домой. «Сегодня к вечеру всё пройдёт, – сказала Антонина Сергеевна, – а денька через два к нам». Дома начались схватки. Лицо горит. Давление зашкаливает. Температура. Полубредовое состояние. Аркаша сказал: «Милая моя, всё будет хорошо. Крепись. Я с тобой». И уехал. Как бесила потом эта дурацкая фраза. Да где он с ней? Где? Загибаться будет и то не сможет позвать: «Приезжай, спасай, умираю!» Это исключено: у него жена, звонить ни в коем случае нельзя. Помочь могут только дочери, больше в целом свете никто. Ну, мама. И все признания в любви, все слова «ты моя единственная» – пустой звук. «А что он мог? – думала потом. – Что, он рожал когда-нибудь? Аборт делал? Представления не имел, в каком состоянии женщина в такой момент». Но хотелось поддержки. Как хотелось. Извечный высверливающий мозги вопрос: кто виноват? Сама, корила себя Ксения, сама ворона. Не подумала, не перестраховалась. Но ведь и он не случайный мужчина… Ночь прошла кошмарно, потеряла много крови, но ожидаемого результата не получилось. Клирос запел: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя…» Прихожане в одном порыве подхватили. Ксения пела со всеми. «Символ веры» года два назад выучила наизусть. Но в храме сбивалась. По утрам читала в своём ритме, он отличался от церковного пения, поэтому в храме всегда напрягалась, забегала памятью вперёд произносимых слов. Нужное не всегда вовремя всплывало… Прозвучало «аминь», мальчишечка попятился в сторону Ксении. Остановился в шаге от неё. Ушки, наполовину прикрытые волосиками, забавно оттопыривались. Вдруг Ксении показалось: она услышала запах детских волос. Сладкий, солнечный. Так для неё пахли только что из-под утюга простыни, наволочки, свежевыстиранные и на ветру высохшие. Во время глажки поднесёт к лицу – и остро вспомнятся дочки-крохотулечки… Дочки давно благоухали духами да лосьонами. На вдруг проявившейся интерес матери к церкви вначале смотрели как на чудачество. Младшая Аннушка ворчала на появление икон в доме: «Мам, ты чё, старуха что ли? Это бабушка ладно, ей уже восьмой десяток, а ты-то молодая совсем…» Аннушка всё подбивала её в Интернете разместить информацию, чтобы познакомиться с мужчиной для замужества. Иконы Аннушка убирала с полки перед приходом своих друзей. Ксения придумала сделать иконостасик на кухне в подвесном посудном шкафчике. Освободила полочку, перенесла туда иконки. Откроет дверцы утром, помолится, снова закроет. Мать Ксении радовалась, что дочь стала бывать в церкви. Сама ходить на службы по нездоровью не могла, но всегда расспрашивала, что и как. Какой батюшка служил? Что за хор? Какой народ в храме? «Скоро умирать, доченька, а я не намолилась, нет, не намолилась, – сетовала мама. – Сколько лет потеряла…» Мать четыре года назад в откровенном разговоре сказала: её спасла молитва. К Богу пришла, когда порядком за тридцать было. Вдруг поняла, иного спасения нет. Жить совсем невмоготу стало... А перед этим засела бесовская мысль избавиться от мужа… Замуж за него не хотела. Было подозрение, подстроили всё две тётки: её – Варвара и его – Манефа. Обе богомолки, да тут мирское взяло. Тётка Манефа племянника любила, как никого другого. Мужа и детей Бог не дал, а Егорушка практически у неё в доме вырос. За что потом отблагодарил сполна. Никого у тётки Манефы не осталось в деревне, старушка еле ходила, попросилась к племяннику в Омск. Не отказал любимчик. Три зимних месяца тётка всего и выдержала его хлебосольство. Готова была весной на карачках ползти восвояси в свою избушку-развалюшку. Пусть ноги еле переставляет, руки-крюки, но лучше одной, чем в таком аду. Через день да каждый день ночные концерты. Егорушка, её любимый Егорушка, будто подменённый. Слюна брызжет от злости, орёт, матерится. «Выкину на снег!» – грозился, как начинала заступаться за Маремию. А та, бедняжка, не знает, куда бежать. Отблагодарил. А женили его подружки Манефа да Варвара так. Маремия из себя не больно красавица, хотя всё при ней, глаз чуть косил, да это мелочи. Но когда тётка Варвара напрямую спросила: «За Егорушку замуж не хочешь?» – отказалась наотрез. Нельзя сказать, не нравился парень. Удалой, на тракторе работал. Да слишком много зазноб имел. В соседней деревне жила разбитная Верка Соколова, её Егорушка частенько на своём тракторе катал. В Исецком, куда по колхозным делам ездил, тоже, рассказывали, имелась присуха. Не хотела Маремия с другими делить мужа. Но Манефа с Варварой подстроили женитьбу коварным образом. В тот день все вместе были на покосе. Вернулись под вечер, Варвара к себе домой зазвала. Маремия на лавку прилегла. Можно сказать – без рук, без ног была девушка. Ведь ещё затемно поднялась, надо с коровой управиться – бабонька болела – потом на покосе весь день, и не с граблями, а с косой. Прилегла в бессилии и провалилась в сон, как в яму. Тётки тем временем улизнули. А ушлый Егорушка воспользовался моментом, смертельной усталостью девушки. В вопросах пола был вполне сведущ, подлез по-тихому… Маремия слишком поздно хватилась, что не сон снится, это брачная ночь, без её согласия на брак, в полную силу началась. Проснулась, когда Егорушка вовсю владел ею. Кричать стыдно и отбиться от его ручищ невозможно. Изнасиловал, можно сказать. А можно и не говорить – и так ясно. Маремия забеременела с первого раза. Отец был совершенно разный утром и вечером. Сколько раз Ксения видела его на коленях перед матерью, просящим прощения. Всякий раз верила его словам, настолько искренне говорил. А вечером бегали от него по улице, прятались в сарае, летом ночевали рядом с курицами. Ходил к каким-то странным женщинам. Однажды кричал: «Убью суку! Убью!» Ксения была ещё маленькая. Но запомнила эту сцену. Много позже мать расскажет, женщина поила его квасом с приворотом. Прознал. Оттого и кричал. И на самом деле пошёл отдубасить зазнобу, но та вовремя убежала. У отца, считала Ксения, был комплекс: жена досталась не по путному. Как ворованным пользовался. Ущемлённая гордыня жгла его. Скорее всего, не женился бы после «брачной ночи» на лавке в покосную страду, кабы не беременность. И знал, что мать точно не пошла бы за него. Этот камень давил. Как-то обронил Ксении, когда она заневестилась: «Дочка, выбирай мужа, чтоб не хромой, не шепелявый. Соринка с годами может в бревно превратиться». Пьяный мог оскорбить мать по поводу её косоглазия. Для Ксении до десяти лет было два отца. Трезвого очень любила. Ещё до её рождения мать упросила отца уехать из деревни, наивно полагала, тем самым оторвёт от разгуляй жизни. Отец поначалу не хотел, но потом горячо уцепился за идею переезда: «Дочки должны получить образование, чему они в деревне выучатся!» Подключил родственников в Омске, два раза ездил сам, подбирая дом. Не побоялся залезть в долги. И дочки получили образование. Но затея матери не удалась – с переездом в город ещё пуще люли-малина пошла. В трезвом отце маленькая Ксения души не чаяла. Когда работал на машине, страшно радовалась возможности поехать с ним в рейс, а если ещё на целый день… Это было счастьем сидеть рядом в кабине и смотреть на дорогу, на меняющие картины по обочинам, дышать врывающимся ветром. Бывало, остановит машину, будто по надобности в кустики. Отойдёт в березняк у обочины, И вдруг выныривает оттуда с возгласом: «Быстро-быстро сюда! Что я нашёл!» Она выпрыгивает из кабины… Бежит. Вот это да! На маленькой берёзке конфетки в развилки веточек понатыканы. Все шоколадные! «Ласточка», или «Буревестник», или «Пилот». «Видишь, зайчик тебе гостинчик оставил!» Какие вкусные были те конфетки. Любила запах отца. Уткнётся в шею и надышаться не может. Родной аромат, где и табак, и кожа, и бензин… Трезвый часто возился с ней. «Ксеня, гимнастика!» Брал за руки, чуть приседал, ставил себе на колени, отклонялся, и она шла по «наклонной плоскости» – ногам, животу, груди. Потом садил на шею и начинал приседать, наклоняться вперёд-назад, вращать корпусом, отягощённым визжащей от восторга дочкой… В том возрасте Ксения к его пьянке по-другому относилась. Жалела что ли. Часто пил дома. Брал бутылку, а то не одну… Останавливать бесполезно… После первых двух рюмок делался разговорчивым, могли с Ксенией говорить о дальних странах. «Эх, – предавался мечтам, – нам, Ксеня, запчастей полный кузов, и поехали бы в кругосветное путешествие… А чё – мой «газон» выдержит». Ксения несла географический атлас, они прокладывали маршрут, чтобы обязательно была Москва, Минск, где жили родственники... «А львы в Африке?» – спрашивала Ксения. «Ружьё прихватим с пулями на медведей!» После третьей-четвёртой рюмки отца настигала всесветная любвеобильность. Обнимал жену: «Маремиюшка моя». – «Ты бы не пил, отец, больше». – «Ерунда! Девчонки, кто скажет: почему я на матери женился? А потому, что знал: дети будут не сквозняк в голове, умные. Вон какие вы у меня отличницы!» Но уже следующая пара рюмок ввергала в злость, в маты, в кулаки… Мать убегала с детьми. Ксения нередко оставалась. Отец её не трогал. Мотался по дому, искал выпивку, а Ксения начинала петь. «Папа, давай попоём». Песня гасила бешенство, успокаивала. Любил вместе с дочерью выводить «Осенние листья летят и летят в саду», «Подмосковные вечера», «Выйду я из дому, гляну на село»… Не все слова помнил, но подпевал. Мать в ожидании заглядывала в окно, и, когда засыпал, Ксения махала рукой: заходите. Ей было десять лет, отец взял на майскую демонстрацию. День выдался прохладный, с ветром, но солнечный. Доехали на автобусе до моста через Иртыш, дальше дорога для транспорта перекрыта, шли пешком, разговаривали. Такой душевной близости с отцом, как тогда, больше Ксения не помнит. Отец в новом светлом плаще, серой шляпе с узкими полями. «Это моя младшенькая», – обнимая Ксению за плечо и прижимая к себе, представлял сослуживцам. Один заговорщицки распахнул пальто, из внутреннего кармана выглядывала серебристая фляжка, и предложил, мол, давай тяпнем за праздничек. Отец замотал головой, кивнул на Ксению. Дескать, не могу, не тот случай. Отказался даже от глотка. Ксения загордилась отцом. В возбуждённом многолюдье, украшенном красными флагами, транспарантами, разноцветными шарами, песнями, что лились отовсюду, отец и дочь постоянно находились рядом. После демонстрации возвращались домой пешком. Мечтали. «Летом обязательно надо свозить тебя в Москву, – говорил отец. – Возьму в июле отпуск, и вдвоем махнем на неделю. Сходим в Кремль, может, в Оружейную палату попадём». «И в Ленинграде я не была, поедем?» – просилась дочь. «Конечно». А потом он увидел пиво. Продавали прямо на улице. «Возьму пару бутылочек». – «Не надо, папа». – «Да ладно ты». Она страшно обиделась. Весь день, как вышли из дома, рука Ксении была в шершавой руке отца. Ксения вырвалась, заспешила вперёд. Он на ходу пил из горлышка, шёл следом. Слёзы кипели у Ксении в горле. И с того дня исчезла жалость к отцу. Не возникало желание уткнуться в шею. А лет с четырнадцати стали сниться сны, будто убивает отца. Он опять пьяный, лежит на полу или на кровати, она хватает двумя руками портняжные ножницы и вонзает в грудь. Или бьёт топором по голове… Просыпалась испуганной, боялась комунибудь рассказать увиденное... Только в один период не пил ни капли. Ксения была на третьем месяце первой беременности и как-то утром после скандальной ночи зашла к отцу в закуток, где он, хмурый, похмельный, собирался на работу, и зло бросила: «Ладно не жалеешь меня, на мать тебе наплевать, но представляешь, каким родится у меня ребёнок, твой внук? Каким будет, если развивается в этом аду, каждый день маты, крики, ругань?!» Отец ничего не сказал. Но прошла трезвой неделя, другая, месяц. На Новый год впервые собрались всей семьёй, сёстры пришли с детьми и мужьями. Внуки читали стихи, отец нарядился Дедом Морозом, специально костюм на работе выпросил, водил с детворой и взрослыми хоровод у ёлки. Держался пять месяцев. А потом на его глазах сменщик попал под гусеничный трактор. В тот день отец заявился домой с бутылкой, и покатилась пьянка в угарном ритме. «Добрых пятнадцать лет, дочка, жила я без Бога, – каялась Ксении мать. – С той поры, как вышла замуж. Закрутила жизнь, заела суета. Будь бабонька жива, глядишь, не дала бы обмирщиться, да она вскорости умерла, как я замуж вышла…» Но прижало и полезла на дно сундука. Там лежали две иконы, толстенная Псалтирь старообрядческая – отец подарил, как в школу пошла. По этой Псалтири в семь лет читать по-церковнославянски училась. Бабонька сговорилась с грамотной старушкой. У двоедан была традиция: детей постигать азы древлеправославной веры учили сведущие старики… «Маремия твоя читат, как по воде бредёт», – хвалила старушка смышлёную девчонку. Которая вдобавок была проказница. Возьмёт да напакостит. Уходя домой от старушки, заметённый в сенцах снег распинала в сердцах по сенцам за то, что «учительница» отчитала: поклоны абы как кладёт. Старушка вышла в сенцы и растянулась. Или рожицу Маремия ей за спиной скорчит. «Раз читат, как по воде бредёт, – решила бабонька, выслушав в который раз жалобу старушки, – то и хватит». На том и закончилось обучение. Изредка бабонька брала Маремию в молельный дом. Но основные молитвы Маремия приняла от бабоньки. Начала вспоминать их, молиться. Приезжая в деревню, собирала по родственникам – у кого осталось от стариков – книги с молитвами, канонами, акафистами. Дописывала вырванные страницы, сверяясь с книгами тётки Манефы, у той была хорошая библиотечка. С её помощью делала пометки, где класть поклоны… По пьянке отец не один раз говорил, кивая на мать, что молиться это бесполезное занятие. Человек должен обдумывать свои дела и оценивать их сам. Но как-то, когда Ксении было лет пять, научил её молитве «Богородица Дево, радуйся…» Через пару дней УЗИ показало: яйцеклетка деформирована, погибла и находится на прежнем месте. Антонина Сергеевна успокаивала: такое крайне редко случается, тем не менее – через три-пять дней оторвётся и выйдет, никуда не денется. Пока надо попить противовоспалительное, выписала рецепт. Улыбнулась в поддержку, мол, всё будет хорошо. Но и через три дня картина УЗИ не изменилась. – Какая вы исключительная, – прокомментировала с упрёком Антонина Сергеевна. – В девяноста семи процентах результат положительный. Ксения ходила с чувством: несчастный ребёнок держался из последнего, боролся за жизнь, а она убивала, изгоняла. Воспалённое сознание постоянно сверлила мысль о ребёнке, возникали картины, как он цепляется ручками, как всеми силами хочет остаться в ней, как просит пощадить, не лишать жизни. Где-то читала – уже на третий день после оплодотворения яйца, зародыш обретает душу. Всего-то капелька плоти, а уже одухотворена. И девять месяцев две души, её и ребёнка, жили бы рядышком, счастливо купались друг в друге. А она рубанула… Ревела, зарывшись в подушку. Проклинала себя – зачем, зачем так поспешно согласилась на аборт? Аркаша каждый день возил в клинику. Понимая состояние, не лез с расспросами, молчал. Всякий раз Ксения грубо отдергивалась, если пытался погладить или взять за руку. Всякая поездка к врачу оканчивалась разочарованием. Убитый зародыш оставался в Ксении. «Может, он мстит мне! Отравляет собой за предательство, за малодушие, за трусость!..» Как-то из клиники заехали с Аркашей к Ксении. Она заварила чай, поставила печенье. И вдруг поняла, глядя на прихлёбывающего из чашки Аркашу, вдруг бесповоротно осознала: а ведь не любит его больше. С этого момента никогда не испытывала к нему чувства, которое называла нежульками. Раньше волна нежности могла накрыть в самый неподходящий момент, например, на работе. Аркаша далеко, а вдруг накатит нестерпимое желание обнять его, прижаться к сильной груди, дышать родным запахом… Осыпать поцелуями… Наплевать, что женат, наплевать – не принадлежит ей до конца. Всё ерунда, ей подарено это счастье! Счастье до радостных слёз. И как не благодарить судьбу за это! Случилось то, что произошло однажды по отношению к мужу. Пришла обыденность. Памятный чай в одну секунду провёл резкую границу «до» и «после». Аркаше ничего не сказала. Но с той поры он превратился в пресловутого «друга». Ненавидела это слово. Как не переваривала «любовника». Да надо как-то называть, когда такой формат между мужчиной и женщиной. Аркаша по-прежнему был хорошим партнёром по постели. Но не больше. Всегда мимо сознания проходили его мелкие недостатки, какие-то умиляли, к примеру пошвыркивание носом. С того момента полезли в глаза. Приходилось напрягаться, гася раздражение. Ксения костерила себя за поспешную решимость на аборт. Куда торопилась? Ведь было время подумать два дня. В конце концов, пошла бы на хирургический. Куда её несло?! Изругав себя, схватилась за соломинку – надо исправлять совершённое. Забеременеть снова и родить. Обязательно! Да, душа появляется на третий день беременности. Но ведь не погибает, может, ей будет легче, если Ксения начнёт воспитывать другого ребёнка. Или отказника младенца взять? «Кто тебе даст, у тебя неполная семья!» – отрезвляюще проскальзывало в голове. Гнала эти мысли. Добьётся, убедит. Должна-должна-должна исправить ошибку, иначе не сможет жить. Приходили самые бредовые варианты. В соседнем подъезде жила одноклассница старшей дочери с трёхлетним сыном. Пила, не работала. Славный мальчик Гена с русыми вьющимися волосиками заброшен. «Усыновить его!» И опять в голове рассудочно: «Даже если мать согласиться отдать, она ведь превратит своими пьяными визитами жизнь в кошмар». Начала горячо молить своими словами, чтобы яйцеклетка ожила. Просила восстановить беременность. Как хотелось чуда: вот пойдёт на УЗИ, а Леночка скажет: «Вот это да! Вот это случай – у вас восстановилась беременность! Яйцеклетка ожила!» Даже представляла, как всплеснёт Леночка руками, как воскликнет удивлённо и радостно. Почему-то думала: обязательно обрадуется, обязательно начнёт поздравлять. Молила своими словами, потом осенило: спросить у матери молитвы, которыми вымолила тётка Манефа своего старшего брата Нестора… История с Нестором началась, как развернуло молодое государство революционные преобразования в деревне, стало колхозы организовать. Грамотного, смышлёного Нестора председатель колхоза определил по снабженческой части. И давай гонять в Курган, в Шатрово или Шадринск. Председатель из местных, но не двоедан, православный. Мирщина, называли старообрядцы православных за то, что отошли от истинной веры. Это к слову. Доставалы из Нестора не вышло. Когда на всех не хватает, проныра нужен, который без мыла в любую щель влезет, кого хочешь уболтает в свою пользу. У Нестора недобытчивый характер. Председатель и взъелся. Послал однажды запчасть достать для колбышечника – так окрестили в деревни трактор с газогенератором. Колбышки – маленькие полешки для него. Нестор вернулся из командировки с пустым мешком. Председатель разошёлся матюгами. Нестор возьми и резани правду-матку в ответ: «Другие председатели сами ездят! А ты задницу боишься оторвать. Харю отъел! Партиец называется!» Председатель взвился от критики. И накатал «телегу» как на врага народа, припомнил, что у Нестора свояк у колчаковцев воевал. Во времена обострения классовой борьбы чего проще от неугодного оппонента избавиться. Соответствующие органы быстро на «телегу» отреагировали. По врагам тоже план сверху спускали. Скоренько забрали Нестора. И давай человека под закон подгонять. Сам-то сразу не хотел сознаваться во вражестве. Били его, в тёмной несколько месяцев держали. Чуть не ослеп. Потом в лагерях сидел, вернулся домой в 42-м под осень. От прежнего Нестора и половины не осталось. Доходяга. Сорок пять лет, самый расцвет для мужика, а он старик стариком: дряхлый, сгорбленный. Жалко смотреть. К тому времени старший сын Иванушко двадцати двух лет на фронте погиб, средний – восемнадцати годков – Манюша, полное имя Эммануил, в Кургане умер. Из-за правого глаза – бельмом обезображен – Манюшу на боевой фронт не взяли, мобилизовали бойцом трудового – на оборонный завод. Манюша возьми и с землячкой сбеги домой. Кто уж из двоих на побег подбил неизвестно, только дезертировали, не выдержав голодной и холодной жизни, когда сутками не выходили из цеха. За ними тут же приехали. А потом пришло известие – умер Манюша. Осудили его за побег, в лагере умер. Когда Нестору заворачивали руки за спину заплечных дел мастера, детки арестанта сопли на кулак по малолетству мотали, вернулся из мест несвободы – двоих сыновей уже война прибрала. Но трое детей: Минька и Санька, четырнадцать да пятнадцать лет, и двадцатилетняя дочь Коздоя – при матери. Кстати, председатель, что благословил «врагом народа», на фронте сложил буйную голову. Определили Нестора по причине физической негодности на стариковскую должность – сторожем, склады с зерном и другим добром колхозного хозяйства стеречь. Это всё на что был способен мужик после лагерной житухи. С полмесяца походил вчерашний зек на службу, да в одну ночь пропал. Жена утром ждёт со скудным завтраком кормильца, а нет того. Поначалу грешили односельчане в предположении: порченный лагерем Нестор на воровство пошёл. Стащил колхозное имущество и рванул в бега. Склады проверили – ничего не пропало. Да и пропадать особо нечему было. День проходит, второй. Нет нигде сторожа. Потом пастухи из соседней деревни сказали: на болоте видели мужчину, окликнули, тот убежал. Многокилометровое в длину и вширь болото в тот год сухим стояло. Обычно весной в половодье заливало, потом вода держалась всё лето, а тут одни кочки, как табуретки, торчат. Среди них скрывался Нестор. Неделю пропадал, потом сыновья разыскали, принялся и от них прятаться, да молодые шустрей родителя. Спрашивают при задержании: «Ты чё ел все дни?» «Хо! – отвечает. – Иванушко с Манюшей меня кормили, я же с имя ушёл». Нехорошо Миньке с Санькой стало. Какие Иванушко с Манюшей, когда на Ивана похоронка полгода назад пришла, Манюша того раньше сгинул? Опасения вскорости оправдались неутешительным диагнозом. Проблемы с головой прогрессирующий характер начали принимать. Нестор на сыновей нападать не отважился. Больной, больной, да понимал – сил не хватит справиться, парни крепкие, а вот на жену, что ростиком полтора метра, кинулся с топором. Жена увернулась. Сыновья, не долго думая, в полати четыре скобы вколотили, папку по рукам и ногам привязали. Лежит родитель в ограниченном виде, одна возможность противодействия плену – язык. Кричит, ругается. Грозились сыновья рот завязать, но всё же эту степень свободы оставили. Особенно материл Нестор с полатей свою сестру Манефу. На какие только буквы не полоскал. В лагере подковался на нецензурное искусство. За колючей проволокой попадались затейливые учителя. Наслушалась Манефа от брата... Она ведь стала ходить молиться за него. Каждый Божий день как управится утром с хозяйством, так и идёт. Нестор на полатях навзничь лежит, она в переднем углу перед иконами молится. «А он кричит ей в спину, ругат её, материт распоследними словами, – рассказывала мама Ксении. – Пить попросит – дадут, дак он в её плеснёт и хохочет. Месяца два изгалялся, а потом стал ждать её. Жена Лена утром станет управляться, печку топить, он спрашиват: “Где она, Манефушка? Где она долго не идёт. Она чё ли сёдни не придёт?” – “Да придёт, корова ведь у её, надо же управиться!” Потом калитка стукнет, обрадуется: “Идёт Манефушка”. По стуку узнавал, кто идёт. Меня раз бабонька послала, я зашла, стою под полатями, он меня не видит, но спрашиват: “Марька, чё пришла? Чё надо?” А я боюсь. “Тётку Елену”, – говорю, сама к двери жмусь. ”Вон она, ведьма, вон в горнице сидиn”»… К весне Нестору лучше стало, его уже не привязывали. Манефа придёт, он спустится с полатей. «Коло тебя посижу», – разместится на лавке. Она молится, он рядом, сгорбившись, слушает. И вымолила сестра брата. Ни к каким врачам не обращались. Поправился, его тут же в апреле, будто ждали, в армию и забрили. Ведь 43-й год шёл, войне мужики нужны. Определили не на передовую, при госпитале. «В Москву угадал», – рассказывала мама. Работящий мужик понравился начальству. Война кончилась, его не хотят отпускать. Только осенью 46-го в Турушево вернулся. «Такой крендель пришёл, – вспоминала мама. – Здоровый, крепкий. Потом ходил в деревне маркитанил. Мужиков мало, так он скота резал, свиней, быков. Никаких отклонений с головой не было. Вымолила тётка Манефа. Лет двадцать потом жил, и никаких заскоков…» «Не знаю, доченька, какие молитвы читала – каноны или акафисты? – отвечала мать на вопрос Ксении. – Спросить бы дуре, ведь она к нам приезжала. И я у неё гостила не раз. Да с этой жизнью непутёвой в голове только мирское было». Тогда Ксения верила: знай те молитвы – смогла бы вымолить младенца, оживить плод. Позже думала: ну, что бы она вымолила, что? Тётка Манефа богомолка настоящая. А она? Но ведь и тётка небезгрешная: мать-то с отцом она свела обманным путём… Клирос запел «Отче наш…» Прихожане подхватили, запели беременная и дочь, при этом девочка взяла братика за руку – дескать, стой. Он послушался. Ксения в одном порыве с остальными выводила слова Господней молитвы. «Отче наш» всегда на литургии поётся на подъёме: служба подходит к концу, Бог дал выстоять её, совершить для себя маленький радостный подвиг. Ксения вдруг подумала: её ребёнок сегодня был бы таким же, как этот мальчишечка. Как раз четыре года назад сделала аборт. Сейчас стоял бы в церкви вместе с ней… В тот день Антонина Сергеевна сделала заключение: надо удалять яйцеклетку оперативным путём. Операцию Антонина Сергеевна делала под местным наркозом. Голова у пациентки «поехала». Но услышав: «Всё!» – Ксения попросила показать удалённое. Хотела своими глазами убедиться: в ней не осталось ничего. Антонина Сергеевна подняла пробирку с мутной вспененной кровью, и среди маленьких воздушных пузырьков Ксения увидела один миллиметра три в диаметре, водянистый – плодное яйцо. Дома ревела и ревела… Открылись Царские врата, диакон с чашей в руках произнёс: «Со страхом Божиим и верой приступите». Началось причащение. Ксения наблюдала со стороны. Мальчишечка без напоминания сложил крестообразно ручки на груди. «Не в первый раз», – подумала Ксения. Беременная хотела поднять его на руки к чаше. Священник остановил, сам наклонился к малышу. Тот старательно раскрыл ротик, вытянув губки… Следом причастилась девочка… Ксения вышла из храма, подошла нищенка: «Подайте Христа ради». Ксения достала из сумочки мелочь, протянула: «За раба убиенного Петра». Нищенка взяла с поклоном и заспешила к дамочке в шляпке. А Ксении вспомнилась нищенка Вея, тоже из двоедан. О ней мама рассказывала с теплотой. И сама грелась. «Веюшка», – называла. Уменьшительно-нежными именами двоеданы нередко называли даже взрослых. Вея жила в соседней деревне, замужняя, но бездетная и блаженненькая. Рассудком дитя дитём. Словно было определено ей оставаться разумом до конца жизни в наивной солнечной поре. Не замазаться злобой, не заразиться хитростью, не испакоститься воровством и подлостью, не запятнаться осуждением, а жить Божьей птахой, каким-то уроком для окружающих. «Отес от у меня учитель», – с гордостью повторяла Вея. И вправду «отес» – учитель, по имени Илья. Года два жил в деревне. Мать Веи без мужа четырёх дочек родила. Старшие – Ивановны, да не по отцам записаны, по деду, а Вея та Ильинична. Жила Вея подаянием, обходя деревни в округе. И не просто христарадничала, стуча в ворота. Руку не протягивала за милостыней… «Зайдёт Веюшка в любой дом, – рассказывала мама, – и сразу к иконам, три поклона положит и начинает спасать». «Спасать» – молиться за живых. «Всех, кто жил в доме, начиная со стариков и кончая всеми взрослыми, перечислит. Каждого по имени Веюшка знала. Сколь деревень в округе, всех до одного помнила. Насто, детей, не называла, родителей перечислит и добавит «с чадами». “Спаси, Господи, и помилуй рабы Своих (назовёт имена), избави от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни, душевные и телесные, прости им всякое согрешение, вольное и невольное”. «Кто умер, тоже до одного помнила. Поспасает, потом начинат покоить: “Покой, Господи, души усопших раб Своих (перечислит имена). Елика в житии сем, яко человек согреши, Ты же яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй. Вечные муки избави. Небесному царствию причастники учини. Душам нашим полезное сотвори”. Никто её не гнал. Поспасает, попокоит, её за стол пригласят: ”Садись с нами Вея Ильинична”. Покормят или хотя бы чаем напоят. С собой обязательно дадут – хлеб или картошку. По праздникам праздничное – пирожок какой, шаньгу. А Веюшка может на улицу выйти и тут же раздать детям: нате, ешьте». «Мужа её Тихоном звали, – вспоминала мама, – ни разу с ней не ходил. Мы, ребятня, увидим Веюшку и хихикаем: Тиша послал Вею поскиляжничать кусочков». Однажды мама ехала с бабонькой на санях. Весна, солнце вовсю, снег горит в полях. Небо яркое. Вея стоит на дороге, голову к солнцу подняла. Молилась ли, просто нежилась под пригревающими лучами… Вышла из церкви беременная с детьми. Все трое повернулись лицом к храму, перекрестились. Мальчишечка кланялся, подрубленно роняя голову вперёд. Мать взяла его за руку, спустились по ступенькам, прошли мимо Ксении. – Мама, у меня братик будет? – спросил мальчишечка. – Вот и не братик, сестрёнка, – ехидно сказала, резко повернувшись к нему, сестра. – Братик, братик! – успокоила сына мать. – Братик! РАССКАЗЫ ОБРОНЕННЫЙ БИЛЕТ Он заскочил на фирму к давнему институтскому знакомому, заглянул по секундному делу и нарвался на сабантуй через край по причине юбилея знакомого. В офисе дым стоял коромыслом – с музыкой, возбуждённой речью, звоном бокалов. Дёрнулся взад пятки, да куда там. «Связать и напоить!» – грозно скомандовал юбиляр. И потребовал тост. Торжество не один выслушало к тому моменту и оценило сказанное принятием на грудь… Но надо так почему бы и нет. Сказал со стихами, витиеватыми пожеланиями. В «штрафной» фужер ухнули с широкого плеча граммов 150 коньяка, Он поднял, пригубил. – До дна! – потребовало разноголосое застолье и принялось скандировать громким хором: – Пей до дна! Пей до дна!.. – Да запросто! – намахнул золотистую ароматную жидкость до последней капли. Не любил неожиданные мероприятия с возлияниями. Собираясь на запланированное веселье, давал жёсткую установку ненадёжному организму: знай меру! И ограничивал винную карту до лёгкоградусных напитков. Редко настрой давал сбой. Иное дело, когда застолье возникало снегом на голову, рациональность не успевала включиться, верх брала часть организма, желающая расслабиться до упора… В результате рабочий ритм следующего дня получался прихрамывающим, а себя несвежего Он не любил. С коньяком, радостно разбавившим кровь, сразу поддался настрою компании. Юбиляр протянул гитару: – Не слабо спеть? – Легко. Позже пытался восстановить в памяти момент, когда Она оказалась рядом. И не смог. Она сидела на другом конце стола. В один момент заказала песню. Возможно, тогда и подсела поближе. Что-то пел по Её просьбе. Помнится, озорно предложил выпить на брудершафт, ощутил Её влажные губы с привкусом вина. Они танцевали, пели, пили на брудершафт вино, водку. Молодая с огненной причёской женщина пахла весной, обещающе прижималась в танце. Было легко, хотелось лететь и лететь в этом веселье… – Проводи её, – попросил юбиляр по окончании торжества, – вам в одну сторону. Только до самого подъезда. – Какой разговор! – браво откликнулся Он и добавил шепотком, – готов хоть до подушки! – Давай-давай! – жарко поощрил юбиляр. Они сели в такси. – А не слабо ко мне на дачу? – предложила Она. – Совсем недалеко. – Поехали! Что ж тут раздумывать. Дача предполагала ночной праздник на двоих. Но Она, ни с того ни с сего, вдруг захлюпала в машине носом. – Ты что? – склонился с участием и положил, как бы невзначай, руку на колено. – Ничего, – резко отвергла чужое присутствие на своей ноге. Домик был в полтора этажа, с высоким крыльцом. Она достала ключ, завозилась с замком, Он посветил сотовым телефоном. И в нетерпении обнял Её, лишь зашли вовнутрь. Но в ответ последовало отрезвляющее: – Отстань! «Этого только не хватало», – подумал в нехорошем предчувствии. В надежде «может, игра?» сделал вторую попытку заключить в объятия желанную женщину. На что получил ещё более категоричный от ворот поворот. Вот так фокус? Зачем тогда было дачу среди ночи городить? Стоя посреди луной освещённой комнаты, чиркнул зажигалкой, не спрашивая разрешения, закурил. Она поднялась по лестнице, хлопнула дверью. Он подождал минуты две, пошёл следом и в сердцах стукнул кулаком по перилам: с ним сделали то, что современная молодёжь называет «облом». Дверь была заперта. Захотелось развернуться и уйти. Не юнец безусый, полных сорок девять лет предполагают чувство собственного достоинства. И Она не девочка с бантиками и рюкзачком, лет тридцать пять точно есть. «Ну, дурило!» – ругал себя. Однако тащиться по ночи домой было лень. Он огляделся, в углу стоял диван. Сел, докурил, прилёг и… проснулся на рассвете. Как-то сразу понял, где и что. Посмотрел на часы – стрелки подбирались к пяти. Голова омывалась кровью с алкоголем. Не болела, но и свежей назвать язык не поворачивался. Во рту сухота. Вчера по дороге покупали минералку и пиво. Пакет белел у порога. Достал полторашку «Жигулёвского», жадно припал к горлышку, и… жизнь стала налаживаться, на душе повеселело. Прихватив пиво, вышел на крыльцо. Восход обозначился сквозь серую пелену облаков двумя полосами: широкой бледнорозовой и чуть в стороне от неё – узенькой насыщенно-малиновой. Пели птицы. В разноголосице выделялась одна – настойчиво твердившая на низкой ноте актуальное: «Пить-пить-пить!» Пахло молодой травой, недавно проклюнувшейся листвой, сухой землёй. Зима стояла бесснежная, и за всю весну ни одного толкового дождя. Он сел на ступеньку. В последние годы любил эти ранние час-два. Единственное свободное время суток, даже поздно вечером занозами доставали телефонные звонки, лишь утром, часов до восьми, была возможность побыть с собой. Выкурил сигарету, задался вопросом: как быть дальше? Домой ехать глупо, в офис рано. Лучше здесь пересидеть. Пофестивалил, конечно, вчера. Не удержался. Угораздило губу раскатать на эту динамистку. Истеричка неуравновешенная. Сюда зачем-то потащила… А ведь так чудненько начиналось... Он приложился к бутылке. С аппетитом выпил добрую порцию пива… Потянуло в сон. Вернулся в комнату, лёг... Проснулся от прикосновения губ и песни-шёпота: «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь…» Лежал лицом к стене, повернулся. Она была с заспанными глазами, растрёпанной копёшкой рыжих волос. – Я вчера, наверное, разнылась? – Не бери в голову. – Не обижайся, ладно? – Да брось ты. Она положила маленькую горячую ладонь Ему на лоб, попросила с мольбой: – Не бросай меня сейчас, а? Что-то так плохо на душе… «Опять за рыбу деньги», – тоскливо подумал, сказал уклончиво: – Я вообще-то работаю… – Часа три хотя бы не бросай, побудь рядом. Хочешь, баньку истопим? Банька это уже теплее. Париться Ему – хлебом не корми. Вечером по средам – гори всё синим огнём! – шёл в баню. Сегодня как раз среда из календаря смотрит. – А почему бы и нет! – оживился. – Раз пошла такая гулянка! На одиннадцать утра у Него назначена встреча, но из разряда – переживут, можно отменить ради парной. Выгнать веничком остатки вчерашнего. Да и не абы кто приглашает на полок… – Банька реактивная, – обрадовано вскочила Она, – за час до 110 градусов раскаляется. – Ну, тогда доставай веник, шайку и остальное мочало! Они зашли в предбанник. Он с любопытством заглянул в банное нутро, в парную. Обшитые рейкой стены ещё не потемнели, светились осиновой белизной. Она раскованно сбросила кофточку, юбку, осталась… Да ни в чём… Что-то лёгкое, паутинистое, фиолетовое на бёдрах. И последнее ловко стянула. Тело взрослой женщины, чуть тронутое полнотой, было красиво плавными линиями, крутыми обводами… Она крутнулась перед Ним, блеск наготы прикрывал лишь квадратик пластыря на бедре. – Нравлюсь? – Дух захватывает! А это что за бандитская пуля? – показал на пластырь. – Противозачаточный. – Да? – поднял брови. – Есть уже и такой способ от детей? Как я отстал от жизни… – Ещё как отстал! Всё ещё в штанах! Мы не в театре, можно снять… – Да как-то… – замялся. – Ну, смотри. Растапливать печь умеешь? – Вроде руки не крюки! Дрова, гляжу, сухие… – Тогда вперёд! А я, пожалуй, бельишко постираю, пока то да сё, оно и высохнет. Она подхватила с лавки трусишки, бюстгальтер, пошла в моечно-парную, загремела ковшиком о бак… – Погоди, вода согреется, – заглянул Он, раскованная нагота притягивала. – Да чё тут стирать? И порошок зверь! – Она повернулась к Нему, и узкая солнечная полоса из оконца осветила плечо, маленькую грудь, живот… – Носовой платок куда-то задевался, посеяла что ли?… Разошлась я вчера… Он наскубал с поленьев бересты, посмотрев по сторонам, обнаружил стопку газет под лавкой, взял верхнюю, сунул под бересту, чиркнул спичкой, и через минуту вкусно запахло берёзовым дымом. Снял рубашку. Утро было прохладное, но грело выпитое вчера. Жадно приложился к бутылке с минералкой… Она вышла в предбанник, развесила сетчато-паутинистое бельишко на верёвку. Он притянул Её к себе, чуть опасаясь – вдруг опять оттолкнёт, Она плотно прижалась… «Пойдём на полок», – выдохнула в шею. Было нежно до невесомости в сердце и неистово, ласково и пронзительно радостно. Слетали с губ сумасбродные слова, хотелось, чтобы минуты длились и длились… Вдруг в Его левом бедре с внутренней стороны обозначилась солнечная точечка – преддверие пика восторга, когда уже обратной дороги нет, точка превратилась в золотистую короткую иглу, дыхание запылало, шумно вырываясь из лёгких… Игла вонзилась сладким секундным уколом и исчезла… Они замерли… Гудел огонь в печи. Из крана капала вода. Редкими шлепками капли разбивались об пол. Он благодарно поцеловал Её в шею, и, счастливо опустошённый, продекламировал: – «И бёдра её метались, как пойманные форели, то лунным холодом стыли, то белым огнём горели»… – Гарсиа Лорка… – О! – удивился Он. – Знаешь? – Филолог. Университет окончила. Почти не работала, правда, по этой специальности… В другом переводе звучит так: «Была её гладкая кожа бледнее луны сиянья, разлившегося по стёклам…» – «И лучшей в мире дорогой до первой утренней птицы, меня этой ночью мчала атласная кобылица», – с закрытыми глазами, лёжа на спине, Он нежно гладил Её руку. – Тоже филолог? – Технарь, но в студенчестве нравился Лорка. – Я писала курсовую по нему… Парная ещё не набрала палящего жара. На полке было очень даже комфортно, тела омывало сухое банное тепло. Он тихо запел: «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно и светло…» Она повернулась к Нему и стала подпевать на ухо: «Я поцелуями покрою уста и очи, и чело…» Голосок у Неё был скромный, но мелодию вёл старательно, бережно. Они допели романс. – Я, дурашка такая, мечтала в детстве стать певицей, – призналась Она. – К бабушке приходила подружка, они пили чай, щедро добавляя в него наливочку, «пуншику выпьем», а потом подружка пела. Чаще романсы. Низкий, завораживающий голос… «Пара гнедых, запряжённых с зарёю…» А я слышала «запряжённых зарёю». Чувствуешь разницу? И представляла, что вместо дуги у «пары гнедых» над головами полукружье восходящего солнца. Малиновое, огромное над гривастыми головами с крутыми шеями. И запряжённые солнечной дугой они мчатся в новый день. И долго не вслушивалась в следующие строчки романса. Улетала с первой в свою картину. Только позже уразумела: «пара гнедых» – это не искры из-под копыт, «пара гнедых» – клячи водовозные. Всё же какая-то несуразица в этом романсе. Гнедые, запряженные на заре, должны быть в силе, в красе… Она коснулась пальцами его губ: – Вот у тебя голос! А я о певческой сцене мечтала, но голоса нет совсем. Исплакалась вся, когда мне сказали – не дано. А люблю петь. – Есть голоса для большой сцены, есть – для камерной, у тебя, чтобы выдыхать песню в ухо. Так славно петь с тобой… – Врёшь ты всё! – Нет, это же чувствуется. – Знаешь, ты вчера пришёл… Я подумала: «Какой-то дядька сивый приволокся». Поздравил, конечно, красиво. Потом тихонечко сидел. Иногда вдруг вставлял фразу, будто выныривал из себя, но всегда впопад, энергично, опять надолго замолкал, слушал других. И вроде заинтересованно, а глаза озабоченные, грустные. – Ты всё замечала? – Напротив сидела. Краем глаза следила почему-то. Без всякого умысла. Интересно. Незнакомый человек. Когда принесли гитару и запел… Первая песня… Ты, конечно, дурачился, да и песенка такая… Потом запел … Не рисуясь, не показывая себя. Легко, свободно, негромко, но мощно… И будто растворился в песне. У меня подружка была, училась вокалу, всё говорила: «Надо петь в образе, переживать драму песни». Ты не переживал, пел из неё. Внешне никакого напряжения, ни капли надрыва, а где-то там внутри клокочет душа... У меня мурашки побежали по спине… – Так от вина мурашня, – приподнялся Он на руке, заглядывая Ей в лицо, – вы до моего прихода сколько тостов опрокинули?.. Вот мурашня и оживилась, припекаемая винным градусом. – Брось ты. Что я себя не знаю… – Париться-то будем? – Давай попозже, сейчас так хорошо… Он вышел покурить. Баню строил думающий человек, предусмотрел и эту ситуацию. Небольшая, обшитая понизу вагонкой верандочка позволяла сидеть за столом в банном наряде, то бишь без всего, и не шокировать голыми телесами неожиданных свидетелей, и в то же время любоваться окрестностями. Баня стояла на возвышенности у крохотного озерца или большой лужи, наполовину заросшей камышом. На другом берегу красовался аккуратный дачный домик, а дальше начиналась берёзовая роща, которая только-только опушилась листвой. Неделю назад Он ездил на машине в Новосибирск, берёзовые колки стояли на всю глубину прозрачные, ещё с соком, было холодно, а тут четвёртый день полетнему тёплый... Дачный посёлок был в какой-то дрёме, по-будничному тих, лишь птичий гомон наполнял пространство. Земля отогревалась, парила… Глядя в небесный простор, в весеннюю синеву, Он улыбнулся своим мыслям. Размеренная жизнь дала сбой, споткнулась, Он оказался в чужом измерении, в чужом времени. Своё где-то рядом, бурлит, клокочет, настойчиво требует Его участия в круговороте, Его сил, Его энергии, этой каждодневной дани, а Он выпал, ускользнул, сделал шаг в сторону от магистрали, растворился в мареве обочины. Хорошо… Позади послышались шаги босых ног, Она прижалась к Его спине, горячая, влажная… Поцеловала в шею. – Какой ты прохладный… Не замёрз? И снова было пронзительно, нежно, ласково, утомительно неистово и утомительно счастливо. И снова вспыхнула светоносная стрелка нерва в бедре, увлекла за собой до заоблачных высот дыхание, сердцебиение, а потом мгновенно погасла в зените. А Её пронзило сладким током в пояснице, Она сдавленно вскрикнула: «Солнышко, какой ты хороший!» Шлёпали капли из крана, донёсся удар металла о металл. Похоже, кто-то чистил лопату о лопату. Печь не шумела, огонь утих, расправившись с дровами. Она благодарно целовала Его шею, грудь, коснулась губами крестика. – Он сейчас двоих нас защищает, – сказала. – Видишь, я-то без крестика. Поэтому не уходи от меня, ладно. «Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Креста, и сохрани мя от всякого зла». Добавила от себя: – Огради нас обоих, Господи. Снова бережно коснулась губами крестика: – Меня ростила бабушка. Именно так и говорила с ударением на первом слоге: «Я тебя ростила». Мама рано умерла, не помню её. В субботу детсадик не работает, старшая сестра в школе, бабушке надо в магазин или на базар. Я читать рано научилась, в четыре года, так она печатными буквами напишет молитву на листочке, скажет: «Твори молитовку и не бойся, Боженька защитит». Я трусиха была. Но с молитовкой – бабушка только так говорила – не боялась. Раз пять прочитаю, потом играть начинаю, но молитву уже наизусть знаю. «Непобедимая Божественная сила Святаго и Животворящего Креста Господня, не остави нас грешных и уповающих на тя». В другой раз может другую написать, опять выучу. Однажды с ней поехали к родственникам в деревню. Сначала на автобусе, а дальше идти надо. Деревня глухая, ни одной попутки. Лето, солнце палит. Я пить захотела. И нет мочи терпеть. Плачу. Лет шесть, ещё до школы. И тут лужа при просёлочной дороге. Я как увидела: «Пить! Пить!» Казалось – умру, если не попью. Бабушка мне: «Стой!» Прочитала над лужей Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе…» – сняла с моей головы панамку, зачерпнула ею, подняла, вода через ткань просочилась и потекла тонкой струйкой. «С молитовкой можно из любой лужи пить!» – сказала. Я напилась, и ничего, живот не болел… А пятно-то на панамке от воды осталось. Выходя из дома, бабушка учила говорить: «Ангел мой, пойдём со мной, ты впереди – я за тобой!» – Говоришь? – Нет, конечно, не говорю, не молюсь… Отец у меня ещё тот гулеван был, любил выпить. Как запропастится, бабушка нас с сестрой ставит к образам, и мы втроём читаем молитвы, чтобы вернулся. Придёт ночь-полночь и начинает куролесить… «Воду варить», – говорила бабушка… – Буду теперь молиться за тебя, – сказал Он. – Да? – Она удивлённо отстранилась. – Как? – Когда прошу в утреннем правиле, чтобы всё было хорошо у дорогих и близких, чтобы Бог дал им здоровье, терпение, разумение, буду просить и за тебя. – И я на первом месте? – На первом дети, жена, братья, сёстры, ты среди друзей, «вся ближние рода моего и други». – Я твой друган? – Друганка. Её рука описала изящную траекторию и ощутимо шлёпнула Его по бедру: – Вот тебе. – Я тоже могу! – шутливо занёс руку. – Побей-ка лучше веничком. Давай уже париться. Каменка ухнула, выстрелила в стену белесым паром. Истомилась от ожидания. Один, другой… четвёртый ковшик. Нагнетая жар, распирая тесное пространство пламенным воздухом, снова и снова взрывалась от горячей воды. – Не больно-то поддавай! – попросила Она. – Не люблю, когда кожа искрит. Она легла на живот, голову прикрыла войлочной шапкой. Если и загорала когда-то, следов солнечной работы на теле не осталось в помине. Под ударами веника молочная кожа начала розоветь. – Как мне хорошо сегодня! – произнесла в доски полка. – Ты бы только знал! Как хорошо с тобой! – Ишь разрумянилась! – шлёпнул Он ладонью по части, предназначенной для шлёпанья. – Не шлёпай, а то женихов не будет! – А муж? – Похоронила. – Прости, – Он виновато тронул Её кончиками пальцев за плечо. – Прости. – Ничего. Давно это было, шесть лет назад. – Болел? – Если в двух словах: пошёл по нехорошей дорожке. В последние два года дома практически не жил. Куда-то постоянно исчезал. Деньги время от времени приносил. Занимался крупными махинациями. Нескольким покупателям мог продать одну и ту же партию металла… С зерном химичил… Какие-то люди приходили к нам домой, искали его, требовали деньги, угрожали... Жила в постоянном страхе за сына, за себя… Иногда было плохо до срывов, до истерики. Вот тогда читала «Непобедимая Божественная сила…» Заведённо, отупело повторяла десятки, сотни раз… Сестра переписывала и приносила другие молитвы, но ничего не могла читать, только эту… Сидя, стоя, лёжа, мотаясь из угла в угол – твержу и твержу… Когда просто успокаивалась, когда приходило решение… Муж пропадал на несколько месяцев, снова появлялся на пару-тройку дней. Однажды его заперли в гаражном боксе в бандитской фирме. Подозреваю, было так: потребовали долг и поставили условие, если не рассчитается – привезут меня и сына на расправу. Про долг позже узнала. Но в тот раз ко мне никто не вязался. Официально мы были в разводе. Муж настоял на этом за полтора года до смерти. Чтобы квартира, дача были на мне. Короче заперли его в гараже, он облил себя бензином и поджёг… Бандюганы, думаю, не могли это сделать, на кой криминал на своей территории, тем более – джип стоял. И в милиции сказали: судя по ожогам (основные на голове) – сам себя облил… Что там говорить: и мне так легче считать – хотя бы в тот момент за нас беспокоился… Ладно, хватит грусти-тоски. Попарь ещё. Она тронула рукой пластырь: – Как там, не отлепился? – Мужа нет, а пластырь на кой? – прозвучал провокационный вопрос. – Друг есть. Уже десять лет. Не удивляет, что при живом муже завела? – Мне-то что за печаль? – В командировке сейчас в Челябинске, завтра приедет. Так что заплатка нужная, – накрыла пластырь ладошкой. – Бывает, от этой противозачаточной химии начинает колбасить, врагу не пожелаешь… Да лучше так, чем залететь. Два года назад забеременела. Решила: буду рожать. Знаешь, так захотела ребёнка. Друг мой ни в какую, не надо. Послала его подальше: «Иди, – говорю, – на три фигурных буквы, если кроме кобелиного ничего от меня не надо!» Я ведь сына рано, в восемнадцать лет, родила. Боже, как захотела второго ребёнка… Размечтаюсь и повторяю, как бабушка мне говорила: «Ручки точёные, ножки золочёные». Но обстоятельства вынудили… Как только его не вытравляла, прости меня, Господи. Не хотел уходить. По сей день снится девочка, глаза синие-синие, льняные волосики, ручки-ножки на самом деле точёные… Во сне ножку заносит над пропастью шажок сделать… Бегу к ней, кричу: «Подожди, доченька! Подожди!»… И вдруг исчезает в чёрном провале… Она села на полок и спросила, глядя Ему в лицо: – Может, с тобой заведём маленького? Он не понял: серьёзно или шутка? Замешкался с ответом, не выдержал тест. Она засмеялась: – Мог бы и соврать! – спрыгнула с полка и, сделав зверское лицо, взяла веник. – Давай-ка теперь я над тобой поизмываюсь. Ну-ка ложись на живот, руки по швам… – Ты на все руки мастер! – млел под ударами. – А ты думал, коли голоса нет, так ни на что не годна! Поворачивайся и получше закрывай выступающие нежности! Разгорячённый Он вышел покурить на верандочку. Но Она позвала: – Потри спину. Он мыл Её плечи, чужие и родные, полные руки, белую, сильную женской силой спину, ложбинку позвоночника, гитарные изгибы талия-бёдра. Дурачась, шлёпал мыльной мочалкой по тугой заднице. – Бабушка говорила: кто моет другого – с того сорок грехов списывается. – В таком разе дважды помою тебя, чтобы восемьдесят аннулировать. Окатившись водой, Она снова полезла на полок: – Поддавай! – азартно потребовала. Потом вместе вышли в предбанник. Разгорячённые, обессиленные. Он взял бутылку минералки со стола, из горлышка крупными жадными глотками напился. Она налила в стакан пива, набрала в рот, подошла к Нему, припала губами к губам и мелкими порциями стала делиться напитком. – У меня ощущение, – произнесла, садясь на лавку, – будто знаю тебя много-много лет. Всю жизнь. Такой длинный сегодня день... Хотя ничего о тебе не знаю. – Вот и чудно, разочаровываться не надо. – Ты для меня навсегда сегодняшний, а в сегодняшнем не разочаруюсь. Он сидел на лавке, Она стояла над Ним, гладила Его волосы. И запела тихо-тихо, почти шёпотом: «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь»…. Он подхватил… Строчку: «Я тебя никогда не забуду…» – выводили вместе. Она пела, касаясь губами Его с проседью чуба, Он выдыхал тоску-предчувствие расстающихся влюблённых в ложбинку между грудей: «Я тебя никогда не забуду». «Я тебя никогда не увижу». – Мы как будто украли день. – Эту баню. Эти… Она закрыла Его рот поцелуем. – Что у нас сегодня было? – спросила. – Что? Солнечный удар, если вспомнить бунинские «Тёмные аллеи»? Хотя нет, это не из этого цикла рассказ. Что было? – Песню спели. С красивой мелодией, ласковыми словами… Редко, но случается настрой, может, раз в год вдруг, будучи один дома, возьму гитару, с полчаса попою с полной отдачей. До опустошения даже, и в то же время летяще светло на душе сделается, словно обновился… Вот и у нас… – Спасибо! – прошептала Она. Он тихо запел Визбора: В Ялте ноябрь, ветер гонит по набережной Жёлтые, жухлые листья платанов… В песне царила осень. В природе, в городе: В Ялте пусто как в летнем кино, Где только что шла французская драма… И у мужчины с женщиной. В протяжной мелодии за эмоционально скупыми словами белого стиха была тоска по ушедшему лету, по безвозвратно растворившейся молодости. Пустые холодные пляжи, пустынный город. Всё осталось в прошлом: горячее солнце, наполненные его силой тела, густая темнота тёплых ночей с дыханием близкого моря, трепетом влюблённых сердец. Всё исчезло за горизонтом, всё смыло скоротечное время. Впереди зима, сырая, промозглая… Он пел, неторопливыми мазками рисуя картину… Выдох – мазок, выдох – мазок… И каждый мазок – новая деталь, и каждый выдох – новая порция печали. Там в далёких норвежских горах Возле избы, где живут пожилые крестьяне, Этот циклон родился, и, пройдя пол-Европы, Он обессиленный всё ж холодит ваши щёки. Она слушала, тесно прижавшись к Нему, переживая щемящую картину романса. Разрешите о том пожалеть И с лёгким трепетом взять вас под руку. В нашем кино приключений осталось немного, Так будем судьбе благодарны за этот печальный Оброненный кем-то билет. – У нас оброненный билет? – спросила. – Оброненный день. – Он наш? – Только наш. – Скоро мы расстанемся, давай, – горячо предложила, – пообещаем, ты мне, я тебе, что сегодня будем верны друг другу. Давай? Ради случившегося. – Зуб даю! – с дурашливой готовностью «поклялся» Он. – Буду верен ровно двадцать четыре часа с этой минуты! Включай счётчик! Если что – оторвёшь мне все выступающие части. – Не, говорю серьёзно! Только на один день! Ни с кем, ни с кем! Я так хочу! Даёшь слово? Он поцеловал Её в губы, ласковые, податливые. – И я клянусь, – прошептала Она сквозь поцелуй. Выйдя из дачного посёлка, остановили такси. В центре города пути расходились. Он протянул таксисту деньги: «Довези даму в лучшем виде». Вышел из машины, посмотрел на часы. Они показывали половину второго. Всего-то… Город был наполнен молодым солнцем, ярким синим небом, свежей листвой, деловой энергией середины недели. Потоком шли машины, торопились молодые люди в джинсах и с рюкзачками, деловые мужчины – в галстуках и с папочками, парусили перетяги рекламы над магистралью, блестели витрины. Он сунул руку в карман и обнаружил Её носовой платочек, сложенный вчетверо. Всё-таки была баня. Была… Поднёс к лицу квадратик материала с полоской следа от помады, вдохнул Её запах, улыбнулся и заспешил в свой офис. Пламенную клятву суточной верности Он сдержал, у Неё не получилось. Так уж вышло. Через два года Она включила телевизор и увидела Его фото на весь экран – весёлого, улыбающегося – и текст о скорби друзей по безвременной кончине… Зло выключила телевизор, схватила сигареты, нервно защёлкала зажигалкой… ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ Иван Денисович Гавричков умирающим никаким боком не выглядел. Сухонький, подвижный дедок. Глубоко сидящие глаза смотрели мудро и озорно. Ни за что не скажешь: жизни отмерено три месяца, не больше. – С вашего позволения закурю, – обратился к собеседнику и достал из кармана клетчатой рубахи пачку «LM», – балачка без сигареты – время на ветер. – Потерпел бы коптить гостя никотином! – заглянула жена, по объёму как раз два мужа войдут. – Когда только бросишь? – Молчи, ребро адамово! – шутливо пристукнул по столу кулачком супруг. – Везде надо влезть! Вот женщины! Не зря говорят: дьявол семидырый! Сидели за столом в большой комнате. – Зима в Омске с 41-го на 42-й год лютовала. Я прямо в цехе спал. Раз среди ночи пинок в бок. Открываю глаза – Господи, воля твоя – сам Туполев надо мной. Главный конструктор. Это уж потом стал многажды раз Герой Соцтруда, полный иконостас премий, но и тогда был мужчина в теле. Невысокого роста. Напустился на меня: «Зачем валяешься, как беспризорная собака?» «Дак, – говорю, – в бараке дубарина аж голова к подушке примерзает!» «Что за начальник цеха? – Туполев кипятком раскипятится. – Рабочие хуже скотины спят! Ну-ка, быстро поднимайся – в его кабинете будешь ночевать!» Я и не подумал разбегаться. «Не пойду! – отказываюсь. – Силком не заставите!» «Это почему?» – Туполев чуть не затопал ногой от наглости: работяга поперёк главного конструктора. «Да у него, – говорю, – кто поспит – не проснётся, холоднее, чем в собачьей будке. Сам не сидит там»… Туполев матюгнулся и ушёл. Мог крепкое словцо вставить. Рассказывали, на совещании как загнёт матом, а потом обернётся к стенографисткам: «Девчонки, это писать не надо». Зама Туполева по вооружению Надашкевича мы звали Козлиная борода. Смешную такую бородёнку носил. Точно как у козла козлевича. Тоже потом стал лауреатом премий. И Королёв у нас в цехе часто бывал… Небогатырского роста крепыш. Сосредоточенный всю дорогу. Кто же знал, что на весь мир прогремит. Веришь, нет: сразу его признал, как фотографии после смерти в газетах появились. Наш, говорю, Королев... Господи, воля твоя… Давным-давно умерли все… А я живу. «Недолго осталось», – подумал Евгений Теребилов, корреспондент заводской многотиражки. Как тут не поверишь в мистику, вдруг Евгений заметил: стоит написать о ветеране, тут же некролог на героя вывешивают на проходной. Не так, чтобы совсем один в один попадание, однако смертельный процент получался подозрительно высокий. Первым редактор обратил внимание, как-то зашёл с улицы и сразу к батарее руки греть: – Абрикосов твой умер, я как чувствовал – в прошлом номере дал очерк, откладывал два раза, тут, думаю: хватит. Тютелька в тютельку успели. Завтра похороны. В такой-то мороз. Прочитал или нет ли о себе дедок? Ты прямо как точки им с памятниками ставишь. Николаев тоже после твоего материала умер… – Больше не давай дедов с бабками, а то перехороню весь ветеранский корпус. – Не дождёшься. Евгений не придал значения разговору. В номер в честь мужского праздника – 23 Февраля – написал очерк о ветеране Великой Отечественной, а через неделю отдел кадров заказал текст для траурной информации на проходной. В десять минут Евгений справился, после чего взял подшивку за прошлый год. О восьми ветеранах писал, четверо умерло. Конечно, возраст у дедов не юношеский, тем не менее… Редактору нравились очерки Евгения: «Лучше тебя никто не сделает, умеешь из дедов выудить нужное. И пишешь не левой пяткой, с душой». Директор завода поощрял ветеранскую тему, поэтому редактор частенько мобилизовал ведущего корреспондента на рубрику «Планета людей». Евгений не отбрыкивался, но и с инициативой не рвался. Беседы со стариками опустошали. Во время разговора заводился, с неподдельным интересом слушал, не закруглял беседу, если чувствовал: материала с головой хватит, давал старикам всласть выговориться. После чего ходил разбитый. Старики вытягивали энергию. И писалось не на одном дыхании, тяжело. Плохо не мог, а хорошо требовало попотеть, отнимало много сил. Без острой нужды никогда не открывал дверь в совет ветеранов. Там неистребимо пахло старостью. Раньше как-то не замечал… Лишь когда своя осень замаячила, за пятьдесят перевалило… А не хотелось осени… …Редактор вызвал его в кабинет, протянул листочек с телефоном: – Женя, дорогой, сгоняй к Гавричкову. Человек известный, мы, конечно, писали о нём. Я посмотрел, семь лет назад, ещё до тебя, прошёл большой материалом, но слабенький. Работала у нас одна свиристелка, строчила из серии «родился, женился, победитель соцсоревнования»… Гавричков всегда крепкий был старик. На последнем митинге на День Победы выступал, как развёл бодягу минут на пятнадцать… Вчера позвонила жена, рак у него обнаружен, последняя степень. Врачи дают максимум три месяца. Он ничего не знает. Жена слёзно просила, чтобы кто-то от нас пришёл, поговорил. Ему будет приятно… Ты, конечно, осторожнее, вида не подай… – Нет, я с порога бахну: «Вам жить осталось на две пердинки». Но вместо измождённого болезнью человека увидел шутника и балагура. «Неужели в нём на три месяца здоровья?» – исподволь разглядывал Гавричкова, вытаскивая диктофон. В квартире стояла современная мебель. Когда был у ветерана накануне 23 Февраля, словно в середину 60-х годов прошлого века угодил. В свое детство. Комод. Сервант с посудой, круглый стол с точёными ножками. Даже, показалось, кот Тишка оттуда. У них дома такой же белый пушистый разбойник жил. У Гавричковых телевизор с плоским экраном, мебель современная, пластиковые окна, дорогие шторы. В разговоре выяснилось: сын из Москвы хорошо помогает. – У меня дружок был, Витька Стеблин. На фронт решил убежать. «Всё, – говорит, – лучше от пули умереть, чем с голоду сдохнуть». Еда у него постоянно на уме сидела, не давала покоя. Конечно, голодно жили, особенно в первый год войны, но я старался не думать. Заработаюсь и забуду. У Витьки все разговоры о жратве. Удрал. В вагон погрузили. Но тут секретарь парткома на вокзал примчался. Давай орать на военкоматовских: почему забираете у кого бронь? Военкоматовским тоже план надо выполнять. По городу ловили парней, а Витька сам рвётся. Не один такой с завода был. Но в тот раз обдурили добровольцев боевого фронта, дезертиров трудового. Секретарь парткома настоял объявить: такие-то на выход, вам другим составом ехать. Эти простофили вышли, Витька среди них. Его за шкварник и на завод – паши за станком. Вот он на снимке крайний. В ожидании корреспондента Гавричков достал шикарные фотоальбомы, блестящие глянцем, но внутри сплошь архивные снимки. У развёрнутого знамени – во всё полотно изображён большой комсомольский значок со звездой посредине, в которой крупно написано ВЛКСМ – стоит группа серьёзных парней и среди них Стеблин. – Он потом бригаду комсомольцев организовал, передовиками были всю войну. «А хорошо или плохо, – думал Евгений, – что дедок не ведает о смертельной болезни? Может, знай – как-то по-другому прожил бы оставшееся? Простился с миром. Может, нельзя врать? Говорят: болезнь – Божья милость. А смерть?» Заглянула жена ветерана: – Чай будете? – Подавай, – скомандовал дедок, а Евгению сказал, – в ноябре шестьдесят лет, как живём. Нацепляла кучу болезней. И давление, и сахарный диабет. То в почках колики, то печень хренькает. Таблетки горстями ест. Жена вошла с подносом, густо уставленном тарелками с колбасой, сыром, ломтиками сёмги… – Тебе бутерброд с рыбой? – спросила мужа. – Сахару две ложечки? Соорудила бутерброд, размешала сахар и подала чашку мужу. – Как жена вас любит! – с восхищением сказал Евгений. – Он перед полной тарелкой битый час просидит, не встанет за ложкой: подать надо. Ночью пить захочет, сам не поднимется: принеси… Суп только свежий, разогретый не будет. Рубашку больше одного раза не наденет… В том как «жаловалась», как угождала за столом мужу, было видно – с удовольствием все шестьдесят лет потчевала свежим супчиком, стирала рубашки, подавала ложку за столом, насыпала сахар в чай. – Надо менять! – подмигнул Евгению ветеран. – Без болячек возьму. Во втором подъезде Катька живёт, молодуха – всего шестьдесят четыре. Как ураган наскипидаренный носится, не то, что ты – тумба неповоротливая. – Чё с ней делать будешь, жених сивый? – спросила «тумба». – Как чё? В куклы играть! Перебирая фотокарточки, наткнулся на фото 60-х годов. Демонстрация. Малец, в руке звездочка на палочке, мужчина, две женщины в шляпках и пальто. Все улыбаются. Мужчина протянул, дурачась, руку к фотографу: ну, снимай быстрее. – Господи, воля твоя! Судьба у Лёшки! – ткнул в мужчину пальцем Гавричков… – Шутник! В последние пять лет, как звонит, обязательно с подковыркой: «О, – скажет, – так ты ещё живой, старый хрен! А я замахнулся табличку тебе гравировать. С крестиком или со звездой делать?» Всё повторял: «Ваня, ты первым должен на кладбище дорожку проторить. Без меня кто табличку тебе путную напишет?» Я, бывало, подыграю: «На кой она сдалась, памятник каменный дети поставят». «Нет, – возразит, – сначала крест, а через год памятник. Ты насчёт креста в бутылку не полезешь? – спросит. – Тогда на него и сделаю. Сам посуди, всю жизнь господин Гавричков с металлом работал, а ему табличку пластмассовую, как конторской крысе. Позор на весь завод». И поторопит: «Не тяни с похоронами, уже не те глаза у меня, руки пока не трясутся, но иди знай…» Я ему: «Лучше сам на твоих поминках фирменных блинчиков Галкиных поем, киселька вволю попью». Хороший был мужик. Воевал геройски. В 44-м в течение трёх месяцев два ордена Великой Отечественной получил. Танкист. Но в 45-м ордена не выручили: пленного в Берлине застрелил, Лёшку под трибунал и на зону. Спасло – руки золотые имел. Освоил за колючкой ножи делать. Да не бабам картошку шинковать или рыбу потрошить. Произведения выставочного искусства. Министр какой едет на наш завод, директор Лёшку вызывает: «Сделай нож подарочный». Такой смастерит, там не министру, президенту вручи – обрадуется. И рукоятка, и гравировка… Табличку на крест Лёшка бы, конечно, сделал мне эксклюзивную… Получилось – и я его не хоронил. На охоте подстрелил Лёшка утку. Та в камыши упала. На островок. Полез за ней. Оказалась, майна – плавучий остров. Лёшка встал на край и ухнул с головой… Зять нырял-нырял, не достал. Привёз водолазов, не нашли. И только на следующий год всплыл. По ножу фирменному признали. Состояние тела такое, хоронить по-человечески невозможно. Можно сказать, закопали. Доставили из района и прямиком на кладбище, где могилу загодя приготовили… Ни тебе похоронной процессии, ни родственников у гроба, ни залпа участнику войны… – На кладбище у Лёшки разу не был, – закурил ветеран. – На будущий год обязательно съезжу, сговорюсь с Тамарой, дочерью его… Сам-то не знаю, где могилка. На родительский день бы поехать или на День Победы… Вот зиму переживём… И посмотрел в глаза корреспонденту, тому показалось с вопросом: «Переживу ли?» Он рассказывал о послевоенных годах, как строили Ил-28, в день по самолёту, ракеты. Перебирал фотографии. – Во, – оживился, перевернув страницу альбома, – Пригода. Заместителем главного технолога был у нас. С Туполевым приехал. Зеком. В Омске освободили. Мы с ним в 50-х сдружились. Тоже хлебнул… В 38-м его забрали. Следователь замучил допросами: сознайся в шпионаже. Он ни в какую. Неделю мурыжат – не бьют, но спать не дают – вторую мучают. Взмолился: «Дайте отдохнуть». Следователь, молодой лейтенантик, требует: «Сознайся в шпионаже и отдохнёшь». Пригода и говорит: «Я передал немцам секретную информацию: величину давления в правом шасси бомбардировщика при левом вираже». Ух, следователь обрадовался: «Молодец, давно бы так». Запротоколировал показания. «Шпион» подписал. Дня два его не таскали на допросы. Выспался. Потом вызывают. Лейтенантик, ни слова не говоря, как врежет по морде, как заорёт: «Я тебе покажу давление в правом шасси при левом вираже!» Он думал за шпиона благодарность отхватить, звёздочки на погоны. Начальство не дурное оказалось, как прочитало про секретную галиматью с давлением в шасси при левом вираже, как устроило нагоняй за безграмотность. Срок Пригода всё равно получил. Повезло, не в лагерь попал, Туполев забрал в шарашку… Эх, Господи, воля твоя… Иван Денисович поднялся, походил по комнате: «Смазка в суставах загустела». Разминаясь, рассказал, как учудил сын Пригоды, он в военной приемке работал. На Новый год пригласил гостей полон дом, гуляли громко, весело, пели, танцевали, наряжались в зверей и клоунов. В третьем часу ночи хозяин говорит: «Сейчас я вам фокус покажу!» Зашёл в спальню и застрелился. – Что к чему, – сел в кресло ветеран, – никто не знает. Пригода после того быстро сдал, из одного инфаркта выбрался, второй доконал… Да, а у меня за всю жизнь ни инсульта, ни инфаркта... «Зато рак», – подумал Евгений. И представил, как будет стоять гроб в квартире. «Кресла, стол вынесут, телевизор можно не убирать… Если домой, конечно, занесут. Сейчас нередко гроб полчаса постоит у подъезда. А ведь должен покойник ночь переночевать у себя…» И чуть не слетело с языка: «Вас из дома будут хоронить?» Даже спина похолодела. Вот бы сморозил. – Чаю горяченького подлить? – заглянула жена Ивана Денисовича. – Не откажусь, – утвердительно мотнул головой Евгений. «За сколько времени, – помешивал ложечкой чай корреспондент, – печать смерти отмечает человека? По нему ровным счётом ничего не видать. Обычное выражение лица». Евгений порядком утомился от беседы, тогда как смертельно больной Иван Денисович вспоминал и вспоминал. «Неужели никак не чувствует приближение конца? Или только мужественным даётся такая информация?» Вспомнил соседа, тот, получив направление на обследование в онкологию, запаниковал и после результатов первых анализов, еще не окончательных, повесился. Очерк Евгений написал быстро, подгоняла мысль: успеть порадовать героя. Редактор сразу поставил в номер. Иван Денисович прочитал. Растрогался едва не до слёз. Бросился к телефону благодарить автора. Подержал трубку у уха, положил и сказал жене растерянным голосом: – Корреспондент, что про меня написал, вчера упал на работе и все. «Скорой» было нечего делать. Мгновенный инсульт. С виду цветущий мужчина. А я скриплю и хоть бы что… ЛЮБОВЬ ИЗ СОРА «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» – выдохнул однажды поэт. Любовь тоже чувство прихотливое… Надежда с Юрой жарко познакомились на свадьбе друзей. Дело молодое… Не совсем, чтобы совсем. Юре полных тридцать пять, при этом в арсенале кругом по три: три официальных брака, три развода и трое законных детей. И Надежда не девочка с юным румянцем. Двадцать шесть. Но без загсов с разводами и браками. Аборты пока включать не будем. Анкетные данные привожу сугубо для любопытного читателя, этакие ознакомительные штрихи на портретах героев. Самих в тот свадебный вечер и послесвадебную ночь зигзаги биографии партнёра не интересовали нисколечко. Волновало, самое что ни на есть, утилитарное. Обоюдоострые физические симпатии вспыхнули под звон свадебных бокалов, мужчина располагал собственной свободной жилплощадью, никаких трудностей в реализации вспыхнувшей страсти не возникло. После чего утром Юра с Надеждой попили растворимый кофе на холостяцкой кухне с паутиной под потолком в дальнем углу, поели конфет и печенье, прихваченных со свадебного стола, и расстались. Юра зарабатывал на жизнь экспедиторством, сопровождал вагоны-рефрижераторы, в тот день как раз поездка по графику выпадала, он отбыл на станцию. Надежда решила отоспаться, отправилась домой, игнорируя продолжения свадебного торжества. На этом интрижке по всем показателям закончиться бы. Юра слова не проронил о продолжении отношений. Да и произнеси, ничего не значило. Неизгладимого впечатления мужчина не произвёл на женщину. Постоянный друг у Надежды на тот момент имелся. Молодой, ретивый. Конечно, она могла запросто сделать рокировку, тут не засохнет, не заржавеет. При постоянном нередко случались эпизодические. Тем не менее, скорее всего, остался бы Юра одноразовым среди перечня партнёров, да вдруг после него почувствовала Надежда неудобства в женской сфере… Что касается интимной жизни, до девятнадцати Надежда практически таковой не имела, а потом пошло-поехало. Разгонным толчком послужил колхоз. Отправили их с завода на уборочную. Надежда в клубе познакомилась с Олегом. Совхоз располагалось в местах живописных. Поднимешься на холм, внизу желтеют скошенные поля со скирдами соломы, дальше до самого горизонта берёзы пылают золотом. Олег был шофёром. Заедет за Надеждой, и носятся на КамАЗе с седёлкой по окрестным дорогам с берёзовым огнём по обочинам. Олег оснастил кабину большим полушубком. «У меня от медведя до иголки в машине». Сворачивали в лес, Олег бросал полушубок на землю, устланную листвой… Хочешь скатерть, хочешь ложе… Только бы муравьи не гнездились поблизости… А тишина вокруг… Лишь берёзы опадают. Казалось, сухой звук возникает от скольжения листа по хрустальному воздуху… Олег парень лёгкий, смешливый, ласковый… Надежда влюбилась… В тайне надеялась на взаимность и совместную судьбу. Душа пела у девятнадцатилетней женщины, когда летели на машине по дороге, бегущей с холма на холм, когда, крепко прижавшись друг к другу, лежали на полушубке и смотрели в полинявшую синь неба… Много ли женщине надо – лишь бы милый рядом… Закончилась уборочная. Гордость не позволила Надежду спросить: «А как мы дальше?» Олег со своей стороны только улыбался на прощанье. Когда выяснилось, что уборочная окончилась беременностью, Надежда позвонила виновнику события. Не с целью обрадовать. Вообще решила не говорить. Хотела понять, есть перспектива или для Олега всё началось и завершилось золотой осенью. «Извини, я не сказал, что женат, – поздоровавшись, весело доложил, – не зашёл разговор, а так при случае можно встретиться, почему бы нет, давай телефон, позвоню». Телефон Надежда не продиктовала. Надо – найдёт. Но рациональное чутьё подсказывало – искать не будет. И отчаянно решила рожать. Ведь ребёнок от любимого человека! Разве мало! Мнение окружающих Надежду волновало постольку поскольку. Конечно, мальчика назовёт Олегом, а если девочка – Ольгой. По натуре Надежда человек решительный. Один мужчина звал её маленький танк в юбке. В данном случае решимость иссякла через пару месяцев. Подумала трезво, поразмышляла без романтического флёра. Кому нужен ребёнок, кроме неё? Кто поможет, когда будет сидеть без денег в декретном? Где жить с ним? Его и себя мучить. Надеяться совершенно не на кого. Надежда жила с матерью и её сожителем. Плюс сестра – годовалая Тина. Мать сошлась с Петром, когда Надежда окончила восьмой класс. История тёмная, а дело ясное. Как-то мать в подпитии скажет: «Доченька, отец твой никогда не любил меня. Я и женщиной с ним себя не чувствовала. Трусов не снимал, прости меня, Господи, когда по ночному делу подлезет, отведёт штанину, поелозит, как нудную обязанность. Только с Петром и поняла, что такое бабское счастье». И прикладываться к рюмочке с Петром стала. Тот был на пять лет младше матери. Жили они весело, любили громкие праздники, а то на пару устраивали вечеринки на кухне. С песнями. Пели оба хорошо. Особенно у них получалось: По Муромской дороге стояли три сосны, Прощался со мной милый до будущей весны… Душевно пели… Мать родила почти как в анекдоте. Забеспокоилась по поводу изменений в организме, пошла к гинекологу, тот сделал вывод: менопауза у вас, женщина, климакс наступил. Ну, климакс, так климакс, меньше хлопот. А климакс возьми и зашевелись в животе, забей ножками. Что делать? Сорок пять лет, полголовы седины, бабушка – у сына уже дитё говорить начинает, и вдруг опять роддом, пелёнки и грудь с молоком. «А давай! – Петя говорит. – Хрен ли по фигу, не прокормим что ли?» Кормилец с Пети-баламута только держись, чтоб не объесться, на решение скорее повлияла знакомая акушер, которая наговорила массу примеров о летальном исходе при криминальных абортах такого срока у возрастных мамаш. И назвали девочку Клементиной. Петя придумал. «Врачи, ешь твою плешь! Климакс у них шевелящийся. Родись парнишка, Климом назвали бы, а дочка – Клементина пусть. Тётку у меня так звали по паспорту. По-простому – Тина». Надежда не осуждала мать из-за сожителя. Кто их разберёт. Отец, оказывается, успевал на две семьи в течение семнадцати лет. Целое индийское кино. Если до руды копать, бабушка по отцу – Татьяна Ефремовна – была из богатой семьи. Жили недалеко от города. И крупно крестьянствовали. Сельские капиталисты да и только. У отца мельница, маслобойня, и коров с лошадями не сосчитать. Татьяна Ефремовна – младшая доченька, любимица родителей. Танюша. Пять сыновей и она одна. Как пошла свистопляска с раскулачиванием, папаша, тонкий политик, «маргинальный» брак придумал, спасая Танюшу от ссылки в болота. Выдал замуж за своего батрака и отправил молодых в город. Маневр удался. Только избалованная гордячка Танюша всю жизнь помнила: кто она, и из каких голодранцев муж Фаддей. Помыкала им как хотела. Бессловесный Фаддей всё сносил. Мужик рукастый – печник, столяр. И пасеку держал. Любил без ума своих пчёлок. В детстве Надежда не раз слышала, как дедушка сядет у улика, приговаривает: «Ах, вы мои труженицы, ах, вы мои красавицы». Или дымокуром пыхает на открытый улей и просит: «Потерпите родненькие, потерпите дорогие, я быстро». Много позже поняла, сколько нерастраченной любви скопилось в душе этого человека, какое большое сердце он имел. Жене его чувства были не нужны. А двое сыновей, восприняв с молоком матери, что отец всего-навсего безграмотный мужик, смотрели на родителя свысока и выросли подле мамкиной юбки. Надеждиного отца мать женила приказным порядком. У того появилась в двадцать лет тайная зазноба, на семь лет старше. Присушила парня или опоила вдовушка, втрескался – не оторвать. Мать прознала и решила: надо на девушке женить и забудет как миленький. Будущая мать Надежды… Тут тоже бразильский сериал. В первый месяц войны эвакуировалась она крошкой, никто не знает точно какого возраста и с кем, из Харькова. С родителями, наверное. Разбомбили самолёты с крестами эшелон. Осталась девчушка одна на всём белом свете. Только и знала, что звать её Муся. Определили в детдом. Откуда в сорок третьем взяли Машеньку добрые люди. Но расчётливые. Приёмная мама Света перед самой войной разошлась с мужем. Красавцем военным. Всю жизнь хранила его фотографии. Вот он в шинели до пола стоит у боевого коня под седлом, вот со шпалами в петлицах сидит, как палку проглотил, на стуле… По его инициативе расстались. Не было у Светланы детей, а мужу подавай наследника. Осталась покинутая женщина с матерью и хозяйством. Добротный дом, две коровы. Чтобы облегчить бремя налогов, удочерила в 43м году девочку из детдома, Машеньку. Голодать Маша не голодала, и одевала приёмная мать, обувала не в старьё. Тут не отнять. Но на горохе на коленях неоднократно девочка стояла за малейшие провинности. А уж попрёков наслушалась: «По гроб жизни должна благодарить, что вытащила тебя из детдома». И батрачила Маша, как подросла, с коровой, огородом безразмерным и другим домашним хозяйством по полной программе. На внешний вид это не повлияло. Девушка получилась на зависть. Коса до пояса, серые глаза, точёный носик, милая скуластость и телом знатная. По ней сох младший сын Татьяны Ефремовны, но она придумала перебить Машей возрастную зазнобу старшего сына. Его краля ни в какое сравнение не шла. Личико клинышком, два кулачка вместо задницы, два наростика вместо грудей… Ничего не вышло из затеи. Жениться сын на соседке Маше женился, мать не смог ослушаться, да не заросла дорожка к сердечному адресу. Жене мужского доставалось по остаточному принципу… Тем не менее, дочь Надежду и сына родила Мария... А как дети подросли, разбежались супруги: она – к Пете, он – к стародавней зазнобе… Петя за десять совместных лет с Машей потихонечку сопьётся, и в итоге, уехав на заработки в Сургут, бесследно сгинет на северах… Было над чем поразмышлять Надежде с проблемой, безостановочно развивающейся в животе. У отца своя жизнь с любимой женщиной, у матери тоже вторая молодость, не до внуков. Подумала Надежда, представила своё отнюдь не розовое будущее материодиночки и решилась на аборт. Подпольный. На больничный срок упустила. В женскую консультацию, как знала, на учёт не встала. Обобщила бабский опыт по части избавления от нежелательной беременности. Да промазала с первого раза, как и со второго… Таблетки пила, уколы ставила. Никаких подвижек в нужную сторону. Зато в обратную живот, как на дрожжах, рос. Пять месяцев ему исполнилось, когда знатоки подсказали верный метод. Варварский, но с большой вероятностью положительного исхода. Навести хозяйственного мыла, при помощи заливки этого стимулирующего раствора изгонять. Не будем приводить полный рецепт с описанием способа применения абортивного средства. Рисковала Надежда… И говорить не приходится как… Сутки длился мучительный процесс. С полным родовым набором: схватки, отход вод, потуги, выход последа… Мать вокруг мечется, на дочь страшно смотреть. Сердце рвётся от такой картины – ведь умереть может. Сунется к ней с предложением вызвать «скорую». Надежда – серая, измождённая –сквозь жуткую боль прорычит: «Не смей!» Героически стояла на сохранении секретности. Перетерпела мучения и добилась своего. В оконцовке увидела, что родила бы Ольгу, кабы не спровоцированный выкидыш. Аборт даром не прошёл, с год в себя приходила, бегая по врачам. А как подлечилась – полетела по наклонной. Вчерашнюю скромную девочку понесло по принципу «живём один раз». Мужчин было как солдат на войне. Вернёмся к последнему. Даже не к нему, а к плачевным последствиям общения с ним под знаком свадьбы, на которой Надежда выдавала замуж подругу. Та недели не успела прожить в браке, как Надежда почувствовала нелады под юбкой. Букет симптомов недвусмысленного характера. Надеялась поначалу – авось пройдёт, рассосётся, – оно ещё хуже. Побежала к гинекологу. «Не смертельно, – сказала врач, – но надо будет полечиться. И мужчинку своего предупредите…» Надежда обратилась к подруге за телефоном переносчика заразы, сразу не сказав, что к чему. «Что понравился? – подруга загорелась любопытством. – Только смотри, он уже три раза женился, алиментами по уши оброс, в три адреса платит». «Чё бы он мне понравился?» «Неужели забеременела?» «Ага: я ждала и верила – думала рожу, а пошла, проверилась – с триппером хожу». «Ой, паскудник! То-то с ним ни одна жена не ужилась! Со всякими помойными спит! – подруга любила категоричные выводы. – Опозорить бы на весь белый свет, чтоб знал!» «Ладно, – Надежда остановила праведный фонтан подруги, – случилось и случилось. Ничего смертельного – трихомоноз, но лучше предупредить, чтоб ещё кого не наградил из дурочек нашего брата». Позвонила Юре. Тот на дыбки. Никаких таких аномалий у него в жизни не было. Ищи, говорит, в другом месте, с кем после него делила постель. Лично он чист, здоров, чего и всем желает. «Юра, – не удивилась пламенной реакции недавнего партнёра Надежда, – мне, в принципе, глубоко по барабану, побежишь к врачу или нет. Мне, как говорится, с тобой детей не делать. Просто хотела предупредить. Так что бывай, не кашляй. Но врач сказал: у мужчин вообще часто бессимптомно. Живут в тебе возбудители год другой, квартируют спокойненько, а потом хоп и получай простатит с импотенцией». Обиделась Надежда, не без того, будто уж совсем не знает когда и с кем. Юра позвонил через два месяца. Сыпал извинениями и благодарностями. И предложил встретиться. «Могу анализы принести, если не веришь», – виновато пошутил. Через полгода они поженились. Доброжелатели предупреждали, та же подруга, на свадьбе которой схлестнулись Юра с Надеждой: «Подумай, он скачет, как блоха в штанах, от одной жены к другой, из одной кровати в другую, третью. Есть дурацкая порода у мужиков – перебирать до старости баб, он точно из этих». Надежда смеялась: «Пожуём – увидим». Переубеждать её не имело смысла, если принимала решение. – Неужели не зарази я тебя, не позвонила бы? – и через двадцать лет удивлялся Юра своему везению. – Зачем? – честно отвечала Надежда. – Никогда не оставалась без мужчины, чтобы самой искать. И все годы они живут счастливо. Тот случай, когда супруг называет жену Солнышком не по банальной привычке, а потому, что освещает ему жизнь. И Кошечкой – из-за ласковой преданности. И Ласточкой – ведь возвышает будни до небесной синевы. Сам в ответ каждый день слышит сердечные глупости. Две их дочурки ростут в любви… Имея частный дом, постоянно Юра с Надеждой что-то строят в четыре руки, перестраивают. То кочегарку, то теплицу, то дочь старшая подросла – сооружают ей светёлку-пристройку. – Юрик, дурашка такая! – слышится со двора или огорода. – Подожди, кому говорю! – Что, моё Солнышко!.. – Не тащи, вдвоём надо… – Тебе нельзя, Солнышко, рожать не будешь. – Болтушка ты… И думается: Надежде дано за мать – не познавшую любовь в семье, за отца – всю молодость лицемерившего с законной женой, за бабушку – что отравила жизнь гордыней, за дедушку – вытесненного этой гордыней на задворки, за всех дано Надежде долюбить, испытать семейное счастье, дано излучать нежность и получать взамен сторицей. И видятся Юра с Надеждой в старости бережной парой, каждый готов, как бы самому ни было трудно, подать другому лекарство, бессонно дежурить у постели занедужившего супруга. И больно представить, как затоскует один, похоронив другого. Как будет до последнего вздоха надеяться на встречу за последней земной чертой…