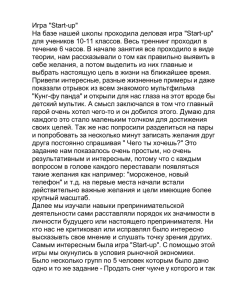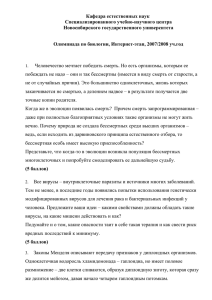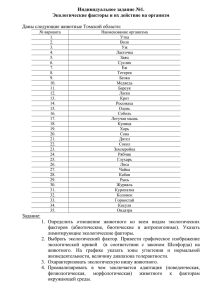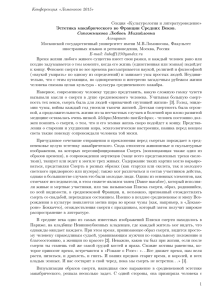МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
advertisement
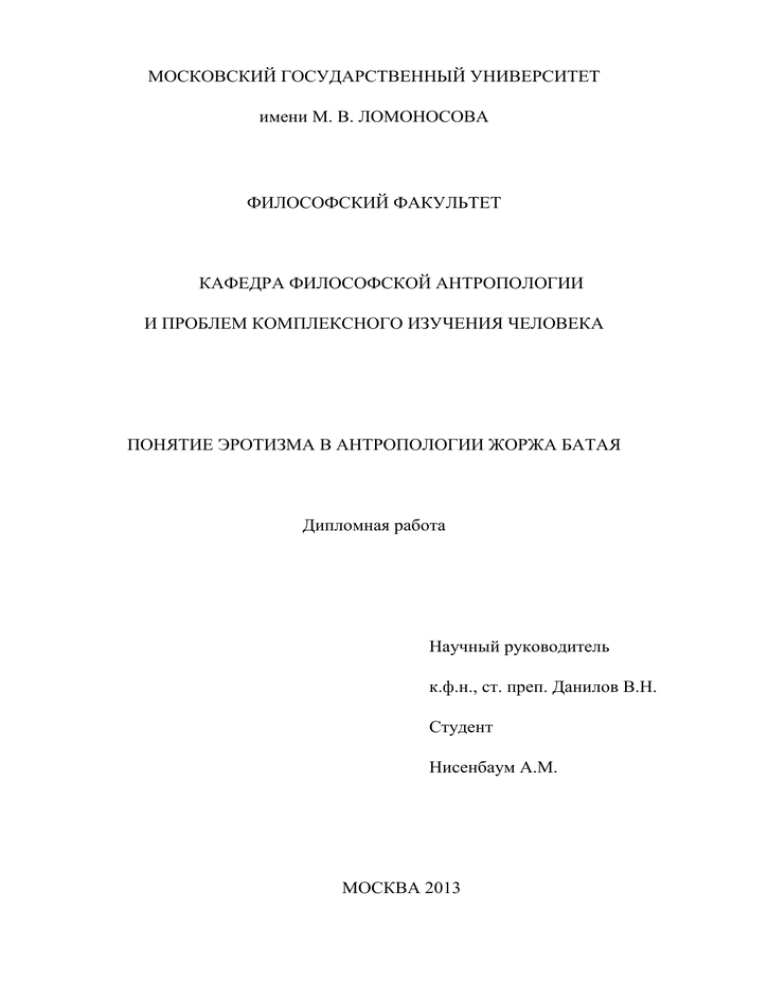
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОНЯТИЕ ЭРОТИЗМА В АНТРОПОЛОГИИ ЖОРЖА БАТАЯ Дипломная работа Научный руководитель к.ф.н., ст. преп. Данилов В.Н. Студент Нисенбаум А.М. МОСКВА 2013 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ............................................................................................................. 3 Глава 1. Антропогенез батаевского человека................................................. 6 Труд и игра, экономия и растрата .......................................................... 7 Имманентное и трансцендентное, зарождение субъектно-объектных отношений .............................................................................................. 10 Негативная антропология ..................................................................... 11 Глава 2. Эротизм внутри истории ................................................................. 14 Сексуальность, эротизм ........................................................................ 14 Табу на чистоту, инцест ........................................................................ 18 Трансгрессия .......................................................................................... 22 Эротизм, литература и искусство ........................................................ 27 Познать смерть ....................................................................................... 29 Сакральная антропология ..................................................................... 33 Трансгрессия в эпоху христианства .................................................... 37 Внутренний опыт и светский мир ........................................................ 41 Частные проявления .............................................................................. 46 Заключение ...................................................................................................... 42 Библиография .................................................................................................. 54 2 Введение Джорджо Агамбен, анализируя различия между животным и человеком у Хайдеггера, говорит о функционировании некоей "антропологической машины", производящей универсальный критерий, позволяющем развести животное и человека [17; 24]. Для Хайдеггера такими критериями являлись язык и специфический способ существования «Антропологическая человека, машина» именуемый Батая добавляет экзистенцией. к критериям человечности отношение к смерти, производительный труд и эротизм, что делает его концепцию намного богаче. Эротизм, а точнее – эротизм, опрокинутый на человеческую историю, как критерий отличия человека от животного, и станет предметом этой работы. В "Истории эротизма" (1951) которая представляла собой вторую часть большого текстового проекта Батая под названием "Проклятая доля", французский философ делает попытку показать, каким образом человеческая история и экономика (в специфическом расширительном понимании Батая как универсальной экономии) оказываются зависимыми от того, что обычно ускользает от непосредственного исторического описания. "На основе непристойного и постыдного, которое – в силу того, что оно вытесняется, но, принадлежа самой нашей природе, не может быть устранено или уничтожено, наделяется особой ценностью" [3; 196]. Человеку всегда была жизненно необходима трата энергии, которая возможно в двух полюсах: с одной стороны, это полезная трудовая деятельность, с другой – эротизм. История движима эротизмом и его субститутами: война, борьба, деятельность политиков: «Люди, вовлеченные в политическую борьбу, никогда не 3 смогут склониться перед истиной эротизма. Эротическая активность всегда имеет место за счет сил, задействованных в политике». [1; 151] История подошла бы к концу, если бы истина эротизма стала бы открыта. Эта работа несет в себе большое значение для философской антропологии, так как он видит ответ на фундаментальный вопрос философии – что есть человек? – в эротизме и отношении к смерти, что является некоей революцией философии: раньше ответ искали в противоположном – в разуме и сознании. Теория Жоржа Батая подразумевает под собой обширный контекст. В отличие от остальных областей наук, она не имеет своего собственного языка и узкого, ограниченного поля исследования. Она захватывает огромное множество областей человеческой деятельности, которые отказываются неразрывно связаны в определении того, что такое эротизм: это и антропогенез, религия, искусство, литература, смерть, история и политика: «Мыслить об эротике можно только тогда, когда одновременно мыслишь о человеке вообще. В частности, нельзя мыслить об эротике независимо от истории труда и истории религий» [3; 493]. Жорж Батай был на некоторое время забыт, но интерес к нему возродился после переосмысления его трудов Жаком Деррида, а также выхода «Анти-Эдипа» Делеза и Гваттари. По мысли Деррида, Батай попытался переосмыслить Гегеля с его негативной антропологией. Именно это Деррида и назвал «невоздержанным гегельянством» [9]. Проследим, как же функционирует "антропологическая машина" Жоржа Батая. 4 эротическая Глава 1. Антропогенез батаевского человека Познание есть первый шаг на пути превращения животного в человека. Речь идет не только об изготовлении и использовании орудий труда, но об осознании человеком (или тогда еще полуживотным) собственной смертности, конечности своего бытия. Древнейшие захоронения нижнего палеолита, а затем и первые рисунки, на которых первобытные люди изображали себя, несут знание о собственной смертности, и именно с того момента началось отделение животного от человека. У человека появился страх и тревога от осознания собственной смертности, и с тех пор история человечества развивалась в тени этой тревоги. Эротизм вырос из этого знания о смерти, который отличался от сексуальной активности животных. Подобно тому чувству тревоги и смущения, которое двигало неандертальцем, который начал хоронить трупы себе подобных, абсолютно идентичное ощущение сопровождало отныне сексуальную активность первобытного человека. Как и у обезьян, акт все так же сопровождался повышенной возбудимостью, но человека переполняло чувство "насилия", знание о смерти дало ему некоторую сдержанность, которой были лишены его предки: «Поистине чувство смущения по отношению к сексуальному акту напоминает, хотя бы в одном смысле, чувство смущения по отношению к смерти и мертвым. В обоих случаях «насилие» переполняет нас странным образом: в обоих случаях то, что происходит, кажется странным, сторонним по отношению к принятому порядку вещей, которому и противится в обоих случаях это насилие» [6; 277]. Батай усматривает четкую ассоциацию между первобытным человеком, познавшим смерть и эротизм и библейской легендой о грехопадении: познание и стыд – две вещи, объединяющие батаевское 5 животное в его становлении человеком и библейского человека, оказавшегося в изгнании из Эдема. Труд и игра, экономия и растрата Первое место в становлении человеческой истории традиционно отводится труду. Орудие служит доказательством знания и разума, которые сделали из животных людей. Работа явилась одним из основополагающих факторов, которые явились причиной возникновения пропасти между животным миром и миром людей. "Но эта работа изменяла не только камень, отпадавшие осколки которого постепенно высвобождали желаемую форму. Изменялся сам человек: очевидно, что именно труд сделал из него человеческое существо, это разумное существо, которым мы слывем", - пишет Батай [6; 282]. Очевидно, что вместе с приспособлением человеком природы, он начал выделять для себя смысл и пользу своих действий. Труд был необходим для создания условий жизни человека, но так же важно будет отметить: труд способствовал накоплению. А любое накопление рано или поздно необходимо растратить. «Но результатом труда выступает выгода, прибыль: труд обогащает. Если рассмотреть результат эротизма в перспективе желания, независимо от возможного рождения ребенка, он обернется тратой, потерей, лишением, чему и соответствует эротический экстаз, с властностью смерти лишающий нас разума» [6; 283]. Главное отличие эротизма людей от сексуальной активности животных, является то, что в отличие от последних, люди изначально не связывали рождение детей со своей сексуальной деятельностью, но главная, и, пожалуй, единственная цель, которую они преследовали – немедленное получение удовольствия. Нельзя сказать, что сексуальная 6 деятельность человека была направлена на продолжение рода, она "отвечала рассудочному поиску сладострастного исступления"[6;282]. И цель этого поиска – не накопление, как в случае с трудом, но непомерная трата, лишение, экстаз, который лишает нас рассудка. И по мере того, как человек все больше и больше втягивался в эту погоню за наслаждением вместо слепого животного инстинкта, пропасть между ним и животным становилась все больше. Батай говорит о необходимости не только совершения полезной работы, но подключения игры в становлении человека. Человек есть работающее животное, умеющее превращать работу в игру. Рождение искусства началось с совмещения труда и игры. Первобытное искусство – наскальная живопись. Батай, указывая на особую роль наскальной живописи в становлении человека, рассматривает ее на примере пещеры Ласко, в которой были найдены изображения человека с головой птицы, находящегося в состоянии эротического возбуждения и лежащего рядом бизона с распоротым брюхом. Несомненно, что эти рисунки имели магический смысл, связанный с охотой и жертвоприношением, но еще более важную роль в таинственности этой пещеры играет "глубинный соблазн игры", который овладевает человеком, ищущим удовольствия: "Но все дело в том, что эти мрачные пещеры были в первую очередь предназначены для занятия, сокровенной сутью которого является игра, т.е., то, что отличается от труда, игра, т.е. то, в чем человек отдается соблазну, удовлетворяет свою страсть. А ведь страсть, выведенная в первых человеческих фигурах, нарисованных на стенах доисторических пещер, - это и есть эротизм" [6; 285]. Но детскому, наивному эротизму уже противостоит трагическая тяжесть от осознания смерти, которая, в то же время обладает комическим оттенком: в самом деле, смех, слезы, смерть и эротизм 7 очень тесно связаны – раненый бизон, рядом с которым находится человек в состоянии эротического возбуждения с наивной мордой птицы, которая привносит в картину какой-то смутный комизм. «Необычайный характер этого рисунка усиливается тем, что мертвец с выпирающим фаллосом изображен в обличье птицы; у него звериная и столь наивная морда, что вся сцена приобретает какой-то смутнокомичный вид» [6; 286]. Связь смерти и эротизма многократно подтверждалась и тут же укрывалась: в этом есть их родство: "они укрываются в тот самый миг, когда разоблачается их сущность" [6; 288]. Имманентное и трансцендентное, зарождение субъектно-объектных отношений В «Теории религии» Батай говорит о выделении человека из животного мира, как о прекращении самоощущения в качестве «потоку воды в водной стихии», как ощущает себя животное. Он, таким образом, противопоставляет пару иммантентность и трансцендентность. Животное, поедая себе подобное, не ощущает это так, как ощущает нормальный человек: «Речь не идет о подобном, признаваемом за таковое, скорее об отсутствии превосходства животного поедающего в отношении животного поедаемого: различие между ними, конечно же, существует, но то животное, что поедает другое животное, не может противопоставить себя последнему в порядке подтверждения такого различия» [4; 15]. Волк не станет есть волка – это утверждение справедливо, - говорит Батай, но оно не является таким же истинным, как для человека. Для животного, поедающего другое животное не существует отношения соподчинения, это происходит лишь из-за неравного отношения сил: «Дифференцирование требует определения положения предмета как такового. Если определения положения 8 предмета не происходит, то и существенное дифференцирование невозможно. Животное, поедаемое другим животным, пока еще не выступает в качестве предмета» [4; 16]. Человек, в отличие от животного умеет воспринимать и дифференцировать предметы, он устанавливает субъектно-объектные отношения, указывая и осознавая протяженность предмета. Более того, человек начинает воспринимать категорию «Другого», то есть, говоря проще, «НЕ-Я». С отрывом человека из мира животного, природа, таким образом, перестает быть имманентной человеку: он может изменять ее, но от этого она не станет ему более открытой и понятной, скорее наоборот. Негативная антропология Человек – существо негативное, такое, что всегда отрицает существование природы в себе и себя как часть этой природы, своего естественного происхождения. Идея негативного человека принадлежит Гегелю, который находил негативность в действии, а само действие считал негативностью. С одной стороны, человек, отрицающий природу, отдаляющийся от нее, все еще находит себя в лоне природы, но это отрицание выходит за пределы сознания, и негативность, выражаясь вовне, реально в себе изменяет реальность природы трудом, войнами, искусством. "С одной стороны, есть поэзия: внезапное и самоистребительное разрушение окровавленной головы с другой – Действие: труд, борьба. С одной стороны, "чистое Ничто", в котором человек "отличается от Ничто на некоторое время". С другой стороны, исторический мир, где Негативность человека, это Ничто, которое пожирает его изнутри, создает совокупность конкретной реальности (разом и объект, и субъект, измененный или неизмененный мир, человека, который думает и изменяет мир)" [6; 249]. 9 Антропология Гегеля рассматривает человека как движение, которое невозможно изолировать из лона тотальности. Гегелевский человек – диалектическое бытие, т.е. бытие есть "по необходимости бытие временное и конечное", следовательно, смерть подтверждает наличие диалектического бытия. Человек историчен и индивидуален. Существо, бытие которого тождественно самому себе, когда бытие ставит на карту само себя, если человек стремится к тому, что внушает ему страх, тогда это существо есть человек в полном смысле слова, отныне он не неподвижная субстанция, он негативен: "Сила и неистовство негативности бросают его в непрестанное движение истории, которая меняет его и которая одна властна осуществить во времени тотальность конкретной реальности" [6; 250]. Негативность человека по отношению к природе в том, что только его разум способен вычленить из тотальности природы ее составляющие элементы, которые не могут быть отделены друг от друга ни временным, ни материальным параметром. Человек отрицает самого себя как часть природы: несмотря ни на что, человек – это животное, которое не может существовать вне природы. Постоянное отрицание человеком самого себя задает динамику развития истории – люди никогда не будут равны, одни будут постоянно стремиться отдалиться от природы больше чем другие – появляется рабство, нижние слои общества, которые, как считается, больше приближены к животной природе, чем богатые. *** Таким образом, батаевский человек – это разумное, трудящееся, религиозное, познающее, эротическое и негативное существо, отрицающее свою связь с природой, но вынужденное признавать свою помещенность в природу. 10 Глава 2. Эротизм внутри истории Указанием на отличие человека от животного является пара "сексуальность" и эротизм". Именно этот критерий Батай ставит во главу угла, пытаясь исследовать человеческую историю. Для этого необходимо непосредственно провести черту между этими двумя понятиями. С одной стороны, сексуальность и эротизм - это, по сути, две стороны одной и той же деятельности как человека, так и животного. Но в процессе развития человека эротизм занял совершенно особое место в психологии и мышления людей, в то время как сексуальность у животных ничем не выделяется из их естественных потребностей, таких как потребность в еде или в самосохранении. Сексуальная активность животных явно направлена на приобретение - потомство, которое продолжит их род, будет помогать в охоте и т.д. Но рождение детей в нашем мире нельзя назвать приобретением: «Действительно, хотя эротическая деятельность прежде всего есть безудержность жизни, цель такого психологического поиска, как уже сказано, независима от заботы о воспроизводстве жизни и не чужда смерти» [3; 493] Сексуальная активность человека в первую очередь направлена на достижение удовольствия, на удовлетворение сиюминутной потребности. Удовлетворение сексуального желания есть трата всего накопленного без приобретения чего-либо. Это и есть первое отличие сексуальности животного от эротизма человека. В то же время трата невозможна без приобретения. Человек никогда не будет тратить больше, чем имеет, и не будет работать без возможности траты. Но далеко не всякая человеческая сексуальная активность является эротизмом, но она является ей каждый раз, когда не является 11 животной. Условие перехода от сексуальности к эротизму интеллектуальная деятельность человека, которая квалифицирует события, объекты, слова, места как сексуальные, потому что "на самом деле", - говорит Батай, - "нет ничего и никого сексуального самого по себе, именно человеческий разум наделяет объекты эротическим смыслом, делает их неприличными, притягательными, запрещенными, дает человеческой сексуальности то, чего нет у животной – целомудрие". [1;137] Вся человеческая жизнь и история построена на игре контрастов. Кажется, что мир есть нечто однородное и неделимое. Для Батая как гегельянца, это совсем не так: "Зачастую мы говорим о мире, о человечестве так, словно им присуще какое-то единство: на самом деле, человечество образует миры, внешне соседствующие, но фактически чуждые друг другу" [1; 13]. Классический психоанализ, как его понимал Батай, поддерживает и признает главенство мира мысли над сексуальностью. Связная мысль сама по себе формирует отдельный мир, который практически не взаимодействует с "отверженными мирами", мысль рассматривает эти сферы извне, свысока, не признавая взаимодействия с ними. Но Батай для написания своей работы выбрал другой подход, он рассматривает факты эротизма и сексуальности "в рамках конкретной и сплошной тотальности, где мир эротический и интеллектуальный дополняют друг друга и попадают в плоскость равенства" [1; 15]. Мысль асексуальна, призвана навязать мораль и запреты миру чувственности, вследствие этого она формирует плоский профанный мир вещей и труда, лишенный эротизма и чувственности. Цель Батая - рассматривать тотальности, которая со всех сторон превосходит редуцированный мир мысли, тотальность, которая состоит из оппозиций, но в то же время, которая является целой и 12 неделимой. "<…> рефлексия и мысль в таких условиях должны быть соразмерны своему объекту, а мой объект, эротизм, - соразмерным традиционной мысли, на которой основано презрение к этому объекту" [1; 16]. Эти два мира позволяли человеку в своем переходе от животного развиваться сразу в двух направлениях, двух мирах - в мире полезной трудовой деятельности и мире игры, искусства, религии и эротизма. Для Батая эротизм и религия очень тесно связаны. Человеческий жест отрицания природы ограничивает человека кругом полезной трудовой деятельности (профанный мир): все, что находится за пределами профанного мира - под запретом, сакрально: «Любая эротическая практика нацелена на то, чтобы достичь самого сокровенного бытия, пока не станет страшно. Переход от нормального состояния к состоянию эротического желания предполагает до какойто степени растворение нашего существа, как оно сложилось в порядке непрерывности» [3; 498]. Это связано с амбивалентностью человеческого сознания: с одной стороны, животность и вообще вся природа внушает человеку ужас и отвращение, с другой - страх, желание и тоску. Недаром первыми сакрализованными объектами были природные стихии, животные, птицы. Сакральное - социальное "ядро", которое каким-то образом (через архетипы, запреты и правила) задает динамику развития человечества. И это ядро, по мысли Батая, было "объектом фундаментального отвращения". Эротизм сакрализует природу, объекты, наделяя их статусом запрещенных вещей. Эротизм и религия, следовательно, имеют одну природу - они оба попали в "исключенный" мир, который обрел свой особый статус благодаря запретам и ритуалам. Человек – существо религиозное в большей степени, чем мыслящее. Это связано, конечно, с желанием отдалиться от 13 животного. Религия диктует правила и ценности для человека, но она же и дает жизнь эротизму: эротизм – это с первую очередь, интеллектуальная деятельность, запреты и правила делают объекты, слова, действия запрещенными, эротическими. Религия выступает как надстройка над профанной жизнью человека. Он всегда хочет еще больше оторваться от природы – теперь обычной профанной жизни уже недостаточно. Если раньше считалось, что потребность, нужда и необходимость – черты животного, а желание – человеческая черта, то теперь желание равнозначно животной нужде. Необходимо отречение от желания. Именно христианство провозгласило необходимость отречения от желаний, завысило ценность труда, обесценив наслаждение. Табу на чистоту, инцест Существуют основные формы отрицания человеком природы (первичный запрет на непристойность, страх смерти, запреты, касающиеся чистоплотности и т.д.), которые, образуя потом более сложные системы, выстраивают и объясняют социальную действительность с точки зрения эротизма. Одним из основных таких табу является запрет на инцест, который явно вырос из первичного запрета на непристойность, ему Батай уделяет особое внимание, т.к. по его мысли он напрямую связан с загадкой происхождения человека. Смысл запрета на инцест в отдалении от животности и природы. Батай в своих догадках о причинах запрета на инцест ближе всего подошел к теории Леви-Стросса: "он [запрет на инцест] являет собою основополагающий шаг, благодаря которому, посредством которого, но, главным образом, в котором осуществляется переход от Природы к культуре" [1; 20]. То есть ужас людей перед инцестом характеризует их именно как людей, как отличных от животных сущностей. Запрет 14 на инцест является функцией распределения женщин между группами и племенами, запрет порождает институт брака, т.е. табу на инцест впоследствии имеет большой социальный и экономический смысл. Но для Батая запрет на инцест имеет не только экономический смысл, это важный механизм регулирования сексуального поведения вопреки животным инстинктам. В основе регулирования сексуальной активности людей, как считает Батай, а в частности - в запрете на инцест, лежит принцип дара. Дар - это негативность, отказ одним человеком удовлетворения собственной животности в пользу другого (отец или брат даруют свою дочь или сестру, что символизирует отказ от возможности воспользоваться этой женщиной для удовлетворения собственных потребностей), но смысл дара - в надежде, что дарящий позднее получит взамен эквивалентную вещь или превосходящую ее по ценности. Так наминает экономическая и социальная циркуляция внутри определенного общества. "Когда я приступаю, в рамках всеобщей экономики, к анализу никак от нее не отделимого аспекта эротизма, то не стоит удивляться, что принцип дара, приводящий в движение ход общей деятельности, оказывается и в основании сексуальной активности. Это верно для ее простейшей формы: физический половой акт представляет собой дар бурлящей энергии. Это справедливо и для более сложных ее форм, для брака и законов распределения женщин между мужчинами".[1;29] Еще один из фундаментальных запретов - запрет, касающийся смерти. Он предполагает два аспекта: запрет на убийство и запрет на контакт с умершими. Причем второй запрет соблюдается более тщательно. Это связано со страхом перед смертью. Но как это ни парадоксально, смерть является прямым условием возникновение жизни: "Кроме того, сама жизнь - это продукт разложения, и она 15 зависит одновременно и от смерти, и от дерьма" [1; 62]. Страх столкнуться с мертвым настолько могущественен не только потому что вплотную подводит человека к факту уничтожения, но и потому что показывает могущество природы, неоспоримым законом которой является повсеместное брожение жизни. Этот факт непримирим с торжественным отношением к смерти людей, он вызывает тревогу, злобу и отвращение перед первоначальным смыслом смерти - гниение, разложение плоти, зловоние - то, что является отталкивающим условием возникновения жизни. Цель ритуалов - успокоить тревогу и злобу от этого знания. Ощущения тревоги перед созерцанием трупа и эротизмом - одной природы, утверждает Батай. Запретный, преступный характер удваивает привлекательность увиденного. Но может показаться парадоксальным, что есть привлекательного в гниющем трупе? На самом деле, запрет на убийство и запрет на неуважительное обращение с трупами неразрывно связаны: второе может разбудить в человеке желание убивать. То же относится и к кишечным выделениям и крови. "Мнение о том, что первобытные люди были более неряшливы и нечистоплотны по сравнению с нами - глубокое заблуждение" [1; 51], - говорит Батай. Наоборот, сложно представить, с каким ужасом они относились к грязи и крови. Они пытались исключить формы животности из собственного мира, однако, такие формы можно отрицать лишь фиктивно, поэтому ритуалы и тайна - условие сексуальной активности, как и условие отправления естественных нужд. Дети исключают возможность людей избавиться от грязи раз и навсегда, но к ним особое отношение, дети - животное, становящееся человеком. Этот архетип о соотношении грязи и животного настолько силен, что даже сейчас не перестает определять иерархию "человечности": богатство человека означает его наибольшую удаленность от животного, потому 16 что он может окружить себя средствами, проделывать необходимые ритуалы, очищая себя от грязи, чтобы стать еще дальше от природы. Чем дальше от природы - тем больше ты человек. В отношениях раба и господина действует тот же принцип - рабы в принципе не воспринимаются как люди, а в лучшем случае как разумные животные. Стыд перед грязью и стыд перед сексуальностью имеет одну природу и никогда не будут исключены из одной области. Сексуальные революции и постепенное снятие запретов ничего не изменят: "Рационализм здесь бессилен, так что, по нашим меркам, мы имеем дело с областью нередуцируемого отвращения. Постепенное и очень медленное снятие запретов, касающихся если не непристойного, то сексуального, ничего здесь не меняет: смежность функций в любом случае придает сексуальной активности грязный характер, который, кажется, преодолеть нелегко" [1; 54]. Трансгрессия Трансгрессия (от лат. trans – сквозь, через и gressus – приближаться, переходить) – некая ситуация выхода за пределы. Оксана Тимофеева указывает на схожесть трансгрессии с гегелевским термином Aufhebung, «сохраняющее отрицание», «снятие» [17; 32]. Несмотря на то, что Батай отталкивается от гегелевской теории, батаевская негативность отлична и усложнена. Она совмещает в себе противоположные направления движения: запрет и трансгрессию. Трансгрессию уже нельзя воспринимать как гегелевское отрицание отрицания, как полностью диалектический процесс, «в котором нечто, соприкасаясь с внешним миром, возвращается к себе как уже познавшее себя» [17; 34]. Трансгрессия есть лишь фикция преодоления запрета, тогда как запрет означает конечный разрыв. В момент трансгрессии 17 ничто не возвращается к себе с новым знанием, как в случае с Гегелем, а лишь дальше уходит от сознания. Человек никогда не только не мог полностью отрицать природу, но и не хотел этого делать. Это двусмысленное чувство зарождало что-то совершенно иное отвращению, оно наделялось особой ценностью, природа преображенная становилась сакральной. То, что сакрально есть то, что запретно. И хотя сакральное отбрасывается из сферы профанной жизни, оно становится гораздо более значимым, нежели профанный мир. Природа, хотя и принимает зачастую животный облик, уже не так отвратительна, она становится священной. Сакральное к профанной жизни имеет такое же отношение, как и профанная жизнь к животной: оно призвано отрицать, но на этот раз отрицать зависимость от мира вещей, от рабства повседневности. Люди, взывая к силам природы, движением праздника прерывали привычный ход жизни, подчиненный тривиальным целям. "Произошедшее, таким образом, подытоживается в одной простой фразе: сила движения, удесятеренная вытеснением, пробросила жизнь в более богатый мир" [1; 73]. Сакральное, как и все запретное и непостигаемое является таковым из-за запретов, которые наложены на них. Игра ужаса и желания удерживает людей в "состоянии тревожной зачарованности" [1; 75]. Эротизм вырос из запретов. Именно человеческий разум наделяет вещи статусом запретного, а стало быть, желанного: "Часто кажется, будто, преодолев сопротивление, желание наделяется большим смыслом: сопротивление - это испытание, которые гарантирует нам подлинность желания и которое, таким образом, наделяет нас силой, проистекающей от непреложности его власти", - пишет Батай [1; 75]. Смысл запретов - в тревоге, без которой сексуальность людей не стала бы эротизмом и ничем бы не отличалась от животной сексуальной деятельности. Чувство опасности ставит нас перед пустотой, перед пределом, но пределом 18 сексуального желания и стремления является смерть. "Эротическая деятельность может быть непристойной, она также может быть благородной и возвышенной, исключать сексуальные контакты, но так или иначе она совершенно определенно иллюстрирует принцип человеческого поведения: мы хотим того, что истощает наши силы и ресурсы, и подвергает, если то оказывается потребно, опасности" [1; 82]. Получается, что запрет - слаб, он есть только провокация преступления через пределы - трансгрессия. Не существует предела, который невозможно преступить, но и трансгрессия бы не имела смысла, если бы пределы были настолько прозрачны. "Трансгрессия, исходя из того предела, который обозначает святое, она открывает пространство, в котором разыгрывается божественное", - пишет Фуко [19; 119]. В то же время, он высказывает несколько противоречащую концепции негативности Батая идею: "Нет ничего негативного в трансгрессии. Она утверждает определенное бытие, бытие в пределах, она утверждает эту беспредельность, в которую она перескакивает, открывая ее впервые существованию", - пишет он [19; 120]. Трансгрессия и имеет смысл только в человеческом мире - у животных нет разницы между повседневностью и праздником, приличным и постыдным. Трансгрессия, праздник направлены на возвращение к природе, от которой люди были оторваны, но действия людей никогда не спутаешь с действиями животных. В качестве исторического примера трансгрессии Батай приводит преступление запрета на убийство - ритуальное жертвоприношение [1; 69]. Ритуал сопровождается праздником, переворачиванием правил повседневной жизни. На Сандвичевых островах люди, узнав о смерти царя, начинают жечь дома, грабить, насиловать, убивать, словом, делать все, что запрещено в обычной жизни, вплоть до того, пока кости царя не побелеют (это свидетельствует о некотором примирении). Прямой 19 наследницей религий, полагает Батай, является литература. В наследство она получила жертвоприношение - игровое стремление гибели, потере и разрушению, которое теперь получило выход в новом жанре - в жанре романов и поэзии. В жертвоприношении, как и в литературе, дан не простой объект отвращения. Наибольшую тревогу вызывает тот, кто добровольно во имя чего-то идет к смерти, он воспринимается не просто как объект тревоги, но как обожествленное существо. В литературе то же самое: "Чем ближе герой к божеству, тем больше потери, которые он навлекает на себя добровольно. Лишь божество - чрезмерным образом подтверждает принцип, согласно которому в качестве своего объекта желание имеет утрату и опасность" [1; 85]. Говоря о смерти как о вершине удовольствия, разумеется, не имеется в виду, что в смерти есть что-то приятное, но она есть в близком рассмотрении, в приближении. И для этого не нужно искать смерти в буквальном смысле. Для этого необходим лишь образ смерти: жертвоприношение, литература, эротизм. Истинная радость, конечно, требует движения по направлению к смерти, но смерть положила бы ей конец. "Мы подходим к пустоте, но не для того, чтобы упасть в нее. Мы хотим достичь упоения в головокружении, а для этого достаточно и образа падения" [1; 86]. Мир плоских объектов, профанный мир превращает людей в абстракции, мир, где субъект с объектом различны. Но мы можем выйти из мира разума при условии, что вступим в такой мир, где объект и субъект даны в одной плоскости. Нет лучшего примера такого мира, что мир эротической жизни, где не бывает того, чтобы объект рассматривался отдельно от субъекта. Объект желания, на самом деле, - это лишь другое желание. Идея желания другого желания принадлежит Александру Кожеву: "Предметом человеческого Желания должно быть другое желание… Так, например, в отношениях между мужчиной и женщиной 20 Желание человечно в той мере, в какой хотят овладеть не телом, но Желанием другого… хотят быть "желанным" или "любимым", или, лучше сказать, "призванным", в своей человеческой значимости, в своей реальности человеческого индивида" [13; 14]. Желание растратить себя без остатка, но такое возможно лишь при полном совпадении желаний объекта и субъекта желаний. Одному желанию необходимо сопоставить другое, равное по силе. И при полном слиянии и совпадении, по Батаю, два человека образуют тотальность. И получается, что объектом желания является не другой человек, а тотальность бытия, само мироздание: "Она больше не та, что готовила еду, умывалась или покупала малозначительные предметы. Она громадна, она далека, как те сумерки, в которых ей тяжело дышится, и в своих криках она настолько превратилась в безмерность мироздания, а ее безмолвие настолько напоминает пустоту разверзающейся смерти, что я обнимаю ее по мере того, как тревога и лихорадка бросают меня в место смерти, где отсутствуют границы мироздания... Словом, объект желания само мироздание..." [1; 92]. Разумеется, в основе такого слияния лежит ужас, отвращение, но он не вызывает ни тошноты, ни неприязни - он приближает человека к "невыносимой тайне бытия", в самом человеке дан ужас, животность, которая, открывая тотальность бытия, дарует наслаждение. Тотальность достигается ценой жертвы, эротизм и любовь в равной мере и есть жертвоприношение. Опираясь на творчество де Сада, Батай замечал, однако, что нет ничего более неестественного, чем оргии, праздники, жертвоприношения и тому подобные выражения эротизма. Человеческая сексуальность полностью трансформирована культурой, полный «возврат к природе» невозможен, т.к. по мысли Батая, эротизму недоступна животность в подлинном смысле слова. 21 Эротизм, литература и искусство В теории Батая выделяются полярных мира: один – профанный, обусловленный законами, трудом, и другой – мир трансгрессии, праздника, искусства. Игра во втором случае является обязательным условием трансгрессивного движения и искусства в целом: «Это была, видимо, высшая забота первоначал - так до сих пор остается в архаичных обществах - согласовать работу и игру, запрет и трансгрессию, профанное время и неистовство праздника в виде тонкого равновесия, где беспрерывно сочетаются противоположности, где игра сама же принимает вид работы и где трансгрессия восполняет утверждение запрета». [5] Трансгрессия Батая имеет много общего с Карнавалом и «смеховой культурой» М.Бахтина, когда он строгой и серьезной культуре Средних веков противопоставлял «совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений» [20]. В Карнавал не играли, это была совершенно суверенная, другая, свободная форма жизни. Карнавал «был как бы временной приостановкой действия всей официальной системы со всеми ее запретами и иерархическими барьерами». [20] В это время даже церковь приостанавливала свое обычное функционирование и переходила в сферу «в сферу утопической свободы» [20], которая была легализована государством. Карнавал изобиловал гротескными образами телесности, пиршества, смеха. Батай утверждает, что трансгрессия начала существовать именно с того момента, начиная с которого можно говорить о выделении искусства в собственном смысле слова: «… рождение же искусства почти совпадает в Верхнем Палеолите с сумятицей игры и праздника, обозначающих в основании пещер эти фигуры, где взрывается жизнь, которая всегда превосходит и которая осуществляется в игре смерти и рождения» [20]. 22 Вопреки попыткам рационально объяснить искусство и живопись, их практическое назначение, прагматическая сторона искусства так или иначе накладывается на внутреннее состояние человека: «Каждый факт всегда зависит от практического частного намерения, но он прибавляется к тому общему намерению, которое я хотел схватить, описывая фундаментальные состояния перехода от животного к человеку, состоящие в запрете и трансгрессии, посредством которой запрет превозмогается. Эти состояния остались состояниями нашей жизни, именно в них человеческая жизнь определена, и без них она непостижима. Оспаривать этот факт значило бы игнорировать дух трансгрессии» [8]. Познать смерть И главная трудность именно в том, каким образом человек может познать смерть, не уничтожив свою телесную оболочку. Ответом на эту трудность является представление, спектакль и необходимость зрелища. С тех пор, как человек постепенно обретал собственные черты (в первую очередь, психологические), он начинал создавать вокруг себя пространство знаков и символов, которые позволяли ему отождествлять себя с другим человеком. Не хлебом единым живет человек, его природа такова, что она нуждается в культе, в зрелище: "Речь идет о том, по крайней мере в трагедии, что мы отождествляем себя с тем героем, который умирает, и тогда считаем, что сами умираем, хотя продолжаем жить" [9; 259]. Для того чтобы познать собственную человеческую сущность не нужна смерть в буквальном смысле, - важно приближение к ней, для этого необходим лишь ее образ: жертвоприношение, литература, эротизм: "Мы подходим к пустоте, но не для того, чтобы упасть в нее. Мы хотим достичь упоения в головокружении, а для этого достаточно и образа падения" [1; 86]. Такое сближение со смертью призвано обогатить жизнь опытом, который разрывает профанный мир, открывая потусторонний, сакральный 23 мир. Волнение и ощущение вожделения неслучайно сопровождают любую церемонию жертвоприношения, - пишет Батай. Это волнение – есть священный ужас, который в одном пункте совпадает и с удовлетворением, с удовольствием и разорванностью: "Это совпадение имеет место в "жертвоприношении" - разумею под этим вообще наивную форму жизни, любое существование в настоящем, являющее то, что есть Человек: то, что несет он нового в мир после того, как стал Человеком, и только при том условии, что прежде он удовлетворил свои "животные" потребности" [9; 262]. Причем обладание в некоторых культурах (например, такими ассоциациями богата античная поэзия) ассоциировалось именно с жертвоприношением: в качестве жертвы выбирали женщину, таким образом, волнение, которое сопровождало само священнодействие имело в себе элемент наслаждения. Следует также упомянуть, что жертвоприношение ввиду своей зрелищности было элементом праздника, сопровождавшегося слепой радостью, которая несла в себе смертоносную опасность. На самом деле, эта радость не имеет ничего общего с настоящим весельем в том смысле, который обычно приписывается этому слову. Пожалуй, самым точным определением является то, что в работе М.Ю. Бородая описано как "сардонический хохот" [10; 9]. Батай приводит пример такого парадоксального синтеза смерти и веселья, упоминая ирландскую традицию прощания с покойным конца 18 века: усопшего облачали в нарядный костюм, клали в гроб, который стоял на возвышении в комнате, а в это время все его друзья танцевали в этой же комнате и напивались в его честь: "дело идет о смерти другого, но в таких случаях смерть другого всегда будет образом собственной смерти. Никто не мог бы так радоваться, если бы не одно условие: тот мертвец, что в гробу (другой), дает свое согласие на веселье, а тот, что гуляет, несет в себе смысл мертвого" [9; 263]. 24 Поэтому, описывая данный феномен веселья при жертвоприношении, нельзя говорить о радости в собственном смысле слова, наоборот – веселье только подчеркивает и ожесточает тоску от осознания конечности. Прямой наследницей религий, полагает Батай, является литература. В наследство она получила жертвоприношение - игровое стремление гибели, потере и разрушению, которое теперь получило выход в новом жанре - в жанре романов и поэзии. В жертвоприношении, как и в литературе, дан не простой объект отвращения. Наибольшую тревогу вызывает тот, кто добровольно во имя чего-то идет к смерти, он воспринимается не просто как объект тревоги, но как обожествленное существо. В литературе то же самое: "Чем ближе герой к божеству, тем больше потери, которые он навлекает на себя добровольно. Лишь божество - чрезмерным образом - подтверждает принцип, согласно которому в качестве своего объекта желание имеет утрату и опасность" [1; 85]. Говоря о смерти как о вершине удовольствия, разумеется, не имеется в виду, что в смерти есть что-то приятное, но она есть в близком рассмотрении, в приближении. И для этого не нужно искать смерти в буквальном смысле. Для этого необходим лишь образ смерти: жертвоприношение, литература, эротизм. Истинная радость, конечно, требует движения по направлению к смерти, но смерть положила бы ей конец. "Мы подходим к пустоте, но не для того, чтобы упасть в нее. Мы хотим достичь упоения в головокружении, а для этого достаточно и образа падения" [1; 86]. Мир плоских объектов, профанный мир превращает людей в абстракции, мир, где субъект с объектом различны. Но мы можем выйти из мира разума при условии, что вступим в такой мир, где объект и субъект даны в одной плоскости. Нет лучшего примера такого мира, что 25 мир эротической жизни, где не бывает того, чтобы объект рассматривался отдельно от субъекта. Объект желания, на самом деле, - это лишь другое желание. Идея желания другого желания принадлежит Александру Кожеву: "Предметом человеческого Желания должно быть другое желание… Так, например, в отношениях между мужчиной и женщиной Желание человечно в той мере, в какой хотят овладеть не телом, но Желанием другого… хотят быть "желанным" или "любимым", или, лучше сказать, "призванным", в своей человеческой значимости, в своей реальности человеческого индивида" [3; 14]. Желание растратить себя без остатка, но такое возможно лишь при полном совпадении желаний объекта и субъекта желаний. Одному желанию необходимо сопоставить другое, равное по силе. И при полном слиянии и совпадении, по Батаю, два человека образуют тотальность. И получается, что объектом желания является не другой человек, а тотальность бытия, само мироздание: "Она больше не та, что готовила еду, умывалась или покупала малозначительные предметы. Она громадна, она далека, как те сумерки, в которых ей тяжело дышится, и в своих криках она настолько превратилась в безмерность мироздания, а ее безмолвие настолько напоминает пустоту разверзающейся смерти, что я обнимаю ее по мере того, как тревога и лихорадка бросают меня в место смерти, где отсутствуют границы мироздания... Словом, объект желания само мироздание..." [1; 92]. Разумеется, в основе такого слияния лежит ужас, отвращение, но он не вызывает ни тошноты, ни неприязни - он приближает человека к "невыносимой тайне бытия", в самом человеке дан ужас, животность, которая, открывая тотальность бытия, дарует наслаждение. Тотальность достигается ценой жертвы, эротизм и любовь в равной мере и есть жертвоприношение. 26 Сакральная антропология Собственно, человек – тот же дух, которого от божественного отделяет наличие материальной оболочки. Тут и проявляется главная антитеза между двумя мирами: между реальным миром и миром священным, божественным, который заставляет людей испытывать благоговейный трепет. Сущность духа как бы "проглядывает" через тело мертвеца, через бессилие внешней оболочки. И с другой стороны, смерть низводит человека (или, точнее сказать, его внешнюю оболочку) до уровня вещи, животного. Все, что находится за пределами профанного мира - под запретом, сакрально. Это связано с амбивалентностью человеческого сознания: с одной стороны, животность и вообще вся природа внушает человеку ужас и отвращение, с другой - страх, желание и тоску. Священно то, что непонятно и удалено от нас. Недаром первыми сакрализованными объектами были природные силы, животные, растения. Сакральное социальное "ядро", которое каким-то образом (через архетипы, запреты и правила) задает динамику развития человечества. И это ядро, по мысли Батая, было "объектом фундаментального отвращения" [5; 90]. Сакральное призвано прерывать привычный ход жизни. Несмотря на то, что, чаще всего исходом жертвоприношения является смерть жертвы, не она является главной целью. Главная цель жертвоприношения состоит в том, чтобы вырвать вещь из реального порядка вещей, из отношения подчинения и предать ее в мир, где полезность, которая властвует в профанном мире, по сути, не значит ничего: "При жертвоприношении разрываются связи, реально определяющие подчиненное положение предмета, жертва выхватывается из предписанного ей мира полезности и причисляется к миру, в котором безраздельно властвует безотчетный каприз" [4; 44]. Тогда отобранное для жертвоприношения животное вводится за черту, которая разграничивает мир вещей и мир имманентности, который 27 преисполнен интимностью и подобен телесной близости с женщиной, и это предполагает преодоление внутреннего состояния разрыва, которое сопровождает человека в его трудовой деятельности и в течение всей профанной жизни: "Предварительное размежевание жертвоприносящего с миром вещей представляется необходимым для возврата интимной близости, имманентности взаимоотношений между человеком и мирозданием, между субъектом и объектом" [4; 45]. Накопление, которое вызвано трудовой деятельностью профанной жизни человека, во время свершения ритуала тут же сменяется необузданным расточительством: "Жертвоприношение выступает в качестве антитезы производства, осуществляемого во имя будущего, в качестве акта потребления, весь интерес которого как раз и заключается в его сиюминутности" [4; 50]. Эта сторона ритуала отсылает нас к понятию "дара" у Батая: жертва, приносимая божеству, является чем-то вроде "подбрасывания угля в кузнечный горн" [4; 50]. Схожее мнение о жертвоприношении выражает и Гегель в «Феноменологии духа» (глава VII: Религия), утверждая, что истинная сущность человека обнаруживается в момент жертвоприношения: тем самым он как бы уничтожает в себе животное, оставляя от него только телесную оболочку и поворачивая его – по выражению Хайдеггера – "бытием к смерти" [8; 256]. Жертвоприношение и есть – ответ на основной тезис Гегеля: "Дух достигает своей истины, оказавшись в абсолютной разорванности" [8; 257]. Смерть есть путь к познанию человеческой сущности, - утверждает Батай. С одной стороны, смерть в жертвоприношении убивает телесное бытие, но с другой – "смерть проживает человеческую жизнь" [8; 257]. Здесь, безусловно, речь идет о проявлении Негативного. А главным проявлением Негативного является смерть. Но смерть, - пишет Батай, - ничего не открывает человеку, поскольку смерть телесного бытия сразу же перекрывает жизнь бытию человеческому: "чтобы – в конце концов – человек открыл самому себя 28 себе, ему следовало бы умереть, но ему следовало бы сделать это в жизни – созерцая собственное умирание" [8; 257]. Здесь следует четко понять, что для Батая приоритетным является всегда не столько сам факт смерти или факт телесного контакта, сколько осознание и трепет перед грядущим событием. Это – главное отличие человека от животного. Животные не боятся смерти и не испытывают трепет, который свойственен людям при сексуальном возбуждении. И поэтому, если человек не живет с осознанием конечности собственного бытия, он никогда не будет испытывать трепета перед смертью, а, следовательно, не сможет понять себя и разглядеть в себе человечность: "…но если сознание смерти – восхитительной смертной магии – не коснется его до того момента, когда он умрет, в жизни ему будет так, словно смерть не сможет его достать, и эта грядущая смерть не сможет придать ему человеческого характера. Вот почему следовало бы, чтобы любой ценой человек жил в тот миг, когда поистине умирает, или чтобы он жил с ощущением истиной смерти" [8; 258]. Трансгрессия в эпоху христианства Большинство ныне существующих религий, - считает Батай, - исказили сущность религии и эротизма, пытаясь признать эротизм аморальным или вовсе отрицать эти отношения. На самом деле, эротизм не мог бы существовать без религии, религия – первооснова эротизма. А современный индивидуализированный эротизм не имеет отношения к сакральному (религиозному) эротизму. В качестве примера религиозного эротизма и трансгрессии можно назвать дионисический мир. Дионис – бог праздника, вина, опьянения, а значит, бог безумия. А все религиозное – безумно: «<…> само безумие по существу своему божественно. Божественный – значит безумный, значит отвергающий разумные правила» [8; 297]. Изначально, до наступления в Греции культа виноделия, Дионис был связан своей божественной 29 стороной с земельными заботами крестьян, но «<…>очень скоро забота земледельца отступает перед разнузданностью опьянения и безумия» [8; 298]. В период первых веков Империи сила дионисизма с его ритуальными оргиями, празднествами, была настолько заканчивающимися велика, что вакханалиями представляла и серьезную конкуренцию христианству, однако поздний период положил конец чрезмерности. Но дальнейшие религиозные тенденции таковы, что они пытаются избавиться от эротической составляющей религии. В первую очередь мы имеем в виду христианство. Очевидно, что такой отказ от эротизма был сделан не случайно: христианство, по сути, возвеличило роль труда. Оно обещает вечное блаженство после смерти, которое стало бы результатом определенных усилий в профанном мире. Во времена древних религий существовал культ загробной жизни, который ставил земные радости на второй план. Христианство, можно сказать, довело эти принципы до максимума: «Оно оставило за мигом наслаждения лишь значение преступления по отношению к конечному результату. С христианской точки зрения, эротизм компрометировал или по меньшей мере задерживал завершающий все результат». [8; 300] Однако это направление быстро породило свою противоположность: сатанизм, который имел смысл именно постольку, поскольку христианство казалось истинным. Батай в «Слезах Эроса» пишет, что сатанизм изначально был обречен в силу своего происхождения: «В силу рока сатанизм, над которым тяготело проклятие, поразившее Сатану, в свою очередь обрек своих приверженцев на убийственную неудачу» [8; 300]. Но человеческий разум дуалистичен от природы, поэтому добро только подчеркивает всесильность зла и насилия. В своей более ранней работе «Теория религии», Батай подчеркивает, что мир в человеческом разуме постоянно находится в состоянии «скольжения» между злом и добром, 30 хаосом и порядком. И для установления миропорядка необходимо прибегнуть к насилию – добро без зла невозможно, необходимо насилие, чтобы искоренить насилие. Главной трудностью и отличием христианства от религии древних является то, что человеческие чувства от жертвоприношения резко притупились. Церковные обряды редко вызывают какой-либо отклик в душе, а главное – несмотря на присутствие в религиозной атрибутике распятия, жертвоприношение и церковная месса несовместимы между собой. Главная трудность христианства, - пишет Батай, - в том, что оно не признает трансгрессии. Распятие жертвоприношение, но являет отличием собой яркий пример жертвоприношения, осуществлявшегося у древних, являлось последующее искупление, которого нет в христианстве: «Идея жертвоприношения на кресте искажает весь характер трансгрессии. С одной стороны, это жертвоприношение - настоящее, кровавое убийство. Это трансгрессия, в том смысле, что всякое убийство греховно; это даже самый тяжкий из всех грехов. Но в той трансгрессии, о которой говорилось выше, если и был грех, если и было искупление, то как логические следствия осознанного деяния, ни на миг не перестававшего соответствовать своему замыслу» [3; 553]. Грех распятия для совершающих обряд жертвоприношения отрицается – «Виной всему ослепление совершивших его, и, надо полагать, они бы его не совершили, если бы знали» [3; 553]. Что же касается эротизма в эпоху христианства, у медали две стороны. С одной стороны, как говорилось выше, христианство, отрицая священный характер эротизма, низвело религию до «утилитарной морали» [8; 298]. А с появлением и последующим «разоблачением» сатанизма, эротизм проникся лукавством. «Проникшись лукавством, эротизм утратил свое величие. Постепенно плутовство эротизма стало восприниматься как его сущность» [7; 300]. 31 С другой стороны, у нас есть все основания привести доводы против принижения ценности эротизма. Это связано с амбивалентностью человеческой природы, со стремлением к трансгрессии. Да, христианская догматика отрицает эти категории, наслаждение и вообще трату как таковую; а средневековая живопись, хотя и нашла место эротизму, но это место она нашла ему в аду. Но запреты нужны человеку, чтобы их преступать: «Но никогда сексуальность не достигала столь непосредственного природного смысла и не знала такого счастья выражения, как в христианском мире падших тел и греховности», - пишет Фуко [19; 113]. Средневековые мистики являют собой подтверждение этой мысли. Они не знали стойких форм вожделения и экстаза, «они чувствовали в себе беспрерывное и безграничное разлитие всех этих движений, вплоть до самого сердца божественной любви, куда те впадали и откуда вновь били их источники» [19; 113]. Здесь имеет смысл пояснить смысл «божественной любви» и в чем ее отличие от любви индивидуальной: вне профанного мира есть идеальный объект, к которому стремится религиозный человек. Таким образом возникает божественная любовь. Эта любовь тоже связана с трансгрессией, поскольку человек, отправляясь на поиски идеального объекта, посредствам запретов конституирует у себя в сознании собственного Бога, трансцендентный объект желания. Любовь мистика резко дистанцирует его от страданий окружающего мира. В божественной любви нет ни отчетливого субъекта, ни объекта. Но, тем не менее, этот абстрактный объект эротичен. Экстаз мистика сродни эротическому экстазу, - говорит Батай. "Чем бы ни был эротический язык мистиков, необходимо сказать, что их опыт, не имея ограничения, превосходит собственные предпосылки, и что, будучи искомым с наибольшей энергией, он, в конечном счете, оставляет от эротизма лишь трансгрессию в чистом виде, или завершенное разрушение мира обыденной реальности, 32 переход от совершенного Существа позитивной теологии к Богу без формы и образа из "теопатии", близкой к "апатии" Сада" [1; 136]. Внутренний опыт и светский мир Когда человек переступил некую историческую границу, которая разделяла религиозный и светсткий мир, наступила, с одной стороны, эпоха того человека, которым мы являемся сегодня, а с другой – кризис. На смену формировали архаическому запреты, теперь человеку, пришел деятельность человек которого дуалистического мировосприятия. Разница между ними состоит в том, что между человеком дуалистического мышления и реальность больше не пролегает та «интимность», которая была свойственная сознанию архаического человека : «Безусловно, человек архаический не все время находился под влиянием заразительного буйства интимного, но даже если ему и случалось оказаться в стороне, то все равно стихия следовавших с неотвратимостью обрядов в конце концов захватывала и его.» [4; 75] Получается, что «интимное», которое раньше пролегало между пиром профанным и миром ирреальным, исчезло и «повисло пустотой». И хотя современный человек сохранил некую реминисценцию интимного, все же, она является слабым отражением того трепета, которое было свойственно нашим предкам. В то же время именно эта реминисценция, по мнению Батая: «побуждает его вырваться за пределы того мира, в котором нет ничего, что бы отвечало испытываемой им ностальгии. В этом мире, даже вещи, объекты его рефлексии коренным образом отделены от него, да и сами человеческие существа пребывают в состоянии своей некоммуникабельной индивидуальности» [4; 76]. На смену сакральным правилам и запретам приходит мораль и порядок, который перенял значительную часть у религии, но сохранил только то, что имеет реальную ценность в реальном мире. Теперь, чтобы прикоснуться к интимному, необходимо 33 было вознестись над имманентностью мира вещей, в котором погряз человек. Однако парадокс интимности заключается в том, что на самом деле, он не может быть «данностью», поскольку как только нечто заявляет о себе как о «данности», оно становится вещью, а у интимного с вещью нет и не может быть ничего общего. Интимность исчезает в тот же миг, как себя являет. Столкнуться с интимностью возможно только возвысившись над миром вещей, - пишет Батай. Но попытки избавиться от вещизма посредством отрицания продемонстрировали «Разрушению подвергалась отдельно взятая свое вещь, бессилие: обособленно, посредством ее отрицания через насилие, которое в обезличенном виде бытует в мире. Но ведь стремление вознестись над вещизмом, движимое отрицанием, противится насилию в не меньшей степени, чем самой разрушаемой насильственным путем вещи» [4; 78]. Это стремление чревато для реального мира тем же, чем было чревато жертвоприношение: происходящее отрицание ради утверждения, преступание через границы и табу ради сохранение миропорядка добродетельно, пока добродетель существует и пока эти действия происходят в рамках миропорядка вещей, но как только они перерастают эти границы, их обвиняют злом. Слабая сторона жертвоприношения, как и дуалистического мировосприятия, - пишет Батай, - в том, что для того, чтобы постоянно находится в состоянии близости к интимному, это состояние нуждается в подкреплении через насилие: «Но если верно, что насилие по достижении своей кульминации способствует подобному вознесению, если верно, что пик его являет собой момент пробуждения такой возможности, то именно в силу того, что столь всеохватное насилие просто не в состоянии долго удерживаться на этом уровне, позиция дуалистского пробуждения уподобляется прелюдии к последующей спячке» [4; 79]. В мире с дуалистическим миропорядком происходит ровным счетом то же самое «дремотное состояние» - с этого момента наступает эпоха реального миропорядка, эпоха несвободы, в 34 которую провозглашается отрицательное отношение к спонтанным проявлениям насилия. Недостаточность ресурсов для ответа на поставленную Гегелем проблему конечности и историчности человеческого существования стало симптомом нарастающего кризиса западноевропейской метафизики. Для замены субъекта новой фигурой для осмысления человека Хайдеггер разворачивает аналитику Dasein об открытости человеческого бытия миру в силу своей конечности. Эта аналитика претендовала на то, чтобы вырвать человека из мира субъективности, из замкнутости на себе. О провале его проекта пишет Нанси в своей работе «Бытие единичное множественное». Касаемо же Батая, он избрал для себя совершенно иное направление развития этой проблемы, которое прежде всего следует отнести к его концепции «внутреннего опыта». Эта концепция была приурочена к позаимствованной цитате Ницше: «Бог умер» и позже легла в основу многих мыслителей XX столетия хотя бы в силу того, что позволяла переосмыслить потерявшие свои прочные основания категории, такие как бытие, субъект, истина. До этого же, Бог являлся пределом познания, а для бытия, субъекта и истины он являлся единицей силы, то теперь, со смертью Бога, наступил кризис, эти понятия как бы «повисли в воздухе», наступил кризис и самой антропологии, которая находила прочную опору в теологии. «Батай прав, когда предполагает, что граница, отделяющее священное от профанного, устанавливается в качестве территории, где и живут боги или Бог. И на этой границе, когда она перестает существовать, то перестает существовать именно потому, что открывается возможность переходить ее, пре-ступать в обоих направлениях и, следовательно, смешивать между собой то, что должно быть разъединено. Тогда и начинают появляться боги. Бог не за пределом, который он полагает, но есть сам Предел» [16]. 35 Однако эту смерть стоит понимать не как конец эпохи или фактическое доказательство его несуществования, но как то, что эта смерть отныне «образует постоянное пространство нашего опыта» [19; 115]. Смерть Бога отняла у мироощущения человека внешность бытия, ощущение «беспредельности предела». Отныне человек предоставлен самому себе, ничто не говорит о существовании внутренних границ, соответственно, в этом смысле, наше существование сводится к опыту внутреннему, суверенному. Но такой опыт самой своей идет открывает собственную конечность, конечность человеческого познания и опыта, но в то же время, он открывает собой необходимость и возможность совершенно нового типа опыта – опыта трансгрессии. Поскольку больше не существует Бога, который являл бы собой внешнюю границу, то теперь внутренний опыт сам являет собой опыт-предел. И не случайно Мишель Фуко ассоциирует смерть Бога и эротизм: «И если надо было бы по оппозиции к сексуальности дать определение эротизму, им стало бы следующее: это тот опыт сексуальности, что сам по себе связывает преодоление предела со смертью Бога» [19; 116]. Морис Бланшо замечает, что условие, которое диктует человеку это положение, состоит в том, чтобы не останавливаться на Боге, чтобы не пресыщаться ощущением единства. Во внутреннем опыте человек уже собрался воедино и поэтому новый дискурс исключает Другого: «нет больше никакого Вовне вне его поскольку, утверждая все самим своим существованием, человек включает в себя все, заключая себя в замкнутый круг познания» [9; 71]. И теперь перед человеком встает вопрос – как может быть преодолен этот абсолют самодостаточности? На самом деле, никак. Но внутренний опыт требует беспрестанного движения по направлению к этому преодолению. Внутренний опыт, по определению самого Батая, - это «то, что обыкновенно называют мистическим опытом: состояние экстаза, восхищения, по меньшей мере, мысленного волнения» [6; 17]. Однако 36 если мистический опыт направлен на получение какой-либо истины, то теперь из-за того, что Теология больше не имеет смысла, единственное, на что направлен внутренний опыт – это сам опыт. Частные проявления Как уже было существованию преступить. сказано, эротизм определенных Брак - это и трансгрессия правил, способ которые урегулировать обязаны необходимо незаконность, неприличие сексуальной активности, а так же чтобы удовлетворить "инцестуозную тоску": когда отец отдает свою дочь замуж, он и сам становится вовлеченным в трансгрессию. Этот дар имеет форму разрыва, после заключения брака в силу вступает древнейший архетип: эротизм имеет отношение к внебрачным формам сексуальности, а брак скорее есть экономическая сделка, которая притупляет эротический аспект брака и женщина начинает восприниматься как обыденность, вещь, а не как объект эротизма. По Батаю, есть два витка истории эротизма. Брак и оргия являются элементами первого витка, эротизма без субъекта и объекта. Женщина в браке не является элементом эротической структуры, потому что супруги как бы образуют одно целое и не противостоят друг другу. Вторую стадию развития эротизма Батай называет стадией соблазна. На второй ступени истории эротизма зарождается проституция, в эротизме четко выделяется объект желания, и если объект эротичен, то с самого начала позитивно (на первой ступени эротизм имел чисто негативный смысл - трансгрессия всех запретов). Объект желания абсолютно пассивен, он возникает на запрос желания, а субъект - активное и разрушительное начало. Решающим элементом складывания субъектно-объектных 37 отношений является рассматривание человека, женщины как вещи. Эта условность имеет свой смысл. Человеческие блага могут рассматриваться как части сделок, как предметы обладания. Мужчины, как правило, смотрят на женщин, как на вещь. "Чем богаче делается эротизм, тем сильнее было бы стремление свести женщину к объекту обладания". И если бы женщины не рассматривались как вещь, они бы не смогли стать объектом эротизма. Впервые обнаженное тело становится объектом эротического желания. Но не жена или возлюбленная является объектом эротизма, они больше воспринимаются как предмет мебели или как человек, занимающийся хозяйством. Но объектом эротизма является проститутка: "Это сгущение в одном объекте всех знаков эротизма, очевидно, имело решающую важность: оно лежит в основе образов, которые направляют реакции сексуальной жизни человека, заменившие моторные знаки животной сексуальности" [1; 111]. Это не значит, что нагота заимствует у проституции свою эротическую значимость, но это значит, что нагота становится эротической, когда она перестает быть невинной и в ней появляется привкус животности, который сконцентрирован у проституток. Следующей формой эротизма по Батаю является индивидуальная любовь. В эротизме человек стремится к автономии через удовлетворение своих желаний и трансгрессию запретов. В индивидуальной любви такое стремление сужается до круга одного любовного союза, противоречащего всему миру. На этот раз субъект, совершая трансгрессию, отказывается от своего "я" в пользу другого и предлагая себя в качестве эротического объекта. В любви, говорит Батай, нет противоречия объекта и субъекта - влюбленные образуют непротиворечивый союз, свою тотальность, в которой растворяются и дополняют друг другу. Но они противоречат всему за пределами своей тотальности. Телесный эротизм может быть одной из форм 38 проявления индивидуальной любви, но данный вид отношений подразумевает и иную форму эротизма: «Сердечная эротика может и полностью отделиться от телесной, и это происходит в исключительных случаях, какие всегда бывают при большом разнообразии людей. Суть ее в том, что благодаря страсти любовников телесное слияние продолжается в форме моральной симпатии. Продолжается или предваряется ею» [3; 450]. Союз влюбленных образует некую автономную единицу по отношению к государству, но проблема в том, что этот союз недолговечен. У него есть два пути - раскрыться, добиться признания общества, т.е. вступить в брак, где эротизм исключен, или идти на поиски другого объекта любви, которые рискуют впасть в дурную бесконечность. Но может подвести к мысли, что где-то, вне профанного мира, есть идеальный объект. Таким образом возникает божественная любовь. Эта любовь тоже связана с трансгрессией, поскольку человек, отправляясь на поиски идеального объекта, посредствам запретов конституирует у себя в сознании собственного Бога, трансцендентный объект желания. Любовь мистика резко дистанцирует его от страданий окружающего мира. В божественной любви нет ни отчетливого субъекта, ни объекта. Но, тем не менее, этот абстрактный объект эротичен. Экстаз мистика сродни эротическому экстазу, - говорит Батай. "Чем бы ни был эротический язык мистиков, необходимо сказать, что их опыт, не имея ограничения, превосходит собственные предпосылки, и что, будучи искомым с наибольшей энергией, он, в конечном счете, оставляет от эротизма лишь трансгрессию в чистом виде, или завершенное разрушение мира обыденной реальности, переход от совершенного Существа позитивной теологии к Богу без формы и образа из "теопатии", близкой к "апатии" Сада" [1; 136]. 39 Но из-за того, что трансгрессия в христианстве возможна только при условии совершения греха, то для того, чтобы мистику в божественной любви достичь предела, нужно уйти в святотатство. Но не только Бог или проститутка, любой объект могут стать объектом предела эротизма. Для того чтобы познать "эротизм без границ", говорит Батай, необходимо не только отрицание, уничтожение объекта желания, но и самого желания. Примером этого явления является Сад. Основание садизма - уничтожение, отрицание партнера, а жестокость возводится в принцип наслаждения. Поскольку достижение удовольствие зиждется на отрицании, садизм является самой расточительной формой эротизма. Бланшо писал, что "центр садистического мира - требование суверенности, утверждающейся посредством бесконечного отрицания"[1;142]. В садизме субъект отрицает не только объект своего желания, но и самого себя, свое желание. Это самоотрицание называется апатией Сада: "Все великие распутники, живущие лишь ради удовольствия, велики только потому, что уничтожили в себе всякую способность к удовольствию. Вот почему они устремляются к жутким отклонениям: ведь заурядный характер нормального сладострастия для них недостаточен. Они сделались бесчувственными: они притязают на то, чтобы наслаждаться этой бесчувственностью, этой отрицаемой и изничтоженной чувственностью, - и становиться кровожадными. Жестокость есть лишь самоотрицание, зашедшее столь далеко, что оно превращается в уничтожающий взрыв; бесчувственность становится содроганием всякого бытия, говорит Сад" [1; 143]. Однако, как считает Батай, нет смысла в постоянном отрицании и поиске суверенности - не останется ничего, с чем можно было бы соотнести свою автономию. Невозможность коммуникации делает невозможной всю философию Сада в реальности, хотя если принять во 40 внимание, что идеи Сада изложены в литературе как виде коммуникации, тогда у нее есть выход. Таким образом, Батай заключает, что садизм в реальности не возможен: человек не наслаждается в одиночку. *** Таким образом, рассмотрев все проявления эротизма, Батай открывает более полную картину понимания процессов истории и внутреннего опыта человека, архетипичность его сознания. 41 Заключение В своих работах, таким образом, Батай не только сделал «эротический» поворот в философии, но и объяснил функционирование истории, которая была построена на отношении к эротизму, во всех ее аспектах. Важным здесь является также и психологический, и социальный аспект данной работы, которые подчеркивают и усиливают роль эротизма в истории и в становлении человека. Таким образом, эротизм является неким движущим элементом, который заставляет историю функционировать. Эротизм зачастую действует не напрямую, через сексуальную активность, а через свои субституты: протесты, празднества, алкоголь, политику, борьбу и войны. Но в эротизме есть некая тайна, которая сокрыта от человеческого понимания. И раскрытие этой тайны грозит человечеству окончанием истории: осознание истины эротизма ведет к безразличию, «апатию неисторического разума» [1; 150]. Историческое движение возможно только до тех пор, пока существует неравенство. Однако эротизм всегда будет находиться за пределами исторического и политического развития. Если бы неравноправие стало бы неактуальным для человечества, последнее пришло бы к некоему «неисторическому существованию, выразительной формой которого служит эротическая активность» [1; 150]. Однако, такой вариант представляется маловероятным, так как движущие силы истории – политики и воины не в состоянии признать даже собственных методов борьбы, которыми они пользуются. Батай, таким образом, дал ключ к пониманию нашего сознания как в ретроспективе, так и к понимаю современных процессов истории, а также дал ответ на вопрос о будущем истории: пока есть эта борьба и мир находится в неравновесии, история 42 будет развиваться. Библиография 1. Батай Ж. История эротизма. М., 2007. 2. Батай Ж. История глаза. // Арагон Л., Батай Ж., Луис П., Жене Ж. Четыре шага в бреду: Французская маргинальная проза первой половины ХХ в. СПб., 2002. 3. Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006. 4. Батай Ж. Теория религии. Литература и Зло. Минск, 2000. 5. Батай Ж. Запрет и трансгрессия. В кн. Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006. 6. Батай Ж. Внутренний опыт. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1997. 7. Батай Ж. Слезы Эроса. / Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 8. Батай Ж. Гегель, смерть и жертвоприношения. /Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 9 . Бланшо М. Опыт-предел. / Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 10. Бородай М.Ю. Эротика. Смерть. Табу. М, 1996. 11. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 1999. 12. Деррида Ж. От экономии ограниченной к экономии всеобщей. Гегельянство без утайки // Письмо и различие. М., 2000. 13. Клоссовски П. Симулякры Жоржа Батая. / Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 14. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. 15. Коллеж социологии 1937-1939. СПб., 2004. 43 16. Подорога В.А. Событие: Бог мертв. Фуко и Ницше. http://screen.ru/vadvad/Komm/podoroga.htm 17.Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая. М., 2010. 18. Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. 19. Фуко М. О трансгрессии. Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 20. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. 44