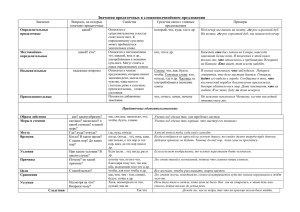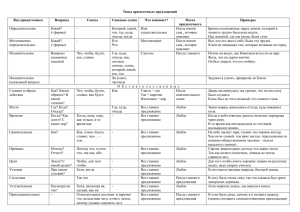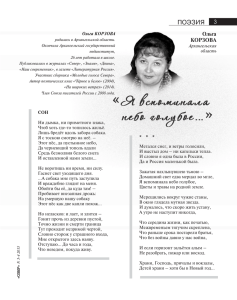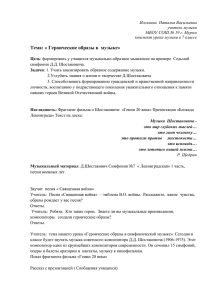Вениамин Балясный НОТНЫЙ СТАН (По поводу книги Бетти
advertisement
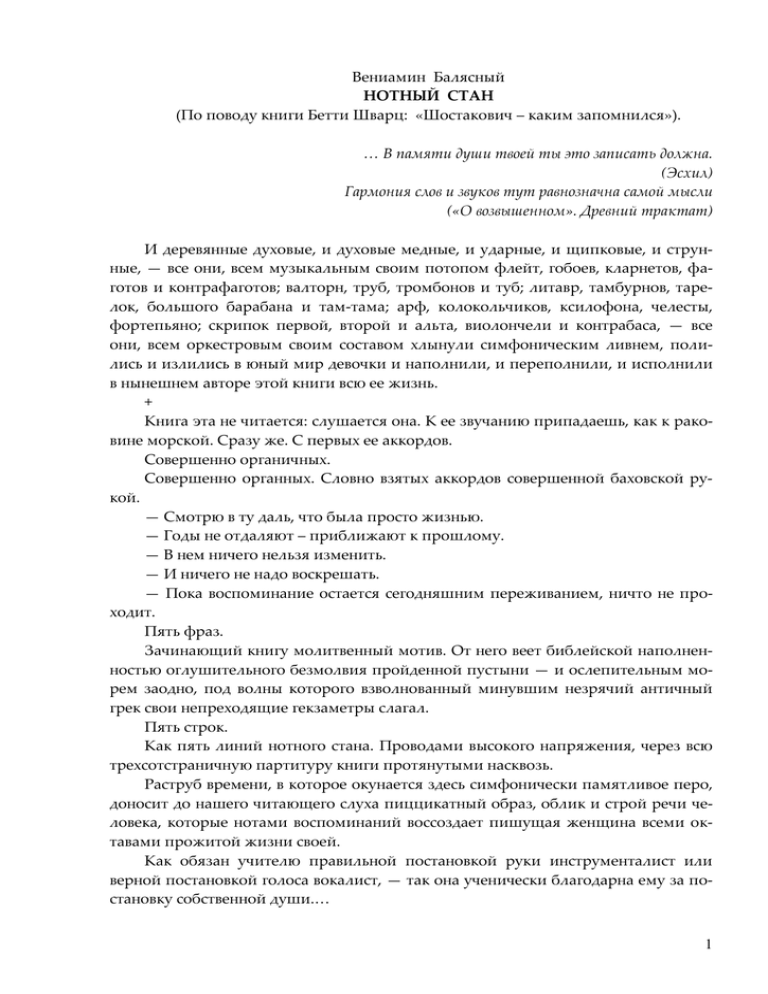
Вениамин Балясный НОТНЫЙ СТАН (По поводу книги Бетти Шварц: «Шостакович – каким запомнился»). … В памяти души твоей ты это записать должна. (Эсхил) Гармония слов и звуков тут равнозначна самой мысли («О возвышенном». Древний трактат) И деревянные духовые, и духовые медные, и ударные, и щипковые, и струнные, — все они, всем музыкальным своим потопом флейт, гобоев, кларнетов, фаготов и контрафаготов; валторн, труб, тромбонов и туб; литавр, тамбурнов, тарелок, большого барабана и там-тама; арф, колокольчиков, ксилофона, челесты, фортепьяно; скрипок первой, второй и альта, виолончели и контрабаса, — все они, всем оркестровым своим составом хлынули симфоническим ливнем, полились и излились в юный мир девочки и наполнили, и переполнили, и исполнили в нынешнем авторе этой книги всю ее жизнь. + Книга эта не читается: слушается она. К ее звучанию припадаешь, как к раковине морской. Сразу же. С первых ее аккордов. Совершенно органичных. Совершенно органных. Словно взятых аккордов совершенной баховской рукой. — Смотрю в ту даль, что была просто жизнью. — Годы не отдаляют – приближают к прошлому. — В нем ничего нельзя изменить. — И ничего не надо воскрешать. — Пока воспоминание остается сегодняшним переживанием, ничто не проходит. Пять фраз. Зачинающий книгу молитвенный мотив. От него веет библейской наполненностью оглушительного безмолвия пройденной пустыни — и ослепительным морем заодно, под волны которого взволнованный минувшим незрячий античный грек свои непреходящие гекзаметры слагал. Пять строк. Как пять линий нотного стана. Проводами высокого напряжения, через всю трехсотстраничную партитуру книги протянутыми насквозь. Раструб времени, в которое окунается здесь симфонически памятливое перо, доносит до нашего читающего слуха пиццикатный образ, облик и строй речи человека, которые нотами воспоминаний воссоздает пишущая женщина всеми октавами прожитой жизни своей. Как обязан учителю правильной постановкой руки инструменталист или верной постановкой голоса вокалист, — так она ученически благодарна ему за постановку собственной души.… 1 Словно ее душевного слуха коснулась божественная нота бессмертия тогда… +++ …Теперь она стояла у его свежей могилы. (Какое не сочетаемое сочетание: могила — и свежесть). Она стояла у порога его смерти, возвышенного венками и лавиной живых цветов, и в ней отцветали, словно лепестками опадали в ней какие-то особенные ее слова, которые она так себе и не позволила живому ему преподнести. Темные до черноты гладиолусы точно вобрали в себя тот, ослепленный зенитным солнцем, беспросветный августовский день… В немую перекличку с иным для нее солнцестоянием на Пушкарской у дома его. Оба эти стояния, — ее состояния, — предстояли пред нею всю дальнейшую жизнь. И противопоставлялись они. Контрастно. Как в классической сонате две исходные темы изначально противостоят. Тема в главной тональности наложила обет молчания. В тональности подчиненной музыкальная тема требовала заговорить. Однажды замечательный драматург Алексей Николаевич Арбузов преподал студийцам сногсшибательный урок всеобщей теории драмы одним практическим шагом своим. Он встал, на шаг ступил, твердо установился ногой на месте, бросил на учеников своих нарочито презрительный взгляд и сокрушенно произнес: — Если так, это не драма. После чего он вернулся в исходное положение, испытующе глянул на испытуемых, затем снова сделал шаг, но нога его теперь задержалась в крайнем положении и зависла над землей; после определенной паузы неопределенности он снова в исходное положение встал; торжествующе всех оглядел и победительно провозгласил: — Драма это, если так! Книга о Шостаковиче драматизмом подобных внутренних колебаний полна. Вибрирующим воздухом устойчивой неустойчивости дышит она. Лиризм и трагизм повествования в ней из словесного, речевого в истоке своем, в вершинных проявлениях перетекает в музыкальный ряд. Эта книга преодолений. Преодоления себя. Преодоления времени. Преодоления забвения. Преодоления неправедности. Преодоления небытия. Пожалуй, самым неодолимым из всего, что довелось при написании книги преодолеть, кажется то, что автору пришлось нарушить собственное молчание: однажды отважиться, — взять лист белой бумаги и над ним замереть… 2 Преодолением неодолимого напряжены диссонансные созвучия всех трехсот ее страниц. …Из той дали жизни, что автору книги еще предстоит, внемлющими глазами смотрит она на сегодняшнюю себя. Юная. Подросток почти. И взглядом таким открывает, — словно ключом музыкальным на линиях нотного стана, — отворяет она оркестровое звучание своих воспоминаний от начальной до завершающей партитуру книги строки. Неотрывным взглядом. Пораженным взглядом. Преображенным. Взглядом, от которого глаз не оторвать. Взглядом, с которым перекликаются ее нынешние проницательные глаза. Она очень близорукий человек. До такой степени близорукий, что при чтении почти вплотную зрачками по строчкам скользит. И при этом дальновидно всматривается в даль. В даль прожитой жизни. Дальнозорко она видит то, что являлось близким жизни ее. Что составляло эту жизнь. Видит она глазами, о которых сегодня говорит так, что, от ее слов темнеет в глазах: — Я смотрю своими почти ослепшими глазами. Но они столько видели… Видимо, тогда, в пору ее юности, действительно нечто невиданное в виденьи собственного мира мгновенно на глазах у нее произошло, когда из висевшего в те времена у всех над душой черного круга репродуктора, — которым очерчивалась, из тарелки которого вскармливалась вся тогдашняя умертвляющая жизнь, — внезапно впервые его музыку услышала она. Словно при сотворении мира в само мгновение отделения света от тьмы оказался внезапно застигнутым ее пораженный взгляд. …Мощный взмах крыльев оркестра взрывал, вскрывал тишину. Он взлетал. Он парил. И оттуда, с недосягаемой, непосягаемой высоты он всматривался в оставленную, лежащую под крыльями жизнь. В мир, от которого ему было не оторваться. В неотрывный от него мир. Нарастающее расстояние отзывалось оркестровым рыданием струнных над покинутым миром, различимым в подспудных тональных низах. Над покинутым миром солировала неизбывная боль. И она оглушалась. Басами. Внизу. Басы напоминали. Предупреждали. Грозили. Басы давали о себе знать. Не позволяли о них забыть. Подминали под себя. Басы. Птице его музыки стало негде в этом мире присесть. 3 Она удалялась. Увышалась. Сюда еще доносились ее слабые отзвуки. И замирали. Растворялись они в небесах. А ей, шестнадцатилетней, слышалось, «будто не из приемника — с небес прозвучавшее откровение…» И в небесной тверди его льющихся звуков утвердилась она. Мгновенно. Раз и навсегда. И среди окружающего неприкрытого ада земного райски обнажилась ее душа. Прониклась ее душа болью душевной его. Болью детской какой-то. И в том, как не умел он справляться со своеволием своей мальчишеской челки до конца своих дней; и в его высоком, дискантном голосе, который, повидимому, не подвергся мутационной подростковой ломке в возрасте переходном, — как не поддался ломке его творческий голос, сколько бы всю жизнь ни ломали его, — слышна его мальчишеская боль. Она терзала его, эта детская какая-то боль. Она звучала в нем, эта боль, до конца отзвучавших дней, Боль человека, который мальчишески клялся себе, что если отнимут у него руки, он ручку в зубы возьмет, но не перестанет музыку писать, — и вот такой-то человек, оказывается, подумывал о том, чтобы своего мальчика из музыки забрать и в военные, пока не поздно, перенаправить его жизнь, потому как в армии, по его представлениям, сын научится без страха смерти принять свою смерть: так рассуждал отец, которого и посмертно не забывают упрекнуть в чрезмерности любви его к детям своим. (Как будто можно отмерить, умерить, — да еще к детям своим, — меру любви). …И в том, как он, уже безнадежно больной, по телефону лично ему незнакомому Эфросу выражал свое отношение к его спектаклю через то, что ему трудно с лестницами справляться, но он все равно будет по лестницам подниматься и на его спектакли ходить, — в таком способе передать свое впечатление тоже слышится что-то чистое, непосредственное, детское в нем… И матерински тревожным и бережным чувством проникнут слог женщины, когда человек этот проявляет черты своей неукротимой детскости из-под ее пера. Ее книга живет. Ее книга живет его голосом. Ее книга живет его музыкой. Ее книга живет его сердцем в сострадающем сердце ее. Его жизнью ее книга живет. Он не просто в памяти ее живет, — он в жизни ее проживает, — в самом ее дыхании продолжает дышать его жизнь, которой она не надышится никогда, пока сама дышать будет. 4 С юных лет кардиограмму его судьбы, свершавшейся на ее глазах и запечатленной в сердце ее, безмолвно в себе таила она. Так, словно слово воспоминания о нем способно было бы вызвать некую для него разгерметизацию в космосе, в котором при земной жизни он для нее пребывал. И за все эти быстро промелькнувшие долгие годы даже мельком всуе произнесенным имя Шостаковича никто не слыхал из ее уст никогда: с такой строгой тщательностью она редактировала свое следование одной из усвоенных от него заповедей, начертанных на скрижалях памяти своей: — О главном надо молчать! О, этот заговор молчания ее! Многолетнего. Многодесятилетнего. Молчания во всю свою жизнь. А главным для нее в Шостаковиче является все. Даже то, какие папиросы он курил-не курил. Стоит где-то кому-то «Беломор неизменный» ему приписать, как она тут же, точно дирижер ударами палочки по пюпитру, отреагирует на фальшивую ноту, укажет на «неизменный Казбек», остановится, да еще и мелким шрифтом в сноске назидательно уточнит: — ДД «Беломор» вообще не курил: изредка, да и только во время войны, он «Любительские» курил. Микроскопический и телескопический взгляд ее памяти всматривается в него. Любая малость его проявлений укрупняется до астрономических величин, а вполне проглядные его черты рассматриваются ею до мельчайших подробностей и пробуждают в читателе подобный бесподобный взгляд. Ее устоявшееся молчание, затаенное и таинственное, выдержанное на протяжении всего дальнейшего отпущенного ей времени на веку, пьянит, как настоянное вековое вино, крепостью и вкусом каждого выверенного слова, играющего на страницах книги ее. Начиная с той самой давней и никогда и никуда не удаляющейся от нее поры, когда неохватный размах крыльев его оркестра впервые и навсегда ее жизнь окрылил. Наверное, и до трансляции его Пятой симфонии, в которую так счастливо включилась она, и имя сочинителя, и музыка его не могли у всех не быть на слуху. Да и вообще, его звучание представляется пребывавшим в эфире всегда, как, кажутся всегдашними строки: «Мороз и солнце, день чудесный», — например. Возможно, действительно, и музыка такая, и такая поэзия и вправду разлиты в природе природы самой, да только в свои особые времена они позволяют кому-то, к тому прирожденному, расслышать себя и озвучить для всех… … Но как бы то ни было, а поворот включателя репродуктора перевернул и переключил всю ее внутреннюю жизнь. …На поверхность проливаются высокие струнные и над ними взвивается прежняя солирующая боль. 5 В ее импульсивное длительное терзание жаворонковой серебряной звуковой нитью проникает, - как будто с высоты выискивает внизу покинутое гнездо, - внезапно вплетается в многострунную оркестровую косу исполненный дивной и давней, увы, невозможной уже в этом, гармонией покинутом мире, похожий на прежде знакомый классический балетный мотив… Заслушался и точно испугался несбыточного соблазна оркестр. И вновь, как вначале, раскрылил свои крылья во всю оркестровую ширь. Но соблазнительное напоминание не оставляет в покое. Оно длится. Возвращается. Дразнит воображение. Извивается в различных оркестровых ярусах. Смягчает, обезволивает, лишает непоколебимой решимости основную защитную тему оркестра. Отчего боль становится лишь безутешнее и только больней (хотя, казалось бы, куда еще больше? куда?!). Боль мечется, нарастает, разрастается, оркеструется с разных сторон. Оркестр от боли сходит с ума. Одни безутешные струнные утешают. И среди них пробивается новый мотив. Мотив обновления. Он неустойчив еще. Как будто обманчивый. В него трудно поверить. Невозможно. Почти. Но он слышен. Он внятен. Его не забыть. Сквозь новые предупреждающие вариации основного оркестрового мелодического строя он проникает и продолжается. Солирует он. Своим музыкальным мазком напоминает он бывший несбыточный прежний балетный мотив. Хотя тревога попутная и пытается его заглушить, он прорывается в Пятой симфонии и незамутненно течет. Вплоть до фортепьянных аккордных басов. Тяжких и неотвратимых. Как каменная поступь командорских шагов. Эта книга не для быстрочтения. Плотность мысли и глубина чувства замедляет бег ее страниц. — Пишу. — Пробую сочинять. — Начал одно сочинение… — не знаю, что получится… В такого рода репликах что-то чеховское доносится до нас. Нечто открывающее и загораживающее, доверительное и прячущее себя заодно… А его, допустим, внезапная фраза на фоне длительного серьезного разговора: — Откройте секрет, каким косметическим средством для рук вы пользуетесь? — а она, кажется, вообще не пользовалась никакой косметикой никогда, чего не заметить он не мог, - эта внезапная «выходка» его не напоминает ли чеховский ход, когда у него посреди долгой и драматургически полифоничной сцены воз6 вращения из Парижа в пьесе «Вишневый сад» вдруг ни к селу, ни к городу реплику Шарлота подает: — А моя собака и орехи кушает. (?) Что называется, смеха ради, когда не до смеха совсем. А между тем, ДД в это самое время завершил свой скрипичный концерт. И на душе его кошки скребли: заранее «безыдейный», «бессодержательный» заранее.… Довершил, чтобы бросить на полку. Он, заранее обреченный на молчание неумолчной музыки в нем. Автор словно оказывается у его океанической жизни на берегу: каким-то необъяснимым чутьем понимается, что не море пред автором, а сам океан. И глубинным Гольфстримом разливается в книге благодарное тепло. Благодарность — основной эмоциональный и нравственный стержень, на который нанизана, которым пронизано каждое слово пронзительной книги ее. Талант благодарности — ее благодатнейший дар. Им измеряется в этой книге все, — а чувство благодарности ее безмерно. Благодарностью выверен каждый отзвук и звук. Этим ее безграничным чувством огранена в книге каждая мысль. Слова, как ноты, дышат музыкой благодарности ее. Такое отношение раскрепощает и концентрирует ее перо, высвобождает течение мысли и немыслимо сужает возможность пролиться малейшей придуманности или непродуманности притом. Память о нем не нуждается ни в чем, кроме правды, — заклинает она свое перо. И совершает действительно невозможное. И действительно совершает. Называет главу «Рассказать его нельзя», — и рассказывает. Не о нем. Не про него. Его самого рассказывает она. Говорят: словом можно убить. Она – воскрешает. Музыкой слов. Словно он ее слогом сам музыкально выстраивает в книге словесный ряд. В целом по прочтении остается на слуху ощущение, — оно возникает с начальных страниц, — что оркестровка текста произведена его композиторской рукой. Бережной рукой, которой всегда было свойственно нежно и восхищенно выделять и подчеркивать все достоинства клавира ученика, взволнованно и тревожно доверившего свою рукопись ему. Рукой, которой он по-сыновьи преданно Мусоргского оркестровал. Рукой, которой он по-родительски заботливо оркестровал редкостные произведения своих избранных учеников. С его явлением главным действующим лицом книги прослушивается его живое воздействие на звучание ее страниц: на драматургически выстроенный их музыкальный строй. Это внятно пропечатывается на виду, как впечатывается в снежную белизну первая лыжня. Она сама по себе не дает вниманию читателя поте- 7 рять ориентиры и ведет охваченный созерцанием его слух по драматичным перепадам трагического пути первопроходца след в след. Полифоничное повествование книги многослойно оркестровано настолько искусно, что единой симфонией воспринимается она вся. Книга ее звучит. Музыкой. Которую истолковывать бестолку. Ее надо слушать. И это происходит само собой: как только начинаешь читать. Книга разгоняется словом, как перед взлетом птица. Отталкивается от слова, как птица от земли. И затем обращаются музыкой ее окрыленные слова. Долгая жизнь автора музыкой Шостаковича, музыкой его оживает в книге, оживляет страницы ее. Она прослушивается из строки в строку. Взращивает свои всходы и собирает поразительный урожай музыкальных впечатлений, вызываемых столкновениями, звучащими поверх словесного сюжета, связанных с текстом и при том саморазличимых, независимых от него. Какой-то дополнительной достоверной конкретностью и обобщенностью, вместе с тем, начинает звучать сама его музыка, весь ее изначальный строй от какой-нибудь реплики, оброненной им походя, и, как золотой под ногами, поднятый и навсегда озвученный непреходящей ценностью в книге ее. К примеру, его репликой о письмах, которые не доходят к нему и от него: - То ли от небрежности почты, то ли от расторопности других органов… А чего стоит, — на ту же тему, — его внезапная пауза по телефону, когда она виновато и беспомощно сообщает, что полученные от него письма оказались украденными у нее вместе с сумочкой в электричке: шутка ли, — в такие-то, — в те времена! Внезапною остановкою сердца слышится реактивное молчание его. И ей при этом - ни звука в упрек… Она дружбою с ним одарена и озарена. Оттого его реплики в ее передаче, — в ее воспроизведении звучания его, — кажутся достоверными до узнавания теми, кто никогда ни видеть, ни слышать его не мог: настолько они естественны, органичны, мелодичны, инструментально распределены, словно вспоминаются не ею, а оживают на слуху самого читателя, прежде знакомыми по музыке его. Вся его личностная прямая речь клавирно воссоздана настолько, что впрямую воспринимается через словно расчерченный здесь нотный стан. Но таинство в том, что отдельно, вне текста, из которого подготовительно возникает он сам, и того последующего текстового сопровождения, которое вызывается его репликами, ощущение присутствия его живого голоса как-то туманится и доносится будто издалека. Допустим: — Что это? — Очередь. — ??! —Очередь в баню. — Как приятно видеть стремление людей быть чистоплотными… Или еще: 8 — Но вы ведь тоже должны любить одиночество… — Как свободу. Только от себя не уйти… — Зато можно приблизиться… Такие диалоги прекрасны сами по себе. Они напрямую воскрешают его прямую речь. Но, выхваченные из течения книги, эти диалоги словно бы задыхаются, как рыбы, выуженные из воды. То-то и оно, что в целом книга воспринимается, как симфонически написанная музыка, мастерски оркестрованная под скрипичное соло его. Его присутствие в атмосфере книги ощущается постоянно, в каждой ее строке. И вся книга слышится звучанием музыки его. И даже вызывает ощущение допущенности в его святая святых: присутствие при его работе над музыкальным текстом, — когда он, светом лампы освещенный, стремительным, отрывистым, дробным, синкопным почерком заполняет нотные листки, углубленный в артезианскую тишину, в которой ему одному грезится то, что впоследствии на всей планете станет вбирать в себя слух человеческий, — и каждой нотой его дорожить, как крохой хлебной из блокадного пайка. Ее книга слышна музыкой его музыки. Музыкой его облика. Музыкой его различных реакций на всякое разное. Музыкой человеческой человечности его. Музыкой его естественной естественности. Музыкой его душевной душевности. Музыкой самого существа существования его… Музыкой. Музыкой. Музыкой. Его прощальной музыкой на прощании с ним ее книга слышна. Первой скрипкой ее оркестрового повествования, — от начального прозвучавшего слова и до завершающего, — прослушивается неизбывная печаль. Ею, так или иначе, пропечатаны, все страницы повествования, вся многотональная палитра музыкальной речи ее. Местами она виртуозно солирует, побуждая к сдержанному аккомпанементу тончайшими оттенками проникновенного чувства весь остальной оркестровый состав. Книга эта — выстраданный и выношенный плод душевной близости двух душ, — их родимое дитя. Художественная по своим литературным достоинствам, книга эта и гранулы своевольного вымысла лишена. Автору ее, редактору по призванию, сама мысль о допущении вымысла, в смысле — домысла, — при работе над книгой представлялась немыслимой. Она редактировала свою память, просеивала ее сквозь тончайшее сито малейших сомнений. Несомненным для нее оставалось исходное условие самой себе, которое через весь исход ее из плена безмолвия доносится, как органный хорал: — Есть только долг и право — сказать, что успею и смогу. О жизни столь напряженной и непонятой. О времени, лишь кажущимся ушедшим. 9 Свет ее памяти сродни чуду светильника библейского Храма, оскверненного и поруганного, при событиях маккавеевских времен. И там перед ними, и здесь перед нею зияла «обидная реальность». В нее они смотрели «с последней прямотой». И здесь, и там. Но реализовалась реальность чудом для них. И там, и здесь. Чудом храмового светильника там, - и книгой чудесною здесь. Чистого масла для поддержания огня в светильнике оставалось на день. А горел он до изготовления нового масла необходимой храмовой чистоты все для того необходимых восемь дней. И при работе над книгой все ей виделось против нее: «угасает память, уходят силы, нет запаса времени». Но достало всего. И памяти. И времени. И сил. Она сверяла, достоверностью выверяла, как на аптечных весах добросовестности, взвешивала подлинность каждого слова, претендовавшего на место в книге своей. Ее год шел за день храмовый. И так в течение восьми кряду лет. Правдива до праведности правда книги ее. И о ее благоговейном отношении к Шостаковичу, и о том, как выглядело их общение со стороны, косвенно можно было представить людям, только по ее московскому периоду с нею знакомым, из того, какой в отношениях с еще одним человеком, — с Эфросом, — запомнилась она. Эфрос был среди первых, если не первым из режиссеров театра, кто со сцены занавес убрал. Глухую, изощренно расшитую, в тяжких складках висящую, наглухо перекрывающую до начала спектакля и между действиями непроницаемую преграду занавеса он упразднил, — освободил сцену, как лицо женщины от восточной паранджи. Это было время глухой закрытости, железного занавеса не только для жизни внешней, но и для внутренней ее стороны. Ад сквозь вуаль рая представляла собою жизнь. И обнаженность сцены воспринималась признаком праздника освобождения, не праздным во все времена. Сцена и зритель с первого взгляда стали открыто смотреть друг другу в глаза. Но не только сцену он для зрителей открыл, — он сделал открытым сам творческий процесс. На репетиции Эфроса, как на работу, ездила вся Москва: те же троллейбусы, что под теми же номерами и теми же маршрутами ходят и теперь, от десяти утра 10 до одиннадцати переполненными останавливались неподалеку от театра его и следовали дальше почти порожняком. Искусство являлось его религией. Театр — его храмом. Сцена — местом святым. И зрители ощущали себя едва ли не прихожанами его. Любая из его репетиций превращалась в своеобразный неповторимый спектакль. Начинался он обычно неспешно, как бы вразвалочку. С какого-то вроде бы незначащего разговора. Слова-другого… С актером… Словом-другим кого-то в ответ… С приглядом. С прощупыванием настроя, внимания… Иногда с рассказа об увиденном по дороге в театр, с услышанного после спектакля вчера, с какого-то впечатления от чего-то, кого-то… Очень скоро выяснялось, что все это имеет самое прямое отношение к нынешней репетиции, разбору сцены, — всегда на ногах, импровизации сходу, по ходу целого куска. В его показах проигрывалась каждой роли тончайшая музыкальная вязь, связанная с общей оркестровой завязью будущего спектакля целиком. Исполнитель всматривался, вслушивался, вживался в ее живую явь и тут же пробовал, как по нотам режиссером внятно проигранное, сам проявить. Сыграть. Поначалу это выглядело так, как если музыкант, перед которым кладутся незнакомые ноты, пытается проиграть текст с листа. Но постепенно, от репетиции к репетиции, артист осваивает, усваивает, присваивает, превращает в собственную прежде чужую музыку, свободно импровизирует в ней внутри заданных композитором темпов, длительностей, ритмов, тональностей, акцентов, состояний, мыслей и чувств… Все то, что не поддается описанию, постепенно вписывается в художественное существо исполнителя, побуждается, пробуждается, выявляется через его собственную, свободную, незатверженную, внезапную, сиюмгновенную индивидуальную художническую суть. Ноты режиссерских показов в конце концов усваивались артистом, как собственные, и он, внутри партитуры роли, начинал собственную музыку творить… Репетиции Эфроса — особая статья. Они ошеломляли неисчерпаемым многообразием тончайших непредсказуемых подробностей, из которых возникал обобщающий рисунок характера, роли, сцены, спектакля целиком. С каждым новым заходом напряжение рабочее нарастало, заодно разряжаясь непередаваемым артистизмом актерского и режиссерского взаимного обоюдного труда. Спектакли Эфроса до степени возможной сохраняли и содержали в себе эту творческую атмосферу создания их. Сотворения. Но кто не бывал на репетициях его, тот главную радость от искусства его режиссерского, увы, не вкусил. В перерыве артисты устремлялись в буфет, а он, как всегда окруженный завсегдатаями, как заводной продолжал очки в руке пропеллером вертеть, с исходным спокойствием выслушивал вокруг себя тех-других, что-то внятное отвечал тем-другим, - и так это длилось, пока актеры не возвращались в репетиционный зал. И все начиналось сначала. И продолжалось. Изо дня в день. Из года в год. Из десятилетия в десятилетие. Всю его жизнь. Да еще постановки в других театрах, да 11 на телевидении, да в кино, да за границей: в Америке, Японии, Финляндии… Продолжалось то, о чем ни в сказке сказать, ни пером описать. Когда он ел, когда пил, когда отдыхал? — Богу одному только ведомо. Где-нибудь в Петропавловске-на-Камчатке люди театра точно знали, что сегодня «выбросили» в ГУМе и что сегодня ставит Эфрос. К нему на репетиции и спектакли проездом ездила вся страна. На плащанице Искусства навсегда запечатлен его творческий лик. Она была редактором многих (если не всех) его телевизионных спектаклей. Особенным редактором. Особым. Начиная с того, что именно ей мы обязаны скорее всего — и уж во всяком случае, многим, — самому явлению Эфроса на ТВ. Не редактурой текста отличалась она. Или не правкой замысла тем более. Не корректурой малейшей художественного процесса. В случае с Эфросом, попросту, замирала она. Со стороны могло показаться, — переставала дышать. Она редактировала саму атмосферу съемок, которые, — от первого кадра до завершающего, — из действия в действо и в священнодействие обращались для нее. И происходило это у нее совершенно естественно. Само собой. Тем и воздействовало на всех и на все. Вокруг съемок и внутри. И на самого Эфроса в том числе. Но если что где случалось в помеху ему, - то стоило слегка прослышаться ее голосу, низкому, чуть ли ни басового диапазона,- такому неожиданному в сочетании с обликом ее, - как тут же все становилось на свои места. За этот хрипатый бас ее в свое время окрестили Поль Робсоном и ради ее снисходительной ответной улыбки напевали ей «Широка страна моя роднай-йя» с характерным произношением негритянского певца. И все это при том, что бросалась она в глаза какой-то особой неброскостью своей. Тихая, всегда в какой-то старомодной обувке (что бы она ни надевала, все смахивало на довоенные ботики, которые «бэттиками», — от ее имени «Бэтти» называли кругом); жила она в съемочном павильоне невидимкой, но при этом оказывалась всегда и везде одновременно: всюду, где чуяла свой необходимый хозяйский пригляд. И Эфрос, — с его страдальческой реакцией на вечные всякого рода недоделки театральных цехов, которые на него действовали, как фальшивая нота на Моцарта (тот попросту сознание терял), — Эфрос не мог не ощущать ее работу (заботу) на опережение неизбежных по ходу съемок всевозможных нескладух. И эта, будто бы самоустраняемость всякого рода помех, — конечно же, сказывалась и на его творческом настроении, и на подъеме вокруг. А она, маленькая, в серой шерстяной вязаной кофточке, от света прожекторов подальше укромное местечко находила себе. 12 Теперь она перестала курить. Бросила. Вынуждена была. И голос ее повысился, подочистился от хрипатых басовых низов. И на Поль Робсона уже не тянет она. А тогда только дым сигаретный, неизменный проявитель незаметного присутствия ее, клубился в лучах освещения и место ее пребывания, и затаенновстревоженно-возвышенное состояние ее заодно выдавал. Но если музыка Шостаковича повседневно жила в доме Эфроса, — она там не сходила с диска проигрывателя практически никогда, - то встреча Шостаковича с театром Эфроса состоялась не без подачи ее наверняка. Эфрос в музыке Шостаковича слышал созвучие сценическим помыслам своим; Шостакович в спектаклях Эфроса звучание собственных душевных мотивов различал. И к инициалам «ДД» в книге прибегнуто, — как и в этих записках, — краткости ради. А в жизни (автор в сноске оговаривается) всегда говорила «Дмитрий Дмитриевич». И теперь только так говорит. Как говорила «Анатолий Васильевич» младшему ее годами Эфросу, так и четверть века спустя после его ухода, — ах, неумолимое время! как летишь!.. — продолжает о нем говорить… …Покорители горных вершин, - даже такой непокорной, как Эверест, — на пике своих восхождений обнаруживают предел: дальше только небо. И дальше следует спуск. В искусстве небом все только начинается. В искусстве таких художников запредельного, как Шостакович и Эфрос. И оттого, может быть, к творчеству друг друга и испытывали предельное тяготение они. Автор книги вмещает их, невместимых, совмещает в себе. Они наполняют, заполняют, переполняют ее и как личности, и искусством своим. …В жизни души ее пребывает еще один, драгоценный на всю жизнь, человек: Петр Фоменко, режиссер. Шостакович. Эфрос. Фоменко. Они — святая троица ее. Но музыка Шостаковича… Она первой озвучила прекрасным ее внутренний слух. Как пчела весеннего цветка, коснулась и вошла и проникла она в нектарные глубины души. И тогда еще пробудила желание о его музыке написать. И о первом впечатлении от музыки его попыталась выговориться через горьковскую поэму «Человек» еще тогда. Правда, к тому самому музыковедческому эпистолярному своему опыту она вполне скептически относится теперь. А пожалуй, что зря. Очень может быть, что именно горьковский «Человек», переписанный ею «немыслимым почерком» с прибавлением ее собственных «малозначащих слов», оказал ему в ту пору особую, много значившую поддержку для него. Именно Человек в нем более всего страдал от бесчеловечного, разбойного, погромного «сум13 бура вместо музыки» вокруг него. И именно Горький, как никто, призывал поослабить вожжи вождя. Но вскорости, будто прямо в ответ, и Горького не стало. И Тухачевского, который молодого Шостаковича обнадеживал, как мог, пустили в расход. и т.д. и т.п. и Четвертую симфонию, срепетированную уже, уговорили автора на всякий случай, от греха подальше, не исполнять. и вот Пятая. Она первой коснулась ее юной души. Первой прекрасным озвучила слышанье жизни ее. И впервые тогда еще пробудила желание о его музыке написать. И письмо девочки. «Несусветным почерком». Не от мира сего в напоминание будто бы, что человек в мире сем — все еще Человек, — так расслышала она симфонию его. И дрожит ее рука, пока набирает номер его. И голос ее по телефону дрожит… Каких-нибудь года полтора после письма. Она «назвалась и мгновенно услышала слова извинения (не успел ответить на письмо!) и просьбу (!) да, да: «я очень прошу, вы не могли бы придти ко мне завтра?!». Когда дочерям Михоэлса рассказали, — книгу пока не читали они, — как Шостакович впервые откликнулся на звонок неизвестной девчонки; как заизвинялся, что не успел ей ответить на письмо; как попросил, очень попросил ее, если можно, прийти завтра к нему, - они тут же в унисон радостно подтвердили, будто снова с ним самим встретились они: да, это точно Дмитрий Дмитриевич, — он, точно, это он. Между тем, таким распахнутым и радушным он бывал далеко не со всеми и не всегда. По многим свидетельствам многих, в присутствии посторонних, — даже кого-нибудь из друзей его детей, — он превращался в закрытую молчаливость и все вокруг него само по себе невольно умолкало, словно замкнутое на замок. Возможно, что на людях, при посторонних, он испытывал того же рода пыточную неловкость, что и при вызовах на публику на поклоны: когда не вслушиваются в его музыку, а всматриваются в него самого… Эта ритуальная обязанность делала просто несчастным его. Так что, при всей свойственной ему отзывчивости и обескураживающей деликатности, такая непосредственная мгновенная реакция на ее внезапный первый же к нему звонок, с его просьбой о прощении за неотвеченное ее письмо (не успел) и с очень большой просьбой, если сможет, придти к нему завтра, — такая его молниеносная реакция на ее звонок, которого он будто бы ждал и уж во всяком случае, судя по тону, обрадовался которому безусловно, о чем-то да говорит. Не исключено, что и приглашение только на завтра было вызвано еще и тем, что и себе он выговорил некоторое время, чтобы как-то приготовиться к этой встрече самому. Не захотел быть застигнутым врасплох. Да и ожидаемой гостье 14 давал время до завтра кое-как попривыкнуть, перед приходом к нему в себя как-то придти … Что еще особым образом об особенностях его человеческих говорит. И об особом, предварительном еще, его отношении к ней. Да, абсолютным душевным слухом различал он близкие ему голоса. И только из них те, на которые детски откликалась его душа, могли быть осчастливлены подобным бесподобным приглашением его: — Я вас очень прошу… Так что представление о том, что она написала ему о Пятой симфонии в сопоставлении с поэмой «Человек», как она и сейчас думает, невпопад, возможно, ошибочно: быть может, как раз-то именно такое человечное восприятие его музыки в ту волчью пору пришлось ему в самый раз. Навсегда восклицательно-вопросительно невероятным и восторженнорастерянным проник в нее этот телефонный разговор. И свет первого дня у него на залитой солнцем Пушкарской с той самой поры просветляет ее. И она его празднует, как второй день рождения своего. Февральский пастернаковский день: Февраль. Достать чернил и плакать… За несколько месяцев до слез иных. Нечернильных Черных. До новых слез новой войны. И еще одни, послевоенные, слезы не избудутся в сердце ее никогда. В том самом сорок восьмом. Когда на съезде композиторов признал он правой расправу очередную над ним. — Из глаз потекли крупные слезы — единственные мои слезы, которые видел ДД. Да и еще те самые слезы, что никогда не иссякнут в сердце ее: тех ее слез ДД уже видеть не мог. Струны ее строк. Строки ее струн. Линии нотного стана ее. Тонкие Упругие. Неколебимые и вибрирующие. Протяжные и протяженные. Слитные в единое цельное через всю книгу ее. Через пять ее глав. Как пятизвучный аккорд. Как пятизвучно заданная музыкальная тема через всю партитуру книги. По всему кругу жизни. Ее книги квинтовый круг. Действие ее первой части симфонически развивается медленно, в каком-то сопротивлении внутреннему порыву, что на слух вызывает притяжение особой упругостью и эластичной энергией слога ее. С начальных тактов, с изначальных 15 слов, вводная глава книги внутренним натяжением предстоящего поступка напряжена. Решимостью и нерешительностью взятого в руки пера. Она сдерживает себя на всем пути разговора, на неохватном пространстве, которое захватывает прожитую жизнь. Она приструнивает себя на многостраничном пути, но струны, высокие струны, скрипичные струны, безутешные струны беззвучного плача ее попутно себя выдают. Начиная с той же первой в книге строки. Ее намеренье ищет поддержки. Опоры. Внутри себя. Вокруг. В высказываниях дорогих сердцу лиц. Отсюда, наверно, и довольно частое цитирование, особенно на первых порах. И тут же словно спотыкается ее памятливое перо: ей вспоминается, что ДД заплывать в сети минувшего не слишком любил; он их, до поры до времени, по возможности, избегал. Но память ее тут же находит свои оговорки и отговорки, чем удерживает скорое на попятную перо… Словно при арбузовском студийном показе, ее перо будто зависает в нерешительности на каждом шагу. — Не все осилит душа. — Боюсь укоротить дистанцию. Над всею книгой перо зависает вопросом, повисшим самим заглавием первой главы: — Не надо заводить архива?.. Через всю книгу будет она вопрошать. За что? Почему? Зачем? Для чего?.. А они будут плакать в ней, эти вопросы. Рыдать. Стенать. Пересохшими губами беззвучно кричать. На свой первый вопрос, — «Не надо заводить архива?», — она отвечает всей книгой своей: не надо. В таком исключительном случае, как у нее. С таким исключительным исключением, как он, ДД, архив действительно оказался ни к чему. Опубликованные в книге снимки ее давних отрывочных записей поддаются прочтению не проще тысячелетних кумранских свитков, обнаруженных в пещерах побережья Мертвого моря и изъятых из чрева веков на ее веку. И как на призывную скрипичную ноту «ля» настройки инструментов, галдящим птичьим базаром мгновенно откликается весь симфонический оркестр, так паническими страхами отзывается в авторе расслышанный внутри себя позыв за книгу приняться. — Так трудно подняться до прожитого, пережитого. И сегодня не корректировать то, во что оказалась включенной та, давнишняя, юная, другая. — Боюсь прикасаться к прошлому словами. 16 А последнее и вправду опасно особенно. Это как коснуться крыльев бабочки: на пальцах останется пыльца. Бабочка вроде все та же, а без пыльцы на крылышках не полетит. Не порушенным сегодняшним словом являет себя прошлое ее: она действительно до прожитого, до пережитого поднялась. С того ее раннего духовного пробуждения начиная, когда из черного репродуктора, как из непроглядной ночи, впервые для нее утренним светом его музыка пролилась. Удивительно, как вообще в такую раннюю пору жизни столь многослойная, многосложная для восприятия музыка вызвала настолько глубокий и неизгладимый отклик в ее юной душе. Это ее первое впечатление светит ей всю ее жизнь, просвечивает через всю книгу и вовсю просветляет ее. По сути, все ее воспоминания этими неугасимыми лучами озарены. Даже непроницаемые, казалось бы, немалые страницы горя и печалей Шостаковича, вибрируют светлыми бликами самого облика жизни его. Его личностные черты с особой выразительностью прочерчиваются сквозь них. Со страниц книги он возникает перед глазами, никогда не видавшими его, словно вживую, будто лично знакомый не просто давно, а всегда. И теперь уже навсегда. И таким, каким запечатлелся на утерянных негативах. Вот их нет, негативов, все пропали, кроме одного, а в памяти при чтении они точно проявились и отпечатались сами по себе, как только едва соприкоснулись с несколькими словами упоминаний про них. И запомнился он, словом книги увиденный, после только что перенесенного тифа, — и обессиленным, и обнадеженным отступившей болезнью наконец… Книга слышна его собственным голосом, пульсом, ритмом и аритмией его жизни в жизни ее. Амфоры ее памяти, осевшие на самое дно канувшего времени и поднятые на поверхность бездонной благодарностью ее, сохранились все и сохранили все. Подобно Беатриче, она проводит нас через чистилище по имени «Шостакович» кругами ада, которыми кружила его земная жизнь. Высокое скрипичное соло ее повествования переходит в альтовые низы, подхваченные виолончельным рыданием и отрывистыми стонами контрабасов… Струнным аккомпанируют валторны, волнами набегающими среди духовых. И весь этот многозвучный вал со шквалом разбивается вдребезги о неотвратимость ударных, оставляя после себя одинокий скрипичный плач. Да внизу постанывает бас-геликон. И так до следующего оркестрового приступа. Бессчетного. Очередного. Ее книга звучит его сердцебиением в сердце ее. Всей многозвучной палитрой письма она старательно умалчивает о том, «как перемалывали жернова». Но неумолчно продолжают и молоть и перемалывать они. И снова и снова ввысь устремляются оркестровые струнные. 17 Как молитвами о дожде Святая Земля. Эта книга возвращения в безвозвратное. И эта книга непрерывного пребывания в непреходящем вместе с тем. …Там, вдали, где незримое за линией горизонта, время минувшего… …Там, вдали, там во времени, канувшем за горизонт… Опираясь на посох памяти, шаг за шагом она восстанавливает его пройденный через пустыню времени торный путь. Сопоставление контрастных, заведомо несовместимых тональных красок, сближение их наложением до полного слияния вызывает музыкальный эффект сродни живописному в палитре Ван Гога, где соседством заведомо взаимно отталкивающихся цветов создается невероятное зрительное притяжение и тяготение, и вслед за кистью, мазок за мазком, вместе с художником смотрящий на картину человек стремится неодолимую дисгармонию преодолеть. И она разрешается, в конечном итоге, гармонической целостностью произведения всего. Подобно завершающему мажору в небесах баховских Страстей. При всей стремительности повествования действие проявляется замедленно, напряженно. Так разжигается костер из сырой ветоши в мокром лесу. Чувствуется, как разведению в себе этого костра воспоминаний в авторе сопротивляется все. Вхождению в него. В костер. В пламя. В огонь. Который, тем не менее, разгорается внутри все сильней. Испепеляющий. Плоть поглощающий. Дух воскрешающий, огонь. Опаляющие языки авторских страхов охватывают ее. Она боится укрупнить собственную тень. Но ее свет выводит ее из собственной тени. Ее свет оттеняет чистоту помыслов ее. Она не затеняет. Она ставит освещение. Она всматривается в изображение, вслушивается в течение речи. И соединяет их взвешенностью смысла и вкуса; выверяет правдивостью чувства и достоверностью факта. И фокусирует в целое, как снятое в разных ракурсах, на экране монитора совмещают в единый кадр. Делает она это с тем природным чутьем живописца, за которое, в придачу к другим производным от ее имени, еще и званием «Бэттичелли» друзьями она награждена. И страх «укоротить дистанцию», и все прочие сжигающие ее страшные страхи, оказываются бессильными укротить нарастающий из страницы в страницу ее творческий жар. Он все неукротимее охватывает ее. И гасит страхи. Как тушат лесные пожары: огнем на огонь. Неопалимой купиной благодарной человеческой памяти воспринимается книга ее. 18 Она читается, как письмо. Адресованное в прошлое. Отправленное в непреходящее. Многие лета писалось это письмо. Изо дня в день. На листках бумаги. На случайных клочках. По строчкам. По обрывочным словам. Без определенных, дисциплинированно выделенных для работы часов за письменным столом. Где придется. Как придется. Когда придется. Сколько получится. Все это белело снежными островками бумаги по квартире всей. Время от времени укладывалось в одну папку, как в закрома собирают урожай. Который еще предстояло просеять, провеять со временем, по зернышку перебрать. Отобрать отборное. Убрать остальное. По мере того, как эти горки росли, нарастала гора перед ее собственным бесстрашием, с каким за книгу она принялась: до эверестной вершины возрастал ее страх не справиться, не смочь, не взойти… Она успела. Она сказала. Она смогла. Сыну Шостаковича никогда не забудется, как при прощании он положил свою руку на хладные руки отца; тогда ему показалось, что отцовские руки потеплели в ответ. Подобное теплое чувство, по словам его, сказанным ей по прочтению книги, он испытал. Живой книги ее. И такая книга, по представлениям автора, «всего лишь горстка… в безмерном наследии ДД». Пусть. Но эта горстка подстать кусочку сахара из блокадной арбузовской пьесы. Того самого кубика рафинада, пред которым померк целый куб продуктовой посылки, слетевший в драму точно с небес, - от мамы доставили летчики среди блокадной зимы. Этим привкусом сладости в такое горькое время радость прорыва блокады и началась. Внутренней блокады. Душевной. Из удушающей душу блокадной петли. И о «горстке» еще. Лидия Дометьевна Баранова, — она же Лиданка для друзей и автору книги близкий человек, — накануне блокады оказалась в последнем поезде, который ленинградцев из города увозил. В дорогу она испекла себе с черникой пирожки. Да поезду из-за бомбежек назад возвратиться пришлось. На обратном пути эти пирожки показались не совсем свежими ей и в вагонное окно швырнула она их. Всю блокаду ее мучили эти пирожки. Всю блокаду она не могла себе этого простить. Теперь они казались свежими ей. С такою вкусною начинкою! С ума сойти! Что за безумие охватило ее, чтобы взять да и выбросить их, такие вот пи19 рожки! Теперь бы она бы не голодала бы… Как будто пакета ее пирожков хватило бы ей на все 900 блокадных дней?! А если бы «горстку» листочков бумаги, исписанных «крупным немыслимым почерком» за все эти годы, да разложить, хватило бы ими горную вершину вершин, как снежною шапкою, белым покровом покрыть. Через всю книгу неутомимым пульсом слышится блокадный метроном. Метроном совести. Метроном благодарности. Метроном любви. И если его мерные, отмеривающие существование удары различаются на слух, значит, еще прослушивается сама жизнь. Вся пятиглавая книга слышится цельной симфонией в пяти частях, — своего рода Блокадной симфонией, которой автор прорывает блокаду вокруг самого ДД. Тем самым высвобождает из блокады себя. Как будто бы она саму музыку Шостаковича в себя вобрала. Как будто она музыкой Шостаковича зазвучала сама. И книга ее отзывается музыкой его. Точно музыкально книга написана им самим: рассказывает о нем самом музыкой его. И при этом осознает: — Рассказать его нельзя… И второй частью книга продолжает рассказывать его. По сути, вступительной главой контуры обозначились уже. Прицельным наброском. Композиционно. На хорошо загрунтованном холсте. С прикидкой пропорций, соразмерностей; с обозначением первого плана и дальнейших, удаляющихся и уходящих за полотно; с усилением акцентов на прежде едва обозначенном, сказанном вскользь; с уходом в тень, под спуд замысла, далее проявленного остро и вовсю… Собственно, этот поиск гармонии всего со всем и во всем длится до самого завершения последней в книге строки. И книга вся по прочтению представляется своеобразной розой ветров с уравновешивающим центром на кончике артистичного авторского пера. ДД становится зримым, слышимым и ощутимым в передаче ее. При малейшем сомнении она тут же мучительно оговаривается: «Не помню». И оттого еще всему, о чем говорится без оговорок, верится безоговорочно. Удивительно, как да такой степени осязаемо возможно неосязаемое воссоздать. И резцом, и кистью, и карандашным наброском слова ее. Из мраморной глыбы ее памяти, от которой она все лишнее отсекла. Убрала всю окрошку текста. Вымела всю словесную пыль. Речь ее прицельна. Лаконична. Избегающая словесных орнаментов речь. При всей доподлинной подлинности будто с натуры написанного портрета, она создает его художественный образ, и он сам по себе образует круги во все сто20 роны на устоявшейся водной глади времени, - в самое неизгладимое по жестокости время, - которое он вневременной музыкой своей на все времена воплотил. Перевоплотил. Гармонией обратил. В начале ее слова была ее память. Памятливая память… Память-заступница… Память, освобождающая от беспамятства… Восстанавливающая память… Воскрешающая незабытьем. На линиях нотного стана разместились черными значками ноты ее воспоминаний. Словно ласточки на высоковольтных проводах. Защищенные беззащитностью. Не ведающие о смертельном напряжении под ними. Ласточки ее нот. Он писал свою музыку, не касаясь инструмента: она слышалась в нем и он, вдогонку звукам, покрывал беглыми знаками нотные листы. И автор книги при своем письме, кажется, вслушивается в него и записывает за ним. Как будто его нотными знаками набраны строки ее страниц. Струны ее строк… Строки ее струн… Как струны арфы псалмопевца. И книга ее вся, как Шостаковичу единый псалом. Под аккомпанемент ассонансов и диссонансов его страданий и состраданий ее, памяти его сотворенный псалом. Слушанье его при чтении книги сопровождается неизменным желанием определить все-таки, с какого такого мгновения Пятая симфония впервые небесной Ниагарой на нее излилась. Здесь, может быть, в самом начале части Второй или где-нибудь рядом, и включила когда-то радио она? — и проникла его музыка в ее юную душу, и в душе заиграла, и отдушиной стала тогда навсегда? Вся в солнце скрипичном, в игривых ее лучах звуковых. Танцуют они среди праздника жизни, полной смешных и нестрашных гримас. Беспечными бликами забавляется скрипка, как плещется малый ребенок в воде. Или купается в детских воспоминаниях взрослый человек. Там, где любили его. Берегли. Дорожили. Где он был самым главным в мире родных. Хотя это же самое место в симфонии может расслышиться и совершенно противоположным тому, — в зависимости от того, в контрапункте с какими страницами книги сочетается звучание ее. Может привидеться, что музыка здесь пленом терзается. И надрывно пытается вырваться из петли наваждения. Или страшного сна. Или из воспоминания тяжкого, может быть. Из чего-то подобного, пережитого наяву, из того, что Пятую симфонию могло предварить. Симфоническую фреску его. 21 Количеством страниц третья глава книги примерно равновесна предыдущей главе. Но «Этот нескончаемый сорок восьмой»… Этот год уже тянется целый век. Как будто из гоголевского «Вия» он выродился, век изувеченный этот. И вероломством, и горем, и бедами «Этот нескончаемый сорок восьмой» перевешивает здесь даже годы войны. Впрочем, на каких таких подобное возможно взвесить весах?.. При всегдашнем спасении тем, что «нужнее хлеба насущного», в книге он в бесконечную пропасть проваливается, тот нескончаемый год: в него проще простого попасть и бесследно пропасть. Дочери Михоэлса никогда не забудут, как после похорон отца к ним домой Шостакович пришел. Комнаты были набиты народом. Он отвел их в сторонку, он им тихо сказал: — Я ему завидую! — сорокадвухлетний Шостакович произнес. О мученически убиенном отце девочек: то, что с их папой уже произошло, ему, возможно, еще предстоит… Так утешал он безутешных сирот… Автор книги, оказывается, знала об этих его безысходных словах. Но в книгу они не вошли. Почему? Потому как не слышала она их сама. А пишет она только о том, что происходило на ее глазах, что осталось у нее на слуху. Такой вот дословной достоверности воспоминания ее. Для Шостаковича этот год нескончаемый начался за долгие годы до наступления его. В первой части Пятой симфонии тот сорок восьмой год обезглавленный во всем своем ужасе проступает с вступлением фортепьянных аккордных басов. Под их начальный аккомпанемент, а вскоре и без него, из нижних регистров оркестра возникает внезапно и с каждым тактом набирает свою бестактную силу какой-то гротескный, уродливый, будто явленный нечестью из «Вия», карнавальный шабаш. Он беснуется, кишит, ужасает. И притягивает, и отвращает отвратительным, невообразимым уродством, тешится и потешается до нельзя, до самого апогея, — до самого проявления, появления Вия самого. До самых ударных тарелок, ахнувших во весь медный звон. До его неподъемных век. До всей чертовщины, открывающей Вию умертвляющие глаза. В этом мире. Внизу. Там. Взгляд его гипнотизирует и парализует. Все в поле своего зрения испепеляет его взгляд. Всякие попытки сосуществования с ним оказываются не осуществимыми. Все живое и животворящее лишается жизни. Все. Все затихает. Замирает. Умирает под ними. Под его тяжкими веками. 22 Пока открыты они. Пока послушливая услужливая бесовщина поддерживает, удерживает открытыми, отверстыми могильные створы этих глазниц. Почти лишается всех своих жизненных сил потрясенный оркестр. Отзвуком дальним в нем еще слышен недавний полетный мотив. Под слабые цикады скрипок он растворяется. Он пропадает. Он сходит на нет. Как в бессмертной трагедии наступает смертельное: дальше — тишина… Кажется, в шекспировском трагизме Шостаковича «…меня можно расстроить, но играть на мне нельзя…» было равносильным «быть или не быть…». И при этом он терзался и истязал себя мнимым малодушием своим. — Незамутненный взгляд на себя, каким обладал Шостакович, доступен немногим. Один штрих из тех же мрачных дней сорок восьмого. Разговор здесь в книге о том, как Шостакович отреагировал на поступок композитора Вайнберга, дарование которого высоко ценил и как человека глубоко уважал. На судилище, — под предлогом съезда композиторов, — Вайнберг никому из больших начальников, проходя мимо, не подал протянутой ему руки. — Они даже оторопели от неожиданности… Как это было прекрасно!.. Непринужденно, свободно, наотмашь! Даже после того, что случилось с Михоэлсом, он женат на дочери Михоэлса…Талант. Труженик. Талантливый труженик. И человеческое достоинство — не заемное, свое. — А я, — голос ДД дрогнул, — втянул голову в плечи, сложил руку (показывает, как) и протянул. Его втянутая в плечи голова, сложенная «лодочкой» тонкая гибкая рука и искаженный страданием взгляд — этого не забыть… Вот на недавний пересказ из книги этого благородного поступка родного ей человека внезапно и возразила старшая дочь Михоэлса, которую ДД упоминал. Не автору книги она возразила, а как бы Шостаковичу самому: — Нет, нет, — как-то восторженно даже от восхищения самого Шостаковича с необъяснимою радостью она отреклась. — Нет, Вайнберг совершенно недемонстративным человеком был. Он наверняка задумался о чем-то своем и просто не заметил ни начальников, ни их протянутых рук. А ведь подобное выше даже предполагаемой Шостаковичем высоты: человек настолько погружался в глубину своего бытия, что повелителей на поверхности быта он попросту не замечал. Но и не высившиеся на виду внутренние движения ДД не менее зримы и высоки. Внешне Шостакович очень Гордона Крэга напоминал. И не только внешне. Особенно в молодости. Там, где на фото он в широкополой фетровой шляпе, с проницательным взглядом в себя сквозь крупные, круглые, в черной оправе, 23 стекла очков. Но и по внутренней болевой ранимости тоже схожими представляются они. Он и обликом, и жестом, и трагедийностью словно во плоти являл собой того Гамлета, каким его представлял себе Крэг и каким его Художественный театр в постановке Крэга не сумел воплотить. В нем было что-то от Гордона Крэга, — от Гамлета его: ломкого, хрупкого, колеблющегося и непоколебимого. Да, в какое-то время своей жизни Шостакович портретно напоминает этого английского режиссера, который на ходу накидывал на себя пальто, на бегу обвивался шарфом и ветром вылетал за двери Художественного театра в метельную Москву. Побыстрее и подальше от другого Гамлета, для которого «верю – не верю» являлось синонимом «быть или не быть»: Станиславский пытался вдогонку до Крэга дозваться, образумить, вернуть, остановить… Правда, сам ДД, когда его исполняли в малейшем неточно, таких бурных проявлений внешне себе не позволял: он чувствовал, по его словам, будто его колют по всему телу булавками, и терпел… Самым безмерным своим страданиям он находил убежище в многомерной чеховской ремарке: «Пауза». Но за беззвучностью его жизненных пауз каторжные муки слышны. Что, разве мы не видим за его молчанием кричащее спокойствие, которое, допустим, левитановской «Владимирке» сродни? Разве за этим безлюдьем на том полотне мы не прозреваем горем иссохшее дно полнолюдной реки человеческой? Разве не оглушены мы перезвоном кандальных цепей на всем пути ее течения? Разве не смотрим мы нависающими на картине облаками на землю каторжан? Разве не вливаемся мы сами, все это видящие, и все это слышащие, мы, ослепленные и оглушенные перезвоном неволи, разве не входим мы в этот безлюдный, бесчеловечный, в этот иссушающий душу бездушный поток? Мы, скованные и окованные мы? И не различаем мы разве Шостаковича рядом с его Катериной Измайловой в потоке левитановских каторжан? Что, разве не так?.. …Сейчас вот представилось, что, может, под впечатлением «Владимирки», прямым или косвенным, Булгаков и Пушкина, в самые каторжные для поэта «Последние дни», - без появления в пьесе Пушкина написал?.. Как каторжан без каторжан передал Исаак Левитан. Шостакович ни нотой ни на йоту не покривил. Не восхвалил царящее иродство. Ни в жизнь ни за какую копеечку не порушил блаженного запрета: «Нельзя молиться за царя-Ирода. Богородица не велит». Как ван-гоговская птица в клетке весной бьется головой о прутья, потому что пробуждается в ней предназначение вить гнезда, зачинать и высиживать птенцов, — разбивается в кровь и от отчаянной боли сходит с ума, — так музыка Шостако24 вича до болевого безумия бьется о железные затворы «исторических постановлений», в которые в самые цветущие творческие годы его музыка оказалась заключена. И в отчаянье на «23 место» он уводил первейшее в себе: маскировал божественное призвание свое всем тем, «что принято называть деятельностью». Так встревоженная малая лесная птица бросается под ноги опасности и тут же отлетает, увлекает по тропе за собой, отводит угрозу подальше от выпавшего из гнезда птенца. Ровно через сакральных тридцать три года, после первого исполнения блокадной симфонии, — едва ли ни день в день, — из жизненной блокады Шостаковича высвобождает его смерть. Напоследок ему выпало мученичество прямого почти соответствия своим давним словам о том, что если ему отрубят руки, он ручку в зубы возьмет и будет музыку писать. Руки и ноги под конец отказывались служить. Боль и неподвижность сковывали их. Когда ему врачи запретили курить, он говорил, что всех радостей жизни лишили его. А невозможность сочинять лишала его жизни самой. Но он не оставлял неподъемное перо. Он был поглощен творчеством и творчество поглощало его. Стиснув зубы, продолжал сочинять. Без конца. До самого конца. И до самого конца чувство юмора и самоиронии чеховского свойства не покидало его. При полной трезвости взгляда на положение свое: — Вчера был так называемый консилиум из московских светил. Глава светил… сказал, что я совершенно здоров, а то, что у меня так плохо действуют руки и ноги, так в этом ничего особенного нет. «Если с меня сделать рентгеновский снимок, — сказало светило, — так он мало чем будет отличаться от Вашего снимка. Однако я легко двигаюсь, а Вы с большим трудом. Это значит, что нет на свете одинаковых организмов». Да, он и здесь любил пошутить, хотя боли у него были нешуточные отнюдь. Перед неизбежностью смерти смирения не испытывал он. Под болевыми пытками болезни он пытает ее. Смерть. В продолжение «Песен и плясок смерти» Мусоргского он полемизирует со смертью Четырнадцатой симфонией своей. Tet-a-tett . Один на один. Он преодолевает смерть бессмертной музыкой своей. А касательно собственной славы своей, — то о ней, собственно, Шостакович косвенно высказался неукоснительно на всю свою жизнь, когда работал над прославленной Седьмой симфонией во время войны. 25 — Тут какой-то незнакомый человек неожиданно заговорил о генерале, «снискавшем славу в последних боях». На этих словах ДД вывел меня из комнаты: — Ну при чем здесь слава? Там погибают и убивают… При чем здесь слава?! Поэма его страданий — книга ее. Разговор о нем в прошлом, безвозвратном, теснит ее сердце и ум. Боль потери, которая, казалось, могла б приумолкнуть с годами, от прикосновения словом начинает снова и заново в авторе безутешно рыдать… Но стоит из-под пера прослышаться его реплике, явить себя его мимике, жесту, мгновенным непосредственным реагированиям, походке, бритвенной иронии и нежному сочувствию… Голосу, высокому мальчишескому дисканту… Жесту его, моментальному, графичному, будто схваченному мгновенным росчерком руки Пикассо…. Челке его, непослушной, вихрастой… И вот уже птица его музыки встрепенулась. И вдогонку ему, ушедшему, будто и ничего не ушло. Снова повеяло его пребыванием. Всюду. Во всем. Там, в его творческой жизни, два особенно дорогих человека пребывали для него. По отношению к Мусоргскому он, кажется, свое музыкальное сыновство ощущал. Мерил его взглядом и возможностью, не стыдясь смотреть в его глаза, все, что выходило из-под его пера. И жег все, что, по его меркам, не выдерживало взгляд Мусоргского, глядевшего с портрета над его рабочим столом. Однажды, — ужас какой! — он предал огню все созданное им за целых пять лет. Просто нечто каминно гоголевское пламенеет в таком пожарище его. И был среди учеников его особенный такой, который дарованием своим, да и сам по себе, нечто вроде отцовского отношения у Шостаковича к нему вызывал. Но не хочется имя его в этой связи произносить. Горько сознавать, чем музыкальному родителю своему тот воздал. Не сладко потому, что действительно об исключительном композиторе приходится такое говорить. Пусть уж читатель из книги узнает сам, о ком речь. Но не было бы счастья, да несчастье помогло: не напиши этот человек о Шостаковиче так, как он о своем учителе отозвался в мемуарах под конец своих дней, — возможно, во многом ответная, книга «Шостакович, каким запомнился» и не написалась бы никогда. Но в «бродячие сюжеты» последней, пятой, вынужденно полемической главы книги, все же он не забрел. Хотя и проходит он через книгу всю: память о нем, прежнем, каким его знала автор, очень ей дорога. Но — истина дороже. 26 Когда-то именно в отношении этого, наиболее одаренного, своего ученика ДД особенно сетовал, что не может его, из-за вынужденных прогулов для подработки, от исключения из консерватории защитить. Она же, совсем еще зеленая тогда, недоумевала во всю: кому еще определять талантливость, если не ему? да кто посмеет не прислушаться, ослушаться его? как это он талант не может защитить? На что Шостакович беззащитно отвечал: — Вот Вы бы защитили, а я не могу… Вот она и защищает. Теперь. Учителя. От ученика. Под ее пером сама почва непорядочности уходит из-под ног, отношение меняется полюсами. И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от божьего суда. + Правда — ее суд и суть. Правда — Ковчег спасения для нее. + Словно пушкинский летописец, «душой в минувшем погруженный», видится она из книжных страниц. Лампада памяти осв ещает ее лицо. Оно светится, ее лицо: светится оно тем, что для нее священно. Минувшее проходит перед нею, - сама она проходит сквозь него. Входит. В минувшего нахлынувший поток. Потоп. Не миновавшего. Неминуемого. В нем «сызнова» живет. Заново. Обновленно. Над его губительными водами высится она. Не возвышается. Не принижается. Высится. Вровень с безмерным чувством благодарности своей она пребывает. Отрешенное минувшим, освещенное лампадой воспоминаний, ее лицо невольно пробуждает в памяти иной, неусыпный лик: Когда, душой в минувшем погруженный, Он летопись свою ведет… ОНА: С «последней прямотой» смотрю в обидную реальность. ОН: Не много лиц мне память сохранила, Не много слов доходит до меня, А прочее погибло невозвратно… Но близок день, лампада догорает… ОНА: Все против меня: угасает память, уходят силы, нет запаса времени… И повод для трудов у них в перекличку. ОН: Исполнен долг, завещанный от бога Мне грешному. Недаром многих лет Свидетелем господь меня поставил… 27 ОНА: Есть только долг и право — сказать то, что сумею и смогу. О жизни, столь напряженной и непонятной. О времени, лишь кажущимся ушедшим. Но есть, пожалуй, и нечто приметное, разнящее их: Пимена и ее. ОН: На старости я сызнова живу… Годами своими нынешними она, может, и ровня тогдашнему ему. И «сызнова» и она своей книгой живет. Но вот, что касается старости, — то старость определенно не про нее. Один из ее внуков, которым она посвятила книгу свою, в те поры еще в деревянном загончике малыш, когда другие сказки ему приелись, как-то посреди ясного дня попросил: — Бабушка, расскажи мне о своих встречах с Гераклом. — С кем? – даже воздухом поперхнулась она. — С Гераклом! — мол, не слышишь, что ли? — он повторил. — Ну, что ты, Илюшечка, — смущенно пробасила бабушка, — он же очень старый… — Но ты ведь тоже старая, — из деревянного загончика притопнул внучок. …Видите ли, Илья! Старость — это не про бабушку Вашу. Не может она постареть. Тем более — устареть. А древней она воспринималась всегда. И Сарра, праматерь библейская, в бабушке Вашей жива: чудом сына она своего родила, когда уж не чаяла матерью стать, — а у бабушки Вашей чудесная книга родилась, когда она уже отчаялась ее написать. И гены Ионы, пророка из библейских страниц, тоже бабушку Вашу не обошли: тому не удалось избежать предназначенного ни на корабле, ни в волнах морских, ни даже в чреве кита, - как бабушке Вашей от поручения написать книгу оказалось никуда не уйти, даже когда через океан перемахнула она. И потому-то, Илюшечка из деревянного загончика, о встречах с Гераклом бабушку Вашу незазорно и сегодня просить рассказать. Древней, похоже, она родилась. Но есть, пожалуй, и то, что пушкинского летописца и ее, сегодняшнюю, отличает по существу. ОН: Минувшее проходит предо мною… Теперь оно безмолвно и спокойно. ОНА: Пока воспоминание остается сегодняшним переживанием, ничто не проходит. И, пожалуй, еще. Она здесь не тот летописец, что «спокойно зрит на правых и виновных». Ее слово взвешено, справедливо, аргументировано, верно до достоверности, — но не спокойно. Взволновано «сегодняшним переживанием» минувшего слово ее. Словно свитком Завета разворачивается летописание ее. 28 Однажды в ее присутствии некто разглагольствовал о своей поездке в бывший Кенигсберг, о могиле Канта там, за оградой кирхи. Она не принимала участия в разговоре, сидела, отрешенная, но когда речь зашла о бедном Канте и о бедном его народе, - о том, как им смотреть теперь друг другу в глаза после того, что народ Канта в последней войне с народом Библии натворил, — тут немедленно отреагировала она: — Могут они смотреть друг другу в глаза, - без всякой риторики она произнесла. — Они покаялись. У гроба Михоэлса, по воспоминаниям его дочерей, прощально Илья Эренбург говорил: — В этой войне погибло шесть миллионов твоего народа. Ты — седьмой миллион. Потрясающе сказано, да?! Сквозь отрицания она следует к утверждениям своим. «Не надо заводить архива ?..» «Рассказать его нельзя…» «Этот нескончаемый сорок восьмой». Следующая глава книги о хлебе. О том хлебе, что «насущного хлеба» нужней. О хлебе духовном. О людях, чей духовный замес делает их хлебопеками хлебов таких. Тех хлебов, из которых каждым возможно тысячи накормить. Ими окармляется человечество все. В ледяные стужи духовной блокады ими одними и теплятся в людях вечные: Вера, Надежда, Любовь. И горше полынной горечи неприкаянность автора к концу этой главы. Там, где о даровитейшем ученике Шостаковича растерянно, как о невосполнимой потере, она говорит. Там война и мир в ней напоминают душевное состояние героев спектакля Петра Фоменко «Война и мир», начало романа»: она смотрела его множество раз. …По ходу спектакля начинаешь мысленно вчитываться в самые первые страницы романа, вернее, в перевод их подтекстовый с французского, на котором свободнее, чем на родном, в дворянских кругах общаются русские люди (тут же вспоминается, что и Пушкин лицейский носил прозвище «француз»). И внезапно, — через огромный период французской речи в начале, возможно, самого русского романа, — начинаешь проникаться ощущением, что по воле автора или помимо нее, в такой, как будто бы, бытовой, узнаваемой по тем временам житейской достоверности, завуалирован колоссальный образный, художественный прием и смысл. 29 Для России, для света, для цвета ее, французскость влилась настолько в ее духовный, нравственный, подражательный, модный, — какой угодно ее мир, — настолько слилась и растворилась в ней глубоко, что при начале войны с Наполеоном ей довелось этот мир, профранцуженный насквозь, прежде всего внутри себя самой переломить и одолеть. И только после того, как старинная Москва в огненной купели искупалась и искупилась, — самосожглась, как прежде старообрядцы сжигали себя, — Россия позволила себе «дубину народной войны» против нашественника воздеть. Может, и вправду в отступлении после Бородино, — при всей той стратегической сиюминутности, — может, и впрямь явило себя Провидение, чтобы вся страна горящей Москвой обожглась?.. В спектакле Фоменко офицерские мундиры обозначены слегка: манжетом, эполетой, стоячим военным воротничком; в начале романа этот защитный слой страны никак не может облечь себя в полную военную форму, восстановить себя против того, что продолжает составлять его внутренний мир и что стало внезапно для собственного мира одновременно внешним врагом. А та страна, довоенная, и после войны героизировала и демонизировала поверженного врага. Даже спустя десятилетия Россия гоголевская ужасается и немеет от предположения, а не есть ли Чичиков переодетый Наполеон?.. Что, между прочим, отнюдь не мешает ей и в дальнейшем французскость превозносить. И супом из Парижа напрямик пароходом на всех парах похлестаковски щеголять. А «французу» тому, что в лицейские годы с жаром и завистью провожал шедшие на супостата через Царское село воинские полки, суждено будет пропустить сквозь свое поэтическое перо современную ему русскую речь. И станет она откупоренной шампанского бутылкой пьянить. И шампанской же легкостью изящного слога «Женитьбы Фигаро» пленять. А между тем он, — незакатное солнце русской поэзии, — в свои начальные лицейские годы русским владел не многим более, чем позднее латынью Евгений Онегин его. Чего ж вам боле?.. Но, тем не менее, Пушкин пал от французской руки. Наш лицейский «француз», для которого сызмальства был французский любимым «коньком», от француза погиб. Как его вещий Олег, что принял смерть от коня своего. Будто из могилы Наполеона. После двенадцатого года. В такую же русскую зиму. Ровно четверть века спустя. Словно в отместку России за поражение, был ее Пушкин сражен. Будто из могилы Наполеона бессмертного Поэта смертельно ужалила змея. Из самой могилы Наполеона, — как вещего Олега из черепа коня. Как будто из могилы Наполеона, которую прежде Пушкин воспел. 30 Вот и автор книги продолжает по-прежнему видеть все хорошее в том человеке, который, к удивлению, с такой слепотой на Учителя своего ушедшего войною пошел: за все, что тот ему дал, чем ему он воздал… Но и в музыку его, и в общение с ним за долгие годы вжилась она так, как прижилась в толстовском романе французская речь. Он ушел без раскаянья. И неприкаянность он оставил в ней по себе навсегда. И она кается. За него. И за всех из «бродячих сюжетов», кто на великомученика самых мучительных лет и ее страны напраслину возводил. Кается она, — авельских кровей человек. Да… Враждебность внешнего мира миру внутреннему. Блокада миром внешним внутреннего мира. Они стары, как мир. Седьмая, блокадная, симфония начата еще до войны. И это противостояние двух миров, озвученное еще до Второй мировой войны, — подавление внутреннего мира отдельного человека всей громадой бесчеловечности мира вокруг него, разражается в симфонии предчувствием гибели мировой. И жизнь выживает только неприятием насилия над собой. Только преодолением блокады изнутри. Только порывами свободолюбия прорывается из блокады, светится дальнейшая жизнь. Просветленное музыкой лицо девочки под черным репродуктором над ее головой. Словно черно-белая клавиатура. Словно взятый временем черно-белый аккорд. Понадобились многие годы, чтобы ее стояние-противостояние в состоянии ее сблизились, как после сонатной разработки обе вначале контрастные темы, и зазвучали бы в главной тональности благодарности ее. Ее сказанье сопоставимо с исполненным долгом друга Горацио, ему внушенным Гамлетом самим. И на книгу свою, — не будь уговоров Шостаковича-сына, она, быть может, и не отважилась бы никогда. Она у него на Пушкарской, — и она у последнего земного приюта его. Может быть, там, тогда, может быть, в ней впервые и шевельнулось слово, дало о себе знать слово, - где уж там и тогда было его осознать? — может, она и не расслышала его, слово в себе, бессловесная там и тогда?.. Слово ее обратного письма, туда, вдаль, за горизонт минувшей жизни земной, слово, нарождавшееся в ней, не расслышанное ею, оглушенной. Не нашедшее в ней отклика на оклик его. Немое безмолвие говорило в ней неумолчно. Но слово в ней произошло. И изошло из-под пера ее позднее. Многие годы спустя. 31 А там и тогда оно шевельнулось в ней теми не сказанными словами, — уже «лишними навсегда». И теми лишними, увы, произнесенными ему словами, что ей не следовало бы и в мыслях допустить… Ими казнилась она. Там и тогда. И казнится теперь. Причем знающие ее немалые годы не усомнятся в том, что речь здесь может идти о какой-нибудь малости, о чепухе какой-то наверняка, чему ДД, скорее всего, и значения не придал, или, во всяком случае, при его-то великодушии, давно ей и простил, и забыл, — а она казнится… Не щадит себя в книге. Как беспощадна к себе в жизни самой. Но тогда, но там она от него устранилась, от набежавшего слова своего. Она оставалась неподвижной: там и тогда. Все в ней остановилось. Установилась тяжесть. Тяжесть от потери всего весомого в жизни для нее. Невесомой оказалась сама жизнь. Что-то, слышанное прежде, занимавшее прежде и чувство, и ум, исподволь, незаметно осевшее в ней наизусть, теперь металось бессвязно, глубоко где-то, — как будто в ней и не в ней как будто, — и на поверхность его выталкивала «не память рабская, но сердце». Ответ ей услышать будет отпущено много спустя. В ответ на бегство от ответа, словно к ней обращенное слово ее догнало. А там, у могилы его, такого значения не придала. Да и после, в дальнейшем, не восприняла это как знак. Окаменела она там. — …И не могла оторвать взгляда от его плотно сомкнутых губ, навеки закрытых глаз… Как жена Лота, — за то, что та оглянулась, — превратилась она в соляной столб. Бывало, он мог говорить ей, что все плохо. Все. А на вопрос, что же делать, не накладывать же на себя руки, — нет, нельзя, — отвечал. (А между тем, после варварского «Сумбура…», сам был близок к тому.) — Но что же делать? - пытала она. — Читать Чехова, - как земский доктор прописывал он. (Быть может, это свое прописное средство он спасительно на себе испытал). Его уход на нотном стане этого мира отозвался и запечатлелся звуком чеховской лопнувшей струны… Там она обнаружила, что черные гладиолусы с утра держит в руках. Возложила ему. Там тогда и заметила, что вокруг никого. Только в сторонке один кто-то еще. 32 Просто увидела. Просто узнала. Просто ушла. Просто признала сыновнее право. Просто оставила наедине сына с могилой отца. Строки ее струн. Струны ее строк. Линии нотного стана ее. Все это станется после. После того, как сойдутся в ней слышанное от Шостаковича-отца и услышанное через множество лет от Шостаковича-сына. Она услышит из уст Шостаковича-сына: — Люблю, когда меня любят, — и это ей напомнит слышанное от Шостаковича-отца: — Люблю, чтобы любили… —Возможно, с этого родственного интонационного и эмоционального созвучия она в уговорах сына написать об отце и прослышит живое послание ей и благословение от ДД самого. —Вот тогда-то, возможно, и воспримет она просьбу сына книгу об отце написать. Как слово Гамлета, ядом изъятого из ядовитой жизни, — словно принцем Гамлетом завещанное Горацио, другу своему. Но все это станется после. Потом. А тогда, у могилы, от голоса позднего пребывала она далеко. На галерке. Вдали от того, что происходило, как будто на сцене. Там, на авансцене. Там, где-то внизу. Как будто не с нею. Как будто не в ней. Не к ней относилось как будто: Дыши тяжелым воздухом земли. Останься в этом мире и поведай Про жизнь мою. Она осталась. Она поведала. Она смогла. Как на паперти, уселась она у ног собственной памяти, протянула к ней молитвенно руку. И память, по своей неописуемой милости, щедро ей подала. Начиная с незабываемого первого впечатления от Пятой симфонии его, когда «услышала внезапные, будто не из приемника — с небес прозвучавшее откровение». И завершила его музыкой земного прощания с ним. Там ей, возможно, представилось, что его музыка отпевает мир. Представилось, что мир преставился. Что мир умер. Что бессмертная музыка над почившим миром парит. Что бессонная музыка над усопшим миром стенает. 33 Так ей могло показаться тогда… …Музыка Пятой симфонии мироточит. Во всех ее четырех частях. От первого звука симфонии до завершающего звучания ее. Первая часть. Низы – предупреждения. Предчувствия струнных. В них слышно, как болит душа. Мается. Места не находит себе. Терзается. Взывает. Вторая часть. Из-за сумрачных первых тактов солнечным лучом вдруг пробивается танцующая скрипка. Она отодвигается, затеняется, — но затмить ее окончательно не получается никак. Напротив, она побуждает, пробуждает оркестровую радость, которую и большим турецким барабаном заодно со всеми ударными, не перебить… Но хватило паузы между частями после Части второй, чтобы вскрикнуть оркестру и разувериться вполне. Третья часть. Мираж ушедшего. Миновавшего. Невозвратного мираж. Как будто что-то движение заглушает и тормозит. Одинокой птицей у разоренного гнезда свиристит. Музыка набирается сил. Бессильных терзаний, которыми пересиливает все. И замирает на низах. Из-под которых струнные льются весенним потоком. С полутонами нежной капели под высокими струнными многоточиями в конце. И все при том, как в фильмах Феллини. Там, где раньше карнавалилась жизнь, одна пустота. Да ветер носит ошметки былого веселья по обезлюдевшим улицам и площадям… Да еще в радиоспектакле Эфроса по «Мартину Идену» музыка Пятой зовом о спасении в висках стучит. 1. Moderato Взрыв. Взлет. Полет. Набор высоты. И — свободное парение. Скрипичный высокий голос, как взгляд сверху: на то, что оставлено там, под крыльями, внизу. И болевая звуковая нить. Тонкая. Утонченная. Между пространствами: покинутым — и обретенным. Скрипичный ветер — пустынный суховей. До вскриков, — на верхах. До стонов, — на низах. И зов снизу. Пронзенный иглами боли. И парафраз мелодии взлета. С набором новой высоты. С услышаньем зова земного. И с входом. Проникновением. Туда. В прежнюю, бывшую, отвергнутую, отторгнутую, извергнутую, но в памяти высеченную наскальным рисунком, мелодию: напоминает она знакомый балетный мотив… 34 Он повторяется, возобновляется внятным просветом через оркестровый туннель. Одиноко журчит, звучит он подобно пастушескому рожку. Нитью строчит на музыкальном полотне. И теряется под наплывом встревоженных струнных, и пропадает совсем. А струнные нарастают. До предела натянутых струн. Но взрыва, неизбежного на слух, не происходит. Разрыва нет: все усмиряется напряжением внутри. С оркестровым отчаяньем. От покинутости. Удаленности. Недосягаемости. И рывком сверху вниз. Птицей. Со сложенными крыльями. Падением. Прямо под командорские фортепьянные низовые аккордные каменные шаги. Под звуковую лавину всего оркестра. Под стенобитные удары ударных. Под взвон медных тарелок. Гибельный. С опустошением после побоища. И похоронным затишьем. С колокольцами поминальных завитков. Они истаивают в пространстве всепоглащающей тишины. 11. Allegretto Удары струнных. Площадной маскарад. Сольный скрипичный проход одинокой неприкаянной маски. Пиццикато мерцающих огней. Разгорается праздник отчуждения. До пламенеющих чудовищ. До огненного взрыва ударных. До пепелища. И соло пикало, которое дымится над ним. И затухает, подавленная оркестровой нетерпимостью. Обрыв. 111. Largo Панихида по свершившемуся. По завершившемуся струнный плач. Прощание. И прощение. Волны необратимости. И необходимости дальше жить. Одиночество под аккомпанемент просветленности. До нарастающей страсти преодоления. 35 Неодолимого. Тягостного. С попыткой воскрешения. Под непосильным звуковым занавесом. Под оглушительной скрипичной звенящей тишиной. Тишину пронизывают, пронзают как будто, позывные: по звуку они сходны с пастушеским рожком, — ему подражают аккордами струнные. Осознание потери. Приступами. До безумия. До исступления. До запредела жизненных сил. До древнегреческого трагизма. И проникновение в глубинное безмолвие. Внутрь. И шаги. Туда. В никуда. IV.Allegro non troppo Взрыв несогласия. Разрушения. Уродство красоты. Гармония дисгармонии. С возвращенным полетом стаи струнных над пропастью покинутого пространства. И флейтовым плачем. Отстраненность и неустранимость. Перезвон времени. Переходящий в ударные. И с напором всеоркестровой шагистики площадной. Повальной. С ударами отторжения. До надрыва. До пределов сердцебиения. До разрыва сердца. И все. Зовом о спасении, азбукой Морзе, позывными SOS в мировой эфир звучит Пятая симфония в радиоспектакле Эфроса по «Мартину Идену» с надрывным Высоцким в главной роли. Но мир безмолвствует. Этот мир после изгнания души-мироносицы из мира сего… + Эта книга — нотный стан ее верности. Нотный стан ее благодарности. Нотный стан ее души. 36 Бадаевские склады ее памяти уцелели под бременем времени, болезней, под прямыми попаданиями невосполнимых утрат. Но все это узнается после. А там и тогда началось ее письмо безмолвия. Письмо молчания его сомкнутым векам и навеки замкнутым его устам. Ее беззвучного крика письмо. Начатое там, где все кончилось. Отправленное туда, где все началось. Радугой нотного стана через всю пролетевшую жизнь летящее письмо. Письмо тишины. По многим воспоминаниям, Шостакович мог попросить заехать к нему издалека близкого человека и предложить вместе с ним помолчать. Автор книги тоже бывала приглашаемой такой. Он садился за стол. Она усаживалась напротив. И после нескольких минут тишины слышались его неизменные по такому поводу слова: — Вот мы и помолчали. Спасибо вам. Как-то легче стало жить… …Теперь проживает она далеко. Но книгой своей приблизилась к нам. И сделала человечески близким его. И как бы с Дмитрием Дмитриевичем в унисон, хочется, по прочтению книги, ей тоже сказать: — Вот мы и помолчали. Спасибо Вам. Как-то легче стало жить… Вместо послесловия. — Библию и литургическую музыку ДД любил. И прекрасно знал. Часто вспоминал библейские легенды и притчи: трагизм и горестность судеб ее героев — Иова, жены Лота, Моисея, человечность и терпимость Христа. Псалмы Давида намеревался воплотить в музыке. Но мне казалось, что Библия для него не Священное писание — Великая Книга Мудрости и Доброты. (Бэтти Шварц. «Шостакович, каким запомнился». Издательство «Композитор • Санкт Петербург», 2006.) Соприкосновения, исполненные оглушительного сердцебиения, отважные, вызванные благородной жертвенной решимостью соприкосновения словом к музыке жизни и к жизни музыки человека, благодарность которому озвучивает всю ее внутреннюю жизнь с той дальней, неудалимой, неутолимой, неотделимой поры. Ее словесные прикосновения к его звуку, который в ней поселился с юных лет. Робкие. Благоговейные. Они и составили главы книги. Каждая из них является завершенной и целостной книгой самой по себе. И, вместе с тем, продлевает книгу целиком. Пять глав книги. Пятикнижие ее. 37 Книга уплывает от нее. Лодка ее исполненного долга. Под парусами ее страниц. Ее ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ. Ему. 129337. Москва. Ярославское шоссе 14, кв.51 Балясный Вениамин Исаевич. Тел.(8-499) 183-23-20. 38