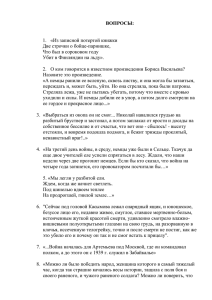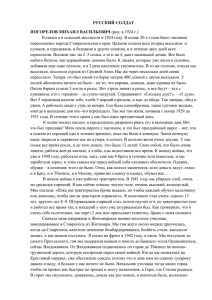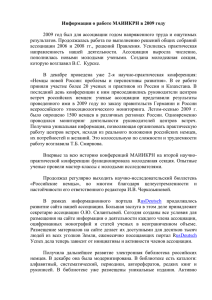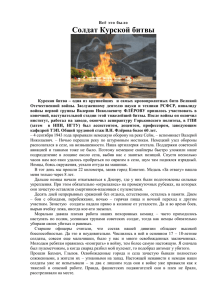Эренбург И.Г. "Война" - Морская библиотека им. адмирала М. П
advertisement
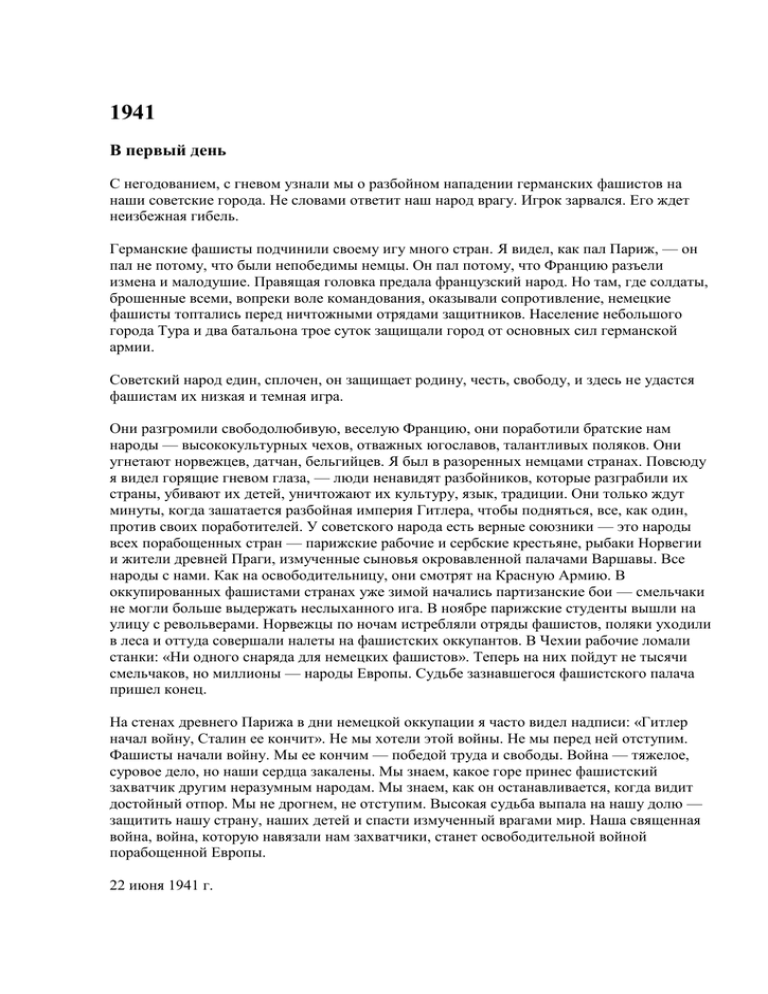
1941 В первый день С негодованием, с гневом узнали мы о разбойном нападении германских фашистов на наши советские города. Не словами ответит наш народ врагу. Игрок зарвался. Его ждет неизбежная гибель. Германские фашисты подчинили своему игу много стран. Я видел, как пал Париж, — он пал не потому, что были непобедимы немцы. Он пал потому, что Францию разъели измена и малодушие. Правящая головка предала французский народ. Но там, где солдаты, брошенные всеми, вопреки воле командования, оказывали сопротивление, немецкие фашисты топтались перед ничтожными отрядами защитников. Население небольшого города Тура и два батальона трое суток защищали город от основных сил германской армии. Советский народ един, сплочен, он защищает родину, честь, свободу, и здесь не удастся фашистам их низкая и темная игра. Они разгромили свободолюбивую, веселую Францию, они поработили братские нам народы — высококультурных чехов, отважных югославов, талантливых поляков. Они угнетают норвежцев, датчан, бельгийцев. Я был в разоренных немцами странах. Повсюду я видел горящие гневом глаза, — люди ненавидят разбойников, которые разграбили их страны, убивают их детей, уничтожают их культуру, язык, традиции. Они только ждут минуты, когда зашатается разбойная империя Гитлера, чтобы подняться, все, как один, против своих поработителей. У советского народа есть верные союзники — это народы всех порабощенных стран — парижские рабочие и сербские крестьяне, рыбаки Норвегии и жители древней Праги, измученные сыновья окровавленной палачами Варшавы. Все народы с нами. Как на освободительницу, они смотрят на Красную Армию. В оккупированных фашистами странах уже зимой начались партизанские бои — смельчаки не могли больше выдержать неслыханного ига. В ноябре парижские студенты вышли на улицу с револьверами. Норвежцы по ночам истребляли отряды фашистов, поляки уходили в леса и оттуда совершали налеты на фашистских оккупантов. В Чехии рабочие ломали станки: «Ни одного снаряда для немецких фашистов». Теперь на них пойдут не тысячи смельчаков, но миллионы — народы Европы. Судьбе зазнавшегося фашистского палача пришел конец. На стенах древнего Парижа в дни немецкой оккупации я часто видел надписи: «Гитлер начал войну, Сталин ее кончит». Не мы хотели этой войны. Не мы перед ней отступим. Фашисты начали войну. Мы ее кончим — победой труда и свободы. Война — тяжелое, суровое дело, но наши сердца закалены. Мы знаем, какое горе принес фашистский захватчик другим неразумным народам. Мы знаем, как он останавливается, когда видит достойный отпор. Мы не дрогнем, не отступим. Высокая судьба выпала на нашу долю — защитить нашу страну, наших детей и спасти измученный врагами мир. Наша священная война, война, которую навязали нам захватчики, станет освободительной войной порабощенной Европы. 22 июня 1941 г. Час настал Великий киноактер Чарли Чаплин в своем последнем фильме изображает Гитлера: диктатор Германии показан злосчастным маньяком, злым сумасшедшим. Недавно в Лондоне демонстрировали эту картину. Фашистский диктатор на экране был смешон. В действительности он смешон и ужасен: этот человек, одержимый манией величия, лишенный простых радостей жизни, решил повернуть историю вспять, он отбросил народ Германии в доисторическую ночь. На нас идет орда современных дикарей. Я помню, как одна немка мне рассказывала: «Моего мужа избили в концлагере Дассау до крови. А мне сказали — принесите белье. Они заботились о гигиене». В Париже они навели «порядок». Транспорт там заменили человеческой тягой — возле вокзалов стоят французы с ручными тележками. Фашистские полицейские выстраивают рикш, как автомашины. При мне один безработный на шаг вышел из ряда. К нему подошел фашист и ударил его револьвером по голове. Француз упал, фашист не моргнул: он был горд своей миссией. Объясните ему, что во Франции была своя культура, что дело не в том, как выстроить рикш, а в том, почему французы под фашистской оккупацией стали рикшами, — он не поймет. Он гордится тем, что он не думает. Его дело — бить по голове. Как только эти дикари ворвались в Париж, они составили «список Отто» — список французских книг, подлежащих уничтожению. В нем были французские и переводные романы, классики, стихи... Они придумали зажигательные бомбы. Я видел работу этих бомб. В Туре они сожгли библиотеку с рукописями Бальзака. Сожгли древний Руан с его музеями и замечательными памятниками старины. Жалкие варвары! Я видел, как они обобрали Францию: пришли туда тощими и жирели у нас на глазах. Когда они входили в Париж, они не радовались — не до этого было — шли и ели, ели, ели. Напечатали фальшивые деньги — «оккупационные» марки, которые не имеют хождения в Германии, раздали их своим солдатам и все «скупили» в две недели. Денщики надрывались — таскали ящики, сундуки, кули всяческого добра, награбленного офицерами. Богатая Франция превратилась в пустыню. Я проехал по Бельгии, по Голландии — то же зрелище — развалины и голодные бездомные люди. Здесь прошли кочевники. Их экономика проста. Они отбирают все молоко. Тогда крестьяне порабощенных стран убивают скот. Они реквизируют все яйца. Крестьяне уничтожают кур. Они забирают весь хлеб. И крестьяне больше не сеют. Они вывезли оборудование заводов и дверные ручки, музейные картины и дамские чулки... Я видел поезда с их «трофеями», они шли из Парижа в Берлин. Они были набиты краденым чужим добром. Фашистские разбойники не только грабят — они мучают, убивают; это злая орда. Они знают, как унизить человека. Великая радость — родной язык, на котором человек впервые услышал слова ласки, язык матери. Фашисты преследуют языки порабощенных народов. Они заменяют старые имена немецкими. В парижских театрах они выпускают немецких актеров. В голландских школах они учат детей по-немецки, голландский язык, по их мнению, — «наречие». Недавно восемьдесят две тысячи чешских учителей отправлены на полевые работы: зачем учить детей низменному чешскому языку? Пусть лучше копают землю — победители любят картошку... Они оскорбляют тупо, по-фашистски — вот тебе мой сапог!.. Французов они называют «негроподобными». В Варшаве они устроили кино, куда доступ полякам запрещен, — видите ли, убийцам не нравится запах поляков!.. Они снесли памятник Адаму Мицкевичу. В одном из норвежских городов они переименовали улицу Нансена в улицу Геринга. Они превратили миллионы людей в рабов. В Голландии введена смертная казнь за отказ работать на немцев. Голландцев и бельгийцев насильно посылают в Германию на каторжные работы. Как арестанты работают два миллиона французов — это «военнопленные». О поляках Геббельс с презрением сказал: «Чересчур плодовитая раса! Если убить сто тысяч, ничего не изменится...» Они убивают методично, аккуратно, изо дня в день. Бельгийцев юношу Лефевра и девушку Гуни — казнить: они прятали подозрительных людей. Вот француз Дюкан — казнить: он слушал английское радио. Вот поляк Стрешевский — казнить: он не уступил дороги господину обер-лейтенанту. Они неистовствуют в Бергене и в Белграде — от моря до моря. В шведской газете напечатана корреспонденция из Гдыни. Это скромный сухой рассказ. Гестапо в Гдыне помещается на Герингштрассе. Фашисты жалуются — они потеряли сон. В гестапо приводят поляков, арестованных лишь за то, что они говорили по-польски. Поляков пытают научно, цивилизованно. И нецивилизованные поляки кричат. А это мешает фашистским чиновникам наслаждаться покоем. На далеком Севере, на Лофотенских островах, фашисты пытали шестьдесят восемь рыбаков — хотели узнать, кто помогал англичанам во время десанта. Я был на Лофотенских островах. Там живут сильные, отважные люди. Они привыкли к шторму, к океану, к смерти. Но никогда прежде они не имели дела с фашистами. Из шестидесяти восьми двадцать девять скончались от какой-то таинственной эпидемии. Миллионы разноплеменных людей, доведенных фашистами до отчаянья, с ненавистью смотрят на палачей. Начинается борьба в фашистском тылу. Еще спокойно на улицах Парижа, но победители насторожились. Они боятся заходить в рабочие кварталы. Они сидят в дорогих кафе и допивают последние бутылки шампанского под охраной часовых. Одиннадцатого ноября парижские студенты выбросили с третьего этажа фашистского офицера, который оскорбил француженку. Это было сигналом. С той поры время от времени офицеры и солдаты германской армии исчезают. В Польше немецкие газеты каждый день пишут о «бандитизме». В Роттердаме немцы избивали дубинками детей, которые несли цветы на могилы жертв прошлогодних бомбардировок. В Моравской Остраве фашисты порезали бритвой лицо девушке — у нее нашли ленту с национальными чешскими цветами. Мне тяжело вспоминать об этих низких делах. Фашисты до сих пор имели дело с беззащитными жертвами. У голландцев, норвежцев, датчан не было армии. Во главе Франции стояли французские фашисты. Они встретили своих единомышленников не бомбами, но цветами. Французский народ предали: ему не дали возможности обороняться, а там, где небольшие отряды оказывали сопротивление, фашисты растерянно останавливались. Так, городок Сомюр на Луаре защищали двести курсантов — против воли командования: и двести подростков сорок восемь часов отбивали атаки германской дивизии. Они, может быть, думали, что советский народ испугается? Может быть, они думали, что застанут нашу страну врасплох, как они застали врасплох Югославию, во главе которой почти до рокового дня стояли фашистские лакеи? Они горды «походом» на Югославию. Они не говорят, что у югославов не было противотанковых пушек, что орудия там тащили волы. Они упоены «взятием Парижа». Они молчали о том, что Париж был им сдан генералом Денцем. Я не забыл того дня, когда услышал на улицах свободолюбивого Парижа топот фашистской орды. Зимними ночами мне мерещился Лондон — его древности и дома терзали бомбы фашистов. Потом, как легендарный витязь Янко, в неравной борьбе, истекал кровью югославский народ. Тяжелые дни... Мы не хотим для себя чужих земель, мы сражаемся за нашу землю, за нашу свободу, и зрелище нашего мужества наполнит надеждой сердца порабощенных Гитлером людей. 25 июня 1941 г. Гитлеровская орда Я видел немецких фашистов в Испании, видел их на улицах Парижа, видел их и в Берлине. Они разговорчивы. В Париже они жаждут душевного общения — им скучно: никто с ними не хочет разговаривать. Они охотно обнажают перед миром свою несложную, но «оригинальную» душу. Они горды своей «культурой». Об Испании они говорили: «Дикая страна». В Париже они негодовали: «Какой грязный город — разве что для негров!» Испанцы первые узнали, что такое фашистская культура. Потом с этим ознакомились чехи, поляки, французы, норвежцы и десяток других народов. Потом началось мирное разрушение. Крестьянам объявляли: «Уходите! Мы устраиваем маневры...» И деревню сжигали. С заводов вывозили оборудование. Вырубали прославленные плодовые сады Франции. Людей арестовывали и расстреливали. Книги сжигали. Они пришли в Париж, как корректные туристы: им приказали вести себя прилично. Но неделю спустя прорвалась звериная сущность фашизма. Самым безобидным занятием был грабеж. Конечно, фашисты грабят организованно — они напечатали в огромном количестве «оккупационные марки» — эти деньги не имеют хождения в Германии, это — фальшивые деньги, но печатают их не частные фальшивомонетчики, а гитлеровское правительство. Приказали открыть все склады, все магазины. Послали расторопных денщиков, грузовики. Вот несколько сцен — действие происходит в Париже. Ресторан. Заходит немецкий офицер. Первый... Девушка-подавальщица надевает пальто: «Не хочу ему подавать!» Он вежливо улыбается. Он читал романтиков и любит красивые жесты. Он только что-то шепчет своему спутнику: штатскому в новеньком парижском костюме. И девушку арестовывают. Они расстреливали беженцев на дорогах. Вокруг Парижа стоял трупный смрад — от убитых стариков, женщин, детей. Они расклеили в городе плакат. Он изображал немецкого солдата, защищающего женщину с детьми. На руках у солдата — грудной ребенок. (Эти звери никогда не забывают посюсюкать!) На плакате было написано: «Вот покровитель французского населения», а ниже: «За повреждение плакатов — смертная казнь». Они методично унижали французов. Когда в Компьене был поставлен трагический фарс и французским капитулянтам продиктовали позорнейшие условия перемирия, парижское радио передало: «Гитлер проявил свое великодушие. В палатке, предоставленной французским парламентерам, были графин с водой и стаканы». Да, эти «рыцари», засунув в карман Францию, великодушно дали французским генералам глоток французской воды!.. Потом пошли приказы — за что полагается расстрел. За многое... Один слушал английскую радиопередачу, другой сказал, что англичане бомбили Кельн, третий накормил племянника, который пробирался в Лион, четвертый «не проявил уважения к германскому флагу», пятый... Нет места перечислять: они убивают, потому что они должны убивать — в этом их сущность. Особенно отличаются офицеры. У них породистые физиономии дегенератов. По фашистской теории это — образцы хорошей германской породы. Ведь фашисты подходят к человеку как к племенному быку или к породистому кобелю... С солдатами офицеры высокомерны, даже грубы. Я видел, как офицер выкидывал солдат из вагонов: в воздухе висела ругань. Офицеры после воинских трудов развлекаются: покупают дамские чулки для милых невест и ночи проводят в домах терпимости. В Париже первым делом они облюбовали полсотни таких домов и написали на дверях: «Только для господ военных». Сорокалетние солдаты стараются быть мягче с населением: они помнят прошлую войну. Тогда тоже победа была за победой. А кончилось все разгромом и голодом. Они не забыли об этом. Когда я их спрашивал: «Что будет дальше?», они только вздыхали. Молодые солдаты выдрессированы фашистами: их с раннего возраста отучали думать. Они повторяют фразы лейтенантов и фельдфебелей. Однако иногда в их головы проскальзывают первые смутные мысли. Тогда они морщат лоб, как трехлетний ребенок. Я заметил, что процесс мышления просыпается в них от хорошего шума — те, что побывали во фландрской битве, уже проявляли некоторую способность думать, говорили: «Еле спаслись. Это был ад. Ужасная вещь война! Наши танки давили наших раненых — торопились... Сколько трупов сожгли!..» Для фашистского солдата это было уже сложной философской системой... Что говорят другие, еще девственно невинные? «Мы должны организовать весь мир. Англичане не хотят, чтобы мы их организовали. Но мы их заставим... (Здесь солдат иногда добавляет: «Я надеюсь, что мой полк туда не пошлют...») Потом мы должны организовать Россию. Это очень большая страна. Страшно подумать, какая большая». (Здесь солдат про себя мечтает — может быть, меня туда не пошлют?) Они привыкли к легким победам. В Голландию, даже в Париж они отправились, как на базар — добра много и добро плохо лежит... Я слышал, как они кричали: «Через месяц мы будем в Лондоне». Англичане ответили: «Мы вас ждем. И рыбы в море вас тоже ждут». Здесь фашисты вдруг начали бормотать, что им не к спеху в Лондон, могут подождать — и они, и англичане, и особенно рыбы. Наиболее способные думать говорили: «Побед много, а результатов нет...» Они вытоптали захваченные страны. Снова перешли на голодный паек. Когда я был в Берлине, одна бедная женщина увидела у моей жены кусочек сыра. Она нервно спросила: «Откуда это у вас?» Жена ответила: «Из Франции». И немка вполне искренно воскликнула: «Счастливые французы!..» Да, она позавидовала побежденным французам: ее мучил голод и она не знала, как заменить кусок хлеба десятком побед. И вот предводитель дикой орды заявил: «Есть еще одна неразграбленная страна, и какая!..» Правда, для дипломатов он придумал другое объяснение — нельзя же всем сказать — «мы решили пограбить». И орда двинулась. Бесспорно, у многих фашистов ноет сейчас под ложечкой. Я уж не говорю о сорокалетних: эти-то помнят, как кончаются украинские авантюры... Но и среди молодых есть люди поскромнее, те самые, что вздыхали: «Очень большая страна...» Пространство их несколько смущает. Правда, фашистские генералы говорят, что в наш век пространство не имеет значения, но солдаты предпочитали бы пойти походом на государство поменьше, скажем на Швейцарию или на Португалию... Я, конечно, не преувеличиваю силы этих сомнений. Как я уже сказал, фашисты не умеют думать до первого удара. Они начинают слушать чужие радиопередачи только после того, как они ознакомились с голосами снарядов. Они пошли на нас, привыкшие к безнаказанным набегам. Им сказали, что они идут в баснословную страну — там на каждом дереве растут французские булки. Они уже глотали слюнки... Их ожидает разочарование. Конечно, тучны наши поля и сады. Но не для врага вызревают плоды, не для врага колосятся нивы. Для врага у нас не булки, а бомбы, враги живыми назад не уйдут. 26 июня 1941 г. Париж под сапогом фашистов В эти суровые дни я вспоминаю прекрасный, свободолюбивый Париж. Его предали сообщники немецких фашистов. Военный губернатор, генерал Денц не только объявил Париж «открытым городом», он приказал стрелять по всем, кто вздумает защищать столицу. Население покинуло Париж. Старики уходили пешком, говоря: «Мы не хотим жить под ними...» Немецкие фашисты вошли в пустой город. Они удивленно спрашивали: «Правда, что это Париж?..» На параде, который они устроили, присутствовало сорок — пятьдесят проституток. Их засняли кинооператоры и потом показывали как «население Парижа». Застряли в городе несколько сот тысяч несчастных людей: больные, инвалиды, женщины с детьми. Они сидели в домах с закрытыми ставнями. Я глядел, как фашисты шагали по пустынным улицам. На одном углу стояла мать с маленьким ребенком. Она закрыла мальчику глаза и сказала мне: «Только чтобы он не видел...» Старушка выглянула из ворот; германский офицер хотел ее сфотографировать: она закрылась и крикнула: «Лучше убей!..» Неделю спустя немцы стали пригонять беженцев с дорог. Они вернули четверть населения. Люди возвращались в родной город, как в тюрьму. Улицы по-прежнему были пусты. Париж узнал, что такое сапог германских фашистов. Ресторан. Заходит немецкий офицер. Молоденькая подавальщица снимает фартук, говорит: «Я ему не буду подавать» — и уходит. Метро. Контролер пробивает билеты. Подходят фашисты, они, конечно, не утруждают себя покупкой билетов. Контролер уходит: «Не хочу работать на них!..» Интервенты напечатали «оккупационные марки», роздали эти фальшивые деньги своим офицерам и солдатам, начали «покупать». При мне один офицер забрал девятьсот пар дамских чулок. Денщики выносили ящики, кульки. Когда я уезжал из Парижа, я увидел багажные вагоны воинского поезда на Берлин. Они были набиты награбленным добром. Фашисты все забирали — от яиц до дверных ручек, от мыла до музейных картин. А магазины, которые были заперты, они попросту взломали. Маленькая гастрономическая лавочка. Приходит фельдфебель, кричит: «Где кофе?..» Хозяйка отвечает: «Кофе больше нет». Я перевожу. Немец негодует: «Позавчера было. Куда спрятали?» Я перевожу: «Кофе теперь в Германии. Пускай господин фельдфебель съездит за кофе в Берлин». И хозяйка говорит мне: «Арестуют? Убьют? Что же, под ними нам не жить...» Немецким фашистам выдавали в день двести пятьдесят граммов награбленного масла. Население было обречено на голод: оно получало в день пятьдесят граммов хлеба, сто сорок граммов мяса в неделю. Германские офицеры в ресторанах пожирали по курице на человека, яичницу из десяти яиц и, усмехаясь, смотрели на голодных парижан, которые стояли в очередях, надеясь получить восьмушку хлеба. Фашисты унижали гордый город. Они маршировали по площади Конкорд, по прекрасной площади, о которой Маяковский написал: «Эта площадь оправдала б каждый город», и пели: «Французы — дикие свиньи. А мы их заколем! А мы их заколем! Мы умеем коптить окорока...» Они показывали во всех кино фильмы: бомбардировка Парижа, парад на Елисейских полях, расстрел беженцев на дорогах, с надписями: «Вот судьба чересчур горделивой Франции!» Они сносили памятники французским полководцам. Они повсюду повесили свои флаги с отвратительным пауком — свастикой. На центральной улице Рояль поместился фашистский штаб. Парижане должны были сходить с тротуара, проходя мимо. Фашистская полиция — гестапо каждый день хватала людей. Арестовали и гордость мировой науки профессора Ланжевена и тысячи рабочих. За уничтожение немецких плакатов смельчакам был обещан расстрел. Фашисты наняли помощников — ренегата Дорио, Лаваля, которого всегда можно было купить оптом и в розницу, и еще сотню предателей. Никто больше с захватчиками не общался. Разве что проститутки... Оккупанты живут в пустыне. Когда они заходят в кафе, французы уходят. Когда раздаются звуки сирены, возвещающей воздушную тревогу, французы демонстративно аплодируют: приветствуют бомбардировщики, которые прилетели бомбить германских фашистов. Оккупанты провезли по улицам Парижа пленных англичан-летчиков с надписью: «Вот люди, которые уничтожают французские города». Население Парижа устроило пленным овацию. Люди говорят: «Все, кто против Гитлера, — за нас...» В ноябре на Елисейских полях студенты устроили антифашистскую демонстрацию. Многие были убиты. Восемнадцать студентов фашисты расстреляли. Но студенты не угомонились. Пришлось закрыть все школы, а сотни студентов были отправлены в концентрационные лагеря, где палачи с восьмилетним стажем пытают заключенных. Парижане, доведенные до отчаяния тупостью и жестокостью немецких фашистов, идут на все. Так, например, из кафе «Даркур» выкинули с третьего этажа германского офицера, который оскорбил француженку. Недавно на узенькой улочке в квартале Сен-Поль ночью подстрелили двух оккупантов. В Сене возле Сен-Клу выудили труп немецкого полковника. Оккупанты хотели заставить французских рабочих работать на себя. На заводах Ситроена, Рено, «Гном» они решили ремонтировать самолеты и танки. Что же, парижские рабочие поработали! Отремонтированные самолеты недалеко улетели. Танки застряли под самым Парижем. Искали, кто подстроил, и не нашли. Рабочие были единодушны. Тогда германские фашисты стали насильно отправлять парижских рабочих в Германию — на каторжные работы. Французские патриоты передали по радиостанции, не подчиненной немецкому контролю: «Пишите на всех стенах города букву V — первую букву слова Victoire (победа)». Патриоты хотели проверить, много ли парижан слушают их тайные радиопередачи. И три часа спустя все стены были покрыты буквой V — ее писали мелом, углем, краской. Она глядела на оккупантов отовсюду. Даже дети, парижские «гамены» — озорники и насмешники — поют в лицо фашистским офицерам: «Ты врешь, ты врешь, ты скоро отсюда уйдешь» — на мотив старого сентиментального романса. Французский народ был жестоко наказан за свою беспечность, за привязанность к легкой жизни, за то, что он позволил фашистской «пятой колонне» занять командные посты. Теперь французский народ закалился. Он готов кинуться на захватчиков. Я знаю отвагу французского народа — я видел Марну и Верден. Я понимаю, почему пугливо озираются по сторонам немецкие фашисты в мнимо спокойном Париже. Мальчишка поет: «Ты скоро отсюда уйдешь...» Конечно, им придется не уйти — убежать из Франции. Но не все убегут... Я видел фашистских убийц там — в Париже. Я их хорошо знаю... И вот в короткую июньскую ночь они налетели на наши города. Кровь пролилась на улицы моей родины, древнего Киева. Кто затеял эту войну? Честолюбивый и жестокий маньяк с мутными блуждающими глазами. Он мечется по Европе, ищет спасения, среди всех побед он чует неминуемую гибель. И этот изверг пошел на нас. Уходят на фронт наши сыновья. У женщин сухие глаза. Ни криков, ни слез. Весь мир знает — мы не хотели этой войны; мы строили дома, прокладывали дороги, выращивали сады. Войну нам навязали. Страшен гнев миролюбивого народа. Мы воспитаны не под стеклянным колпаком, не в инкубаторах, мы привыкли к трудностям. Мы знаем, что эта война будет трудной, не на жизнь — на смерть. Но мы знаем также, что мы не уступим. Враги ищут на нашей земле легкой поживы, они найдут смерть. Один фашистский профессор написал «ученый труд»: «Сколько немецких колонистов можно поселить на русской земле». Они увидят, сколько трупов немецких фашистов может принять советская земля. 26 июня 1941 г. 3 июля 1941 года Стоят невыносимо жаркие дни. Люди одеты по-летнему, и Москва кажется большой дачей. Днем можно забыть о войне. На Пушкинской площади, как всегда, продают цветы. Напротив Кремля есть кафе с террасой: красноармейцы, девушки, служащие в майках с портфелями едят мороженое. У домашних хозяек много новых забот: затемняют дома, оклеивают оконные стекла матерчатыми полосками. Повсюду занятия противовоздушной обороны. Почтенные мамы учатся тушить зажигательные бомбы, которые молоденькие инструкторы сокращенно и презрительно называют «забами». Вечером в переулках все сидят или стоят возле домов: обсуждают различные слухи. А слухов много: дурных и хороших. Один рассказывает, что Красная Армия подошла к Варшаве, другой, что немцы возле Москвы. Многие москвичи просыпаются с петухами: хотят поскорее услышать военную сводку, ее передают в шесть часов утра. В школах — на призывных пунктах — молчаливые, серьезные люди. Вокруг школ — женщины: матери, жены; на войну уходят без бравады и без страха. Поражает ранняя суровость на молодых, еще не затвердевших лицах. Отдельные командиры, приезжающие на несколько часов с фронта, рассказывают о драме пограничных гарнизонов. Немцы напали исподтишка. Была ночь на воскресенье. В клубах танцевали. Наши части оказывают ожесточенное сопротивление, но немцы продвигаются вперед. Все дороги загромождены беженцами. Еще не обстрелянные бойцы с тоской говорят о немецких танках. Возле редакции «Известий» — большая карта театра военных действий. Стоят люди, смотрят и молчат. Где сейчас немцы?.. В сводке сказано: «превосходящие силы противника»... Москва еще не понимает опасности. Здесь все смешалось: и уверенность в победе, и беспечность, сила и слабость. Телефонный звонок разбудил меня в 4 часа утра: вызвала редакция — «слушайте радио». Я догадался, кто будет говорить. Речь Сталина потрясла всех. Она была глубоко человечной. Каждый почувствовал, что Сталин обращается именно к нему, с первой же фразы: «К вам обращаюсь я, друзья мои!» Сталин сказал об опасности: нужны большие жертвы и большое мужество. Спесивые хвастуны из гитлеровской банды Утром 3 июля вся советская страна услыхала слова главы правительства. Мужественно они прозвучали среди тишины раннего часа. В них была суровая правда о вероломном нападении врага, о захваченных им землях, о ранах, которые он нанес нашим городам. В них была и глубокая, непоколебимая уверенность в победе... Гитлер хвастливо трубит о непобедимости своей армии. Фашистская Германия, называющая себя «Третьим рейхом», немало заимствовала у Рейха Гогенцоллернов. Идея завоевания Европы мерещилась в свое время и кайзеру Вильгельму. План молниеносной войны задолго до Гитлера разработали генералы Вильгельма. Война 1914–1918 годов была первой попыткой Германии достичь мирового господства. Та война началась с ошеломляющих успехов немцев на Западном фронте. «Мы непобедимы», — повторяли немецкие командиры, приближаясь к Парижу. Французская армия, потерпев поражение у Шарлеруа, в беспорядке отступала к столице. Я видел это отступление — артиллеристы кидали орудия, садились на коней. Правительство переехало в Бордо. Однако патриотизм французского народа, находчивость некоторых командиров и хорошая полевая артиллерия нанесли первый удар мифу о непобедимости германской армии. На Марне немцы были разбиты и откатились к Эне. Я видел Верден — сотни тысяч людей положили немецкие генералы, чтобы завладеть этим сметенным с лица земли городом: они хотели спасти миф о непобедимости. Они его не спасли. У Германии тогда тоже были десятки побед: ее солдаты стояли в Лилле и в Нише, в Остенде и в Риге. Все помнят, как кончилась эта генеральная репетиция. Бросая пожитки, удирали немцы с Украины. Союзники заставили немецкое командование капитулировать. Не помогли «чудеса техники» той эпохи — колоссальные пушки «Берты», громившие Париж, и «цеппелины». Гитлер дает своим солдатам не только немецкую сивуху «шнапс», он одурманивает их мифом о непобедимости германской армии. На первый взгляд победы Гитлера могут показаться внушительными. Он завоевал и норвежских рыбаков, и греческих виноделов. Однако, если присмотреться к этим победам, они покажутся скорее театральными эффектами, нежели торжеством оружия. Можно ли всерьез говорить о сопротивлении Норвегии или Голландии, у которых не было армий? Югославия не готовилась к обороне. Во главе ее стояли приказчики Гитлера. Немцы распоряжались там, как у себя дома. Новое правительство не успело ничего сделать; не успело даже провести мобилизацию. Во Франции один немецкий офицер, горделиво ухмыляясь, спросил меня: «Как вам нравится наш поход на Париж?» Я не знал, что ему ответить: захват Франции вряд ли может быть назван военным походом. Французские фашисты, те самые, что теперь в Виши пресмыкаются перед Гитлером, выдали армию и страну. Однако там, где отдельные части французской армии оказывали сопротивление, «непобедимая» немецкая армия останавливалась. Французское верховное командование делало все, чтобы сорвать оборону страны. Четвертую танковую дивизию генерала де Голля, которая оттеснила немцев у Лана, отказались перебросить к Амьену, где шла решительная битва. Генерал Корап предал девятую армию и открыл ворота страны перед немцами. Генерал Денц приказал стрелять по всем, кто вздумает защищать Париж. И все же бои вокруг Арраса, защита Сомюра и Тура, защита дотов в Лотарингии показывают, что немецкая армия легко переходит от опьянения своими успехами к отчаянию, как только натыкается на отпор. Наиболее яркую картину такого спада, уныния мы видели в истории «похода на Англию». Гитлер обещал своим солдатам быть в Лондоне 15 августа 1940 года. Это торжество неоднократно откладывалось. Оно не состоялось и до наших дней. Вначале немцы говорили: «Что нам стоит взять маленький островок? Лондон не устоит перед парашютными десантами. Англичане сами поймут, что мы непобедимы». Такие разговоры я слышал прошлым летом. Виноград оказался зелен. Тогда Гитлер, озлобившись, стал бомбардировать Лондон и другие города Англии. Он попытался устрашить англичан и не сумел. Миф о непобедимости стал многим немцам казаться только мифом... Бесспорно немецкая армия — сильная современная армия, с большим количеством мотомеханизированных частей, с точной организацией транспорта и связи. Однако это армия государства, построенного на обмане, и только. Ее сила — моторы и тот миф о непобедимости, который Гитлер подносит вместо шнапса своим солдатам. Стоит нанести этой армии удар, стоит остановить ее, как солдаты протрезвятся, расстанутся с мифом и сила армии тотчас понизится. Гитлер, как азартный игрок, потерял голову, он сейчас все поставил на карту. 19 сентября 1939 года маршал Геринг заявил, что победа Германии обеспечена, так как благодаря уму Гитлера, ей не придется сражаться на двух фронтах. Теперь Германия благодаря «уму Гитлера» получила два фронта: восточный и западный. Расчет Гитлера ясен: взять с нахрапу — это ставка на молниеносную победу. Но первые описания боев, которые дошли до нас, говорят о том, что на советской земле будет навеки похоронен миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Немецкое радио, рассказывая об упорном сопротивлении Красной Армии, добавляет: «Русские солдаты проявляют необычайный фанатизм». В этих словах сказывается начало отрезвления: они, видимо, рассчитывали на прогулку. А «фанатизмом» они называют любовь советских людей к родине, сознательность наших рабочих и крестьян, исконное мужество, храбрость и отвагу русского солдата. Достаточно напомнить о судьбе 39-го танкового корпуса. Им командовал любимец Гитлера генерал Рудольф Шмидт. Этот генерал прославился в Польше и во Фландрии. Одно его имя успокаивало гитлеровских солдат — генерал считался непобедимым. Что же, 39-й корпус был уничтожен бойцами Красной Армии, и генерал Рудольф Шмидт увидал перед смертью не победу, но поражение. Немецкая газета «Локаль анцейгер», подбадривая своих солдат, пишет: «Теперь не времена Наполеона — у нас моторы...» Действительно, Наполеон вез своих солдат на возах, а моторизованные части гитлеровской армии продвигаются в автомобилях. Но это — путь на восток... На запад солдаты Наполеона убегали пешком, да и немногие из них убежали. Задумались ли над этим гитлеровцы, сидя в автомобилях?.. Все знают, что моторы играют огромную роль в современной войне. Есть моторы и у Красной Армии. Но решают дело люди. Надо ли указывать на превосходство наших людей? Каждый красноармеец знает, за что он сражается. Он знает, что это — бой не на жизнь, а на смерть. Захватчики идут на нас, опьяненные мифом о своей непобедимости. Протрезвление будет страшным. Каждая пядь удержанной советской земли, каждый подбитый танк, каждый уничтоженный самолет, каждый убитый гитлеровец приближают неизбежный час — их протрезвления и нашей победы. 4 июля 1941 г. Бешеные волки В далекие идиллические времена Адольф Гитлер увлекался невинным делом — живописью. Таланта у Гитлера не оказалось, и его забраковали как художника. Гитлер, возмущенный, воскликнул: «Вы увидите, что я стану знаменитым!» Он оправдал свои слова. Вряд ли можно найти в истории нового времени более знаменитого преступника. В крохотной рыбацкой деревушке норвежка, оплакивая сына, расстрелянного немецкими фашистами, повторяет: «Гитлер», и на другом краю Европы серб, деревню которого сожгли немцы, с ненавистью говорит: «Пес Гитлер!..» На совести этого неудачливого живописца миллионы человеческих жизней. Человек среднего роста, с усиками, с мутными глазами, никогда не глядящими на собеседника. У него хриплый неприятный голос, в своих речах он переходит на лай. Говорит он истерически, потрясает кулаками, входя в раж, выплевывает скороговоркой длинные заклинания. Это шаман, но шаман особого типа — хитрый и расчетливый. Толпе кажется, что он в экстазе, но он, брызгая слюной, что-то прикидывает. Когда он беседует с Круппом или с заправилой «Стального треста» господином Фогелем, не кричит и не плюется — он привык почтительно разговаривать с королями Рура. Его страсть — ложь. Он лжет ежечасно, лжет дипломатам и своим сподручным, лжет, когда пишет и когда говорит, — он не может не лгать. Он жал руки французским министрам и вслед за этим говорил: «Франция — вот мой смертельный враг!» Он кричал на митинге: «Для меня священны идеалы немецкого рабочего» и тотчас шептал Штрассеру: «Рабочие не хотят ничего, кроме хлеба и зрелищ, — у этих людей нет идеалов». Хлеба рабочим он не дал: перевел всех на паечную восьмушку. Зато он щедр на зрелища: разрушенная Европа. Он начал свою политическую карьеру скромно: был шпиком на рабочих митингах. Он кончает ее, как Нерон, который поджег Рим и воскликнул: «Великий артист погибает!..» Он мстителен и злобен. Он убил своих лучших друзей во главе с Ремом. Он приказал пытать журналистов, которые когда-то непочтительно о нем отзывались. Это дурной комедиант. Он построил себе дворец на горе. Закоренелый убийца, он вегетарианец: его оскорбляют страдания ягнят и волов. При нем нельзя курить, и этот человек, который провел десять лет в накуренных пивнушках, не смущаясь, говорит: «Никто никогда не курил в моем присутствии». Он любит сниматься с детьми и собаками — хочет показать, что у него «нежная» душа. Гиммлер ежедневно представляет ему доклады о пытках, о казнях. Он написал: «Нет выше наслаждения, чем подвести поверженного соперника под нож». Он ненавидит Россию и русский народ. Он заявил: «Народ, который считает Толстого великим писателем, не может претендовать на самостоятельное существование». С начала войны он лишился сна. Его глаза стали еще мутнее. Шведский журналист, который был к нему недавно допущен, пишет: «Гитлер производит впечатление человека, потерявшего душевное равновесие». Швеция — нейтральная страна, и журналист выражался корректно. Гитлер производит впечатление буйно помешанного. В первую зиму войны он выступил в мюнхенской пивной с очередной кликушеской речью. Полчаса спустя в пивной взорвалась адская машина. Судьба не захотела, чтобы он погиб столь легкой смертью. Он снялся в Париже на фоне Эйфелевой башни. Он приехал в пустой город тайком, как вор. Его охраняли пулеметы — от пустых улиц, от парижских камней. Теперь он больше не уснет — ему не помогут никакие снотворные. Он мечется по своему дворцу: он видит танки, подбитые на дорогах Полесья. Он видит близкую расплату. Сподвижник Гитлера маршал Герман Геринг спесив, как индюк. Он обожает титулы и ордена. Еще больше он обожает деньги. Он стоит во главе металлургического треста «Герман Геринг» — он наживается на каждой пушке, на каждом снаряде. У Геринга в бразильском банке текущий счет, и на этом счету миллион двести пятьдесят тысяч долларов — маршал отложил доллары на черный день, когда Гитлера и его шайку выгонят из Германии. Вполне естественно, что этот человек провозгласил: «Лучше пушки, чем масло» — он считал дивиденды. Он чрезвычайно тучен. На одном из собраний, перед отощавшими берлинцами, которые давно забыли, что такое масло, Геринг, хлопнув себя по огромному животу, воскликнул: «Видите, и я похудел, я отдал несколько кило дорогому отечеству!» Геринг один из крупнейших капиталистов Германии. Теперь он прикарманил бельгийские и французские заводы. Война для него выгодное дело. Это не мешает ему говорить: «Мы сражаемся против плутократии». Он кровожаден, как его хозяин. Он публично заявил: «Мое дело не наводить справедливость, а уничтожать людей». Он любит парадные казни. Он обдумал ритуал: палач должен быть в черном сюртуке, в черных перчатках, в цилиндре. Палач отрубает голову топором — как в средние века. А Геринг смотрит и улыбается. У него в Берлине шесть квартир. В одной из них, скромной, — тридцать две комнаты. Он любит «мокрые» дела. Он поджег рейхстаг и обвинил в поджоге коммунистов. Он вывез из Парижа античные статуи — себе в ванную комнату. Он как-то сказал: «Мне все равно, куда стрелять, лишь бы выстрелить...» До прихода к власти Гитлера берлинский суд отобрал у Геринга ребенка, ввиду того, что отец был признан морфинистом и невменяемым. Честные немецкие судьи не хотели доверить этому спесивому убийце одного ребенка. Гитлер доверил ему сто миллионов покоренных людей. Геринг сентиментален. Он запретил вивисекцию — опыты над животными — и заявил, что виновные в нарушении этого приказа будут посажены в концлагеря. Как смеют ученые терзать морскую свинку? Всыпать им сто горячих! Доктор Геббельс с виду похож на отвратительную обезьяну: крохотного роста, гримасничает, кривляется. В отличие от маршала, Геббельс вложил свои сбережения в аргентинский банк. Там у него припасено свыше миллиона долларов. Говорят, что обезьяны легкомысленны, но доктор Геббельс думает о своем будущем. Гитлер начал с картинок, Геббельс с романов. Увы, и ему не повезло. Его романы никто не покупал. Геббельс потом разъяснил: «Это были козни марксистов...» В своем главном романе Геббельс поносил русских. Породистый немец Михель говорит русскому с несколько вычурной фамилией Венуревский: «Вас надо покорить, истребить!..» Вряд ли доктор Геббельс теперь отправился «истреблять» русских: это отъявленный трус, который, даже когда нет тревоги, забирается в бомбоубежище. Гитлер поручил доктору Геббельсу высококультурное дело — народное просвещение. Выбор был сделан не случайно — ведь Геббельс заявил: «Когда при мне заговаривают об интеллекте, мне хочется выхватить револьвер». Приступив к работе, Геббельс сжег на кострах двадцать миллионов книг — он мстил читателям, которые предпочитали какогото Гейне Геббельсу. Он говорил: «Меня тошнит от печатного слова». Это не вполне точно — свои печатные и непечатные слова он обожает. Он выгнал из Германии всех писателей. Зато, когда гитлеровцы вошли в Париж, в газете на французском языке, которую они начали издавать, было напечатано: «Величайшим благом для французской культуры будет ознакомление с трудами Геббельса». У шайки есть свой философ — балтийский немец дворянин Альфред Розенберг. Он закончил образование в Москве в 1918 году. Да, в голодный год этот остзейский проходимец ел русский хлеб. Потом он набил себе руку на поношении русского народа. Он писал: «Обуздаем народ, отравленный Толстыми!» Он торговал Советской Украиной, как будто она лежит у него в кармане. Он написал большой философский опус «Миф двадцатого века» — компиляцию из брошюр русских черносотенцев. Он приютил банды белогвардейцев — он мечтает стать Бироном или Минихом. Приехав в захваченный гитлеровцами Париж, Розенберг потребовал, чтобы ему устроили доклад в здании, где прежде помещался французский парламент: он хотел унизить французский народ. В своей речи он сказал, что идеи французских просветителей «нужно выбросить в мусорный ящик». Он «выкидывал» идеи, а сам объезжал парижские магазины и «закупал» различные сувениры. До войны он состоял во главе особого ведомства, которое занималось шпионажем и диверсиями. Он требовал «освобождения немцев, которые томятся под игом чехов и французов». Однако особенно его привлекала Украина: он хотел обязательно освободить Украину от украинцев. Теперь он главный советчик Гитлера: ведь герр Розенберг говорит по-русски, и он выпил на брудершафт со всеми царями, претендующими на российский престол. Генрих Гиммлер не интересуется философией; это практик — он стоит во главе тайной полиции гестапо. Его занимают слежка, концлагеря, пытки и казни. В самой Германии он посадил под замок миллион антифашистов. Потом он приступил к другим странам. Он организовал гестапо в Париже, в Осло, в Белграде. Он стал пытать людей в европейском масштабе. Это садист в очках, тщедушный и отвратительный. Он был «чрезвычайным комиссаром» в Польше: убивал поляков, пытал польских патриотов, жег деревни, порол стариков, выдавал солдатчине девушек. Он гордо сказал: «Крамола и я несовместимы» — эти палачи любят исторические фразы. Впрочем, как и другие представители гитлеровской шайки, Гиммлер отнюдь не верит в победу Германии. Он спешно перевел свыше двух миллионов долларов в Аргентину. Теперь этот палач с восьмилетним стажем сидит в немецком обозе и ждет — ему мерещатся виселицы, плаха, застенки. Может быть, в минуты просветления он утешает себя — как-никак его доллары — далеко — в БуэносАйресе... Фон Риббентроп — дипломат. Его выпускают для разговоров с приличными людьми — ведь у фон Риббентропа приличные манеры. Прежде он был представителем крупной торговой фирмы — продавал шампанское. Он привык расхваливать любой товар. Он расхваливал когда-то поддельное немецкое шампанское. Теперь он расхваливает «миролюбие и гуманизм» своей шайки. Когда фон Риббентроп был в Лондоне, англичане, как спортсмены, держали пари — кто дольше высидит в комнате, где находится фон Риббентроп. Когда за год до войны фон Риббентроп приехал в Париж, полиция очистила все улицы — правительство боялось, что физиономия фон Риббентропа выведет из себя парижан. Сиятельный коммивояжер, увидев идеально пустой Париж, не смутился, он даже сказал: «На этот раз Париж мне особенно понравился...» Полтора года спустя он снова приехал в Париж и снова увидел пустой город: теперь не пришлось очищать улицы — в столице не осталось населения, люди ушли, чтобы не жить под ярмом гитлеровской банды. Зрелище пустых улиц не огорчило фон Риббентропа. Он поехал обедать — его ждали полные бутылки с настоящим французским шампанским. Вот главные представители той шайки, которая правит Германией и которая теперь, с помощью шантажа, хитрости и наглости, захватила десяток чужих государств. Говоря о Гитлере и о гитлеровцах, будущий историк должен будет заглянуть в учебник зоологии, — это звери. В их руках покоренный или обманутый ими немецкий народ. В их руках немецкая техника — самолеты и танки. С ними незачем спорить, их надо уничтожить, как свору бешеных волков. Они вышли из своего леса, кинулись на наши города. Волков надо истребить. Их не спасут ни танки, ни сейфы в Рио-де-Жанейро... 6 июля 1941 г. Людоед Почему плачут вдовы в Норвегии и в Греции? Почему сожжен Руан, уничтожен Белград, разрушен Роттердам? В молодости некто Адольф Гитлер увлекался живописью, он мечтал стать Рафаэлем. Он был бездарен; его забраковали. Возмущенный, он воскликнул: «Вы еще увидите, что я стану знаменитым!» Он оправдал свои слова: все картины разрушения Европы подписаны его окаянным именем. Немецкие фашисты, чтобы оправдать захват чужого добра, придумали «расовую теорию». Согласно этой теории германская раса отличается особой формой черепа и благородными чертами лица — поэтому немцы должны править миром. Казалось бы, что сам Гитлер должен являться образцом «благородной германской расы». Предоставим слово виднейшему антропологу Германии профессору Максу фон Груберу. Этот профессор до воцарения Гитлера выступил в качестве эксперта на заседании мюнхенского суда. Вот что он сказал о внешности Гитлера: «Низкий покатый лоб, некрасивый нос, широкие скулы, маленькие глаза. Выражение лица выдает человека, плохо владеющего собой, одержимого». Гейден рассказывает о дебютах Гитлера: «Он вошел в элегантном костюме с огромным букетом роз, поцеловал руку хозяйки. Ему представили гостей. Он походил на прокурора, присутствующего при исполнении смертного приговора. Когда он заговорил, в одной из соседних комнат заплакал ребенок, разбуженный голосом Гитлера, исключительно громким и пронзительным». Голос Гитлера невыносим — это хриплый лай, переходящий в острый визг. Говорит он, кривляясь, подпрыгивая, постепенно входит в транс, выкрикивает несвязные слова, как шаман. Он начал с демагогических речей в накуренных пивнушках Мюнхена. Озлобленные разгромом, инфляцией бюргеры упивались криками юродивого. Теперь Гитлер разыгрывает исступленного, он пытается подогреть толпу. Однако та душевная неуравновешенность, которая была ему присуща с ранних лет, вдруг путает все его расчеты — рейхсканцлер начинает вопить, как кликуша. Прошлое Гитлера темно. Сын австрийского чиновника, он продавал подозрительные открытки, наконец, стал шпиком — ходил на рабочие собрания и докладывал начальству о «смутьянах». Прошлым летом этот бывший шпик торжественно въехал в пустой Париж и снялся на фоне Эйфелевой башни... Гитлер начал свое политическое восхождение как ставленник хозяев тяжелой индустрии Германии. На собрании промышленников в Эссене Фоглер, Кирдорф, Тиссен признали его «спасителем». Гитлеру нужны были деньги, и немалые; он заявил промышленникам: «Спасайте вашего спасителя!» Рабочим Гитлер говорил: «Я уничтожу плутократию». Другим языком он разговаривал с крупными капиталистами: «Мы поделим амплуа — вам остается экономика, я беру на себя политику». Его опорой стал заправила «Стального объединения» миллиардер Фоглер. Гитлер сулил Фоглеру хорошие барыши — будет настоящая серьезная война! И Гитлер объявил немецкому народу: «От мира человек погибает, он расцветает только от войны». Прекрасную технику Германии, трудолюбие и организованность ее народа Гитлер обратил на одно — на разбой. Он убеждает молодых немцев, отрезанных от мира, лишенных всечеловеческой культуры, в том, что Германия должна владеть Землей. Манию величия он сделал общеобязательным заболеванием. Угрозами, шантажом, хитростью он сломил сопротивление многих соседних государств. Гитлер остался невежественным человеком, который изучает гороскопы. Но под его пяту попали восемьдесят миллионов немцев и сто миллионов порабощенных немецкими фашистами людей других стран. Гитлер — плохой комедиант. Он построил себе дворец среди скал. Он вегетарианец — да, этот людоед, погубивший не менее пяти миллионов человеческих душ, не может вынести страданий вола или барашка. Это человек исключительной жестокости. Он заявил: «Нужно повесить на каждом фонаре человека, чтобы навести порядок». Он обожает пытки. Ему доносят о новых казнях, о новых убийствах. Тогда его маленькие глаза загораются. Это самодур, изувер. В 1937 году в Мюнхене посетители «Выставки немецкой живописи» могли полюбоваться редкостным зрелищем — рейхсканцлер Германии собственноручно рвал и резал картины, которые не пришлись ему по вкусу. Он разрушил Европу, однако он мечтал прежде стать архитектором. По его указанию фашистские летчики разрушили сотни замечательных памятников мирового зодчества. Гитлер сказал: «Я разрушу весь мир». Он ненавидит все народы мира: ему необходимо мучить и уничтожать. Он сказал своему приятелю Раушнигу: «Если бы евреев не было, их нужно было бы выдумать — только жестокость приближает человека к движению». Он написал о французах: «Это негры, их следует обуздать». Гитлер мстит чехам: его мачеха была чешкой. Он сказал: «Это славянские свиньи». Особенно ненавидит он русских. Этот самодовольный кретин назвал Льва Толстого «ублюдком». Гитлер презирает немецкий народ. Он сказал Штрассеру: «Нашим рабочим ничего не нужно, кроме хлеба и зрелищ, — у них нет идеалов». Он выдал немцам немало зрелищ. Они увидели костры, на которых пылали книги. Они увидели обнищавшую и одичавшую Германию. Они увидели сотни тысяч солдатских вдов. Они увидели развалины на центральной улице Берлина Унтер ден Линден — расплату за варварские бомбардировки Лондона. На зрелища Гитлер был щедр. Хлеба народу он не дал. Он приказал солдатам добывать хлеб огнем. Он вытоптал Западную Европу и Балканы. Хлеб был сожран. Тогда он погнал голодную орду на восток. Шведский журналист, который недавно беседовал с Гитлером, говорит, что людоед осунулся, возбужден, страдает бессонницей. Он мечется по своему дворцу. Он чувствует близкую гибель. Не помогут больше никакие снотворные: в ночной тишине он слышит голоса убитых, он слышит голос мести. Прежде, когда он проезжал по улицам немецких городов, в него кидали цветы — он обожает незабудки и анютины глазки. Однажды среди незабудок оказался увесистый камень — какой-то почитатель решил, что цветами своих чувств не передашь... Теперь цветочные подношения запрещены: «Букеты преждевременны». Берлинцы тихонько острят: «Он мечтает о лавровом венке на могилу...» Вряд ли на его могилу положат хотя бы камень. Осиновый кол — вот ему памятник! 6 июля 1941 г. Трусливый вояка Бенито Муссолини Бенито Муссолини правит несчастной Италией. Он требует, чтобы его называли «дуче» и чтобы в газетах, говоря о нем, писали местоимение с прописной буквы: «Он сказал, это Его воля, Он никогда не ошибается». Последнее является догмой итальянского фашизма. Школьники и солдаты должны отвечать назубок: «Дуче никогда не ошибается». Когда-то Муссолини был социалистом. Как все ренегаты, он озлоблен на мир. Идеи он променял на лиры — лиры давали ему владельцы заводов «Фиат» за усмирение рабочих. Он начал со службы на итальянских фабрикантов, он кончил службой немецкому ефрейтору. Муссолини любит сниматься в самых неожиданных позах. Я видал его на экране раз сто — то в боевой форме со шлемом, то в трусиках на пляже. Это тучный, обрюзгший человек, с самодовольным лицом и с чересчур большим подбородком. Биографы уверяют, что Муссолини — прекрасный семьянин. Своих детей он пристроил. Его дочь — супруга графа Чиано, министра иностранных дел. Управление Италией, таким образом, семейное дело. Один сын Муссолини обожает кино. Папаша послал его в Голливуд. Но киноактеры устроили перед гостиницей, где остановился Муссолинин сын, кошачий концерт. Пришлось покинуть негостеприимную Америку. Зато в Риме сиятельный режиссер был немедленно объявлен гением. Другой сын Муссолини, по имени Бруно, занялся более практичным делом: он скидывал бомбы на абиссинских пастухов и на каталонских старух. Бруно написал книгу, в которой рассказывает, как приятно уничтожать безоружных абиссинцев. Он пишет: «Мы подожгли деревню зажигательными бомбами. Это было чрезвычайно занимательно». Бенито Муссолини начал с убийств в розницу. Отряды чернорубашечников нападали на журналистов и на рабочих, на католиков и на коммунистов, они били людей резиновыми палками, вливали им в рот касторку, пытали. Особенно прославился Муссолини в те времена подлым убийством социалистического депутата Маттеоти. Будучи трусливым, Муссолини поспешил заявить: «Я неповинен в этом преступлении», — он боялся гнева народа. Потом он укрепился, пошел в гору. Ему захотелось массовых убийств. Муссолини объявил: «Война — дело божественного происхождения. Война для мужчин то же, что для женщины материнство». В Абиссинии Муссолини убивал, и притом мирные пастушеские племена. Потом он направил чернорубашечников в Испанию. Итальянцы залили кровью улицы Малаги. Я видал дневники и записные книжки солдат Муссолини: это регистры грабежей и убийств. Муссолини обожает помпезность. Свои речи он произносит только с балкона. Он сравнивает себя с Юлием Цезарем. Будучи низкого роста, он принимает посетителей, сидя на высоком стуле. Он ходит на цыпочках. Он живет на ходулях. Батальоны чернорубашечников носят высокопоэтические имена. Солдаты, битые всеми армиями мира, называются «непобедимые», «неукротимые», «неуязвимые». Грабители окрещены «львами», «тиграми». Дезертирам присвоены имена «Буря», «Ураган», «Гроза». Отменный семьянин уважает институт проституции. Отправив своих солдат в Африку, он озаботился организацией моторизованных домов терпимости. Его журналист Турацци сообщил публике, как дуче готовится к победе: «Мы предпочитаем арабок и негритянок — они куда выносливее белых...» Муссолини создал фашистскую армию. Эта армия отличается от других армий тем, что немедленно сдается в плен. Если угодно, это самая пленоспособная армия мира. В марте 1937 года Муссолини отправил генералу Манчини телеграмму: «Поздравляю моих легионеров с неминуемой победой у Гвадалахары». Эту телеграмму испанцы нашли два дня спустя в штабе Манчини — генерал успел удрать. Непобедимые легионеры тем временем стояли в очереди перед республиканскими постами: сдавались. Экспедиционным корпусом командовал любимец дуче генерал Бергонцоли. Он бежал, проявив при этом талант спортсмена. Недавно Муссолини послал его в Ливию. Бергонцоли удрал из Бардии, оставив солдат на произвол судьбы. Наконец, в Бенгази англичане поймали этого быстроногого генерала. Когда итальянцев били греки, Муссолини говорил: «Весь мир видит мощь Италии». Когда итальянцы неслись по Ливии, убегая от англичан, Муссолини твердил: «Мы — победители на двух материках». Он объявил войну Франции ровно за четыре дня до падения Парижа — этот воинственный мужчина труслив, как мелкий хищник. Убедившись, что французской армии больше нет, он вышел на балкон и крикнул: «Вперед, наследники древнего Рима! Пробил исторический час». Но крохотные французские отряды отбили все атаки непобедимой фашистской армии. Это не помешало «дуче» сказать: «Нами одержана еще одна невиданная победа». Теперь Гитлер приказал ему отправить солдат на Восточный фронт. Муссолини послал против Советского Союза одну, вероятно самую «непобедимую», дивизию. Уезжая, чернорубашечники кричали, что они в два счета завоюют всю Россию: «Пишите нам в Иркутск!» Мы знаем, что это значит: уезжая в Ливию, чернорубашечники кричали: «Мы уничтожим Великобританию. Пишите нам в Индию». Действительно, именно в Индию англичане отправили пленных итальянцев. Очевидно, придется иркутским лагерям принять и «непобедимую» дивизию... Муссолини — злобный и мстительный человек. Он гноит на Липарских островах сотни тысяч людей, заподозренных в одном — они усомнились в том, что дуче никогда не ошибается. Итальянский народ его ненавидит. Он это знает, он ищет охраны на стороне. Он стал лакеем Гитлера. В список захваченных Гитлером стран следует включить Италию — она оккупирована германскими дивизиями. Итальянцы кормят немцев, работают на них, умирают за них. Что получают в обмен итальянцы? Бенито Муссолини. Независимость Италии родилась в тот день, когда порабощенные миланцы восстали с криком: «Вон немцев!» Девяносто лет спустя изменник Муссолини ликвидировал независимость своей страны — он впустил в Италию немцев. Начинатель фашизма, он мог бы требовать с Гитлера отчисления — авторские права. Он ничего не требует. Перед Гитлером он не сидит на высоком стуле, он стоит перед ним, вытянув руки по швам. Черчилль недаром назвал Муссолини шакалом — этот тучный, надменный комедиант плетется позади Гитлера: он надеется на объедки. Он выклянчил у Гитлера Далмацию. Он гложет кость и трусливо поглядывает на море — ему мерещатся английские корабли. Он трусливо поглядывает и в окно: он боится гнева итальянского народа. Согласно легенде Рим основали два брата, вскормленные волчицей. Римляне и теперь держат в клетке волчицу — это символ прошлой славы. Кто знает, не посадят ли в соседнюю клетку шакала — Муссолини, как символ прошлого позора? 9 июля 1941 г. Бедные музыканты В каждом европейском кабачке имелись румынские музыканты. Они играли упоительные вальсы. Кто знает, не вышел ли бы из генерала Антонеску исправный скрипач? Но Антонеску предпочел скрипке саблю. Свою саблю он продал Гитлеру, и румынские войска ознакомились теперь с другой музыкой — советских пулеметов. Румынские крестьяне ели пустую кукурузную кашу. Немцы забрали и кукурузу. Немцы повсюду на первых местах. Только на фронте они вежливо пропускают румын вперед. Немцы идут позади и расстреливают непослушных. Называется это «военным союзом». Румынские фашисты в душе обижены: они предпочли бы первые места в Бухаресте. Чтобы как-нибудь утешиться, они занялись литературой. Они решили отомстить заносчивым немцам. Для этого был избран некто Александру Ранду, по всей видимости тоже неудачливый скрипач. Как известно, гитлеровцы считают немцев высшей расой — все народы должны повиноваться немцам. Но Александру Ранду тоже не дурак. Он с научной точностью установил, что высшая раса — румыны. Он пишет в «Универсуле»: «Необходимо утвердить румынизм в международном плане. Румыния колыбель арийской расы. Румыны не просто народ, это единственный народ, унаследовавший дух Римской империи». Каково Гитлеру это читать! Он ведь думал, что колыбель арийской расы — мюнхенские пивнушки. Не тут-то было! Я уж не говорю о возмущении Муссолини — этот давно заявил, что его битые дивизии — «наследники Римской империи». А выходит, что «наследники» — румыны. Итак, румынские скрипачи не хотят больше играть вальсы. Им приспичило управлять всей Европой — от норвежских фиордов до Арарата. А пока что румын гонят на убой — командуют ими немцы. И немецкий генерал Лист, набивший руку на истреблении балканских народов, разносит генерала Антонеску, как будто перед ним не «наследник Римской империи», но музыкант в ночном кабаке: «Послушайте, если ваши солдаты еще раз побегут, я вас выгоню!..» Бедные музыканты! 9 июля 1941 г. Бастилия будет взята 14 июля 1789 года парижский народ взял крепость, где томились политические заключенные, — легендарную Бастилию. Патриоты сожгли ненавистную народу тюрьму; и на том месте, где стояла Бастилия, народ танцевал. В память героических дел революции из года в год 14 июля во всех городах, во всех деревнях Франции люди веселились и танцевали. Ревели гармоники, кричали хлопушки. Среди зелени каштанов просвечивали бумажные фонарики. В деревушках пускали ракеты. С колоколен тридцати пяти тысяч французских деревень петухи гордо оглядывали виноградники, нивы, пастбища. Проходили войска, несли знамена славы — Жемаппа и Вальми, Марны и Вердена. Проходили демонстрации; и знамена парижских пролетариев дружески встречались со знаменами армии. Народ веселился. Что может быть заразительней французского веселья? 14 июля 1789 года народ разрушил не только парижскую тюрьму: Бастилия была символом насилия. В те далекие времена французский народ первым поднял знамя свободы, кинулся к свету, к молодости. Солдаты революции отстояли республику от пруссаков и от предателейэмигрантов. 14 июля 1940 года... Никогда я не забуду этого дня. Улицы Парижа были особенно пусты. На площадях гитлеровские трубачи дули в трубы: праздновали победу. По бульварам маршировали убийцы и грабители. Французы сидели дома, закрыв ставни. Одна женщина мне сказала: «Сегодня я не могу их видеть!» Тащили на расправу арестованных. Гоготали германские офицеры. Денщики задыхались: не успевали выносить награбленное добро. Прошел год. Что сделали гитлеровцы с цветущей Францией? Пустыня... Мелкий шпион Абец стал наместником. Адмирал Дарлан превратился в сухопутного денщика при немецком генерале. Французские патриоты томятся в концлагерях. Французские дети умирают голодной смертью. А гитлеровцы еще рыщут — вывозят последние крохи. 14 июля теперь не праздник: об этой дате запрещено вспоминать. Виктор Гюго писал о пруссаках, которые в семьдесят первом году грабили Францию: Они крадут часы, укладывают чемоданы — берут добро. Деревню грабят за деревней. Но мы горды другим — была взята Бастилия... Я вижу Париж. По его улицам еще ходят гитлеровцы. Но как пугливо они озираются! Они уже поняли, что значат эти горящие глаза... Юноши уплывают в Англию на рыбацких лодках. Рабочие ломают станки. Крестьяне жгут хлеб. Франция проснулась. 14 июля втайне будут праздновать все патриоты Франции. С надеждой они смотрят на восток: там великий народ защищает свободу — свою и мира. 14 июля в России будут убиты тысячи гитлеровцев, уничтожены десятки танков и самолетов. Гитлерия — вот Бастилия XX века, страшная, зловонная тюрьма, в которой томятся народы Европы! На штурм этой новой Бастилии вместе с бойцами Красной Армии идут партизаны и герои порабощенных фашистами стран, патриоты свободолюбивой Франции. Бастилия будет взята. На ее обломках будет танцевать и веселиться освобожденная Европа. 14 июля 1941 г. Дневник немецкого унтер-офицера Хорст Шустер полтора года назад был студентом. В феврале 1940 года его призвали на военную службу. Предчувствуя исторические события, участником которых он станет, Хорст Шустер завел дневник. Надев военную форму, он меланхолично записал: «Хороша свобода! Да, теперь на время придется с ней распрощаться...» Впрочем, Хорст Шустер быстро забывает о «свободе». Он гранатометчик, исправный солдат. Через полгода его производят в ефрейторы, через год он — унтер-офицер. Он деловито отмечает: «Унтер-офицерские знаки мне необходимы — они помогут мне как на службе, так и в финансовом отношении». Нельзя сказать, чтобы наш исполнительный унтер любил службу. Он пишет: «Служба состоит на восемьдесят процентов из дежурств. Самое противное — это караул по воздушному наблюдению». Удовольствие сидеть где-то в тылу, да еще когда назначают в караул! А товарищи Шустера развлекаются в завоеванной Франции. Говорят, что недели через две немцы займут Лондон. Сколько будет поживы! Хорст Шустер просит, чтобы его отправили на Западный фронт. Наш культуртрегер приезжает в захваченную гитлеровцами Францию. Он полон сознания своего превосходства. Дикарь, который пишет с ошибками, высокомерно отмечает: «Наша германская культура выше. Иногда отвратительно смотреть на примитивную жизнь французского народа...» Какое, должно быть, испытание для «культурного» унтера глядеть на «примитивный» народ, который смеет предпочитать парламент мордобою, а Ромена Роллана — доктору Геббельсу! Впрочем, Хорст Шустер быстро утешается: он еще попал на объедки пирога. Ему выдали «оккупационные марки». На эти фальшивые деньги он покупает ботинки и сувениры, ест, пьет. Он в упоении пишет: «Все баснословно дешево!.. Бутылка шампанского — одна марка... Когда нам не нравится еда, мы идем в город — прекрасный обед за одну марку: жареная курица, овощи, суп, салат из помидоров, фрукты и вдобавок вино. Да, это жизнь! Теперь поблизости от наших квартир устроили публичный дом. Все мои товарищи говорят об этом целый день, и они массами направляются туда...» Теперь мы знаем, что такое «жизнь», настоящая жизнь, для бывшего студента, ныне унтера германской армии: грабеж с помощью «оккупационных марок» и публичный дом, куда табунами несутся культуртрегеры. Но вот приходит черный день: приказ о переводе Хорста Шустера из «примитивной» Франции в высококультурную Германию. Наш «патриот» льет горькие слезы: прощай жареная курица! Прощай дом терпимости! Шустер пишет: «Здесь жизнь была прекрасной, а мы должны теперь вернуться в Германию. Разве можно этому поверить?..» Он все видит в мрачном свете. Даже победы германской армии его не радуют. По дороге в Германию он пишет: «За исключением некоторых предместий Орлеан разрушен. Страшно глядеть! Вдобавок стоит ужасная вонь — здесь поработали наши пикирующие бомбардировщики». На родине нашего вояку, утомленного покупкой ботинок и сувениров, ждет заслуженный отдых. Он едет в свой родной Магдебург. Там нет ни жареных кур, ни волшебного дома терпимости. Зато там ждет его хорошая арийская невеста по имени Эрика. Наш вояка отправляется с Эрикой в театр: «Мы слушали оперу «Кармен». К сожалению, за десять минут до окончания спектакля — проклятая воздушная тревога. В результате три часа в бомбоубежище! Мне не везет!..» Бедный Хорст — ему пришлось провести ночь с Эрикой в бомбоубежище! Что за нахалы англичане! То ли дело, когда пикирующие самолеты уничтожали Орлеан... И вот новый год — 1941-й! Гитлер сказал, что этот год будет годом победы, но Хорсту не по себе. Все ему не нравится. Забыты и куры и Эрика. Он впадает в сомнения: «Почему у меня не может взять верх спокойное, счастливое настроение? У всех солдат то же самое. Мы всегда чего-нибудь ищем. А что? Покой? Музыку? Любовницу? Я даже не могу сказать, что именно. Самое лучшее, когда спишь: тогда ни о чем не думаешь...» Так начинается протрезвление. Всем этим воякам смертельно надоела война, хотя из них мало кто воевал по-настоящему. Хорст Шустер начинает думать, хотя в «памятке» немецкого солдата написано черным по белому: «Немецкий солдат никогда не думает, он повинуется». Тяжело для непривыкшего человека думать, и Шустер пишет: «Нас медленно доводят до сумасшествия». А Гитлер тем временем подготовляет очередной поход. Идет военная суматоха. Шустер пишет: «Маршировать. Маршировать. Топаешь, как баран, и ничего не знаешь ни о положении, ни о целях. Это неправильно... Похоже на то, что опять что-то начинается. Одни говорят — Испания, другие — Ливия. Во всяком случае не на Англию...» На месте Гитлера, прочитав такой дневник, я испугался бы — подумал, что унтер Шустер, посредственный человек, повторявший все глупости начальства, вдруг понял, что он «баран»!.. Гитлеровцы захватывают Балканы. Хорст Шустер сидит в тылу. Он упоен победами, он блеет, как баран. Но впереди его ждут горшие испытания. 12 июня Шустер со своей частью направляется в Восточную Пруссию. Они проезжают мимо деревень, населенных еще неистребленными поляками, и Шустер огорчен дурным отношением поляков к захватчикам. Наконец он в пограничной деревушке. Он чувствует — что-то надвигается. Ему не говорят что. Он пишет 16 июня: «Атмосфера как-то сгущается. Мы перестраиваемся на военный лад. Где мы будем завтра?.. От нас до русской границы тринадцать километров». Следующая запись короткая: «22 июня. 2 часа 30 минут пополуночи. Нас разбудили. Вперед, в Россию!» «Бараны» пошли... Затем Шустер пишет под Двинском: «Мы находимся в очень серьезном положении, так как русские на нас наступают...» Следующая запись 5 июля: «Мы много маршировали, мало спали. Только вчера нас, наконец, снова моторизировали. Русские нас угостили бомбами. Нашей роте пока что посчастливилось. Атмосфера опять сгущается, готовится что-то новое. Только весь вопрос — что именно?..» Хорст Шустер, унтер-офицер 8-го полка 3-й мотомехдивизии, попал в плен. Он может сказать, что ему лично «посчастливилось». Он не ожидал такого благополучного конца. Одно дело есть во Франции жареных кур, другое — маршировать, когда на голову падают русские бомбы... Может быть, в плену Хорст Шустер задумается всерьез? Может быть, он поймет, как его обманывал Гитлер? Немецкие солдаты даже не знали, против кого идут воевать... Это — автоматы с невестами и с пулеметами. Конечно, можно их очеловечить, научить думать, сделать из них людей. Но для этого нужно очень много бомб. Когда Хорсту Шустеру было хорошо, он ел курицу и кричал «ура». И впервые задумался, когда ему стало плохо. Поход на Советский Союз станет начальной школой для миллиона баранов. 16 июля 1941 г. 17 июля 1941 года (Москва в эти дни) Я принадлежу к поколению европейцев, которое видит не первую войну. Я был в Париже в 1914–1917 гг., в России в эпоху гражданской войны, в Мадриде и Барселоне под немецкими бомбами. Я был в Париже, когда в него вошли германские дивизии. Я видел прошлой осенью унылый военный Берлин. Я знаю, как искажает война лицо и душу городов. Может быть, поэтому я не могу наглядеться на Москву — я горд ее выдержкой. Все понимают, как велика угроза, — нет ни беспечности, ни хвастовства. Но нет и страха. Суровые, спокойные лица. Стоят невыносимо жаркие дни. Люди одеты по-летнему. У женщин много хлопот: затемнили дома, оклеили стекла матерчатыми полосками. Все проходят занятия по противовоздушной обороне. В домах дежурства жильцов. Повсюду мешки с песком. Москва готовится, и «хейнкели» не застанут ее врасплох. Одной из первых забот было отослать детей подальше от крупных центров. Один за другим уходят поезда с детьми. Уехали школы, детские дома. Вот поезд с детьми писателей, вот другой — с детьми железнодорожников. Кажется, не видал я города, где было бы столько ребятишек, они вместе с воробьями заполняли гомоном московские переулки. Теперь воробьи остались без товарищей. С детьми уехало много матерей, не связанных работой с Москвой. Знакомый печатник вчера мне сказал: «Работать легче — отослал моих в деревню. Если прилетят немецкие стервятники, не будет мысли: а что с ними?..» Старикам советуют уехать в провинцию, в деревню. Некоторые уехали. Другие обижаются. Один старичок мне сказал: «Какой же я инвалид? Я могу что-нибудь охранять. Вот возьму и поймаю парашютиста — увидишь». По улицам проходят ополченцы. Это подлинная гражданская армия. Таких на парад не выведешь... Но они полны решимости, им не страшны испытания. Вот, может быть, ключ к выдержке Москвы: этот город много пережил — сорокалетние знавали и артиллерийский обстрел домов, и голодные годы. Их нелегко запугать. Сегодня ввели продовольственные карточки. Впервые Москва их узнала в эпоху гражданской войны, вторично — в годы первой пятилетки. Теперь — нормы большие. Люди говорят: «Всего не заберешь...» Нет ни удивления, ни суматохи. В немногих открытых летом театрах играют патриотические или антифашистские пьесы. Зрители подчеркивают аплодисментами монологи героев. У зрителей муж, брат или сын сейчас на другом театре — военных действий. Испытание сблизило всех. Прежде в трамвае москвичи частенько ругались. Теперь не услышишь обидного слова. Вечером все стоят или сидят возле домов, обсуждают события, рассказывают: «От мужа открытка с фронта...» Черные окна — город ночью кажется пустым, но в нем миллионы сердец бьются горем, гневом, надеждой... Коричневая вошь По дороге плелись французские крестьяне, согнанные немцами с земли. Увидев их, горожанка сказала: «Злые люди», — она показала на беседку, где закусывали немецкие офицеры. Тогда старый крестьянин сердито сплюнул и ответил: «Это не люди! Это — вошь! Коричневая вошь!» На крестьян Европы обрушилось неслыханное горе, хуже мора, хуже засухи, хуже смерти — пришли гитлеровцы. Сначала они все сожрали. Они отбирали хлеб и скот, кур и картошку. Это было приготовительным классом разбоя. Затем началось «наведение порядка». Французские крестьяне департаментов (областей) Мозель, Мерт-э-Мозель, Вогезов, Нижнего и Верхнего Рейна узнали на себе, что такое «новый порядок». В зимнюю ночь крестьян разбудили гитлеровские штурмовики: «Убирайтесь...» Крестьяне спрашивали: «Почему?» Гитлеровцы отвечали: «Теперь это наша земля». — «Куда мы пойдем?» — «Это не наше дело. Живо, чтобы вашего духа здесь не было!..» Сотни тысяч крестьян были выселены. Они ничего не могли увезти с собой. Все добро досталось гитлеровцам. А хлебопашцы, виноделы, садовники пошли по миру. В Чехословакии гитлеровцы проделывают то же самое. В феврале этого года двадцать девять деревень в районе Эльбы были «очищены от жителей». Гитлер решил наградить чужой землей сотню своих головорезов. Всего откровеннее ведут себя немцы в Польше. Около миллиона польских крестьян отправлено в Германию. Губернатор Люблина герр Зорнер хвастливо заявил: «Я угнал в Германию сорок шесть тысяч польских крестьян, пятнадцать тысяч женщин». Из Померании и Познани польские крестьяне выселены. Те, что остались, обращены в рабов. Выселили свыше миллиона душ. Шведский журналист, видевший эшелоны выселенных, писал: «Они сидят неделями в теплушках. Теснота такая, что едва можно шевельнуть рукой или ногой. Многие умирают от голода и жажды. Если измученные люди на какой-нибудь станции протягивают руки за хлебом или водой, солдаты бьют их прикладами по рукам, стреляют. После каждой такой поездки из вагонов вытаскивают массу трупов». Тех, кто осмелился протестовать против выселения, гитлеровцы повесили на площадях — «в назидание». Рабы должны работать на немцев, повиноваться им во всем. Немецкие помещики не подчинены общим законам. Они могут накладывать на рабов «легкие наказания» без суда. Рабы не имеют права выходить на улицу позже восьми часов вечера. Заходить в магазины они могут только до полудня. Утром, приезжая в город, они не имеют права пользоваться трамваем. В Познани поселили сорок пять тысяч немецких колонистов; они получили землю, инвентарь, дома, мебель выселенных поляков. Дети рабов не должны учиться. Губернатор Торуна заявил: «Копать картофель и подметать улицы можно и без образования», — школы были закрыты. В мае этого года один немецкий барон из-под Гдыни разгневался — околели три датские свиньи. Барон приказал выпороть служанку — восемнадцатилетнюю польку. Девушка повесилась. А барону прислали из Дании новых свиней... Однако и Франция, и Польша, и Чехословакия, и Югославия были для людоеда только закуской. Он давно облюбовал себе жирный кусок — Россию. Он говорил об этом в своей книге «Майн кампф». Он обдумывал разные способы уничтожения русского народа. Его советники представляли проекты: выселение русских в Азию, раздельная жизнь русских мужчин и женщин, чтобы довести народонаселение до минимума, использование русских как рабочей силы вне России. Гитлер хочет освободить русскую землю от русских людей. Коричневая вошь ползет на наши поля и сады. На съезде национал-социалистов в Нюрнберге один из людоедов заявил: «Когда Урал с его неизмеримыми богатствами сырья, неисчислимые леса Сибири и бесконечные пшеничные поля Украины будут в немецких руках, наш народ будет обеспечен всем в изобилии». Мы предупреждены: у них скромный аппетит — им нужны всего-навсего Украина, Сибирь да еще безделка — от Польши до Урала. Убийцы, особенно отличившиеся в пытках, которым они теперь подвергают наших раненых, получат награды: поместья на Волге или на Днепре, плодовые сады, свекловичные или табачные поля, виноградники Крыма. Русские будут у них рабами. Вот их мечта! Французский крестьянин был прав — это не люди. Это страшные паразиты. Что перед ними все вредители, все сорняки! Они ползут, чтобы сожрать нас. Их надо уничтожить. 18 июля 1941 г. Презрение к смерти Смоленск впервые подвергся бомбардировке. Это было ночью. Немцы скинули на город тысячи зажигательных бомб. Население не растерялось. Женщины, старики, ребята кидали бомбы в воду, засыпали их песком. Почти все бомбы были обезврежены. Кое-где вспыхнули пожары. Немцы скидывали тяжелые фугасные бомбы, но они не устрашили людей, боровшихся с огнем. В течение недели немцы прилетали каждую ночь. Прилетали они и перед заходом солнца — с запада, когда их трудно было распознать. Город привык к бомбардировкам. Продолжалась трудовая жизнь. Душу города передала одна девушка, стоявшая на своем посту во время жестокой бомбардировки: «Нужно им показать нашу силу...» Витебск, расположенный на правом берегу Западной Двины, по приказу командования был очищен нашими войсками. Армия вывезла все военное снаряжение. Немцы сбросили в девяти километрах от города десант — сорок танков, мотоциклистов. Первую атаку на город отбили партизаны. Танки, укрывшись в противотанковые рвы, стали дотами; они обстреливали город из орудий. В городе был пивоваренный завод. В течение суток тысячи бутылок были наполнены воспламеняющейся жидкостью. Смельчаки поползли к танкам. Девятнадцать танков было уничтожено. Кидали бутылки в мотоциклистов. Для этого нужно много отваги — подойти вплотную. Нашлась отвага... Немцы вошли в пустой, мертвый город. Они вошли не сразу: ждали два дня — боялись войти. Два дня семеро героев ждали немцев близ моста. Когда на длинный мост через Двину вступили немецкие танки и артиллерия, все взлетело в воздух. Взрыв был слышен далеко окрест. Семеро советских людей погибли. Кто из нас спокойно может слышать рассказ об этом беспримерном мужестве? Жители ушли — мужчины, старики, подростки стали партизанами. Среди них есть крестьяне, сражавшиеся в партизанских отрядах двадцать три года тому назад. Это — профессора партизанства. Среди партизан есть и ребята. Армия дедов и внуков... Один старый лесник спрыгнул с дерева на немецкого мотоциклиста, сжал крепко его шею, погнал мотоциклиста к нашим заставам. Три немецких парашютиста опустились на холмистое поле возле лагеря пионеров. Детишки их измотали, заставили расстрелять впустую все патроны — прятались за буграми. А когда у немцев не осталось больше патронов, ребята наскочили с цепами, стали лупить гитлеровцев. Пригнали их в ближний городок. Партизаны знают лесные тропинки. Они нападают на немецкие колонны, идущие впереди, составленные из СС. Нападают они и в глубоком тылу на пехотные части врага. Вот приказ германского командования: «Горожане и горожанки! Селяне и селянки! Если на территории вашего города или села будут обнаружены партизаны, о местонахождении которых вы не донесли германскому командованию, вы все, без исключения, будете причислены к шпионам иностранной державы и как таковые повешены». «Горожане и селяне» читают, но не доносят — это советские люди... В одной деревне немцы били детишек на глазах у матерей, чтобы выпытать, куда скрылись партизаны. Женщины молчали. К партизанам пришел старик с правой отсохшей рукой, сказал: «Я левша». Он показал, что может бить врага левой рукой. Глубоко в тылу противника идут бои. Немцы повсюду окружены неукротимыми отрядами — бойцы прячутся в лесах, скрываются среди развалин — советская ночь полна живыми людьми с винтовками, с гранатами, с динамитом. Линии фронта нет, и немцам не приходится втыкать флажки в карту — вокруг каждого немецкого отряда фронт. В прорези танков, в шины мотоциклов, в машины летят полулитровки, полные пламенем. Горят склады, горят поля, горят села. Это тяжелый год для нашего народа... Но это роковой год для наших заклятых врагов. Они идут по пылающей земле, по земле, которая не хочет чужестранца. Один партизан сказал мне прекрасные слова: «Я их бью без промаху — моя пуля летит от сердца...» Немцы взяли партизана. Шел бой. Партизана отвели к грузовой платформе, там лежали тяжело раненные красноармейцы — двадцать человек. Вблизи стояли немецкие пулеметы. Подошел германский офицер, сказал по-русски: «Сразу видно, что ты — партизан и коммунист. Отвечай». Товарищ молчит. «Хорошо, ты у меня заговоришь...» Офицер обратился к раненым: «Охраны нет. Но в случае чего пулеметчики вас скосят. А за этого вы все отвечаете, — если убежит, я вас всех перестреляю. Поняли?» И офицер ушел. Красноармейцы говорят партизану: «Беги!» Тот отвечает: «Нет. Не хочу вас подводить». — «Беги! Ты еще сражаться можешь. А мы конченые — у кого голову пробили, у кого ногу или руку. Они нас все равно перебьют. Беги». — «Нет». Тогда один красноармеец строго сказал: «Я тоже коммунист. Я тебе приказываю — беги! Ты должен сражаться». Они прикрыли его от пулеметчиков. Он сказал: «Прощайте, друзья...» Он дошел до наших частей. Двадцать героев... Трудно об этом спокойно писать — душит ненависть к врагу, гордость за товарищей приподымает — быть, как они!.. Мужество наших людей, последняя ночь семерых перед взрывом моста, молчание женщин, когда пытали их детей, непреклонная воля двадцати полумертвых красноармейцев, презрение к смерти во имя победы — это наши былины, это сильнее слов, это высоты человеческого духа. Такой народ нельзя победить. 20 июля 1941 г. Коалиция свободы Плутарх уверяет, что Цезарь обратил в рабство миллион покоренных им людей. Куда ему до Гитлера! Не было в истории столь жадного и лютого рабовладельца — сто миллионов душ он обратил в рабов. Кого он хочет обмануть, говоря о «коалиции европейских народов» против России? Доктора Геббельса? Молодых штурмовиков, приученных с младенчества не думать? Марсиан? В захваченных Гитлером странах нет народов. Народы Гитлер отменил. Есть рабы разных категорий — голландцы доят для Гитлера коров, норвежцы сушат для Гитлера треску, венгры, итальянцы, финны, румыны умирают за Гитлера. Гитлер уверяет, что против России идет «коалиция государств». Может быть, он спросил финнов, хотят ли они умирать за «великую Германию»? Может быть, он осведомился, желают ли словаки стрелять в своих братьев русских? Нет, он приказал, и его наемники — трусливый и блудливый Муссолини, невежественный Тисо, жалкий скрипач Антонеску, тупица Рюти — не осмелились возразить. Я хорошо знаю Италию. Знаю ее народ — миролюбивый, добродушный, веселый. Немцев итальянцы никогда не жаловали — помнили о вековом гнете. А любовь итальянцев к России сказывалась на каждом шагу. Вспомнили, как во время землетрясения в Мессине русские моряки спасли итальянцев. Говорили о героизме советских летчиков, которые спасли полярную экспедицию итальянцев. Во времена Муссолини, когда Горький приезжал в Неаполь, сбегались студенты, рыбаки, грузчики — приветствовали великого писателя. Кто поверит, что итальянцы добровольно пошли на Советский Союз? Я видел в Словакии улицы Пушкина, улицы Гоголя, улицы Толстого, улицы Горького. Словаки поют наши песни. На концертах исполняют русскую музыку — от Мусоргского до Шостаковича. Студенты зачитываются Блоком, Шолоховым, Толстым. Словацкий классик Кукучин был воспитан на русской литературе. Немцы и мадьяры подавляли словацкую культуру. Зачинатели национальной культуры, «будители» разнесли по всем глухим хатам свет русской мысли. Пять лет тому назад я был на конгрессе словацких писателей. Там были левые и правые, католики и протестанты, и все они с величайшей любовью говорили о нашей стране. В какую кошмарную минуту бессонницы пришла Гитлеру нелепая мысль объявить, что Словакия воюет против России? Людоеду не хватает человечины: ему мало немцев, он шлет на убой чужих людей. Его «коалиция» — это злосчастные румыны или словаки, которых гонят под огонь прусские ефрейторы. Есть коалиция — не рабов, свободных народов. Это — коалиция против Гитлера. Мужество Лондона было первой победой человеческого достоинства над варварством фашизма. Огромный, прекрасный город подвергся страшным бомбардировкам. Англия тогда осталась одна в строю — французские фашисты предали свою родину. И Англия не сдалась. Историк расскажет, чем были длинные зимние ночи для Лондона. Гибли жилые дома и музеи. Вандалы разрушили изумительное здание английского парламента. Горели кварталы. Но англичане спокойно отвечали: «Нет». Как-то в Лондоне упала бомба замедленного действия. Ее схватил рабочий и понес в штаб противовоздушной обороны. Его сынишка шел впереди и кричал людям, чтоб они отходили в сторону. Какая выдержка! Какой символ достоинства и отваги! Не только пролив оградил Англию от людоедов — ее оградила воля к сопротивлению, фраза, которую на острове повторяют с младенчества: «Англичанин не будет рабом». Два фронта? Нет, десятки фронтов. Смельчаки-французы уже сражаются под командой генерала де Голля. Это только разведка, только передовой отряд. Скоро весь французский народ под звуки бессмертной «Марсельезы» кинется на захватчиков. А норвежцы? А чехи? А поляки? А сербы? Порабощенные народы ждут первого поражения гитлеровской армии. Час близок. Братский фронт трех великих держав — это та сила, которая сокрушит ненавистную всему миру гитлерию. За нас упорство англичан, за нас сила Америки, за нас беспримерная отвага советского народа. 20 июля 1941 г. Фабрика убийц Разговаривая с пленными гитлеровцами, читая их дневники и письма, спрашиваешь себя: откуда взялись эти существа, невежественные и жестокие? Нужно заглянуть в гитлерию, чтобы понять, как организовано серийное производство убийц. Гитлер уничтожил любовь, брак, семью. Человеческое общество он превратил в скотный двор, в случный пункт. Лейпцигский профессор Эрнст Бергманн в книге «Познание и материнство» пишет: «Моногамия — извращение, и она ведет к порче расы. К счастью, у нас достаточно парней с доброй волей и хорошо приспособленных. А один парень может оплодотворить двадцать девушек». Это написано не на заборе, и герр Бергманн считается в гитлерии «ученым». Газета «Фелькишер беобахтер» пишет: «Наши крестьяне понимали, что такое чистота расы; если мы справедливо гордимся прусскими коровами, которые во многих отношениях выше фионских и герефордских коров, то никто из нас не станет гордиться Марксом, Гейне или ублюдком Эйнштейном. Думая о продолжении расы, мы должны вдохновляться опытом наших крестьян». Говоря иначе, гитлеровцы должны размножаться, как коровы прусские или герефордские... Надо сказать, что немцам, за исключением СС («один парень на двадцать девушек»), не очень-то нравится скотоводческий пафос Гитлера. В ноябре 1940 года войсковой отдел при генеральном штабе германской армии издал инструкцию для всех ротных командиров, озаглавленную: «Очень мало детей». В этой инструкции мы находим сетования: «Какая польза нам от приближающейся победы, если в один прекрасный день мы не сможем сохранить и защитить наше государство? Нам не нужен большой дом без детей». Далее инструкция приводит цифры: «В 1910 году на 6,4 миллиона молодых здоровых семей приходилось 1,8 миллиона рождений, а в 1939 году на 8,6 миллиона — только 865 тысяч рождений». Особенно огорчает авторов инструкции плодовитость славян. Они указывают, что в начале девятнадцатого века в Европе было 32 процента германцев и 35 процентов славян, а теперь — 30 процентов германцев и 46 процентов славян. Наконец инструкция раскрывает, зачем именно немцы должны плодиться и множиться: «Каждый родившийся в 1941 году здоровый мальчик может стать в 1961 году прилежным солдатом. Каждая родившаяся в 1941 году девочка может через двадцать лет стать прилежной домашней хозяйкой и матерью». Хозяева фабрики убийц не скрывают своих намерений — они озабочены тем, кто будет убивать и грабить в 1961 году. Но, видимо, немцам не очень-то хочется рожать детей на убой, и даже среди парней, тех, что один на двадцать девушек, имеются «прогульщики». Регламентация браков, скотский подход к чувствам людей исказил всю психику немецкого народа. Гитлер сделал цинизм и развращенность общеобязательными явлениями. Передо мной «карточки на поцелуй», отпечатанные в Германии и посылаемые солдатам для развлечения. Талоны на пять поцелуев, как на пять граммов жиров... Эти юмористические карточки показывают, до чего изменилась психика людей под влиянием фашистских скотоводов. Все дети в Германии принадлежат Гитлеру. В десять лет мальчики и девочки приносят присягу: «Перед лицом господа бога обязуюсь беспрекословно повиноваться фюреру». Гитлер сказал 1 мая 1937 года: «Среди нас все еще имеются старомодные люди, ни на что не пригодные. Они путаются у нас в ногах, как собаки или кошки. Но это нас не беспокоит. Мы заберем у них детей. Последние будут соответственно обучены, мы не позволим им стать на старый путь мышления. Мы будем брать их в возрасте десяти лет и к восемнадцати привьем им наш дух. Они нас не избегнут. Они вступят в партию, в «СА», в «СС». В десять лет родители должны сдавать своих детей людоеду. За утайку ребенка полагается штраф или тюрьма. В феврале 1941 года министр просвещения Рист и фюрер «гитлеровской молодежи» Аксманн подписали «соглашение». Согласно этому тексту, дети с восьми часов до двух находятся в школе. Все остальное время принадлежит «гитлеровской молодежи». В тексте сказано: «гитлеровское время священно». Учителя подвергаются ответственности, если они экскурсиями или заданными на дом уроками затрагивают «гитлеровское время». Все субботы целиком принадлежат Гитлеру. Два воскресенья в месяц отданы родителям, два других — собственность Гитлера. Таким образом, дети — это малолетние рабы. Они работают, маршируют и привыкают не думать. Впрочем, и в школе царит «гитлеровское время». В анкетах при назначении учителей имеются четыре пункта: «1. Наследственные предрасположения и общая расовая картина. 2. Политические убеждения. 3. Физические возможности. 4. Познания». Знает ли учитель математики математику или нет — это последнее дело. Важнее «общая расовая картина» и «физические возможности». Профессор Ленард в предисловии к учебнику «Немецкой физики» пишет: «Это чисто арийская физика, наука создается расой и определяется чистотой крови». Профессор Эрвин Гек в «Вестнике национал-социалистского воспитания» говорит: «Математика — это проявление северного арийского духа, его воли к господству над миром». Детям с ранних лет говорят: «Война — самое веселое дело», «Вырастешь — убьешь сто врагов», «Фюрер любит тебя и войну». Последнее изречение очаровательно: заранее приучают пушечное мясо к мысли, что людоед обожает человечину. За два года до войны министерство просвещения рекомендовало для школ книгу Виткопа «Военные письма» как подготовляющую к грядущим событиям. Вот как представляется война в книге Виткопа: «В нас очень мало стреляют. Мы сидим в землянке. Здесь очень уютно. Мы курим, много едим и развлекаемся...» Маленькие дети поют песенку. Вот ее дословный перевод: Если весь мир будет лежать в развалинах, К черту, нам на это наплевать! Мы все равно будем маршировать дальше, Потому что сегодня нам принадлежит Германия, Завтра — весь мир. Это младенческий лепет гитлерии. По статуту, опубликованному в 1936 году, в «гитлеровской молодежи» имеется своя аристократия — «Stamm-Hitler-Jugend» — «коренная гитлеровская молодежь». Это отборные экземпляры, будущие СС. Эти молодчики имеют право наказывать других детей, они также должны доносить на родителей и на учителей. «Коренные» натаскиваются на ремесло шпиков и палачей. В своей книжке «Майн кампф» Гитлер говорит: «Нужно воспитывать каждого так, чтобы он чувствовал свое превосходство над другими». Человеческая солидарность, чувство товарищества, скромность изгнаны из гитлерии. Моральные принципы «гитлеровской молодежи» выражены в изречениях людоеда Гитлера: «Мы должны быть жестоки со спокойной совестью — время благородных чувств миновало». «Я освобождаю человека от унизительной химеры, называемой совестью». «Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир, молодежь резкую, требовательную и жестокую. Я так хочу. Я хочу, чтобы она походила на молодых диких зверей». Гитлер заменил любовь расовым совокуплением. Вместо брака он преподнес немкам «одного парня на двадцать девушек». Он уничтожил семью, забрав себе детей. Он отдал школу на разгром. На место учителей сели тупые, кровожадные ефрейторы. Изображая из себя захолустного ницшеанца, Гитлер провозгласил «новую мораль» — культ грабежа, пыток, убийства. Этих людей трудно оскорбить — они сами называют себя жестокими и бессовестными. И вот в 1941 году СС двинулись на нас. Они, наверно, еще помнили школьные уроки. 4 августа 1941 г. 6 августа 1941 года Немцы педантично бомбят Москву: прилетают в пять или в десять минут одиннадцатого. Жалко Книжной палаты. Это был один из самых чудесных домов Москвы: старый особняк с колоннами. На улицах теперь много женщин с узлами: носят с собой самое ценное. Разрушено одно из зданий Академии, театр Вахтангова, астрономический институт, несколько десятков домов. В моей квартире воздушная волна произвела некоторый беспорядок. Пути этой «волны» воистину неисповедимы: она расплющила медный кофейник, но глиняные вятские бабы по-прежнему улыбаются. Наши собаки, два пуделя и скотчтерьер, при словах диктора: «Граждане, воздушная тревога» — прячутся под диваны. Среди людей некоторые оказались неожиданно храбрыми, другие трусливыми. Есть мужчины, которые мечтают, как бы с вечера забраться в метро, но таких немного. Большинство выносят бомбардировки спокойно. Многие охотно лезут на крыши. Гасить зажигательные бомбы — это новый излюбленный спорт москвичей. На заводах во время тревоги продолжается работа. В убежищах при газетах установлены линотипы, стучат ундервуды. Вчера был пятнадцатый налет на Москву. Я разговаривал с начальником противовоздушной обороны генерал-майором Громадиным. Это молодой человек. В его кабинете стоит койка: иногда генералу удается соснуть час-два. У него красные глаза: давно не высыпался. Генерал рассказывает, как наши артиллеристы сбивают осветительные ракеты неприятеля. Вчера на Москву летело свыше ста самолетов, но долетело всего несколько машин. Сильными были первые массированные налеты. Немцы тогда летали на малой высоте — четыре-пять тысяч метров — и скидывали тяжелые бомбы — до полтонны. Теперь они летают выше и бомбы у них измельчали. Наши летчики и артиллеристы сбили уже сотню немецких машин на подступах к Москве. В центре города, на площади Свердлова, стоят сбитые самолеты. Ребята толпятся вокруг. Старуха прошла мимо и сплюнула: «Нечисть!» Недалеко от дома, где я живу, бомбы попали в школу. Убиты дети. Не всех детей увезли... В скверах садовники аккуратно поливают цветы. Бескорыстные взломщики Доктор Геббельс заявил: «Против русских дикарей сражаются отважные германцы, бескорыстные крестоносцы, солдаты чести, свободные и дисциплинированные». Вот как рисует этих «солдат чести» командир 79-й германской дивизии, правда, не в газетной статье, но в приказе, на котором стоит «секретно»: «Ефрейтор 208-го пехотного полка Мюнх в течение продолжительного времени занимался взломом дверей и шкапов во французских домах, кражей белья и носильных вещей. Солдат 208-го пехотного полка Кауфман потребовал от французского трактирщика, чтобы француз доставил ему девушку для половых сношений. Когда тот отказался, он угрожал ему заряженным пистолетом. Семидесятитрехлетнюю женщину, к которой Кауфман обратился с подобным требованием, он ударил пистолетом по голове. Ефрейтор 179-го артиллерийского полка Крамер подделал удостоверение германской комендатуры города Сан-Дизье, которое дало ему право купить шубу. Солдат 226-го пехотного полка Вальтер изнасиловал одиннадцатилетнюю французскую девочку». Этот список можно было бы продолжить — в приказе перечислены тридцать наиболее отличившихся гитлеровцев. «Бескорыстный крестоносец» взламывал шкапы. «Рыцарь чести» насиловал девочек. «Цивилизованный германец» бил старуху пистолетом по голове. Генерал фон Браухич в приказе, снабженном той же роковой пометкой «секретно», скромно рассказывает о жизни своих подчиненных: «Военнослужащие всех рангов на улицах встречаются с женщинами, по всей видимости проститутками, показываются с ними в общественных местах. Несмотря на запрещение, солдаты берут с собой в машины особ женского пола, которые явно не имеют германского подданства. Пение и крики, вызванные чрезмерным употреблением спиртных напитков, вредят облику германской армии. В гостиницах, где проживают господа офицеры, устраиваются оргии с участием проституток. Возле домов терпимости стоят военные грузовики. Имел место случай, когда офицер, состоящий в высоком чине, был найден возле дома терпимости в бесчувственно пьяном состоянии». Так рисует германскую армию генерал фон Браухич. «Крестоносцы» в публичных домах пьянствуют и безобразничают. «Дисциплинированные солдаты» горланят и скандалят с уличными девками. Вот, наконец, третий эксперт — командующий 18-й дивизией. Он рассказывает о храбрости и дисциплинированности германских солдат. «Солдаты не отдают чести. Они небрежно одеты, лишены выправки, мало походят на солдат. Я запрещаю военнослужащим закупать продукты и носильные вещи для перепродажи. Я не могу допустить, чтобы машины были набиты женскими вещами. Я отдал под суд ефрейтора Кранца и солдата Галлера за увечья, сознательно причиненные себе с надеждой освободиться от военной службы. Ефрейтор Кранц заявил, что он предпочитает позорящий его приговор боевому посту... Участились случаи дезертирства. Я буду беспощадно карать малодушных, сеющих панику и отчаяние. В русском походе мы должны быть вдвойне бдительными и стойкими». Нужно ли говорить, что и на этом документе значится «секретно»? Но шила в мешке не утаишь — не выдать самострелов за храбрецов, и дезертиров не вырядить героями. Почему это происходит? Почему СС, месяц тому назад кричавшие: «В Москву!», теперь шлют стоим невестам меланхоличные письма? Почему на второй месяц войны против нас немецкие солдаты уже ведут дневники, полные отчаяния, похожие на страницы романа Ремарка? Почему пойманные диверсанты вдруг падают на колени и хнычут, вымаливая жизнь? Грабители и насильники никогда не бывают смелыми. Гитлеровскую молодежь воспитали на культе кулака, палки, плетки. Распущенные мальчишки участвовали в погромах, забирали «неарийские» шубы и часы. Они пытали в концлагерях арестованных. Они издевались над безоружными чехами. Они пошли на войну, как на базар — с мешками для провизии. Они пошли грабить и насиловать. Их послужные списки — перечни разграбленных магазинов и обесчещенных женщин. Им неслыханно повезло — Европа оказалась беспризорной. Париж плохо лежал, и гитлеровцы расхватили его по кускам. Они пьянствовали, грабили, и все это оставалось безнаказанным. Настал час проверки. Палачи и шпики не выдержали экзамена. Человек, привыкший унижать другого, прежде всего труслив — он знает, что и его могут унизить. Он либо стоит с плеткой, либо подставляет плетке свой зад. Отвага наших бойцов рождена любовью к свободной родине, чувством человеческого достоинства, пониманием человеческой солидарности. Гитлеровцы вопили: «Да здравствует война!», а когда дело дошло до настоящей войны, они начали вздыхать. Мы не упивались словом «война», но наши бойцы воюют просто, сурово и серьезно. А в голове немецкого солдата смутно рождаются первые мысли. Вот письмо солдата Франца: «Анна, я не могу спать, хотя все тело болит от усталости. В сотый раз я спрашиваю себя — кто этого хотел?..» Солдата Франца убили — на листке бледное рыжее пятно. Но скоро другие Францы спросят: «Кто этого хотел?» Может быть, Гитлер призовет тогда на помощь свою гвардию СС, убийц, воров, растлителей. Но «рыцари чести» предадут вчерашнего кумира. В записной книжке одного убитого СС я нашел среди записей о попойках и этапах следующий афоризм: «Вместе грабить, врозь умирать...» Так начинает разлагаться гигантская шайка гангстеров. Еще громыхают танки. Еще лежит в них краденое добро. Но «рыцари чести» уже пугливо озираются по сторонам, как будто сейчас их схватят за шиворот... 8 августа 1941 г. Еще одного В ночь на десятое августа над Москвой был сбит бомбардировщик «Хейнкель-111». В кармане одного из летчиков нашли записную книжку, изданную в Париже, для гитлеровцев. В этой книжке различные сведения, необходимые на войне, например, советы, какое вино пить с рыбой, какое — с птицей. Этот отдел называется: «Что нужно знать в стране вина». В голодном Париже, где матери ищут для детей картофельную шелуху, немецкие офицеры предаются гастрономии. И в записной книжке, предназначенной для убийц французских детей, мы читаем: «С рыбой уместней всего пить шабли». Засим даны образцы галантных разговоров: «Мадемуазель, свободны ли вы сегодня вечером? Я могу вас угостить мороженым». Рисунки представляют элегантных СС на парижских улицах, в кафе, в магазинах. Жизнь мародеров запечатлена для потомства. Краткий словарь называется: «Тысяча самых необходимых французских слов». Пожалуй, тысяча слов для гитлеровцев чересчур много — дикари обходятся с меньшим запасом. Но любопытен выбор слов. Раскрываю наугад страничку: месть, раса, пьяный, наручники, стрелять, бить, оскорблять, кричать, выстрел, свинья, плевать, кара. Владелец записной книжки, старший ефрейтор 12-го полка в Ганновере Альфред Куррле, с немецкой методичностью отмечал свои «подвиги». Он находился во Франции, в Бресте, и оттуда бомбил английские города. Особенно часто его посылали на Плимут. Записи об уничтожении английских домов перемежаются полезными справками: номер воротничка, номер текущего счета, адреса проституток. Еще шестого августа ефрейтор резвился во французском городке Шартре: запивал индюшку «поммаром». Седьмого его послали на восток — он должен был заменить летчиков, убитых нашими истребителями и артиллеристами. Для нападения на Москву германское командование отбирает СС с хорошим стажем. Куррле был породистым, и он бомбил даже английский крейсер «Эксетер». Переночевав в разоренной немцами Варшаве, Альфред Куррле 10-го вылетел на Москву. Он записал: «19 часов 43 минуты». Он оставил место, чтобы отметить, когда он вернется. Место осталось чистым — он не вернулся. Он учился, какое вино пить с индюшкой, — краденое вино с краденой индюшкой. В несчастной порабощенной Франции он оскорблял девушек. Он повторял по своему словарю: «Обыскать. Арестовать. Наплевать». На бреющем полете он расстреливал детей горняков в Сванси. Потом он осмелился показаться над Москвой. Когда такой Куррле летит вниз, чувствуешь не только радость — моральное удовлетворение. С благодарностью помянут наших зенитчиков вдовы Франции и матери Англии. С гордостью скажем мы: еще одного!.. 17 августа 1941 г. 24 августа 1941 года Еврейский митинг: для Америки. Выступали Михоэлс, Капица, Эйзенштейн. Вот мое выступление: Мальчиком я видел еврейский погром. Его устроили царские полицейские и кучка босяков. А русские люди прятали евреев. Я помню, как отец принес переписанное на клочке бумаги письмо Льва Толстого. Толстой жил в соседнем доме, я часто видел его, знал: это — великий писатель. Мне было десять лет. Отец читал вслух «Не могу молчать» — Толстой возмущался еврейскими погромами. И моя мать заплакала. Русский народ был неповинен в погромах. Евреи это знали. Я не слышал никогда злобных слов евреев о русском народе. И не услышу их. Завоевав свободу, русский народ забыл, как дурной сон, гонения на евреев. Выросло поколение, не знающее даже слова «погром». Я вырос в русском городе, в Москве. Мой родной язык русский. Я русский писатель. Сейчас, как все русские, я защищаю мою родину. Но гитлеровцы мне напомнили и другое: мать мою звали Ханой. Я — еврей. Я говорю это с гордостью. Нас сильней всего ненавидит Гитлер. И это нас красит. Я видел Берлин прошлым летом — это гнездо разбойников. Я видел немецкую армию в Париже — это армия насильников. В Германии погромщики не окружены презрением, там они маршалы и академики. Все человечество теперь ведет борьбу против Германии — не за территорию: за право дышать. Нужно ли говорить о том, что делают эти «арийские» скоты с евреями? Они убивают детей на глазах у матери. Заставляют стариков в агонии паясничать. Насилуют девушек. Режут, пытают, жгут. Страшными именами останутся Белосток, Минск, Бердичев, Винница. Чем меньше слов, тем лучше: не слова нужны — пули. Они ведь гордятся тем, что они — скоты. Они сами говорят, что фионские коровы для них выше стихов Гейне. Они оскорбляли перед смертью французского философа Бергсона — для этих дикарей он только «Jude». Они приказали отдать в солдатские нужники книги польского поэта Тувима: «Jude». Ученый Эйнштейн? «Jude»! Художник Шагал? «Jude»! Поэт Пастернак? «Jude»! Да можно ли говорить о культуре, когда они насилуют десятилетних девочек и закапывают живых в землю? Когда я думаю, что существует страна Гитлера, Германия, что она поработила десять стран, мне стыдно глядеть другу в глаза, мне больно слышать голос близких — как вынести, что гитлеровцы похожи, хотя бы внешне, на людей? Моя страна и впереди всех русский народ, народ Пушкина и Толстого, приняла бой. Я обращаюсь теперь к евреям Америки, как русский писатель и как еврей. Нет океана, за который можно укрыться. Слушайте голоса орудий вокруг Гомеля! Слушайте крики замученных русских и еврейских женщин в Бердичеве! Вы не заткнете ушей, не закроете глаз. В ваши ночи, еще полные света, войдут картины зверств гитлеровцев. В ваши еще спокойные сны вмешаются голоса украинской Лии, минской Рахили, белостокской Сарры — они плачут по растерзанным детям. Евреи, в вас прицелились звери. Чтобы не промахнуться, они нас метят. Пусть эта пометка станет почетной! Наше место в первых рядах. Мы не простим равнодушным. Мы проклянем тех, что умывают руки. Я обращаюсь к вашей совести. Помогите всем, кто сражается против лютого врага! На помощь Англии! На помощь Советской России! У нас сейчас вечер, 8 часов, темно. В застенках захваченной Белоруссии немцы пытают людей. Вы слышите их крики? У нас сейчас вечер. Гитлеровские самолеты убивают детей и стариков в местечках Украины. Вы слышите их агонию? У вас сейчас еще день. Не пропустите его! Пусть каждый сделает все, что может. Скоро его спросят: что ты сделал? Он ответит перед живыми. Он ответит перед мертвыми. Он ответит перед собой. Мы не забудем! Жена немецкого фельдфебеля Франца Брумера пишет мужу из города Мариенбурга в Восточной Пруссии: «Знаешь, Франц, я никогда не забуду того дня, когда я впервые в жизни услышала выстрелы. Как раз сегодня исполнится неделя. Мы так хорошо спали, и вдруг я проснулась и услыхала тяжелые удары, и тогда я сразу поняла, что стреляют. Мы тогда должны были пойти в подвал — знаешь, где находится керосин. Я думаю, что там мы подвергались большей опасности, чем наверху. Потом тревога была снова во вторник днем и вечером. В общем, мы были четыре раза в подвале. А в Эльбинге были восемь раз, там было еще хуже. Ну, вот и мы получили немножко войны...» Итак, фрау Брумер никогда не забудет того дня, когда услышала первый выстрел! Они думали воевать деликатно, не пугая своих супруг. Они думали, что их невест не потревожат предсмертные крики француженок, полек и сербок. Мы помним июньское утро. Наша страна жила мирной жизнью. Колосились нивы неслыханного урожая. В Москве люди шли на Сельскохозяйственную выставку. Готовились к юбилею Лермонтова. Уезжали в дома отдыха. И тогда немцы напали на нас. Этих первых выстрелов мы не забудем. Штыками ощетинилась наша страна. Ненавистью переполнилось сердце каждого. Мы не забудем и того, что было потом. Мы не забудем, как гитлеровцы разрушают наши города, убивают наших детей. Мы ничего не забудем. Мы молчим о каре — слово теперь принадлежит пушкам. Но мы знаем одно: они больше не будут спокойно спать — эсэсовские дамы. Они уже услышали первые выстрелы. В Берлине они ознакомились с голосами русских бомб. Гитлеровцы хотели уничтожить весь мир, — среди пустыни Германия будет спокойно дрыхнуть, наевшись краденым хлебом... Этому не бывать! Они уже получили, как изволит выражаться фельдфебелевская жена, «немножко войны». Они ее получат полностью, не по карточкам. Они ею насытятся. Они проклянут тот день, когда Гитлер погнал их на нашу страну. Они шли на нас и весело пели: Ха-ха! Ха-ха! Это будет веселая война! У ворот стояли эсэсовские дамы — супруги обер-лейтенантов и невесты унтер-палачей. Эти фрау и фрейлейн подхватывали: Ха-ха! Ха-ха! Веселая война! Теперь Елена Энцлейг пишет унтер-офицеру Фрицу Вальтеру из Кранценгена в Восточной Пруссии: «Я была на вокзале. Это был бесконечно длинный поезд. Я едва могла смотреть на несчастных. Это ужасно! Среди них еще совсем молодые. В большинстве ранения в руки и в голову. Я не могу теперь развернуть газеты — они полны объявлениями об убитых на русском фронте». Они больше не поют. Они теперь видят, что такое «веселая война». Эта война придет к ним. Они не спрячутся от нее ни в какие подвалы. Они начали. Мы кончим. 27 августа 1941 г. На запятках Это было в Риме. К автомобилю подошел немецкий полковник. Итальянский генерал Макарио бросился к машине и услужливо открыл дверцу. Наверно, генерал пожалел, что перед ним автомобиль, а не экипаж — ему захотелось встать на запятки... Пословица говорит: «Куда барин, туда и дворня». Хорошо было лакеям, пока Гитлер разъезжал по курортам. Петушком проследовал Муссолини в Ментону. Хорти любезно заглянул в Югославию. Это были пикники. Но вот сумасбродный барин собрался в Москву, и злосчастная дворня кряхтит. В газетах лакеи именуются «союзниками». У Гитлера много челяди: титулованные дворецкие, лакеи с аттестатами с последнего места. Здесь и «потомок Юлия Цезаря» битый Муссолини, и регент Хорти, и уголовник Павелич, и опереточный генерал Антонеску. Немцы души не чают в своих «союзниках». Итальянцы? «Макаронщики». «Победители при Капоретто». «Чемпионы бега». «Газели с петушиными перьями». «Чистильщики сапог». Венгры? «Пьянчужки». «Гусары на волах». «Цыгане». «Конокрады». «Тухлый гуляш». Румыны? «Кочубы». «Мамалыжники». «Альфонсы». «Мародеры». «Хабарники». Словаки? «Вшивое племя». «Босые паломники». Эти определения взяты мною из дневников и писем гитлеровцев. Четыре «союзных» страны — Италия, Румыния, Венгрия, Югославия — это четыре страны, оккупированные немцами. В одном итальянском городе француз подал прошение: он хочет проехать во Францию, в оккупированную зону. Итальянский губернатор игриво ответил: «Зачем, мой друг? Вы ведь находитесь в оккупированной немцами зоне...» Скверно жилось итальянцам под пятой чернорубашечников. Но немцы оказались еще хуже. И римляне острят: «При Муссолини все-таки было лучше...» Немцы выкачали из Италии все продовольствие. Итальянцы, как известно, обожают макароны. Прежде они ели белые макароны из кубанки. Они быстро наворачивали на вилку макароны. А теперь макароны по карточкам. Навернешь разок на вилку, и тарелка пустая... Макароны теперь черные. Гитлер говорит итальянцам: «Отправляйтесь на Кубань — там растут макароны». Но итальянцы не любят воевать. Они предпочли бы сидеть у себя дома, работать и покупать муку. Как сказал один берсальер: «Лучше кубанка в Милане, чем пуля на Кубани...» Но куда барин, туда и дворня. По приказу Гитлера Муссолини отправил на восток своих солдат. Газета «Пополо д'Италиа» пишет: «Итальянские солдаты уничтожат Российскую империю, состоящую из большевиков, киргизов, самоедов и хазар». Итальянские журналисты и прежде не отличались грамотностью, а на черных макаронах они, видимо, окончательно отупели. Что касается итальянских солдат, которые должны уничтожить хазарскую империю, те колеблются между двумя выходами: сдаться в плен или сбежать по дороге. В Бухаресте «исчезли» триста итальянских героев. Это первые жертвы итальянской армии в России... Барин просчитался. Муссолини послал на Украину три итальянские дивизии. А Гитлеру пришлось послать в Италию двенадцать немецких дивизий — у себя дома итальянцы стали воинственными. Недавно в Риме, на вилле Боргезе, произошло настоящее сражение. Два немецких офицера были выведены из строя: их били кто палкой, кто кулаками... Толстый Муссолини занимает на запятках первое место. Другим пришлось потесниться. Злится регент Хорти. Он всю жизнь кричал о «короне святого Стефана». И вот вместо короны — запятки... Венгрия кормит гитлеровскую ораву. Сами венгры живут впроголодь. Хорти приходится держать огромную армию против... венгров. В одном Будапеште десятки тысяч полицейских, шпиков, четыре жандармских полка. Где же тут завоевывать Россию? Позади, на запятках, дрожит генерал Антонеску. Этот боится раскрыть рот — в Бухаресте немецкий наместник Киллингер. Киллингер приказывает, Антонеску выполняет. На хороших вагонах написано «фюр официрен» — для немецких офицеров. Румынских офицеров туда не пускают. В лучшие гостиницы Бухареста вход румынам запрещен. Казино в Констанце отдали немцам под гараж. Немцы получили «в аренду» нефтяные промыслы, железные дороги, заводы. Они захватили все банки. Они вывозят в Германию продовольствие. До войны содержание немецкой армии обходилось румынам в четырнадцать миллиардов — это половина румынского бюджета. Теперь румыны должны платить дань Гитлеру не только деньгами — кровью. Каждый день сотни румынских солдат сдаются в плен. Напрасно румынские генералы стращают своих подчиненных. Напрасно сигуранца расстреляла на улицах города Яссы семьсот невинных — среди них женщин и подростков. Что сказать о словацком президенте Тисо? В прекрасной стране, где слово «Россия» произносится всем народом благоговейно, сотня проходимцев, вроде Тука, Маха и компании, называет себя «правительством». Я знаю хорошо одного из них — словацкого Геббельса — директора пропаганды Тидо Гашпара. Это малоприметный литератор и высокоталантливый пьяница. Он не выходил из кабаков Братиславы. Лет десять тому назад ему пришла спьяна забавная мысль — выставить свою кандидатуру в парламент. Он раздобыл несколько тысяч крон и роздал их лакеям излюбленного им кабака и таперам десяти борделей. Он получил на выборах двадцать семь голосов: одиннадцать таперов, трое вышибал и тринадцать лакеев. Вот этот развеселый Тидо теперь предлагает словакам идти завоевывать Москву... Едет барин. Дворня тихонько ворчит. Лакеи ссорятся между собой. Все эти прохвосты ненавидят друг друга. Хорти ворчит, что его обокрал Антонеску — поделили Трансильванию так, что Клуж оказался на самой границе, Антонеску обвиняет Хорти в разбое: помилуйте, венгры отхватили кусок румынской Трансильвании! Вдруг раздается вопль уголовника Павелича — только-только Гитлер установил «независимость» Хорватии, как Муссолини ворвался в эту «независимую» Хорватию и стал грабить. А Муссолини тоже в обиде — пять лет человек воюет, били его под Гвадалахарой, били на Эбро, били в Африке, били у Корчи, — словом, били повсюду, а ничего за побои не выдали... И рядом с ним скулит Тисо: венгры отобрали Кошицы!.. На запятках идет своя война. Лакеи в душе ненавидят злого, маниакального барина. Но лакеи не устраивают революций. Лакеи тихонько плюют в спину, а когда барин поворачивается, услужливо сгибаются. Я говорю о презренных людях — о Муссолини, Антонеску, Хорти, Тисо. Они заслоняют свои народы. Но народы — не лакеи. Народы, порабощенные немцами, умеют ненавидеть. Это — святая ненависть, и никогда мы не смешаем порабощенные гитлеровцами народы ни с их жалкими «правителями», ни с гитлеровской Германией. Прекрасная Италия, страна, которую издавна любили русские — от Гоголя до Горького. Свободолюбивый итальянский народ, красные рубашки Гарибальди, край великих поэтов и художников. Можно ли смешать итальянский народ с лакеями Гитлера? История новой Италии началась с крика миланцев: «Вон немцев!» И скоро эти слова снова прокатятся от Альп до Калабрии. Венгрия долго сражалась за свою свободу. Венгерские патриоты дрались против немецких насильников. Жива Венгрия Кошута. Жива Венгрия Петефи. Не могут гордые венгры стать ландскнехтами чванливых немецких пройдох и выскочек. Русская кровь помогла некогда румынам освободиться от ига. Правящая клика держала хороший, трудолюбивый народ в темноте и в унижении. Но румынские крестьяне любят свою родину, свой язык. Они любят свободу. Шут Антонеску сказал Маниу: «Если Германия будет разбита, я застрелюсь». Лакей хочет театрально погибнуть вместе со своим барином. А румынский народ знает, что, когда Германия будет разбита, Румыния воскреснет. Родная Словакия, край «будителей», край, где улицы носят имена Пушкина и Толстого; родина Кукучина, которого прозвали «словацким Гоголем»; страна радушных землепашцев и пастухов; страна чудесных писателей — Урбана, Илемницкого, Новомеского; пленная Словакия — она ждет часа, чтобы протянуть нам руку. Неуютно на запятках у Гитлера. В страхе лакеи спрашивают: «Куда барин едет?» Геббельс отвечает: «Барин едет в Москву». Мелькают верстовые столбы, сожженные города и катакомбы — горы немецких трупов. А вот и убитые венгры. Вот мертвые румыны... Очередь за итальянцами... И Муссолини — он любит театральные изречения — шепчет полумертвому Хорти: «Барин едет не в Москву. Барин едет в могилу». 28 августа 1941 г. 28 августа 1941 года Скуп язык военных сводок. Дважды в день страна узнает, что бои продолжаются на всем огромном фронте. Мы знаем, как тяжелы эти бои. Мы знаем, что немцы заняли ряд наших городов. Но мы не теряем бодрости. Слова, сказанные в первый день войны, — «победа будет за нами» — живы в сердце каждого советского гражданина. Есть много симптомов, позволяющих нам с доверием ждать развязки. Сопротивление с каждым днем крепнет. Наша авиация на фронте начинает теснить немецкую. Наша артиллерия с первых дней войны показала свою силу. Повысилась насыщенность частей автоматическим оружием. В тылу врага растет партизанское движение. Противовоздушная оборона оградила Москву и Ленинград от варварского разрушения, задуманного гитлеровцами. На Смоленском направлении наши части ведут успешные контратаки. Нападение на Киев было дважды отбито, и враг отогнан от подступов к городу. На левом берегу Днепра наши части готовы отразить удар противника. Ленинград ощетинился, превратился в крепость, и, хотя враг еще далеко от его ворот, каждый ленинградец дышит суровым и живительным воздухом фронта. Потери германской армии исключительно велики. За два месяца немцы потеряли столько же, сколько за 1914–1915 годы. Их пугают зимние холода. А пока что зарядили дожди, а на проселочных дорогах в глине буксуют, вальсируют, падают немецкие машины. Немецкая мотопехота, пехота, которая не любит ходить пешком, может завязнуть... Все это известно американцу из газетных телеграмм и обзоров. Я сегодня хочу указать на другой фактор — психологический, взглянуть на события глазами не стратега, но писателя. Русский народ никогда не страдал национализмом. Нет ничего более далекого от русского сознания, чем национальное чванство, выразившее себя в песне «Дойчланд юбер аллее». Чужестранец не вызывал в нашей стране ненависти или презрения. Я думаю, что многие русские в годы мира даже не знали, насколько они привязаны к своей стране. Наш народ отличался миролюбием. Идея войны и ее атрибуты его мало увлекали. Тем поразительней патриотизм, родившийся в огне этого лета. Он лишен внешнего пафоса, он избегает больших слов, театральных жестов. В нем есть гордость. Вчера я провел день с одним раненым пулеметчиком, Трегубовым. До войны он был веревочником, как его отец. Он любит свое ремесло, с удовлетворением говорит, что они в Смоленске вили самые лучшие веревки на экспорт. Голубые глаза, льняные волосы. В нем ясность, спокойствие. Он вышел из окружения и вынес свой пулемет. Возле Смоленска он защищал переправу через реку. Его жена и дочь были в Смоленске, он не знает, что с ними стало. К пулемету он относится любовно. Он мне сказал: «Я человек не злой, но когда я увидел, как гитлеровцы падают, — чуть не закричал от радости»... Таких, как он, миллионы. Оборона родины — не лозунг, не фраза, это плотное, горячее чувство, связь человека с землей, с родителями, с детьми, с тысячами нежных воспоминаний, глубоких подробностей, о которых не расскажешь даже другу, но которые в ответственную минуту становятся самыми важными. О врагах наш народ говорит: «немец», «фашист» — или даже еще короче: «он». Несколько дней тому назад возле Смоленска к нашему командиру подошла крестьянка, старушка, говорит: «Товарищ командир, как мне — готовиться?» — «А куда тебе готовиться, бабушка?» — «Как куда? Если немец идет, я должна мой дом сжечь, удавить куриц...» Когда-нибудь новый Толстой опишет эту старую крестьянку. Кто не знает, как привязаны крестьяне к своей избе, к своей корове!.. И вот они все бросают, жгут добро, чтобы оно не досталось врагу. В этой самоотверженности целого народа — залог победы. Ложь Есть испанская песенка: Одни поют, что знают. Другие знают, что поют. Гитлер знает, что он поет. Немцы поют, что знают. Они воспитаны на «эрзацах». Они носят ботинки из трухи, носки из стекла, шляпы из целлюлозы. Они едят мед, сделанный из опилок, сахарин, пудинги, приготовленные из таблеток. Они больше не различают подделки. Они не отличают правды от лжи. У них луженые желудки, слепые глаза и пустое сердце. Придя к власти, Гитлер стал истреблять правду. Он заявил: «Путем умной и неустанной пропаганды можно заставить народ верить во что угодно, в то, что небо — ад, или в то, что самое несчастное существование — райское». Гитлер перевыполнил программу: он заставил немцев поверить в то, что гитлеровский ад — райское существование. В 1933 году Гитлер поручил доктору Геббельсу создать «министерство пропаганды». Геббельс из-за своего карликового роста любит все «колоссальное» — огромные кабинеты, грандиозные диваны, картины во всю стену. Геббельс начал фабриковать колоссальную ложь. Рецепт был составлен самим Гитлером: «Чем проще вздор, которым мы наполняем наш обман, чем больше он рассчитан на примитивные чувства, тем успешнее результаты». Ложь изготовляется для внутреннего употребления и на экспорт, военная и гражданская. При германской армии существуют особые «роты пропаганды» — «РК». Они напоминают химические батальоны, которым поручены ядовитые газы. Такие роты состоят из разных взводов. Имеется, например, взвод художников, которые должны, как гласит инструкция, «без всякого воображения, с помощью ручных мольбертов, показывать ничтожество врагов и вдохновенное лицо германского солдата». Взвод радистов передает различные военные шумы, как-то: разрыв снарядов или шум танков, прерываемые истерическими выкриками: «Мы снова победили! Вот идут неисчислимые колонны пленных!» По словам инструкции, составляемой Геббельсом, «РК» должны заниматься «активной пропагандой», а именно: «путем распространения ложных и деморализующих сведений сломить волю противника к сопротивлению». Это относится к пропаганде среди врагов Гитлера. В самой Германии роты «РК», согласно той же инструкции, должны «монтировать факты, в случае необходимости видоизменяя их, чтобы поддержать настроение немецкого народа». Что значит «видоизменять факты, монтируя их»? Это значит попросту врать. Нужно врать врагам. Нужно врать и своим. Во время войны с Францией немцы устраивали радиопередачи, выдавая свои станции за французские; передавали ложные военные сведения; сообщали женам французских солдат, будто их мужья убиты на фронте; находя тело убитого командира, уверяли, что он сдался в плен и «высказался за Гитлера». Французам они говорили, что ненавидят англичан, англичанам — что ненавидят французов. В передачах для Америки они прикидывались культурными людьми, пацифистами, говорили о культе семьи, даже цитировали Байрона и Шелли. А в это время СС покрывали самок и жгли книги. Немецкие журналисты — это чиновники министерства пропаганды. Даже в мирное время они носили форму и подчинялись военной дисциплине. Каждый день Геббельс придумывает, о чем врать. Это сообщается в циркулярной форме всем газетам с пометкой «совершенно секретно». В министерстве существуют разные отделы. В одном описывают зверства, в другом подбирают данные этнографического порядка, в третьем изготовляют лубки о непомерной храбрости немцев. Все это ежедневно выдается населению Германии в неограниченных дозах. Перед захватом Чехословакии Геббельс приказал своим журналистам приналечь на «чешские зверства». Работало восемьдесят шесть журналистов. Вдруг оказалось, что мирные, добродушные чехи насиловали немок и пытали немцев. А гитлеровцы тем временем, ворвавшись в Богемию и Моравию, убивали чехов. Потом понадобились «польские зверства». Наконец обер-погромщики заявили, что погромы устраивают... евреи. Черным по белому они напечатали: «Погромы, устроенные евреями в Бромберге, Львове и Белостоке». Другие писаки, с дипломами докторской степени, устанавливают, что немцы владели всем миром и что все страны, по существу, заселены немцами. Вот несколько открытий этих господ. Марсель и Лион были древними германскими колониями. Испания — страна германской расы. Шекспир был немцем. Коперник был немцем. Кирилл и Мефодий выросли на немецкой культуре. Киевское княжество находилось в германской орбите. Индия по крови связана с Германией. Для изображения немецкого героизма требуется посредственный журналист и четверть шнапса. Мы узнаем, что один немецкий летчик сбил триста восемьдесят английских самолетов, что возле Скутари шесть немецких солдат уничтожили сербскую дивизию и что три немецких солдата окружили советский батальон. Имеются в министерстве и другие секции. В одной из них изготовляют корреспонденции и фотографии, показывающие, как жители захваченных немцами стран радуются захватчикам. Описывают лирически: «В Париже женщины кидали нам розы...», «В Салониках женщины целовали офицеров, давали солдатам вино», «В Смоленске жители, увидев наши танки, плакали от радости». Фотографии трюкованные. Вот как приготовили фотографию «немцы в Париже»: по мостовой идут гитлеровские солдаты, а толпа на тротуарах взята с фотографии, сделанной до войны, — парад на Елисейских полях. Кто расскажет берлинцам, что в Салониках люди кидались в море, только чтобы убежать от немцев, что они вошли в брошенный жителями Париж, что в Смоленске они нашли пустой город? Война против Советского Союза вдохновила Геббельса. Этот колченогий выродок с заячьей губой день и ночь врет — на конвейере. Вот образцы его творчества: «Берлин, 27 июля. После вчерашней бомбардировки Москва горит. Уничтожены восемьсот домов. Кремль представляет собой дымящиеся развалины. Разрушен Могэс. В Москве нет больше электричества и трамвай не работает». «Берлин, 8 августа. Москва опустела. Половина министерств уже выехала в Горький, другая половина будет отправлена в Нижний Новгород». Знать, что Нижний — это тот же Горький? Его учили не географии, а вранью. Что касается немцев, они все проглотят... Да и как проверить, сидя в Берлине, стоит Москва на месте или не стоит? Берлинские кумушки, сидя в бомбоубежищах (с неба падают то английские бомбы, то советские), подбадривают друг друга: «У нас есть новое оружие». Да, у них есть «новое оружие» — это ложь, безнаказанная, беспримерная, беспардонная. Когда обманывают ребенка — обидно, хочется прогнать обманщика. Но немцы не детки, это великовозрастные детины с линотипами и автоматами. Почему их обманывают? Потому что они хотят быть обманутыми. Им страшна правда. Вожак «гитлеровской молодежи» Бальдур фон Ширах сказал: «Лучше германская ложь, чем человеческая правда». А один из его выкормышей, ефрейтор Штампе, записал в дневнике: «Сегодня передавали по радио, что три миллиона русских окружены и мы их через неделю всех перебьем. Может быть — вранье, но во всяком случае приятно слушать...» Они выросли на лжи, это их материнское молоко. Они лгут подчиненным. Они лгут начальникам. Они лгут за границей. Они лгут у себя дома. Они не могут не лгать. Когда они подписывают договор о дружбе, они прикидывают, куда бы кинуть бомбу. Когда они говорят о культуре, это значит, что через час они будут грабить, а через два вешать. Спорить с ними? — Штыками. Опровергать их ложь? — Пулями. 29 августа 1941 г. Война нервов Во время первой мировой войны я был на Западном фронте. Я видел, как немцы штурмовали форты Вердена. Они шли рядами под огонь и падали. Вслед шли другие. Земля была покрыта немецкими трупами. Но каждый день новые полки шли в атаку. Они казались непоколебимыми. А потом настал день, и они не вышли из окопов. Они сидели как мертвые: их нервы не выдержали. Это было осенью 1918 года — они перечисляли свои победы: «Мы в Брюсселе, мы в Белграде, мы в Бухаресте, мы в Киеве». И вдруг повернули с фронта домой: победители превратились в дезертиров. Главнокомандующий германской армией послал к союзникам парламентариев: он молил о перемирии. Поразительна легкость, с которой немцы переходят от упоения к отчаянию, от самодовольства к самоуничижению, от педантизма к анархии. Все знают, что немцы аккуратны. Эта аккуратность доходит до безумия. В берлинских квартирах я видел на сахарнице надпись: «сахар», на выключателе указание «свет — вверх» (это у себя в комнате!). Когда немец путешествует, он везет зонтик в футляре, и на футляре написано «зонтик». Но от фанатичного порядка он легко переходит к полному беспорядку. В захваченных странах немцы ведут себя, как дикари: ломают, жгут, режут племенных коров, рубят плодовые деревья. Как-то в Берлине была демонстрация гитлеровцев — года за два до воцарения Гитлера. Полиция разгоняла демонстрантов. Это происходило в парке. Убегая от полицейских, гитлеровцы бежали по дорожкам — они боялись помять газон: за это полагалось три марки штрафа. А теперь они с увлечением вытоптали пол-Европы. Прошлым летом в Берлине я видел забавную сцену. Автомобилей в городе почти не было за отсутствием бензина. На людном перекрестке стояла толпа пешеходов. Мостовые были идеально пусты, но люди глядели на красный диск светофора и, как завороженные, не двигались. И вот этим сверхдисциплинированным немцам их командиры вынуждены ежедневно напоминать: нельзя напиваться до бесчувствия, нельзя терять в лесу пулеметы, как булавки, нельзя скидывать бомбы в болото, когда их приказано скидывать на город. Они начали войну против нас с истерических восторгов. Они каждый день «уничтожали» Красную Армию. Они каждый день «ликвидировали» советскую авиацию. Нельзя было понять, как можно в третий или в четвертый раз «уничтожить» авиацию, которая уже была «уничтожена» за неделю до того. По радио они прерывали военные сводки кошачьими концертами: били в барабаны, дули в трубы, мяукали «гейль», пускали хлопушки. Теперь их дикторы меланхолически говорят: «Сопротивление красных растет». На убитом ефрейторе Рузаме нашли три письма: он не успел их отправить. Первое письмо помечено 31 июля. В нем чувствуются первые сомнения: «Прошло уже шесть недель, как мы находимся в чужой стране. Войну на востоке мы представляли себе иначе. Мы знали, что русские будут драться, но никто не предполагал, что они будут так отчаянно драться. Мы принимали участие в боях в районе Орши. Надеемся увидеть скоро русскую столицу. Тогда эта ужасная война кончится...» Прошла всего неделя, и 5 августа ефрейтор пишет: «У нас одно желание — скорее бы кончилась эта ужасная война! Если Москва падет, русские увидят безнадежность своего состояния. Но я думаю, что лучше было бы не начинать этой войны. Во всяком случае, то, что мы пережили в России, нельзя сравнить с Францией и Польшей. Здесь в любой день можно потерять жизнь...» Прошел еще один день. Ефрейтор не потерял тогда свою жизнь. Он сел за письмо 6 августа. Но, видно, день был с переживаниями. Может быть, ефрейтор ознакомился с нашей артиллерией — ее немцы как-то особенно не любят. Во всяком случае, 6 августа он написал коротко: «Вы интересуетесь, когда мы наконец-то будем в Москве. Теперь это дело затягивается — русские обороняются отчаянно». Дело действительно «затягивается». Другой ефрейтор, Херберт, пишет брату: «Я могу тебе только сказать, что стоит больших нервов ездить по русским дорогам — отовсюду стреляют». Нервы гитлеровцев начинают пошаливать. За семь дней ефрейтор Рузам скис. Мы должны глядеть на географическую карту. Мы должны глядеть и на календарь. Каждый день приближает гитлеровских неврастеников к развязке. Они придумали «войну нервов». Не они ее выиграют. 4 сентября 1941 г. Василиск Наши летчики везут немцам гостинцы. Иногда они берут не бомбы, а листовки. В листовках мы говорим немецкому народу: погляди, чем ты был и чем ты стал. Ты был народом Канта и Гете, Маркса и Гейне. Ты стал солдатом шулера Геббельса, бандита Геринга, сутенера Хорста Весселя. Ты был усидчивым тружеником и философом. Ты стал кочевником и убийцей. До Гитлера ты строил больницы и школы, заводы и музеи. С Гитлером ты разрушил заводы и музеи. С Гитлером ты разрушил Роттердам и Варшаву, Орлеан и Белград. Тебе лгут, и ты лжешь: ты повторяешь ложь твоих господ. Тебе дают клейкую жижу из опилок и говорят, что это — мед. Ты морщишься, но ешь. Тебе разрешают случаться, как племенному быку, и говорят, что это — любовь. Ты работаешь и ты умираешь ради магнатов Рура, ради прусских помещиков, ради банды хапунов. Тебя уверяют, что это — «социализм». Ты самодовольно пыхтишь и повторяешь на всех перекрестках Европы: «Я национал-социалист». Спроси господ Феглера и Круппа, сколько они заработали на войне. Химический трест «16» с начала войны увеличил выпуск акций на сорок три миллиона. Трест «AEG» увеличил свой капитал на сорок миллионов. Два миллиона убитых или покалеченных немцев — с каждого убитого, с каждого покалеченного акционеры «IG» или «AEG» получили по двадцать марок чистоганом. Спроси Геринга, сколько он заработал на народном горе. Он не ответит. Но финансовый инспектор Бразилии ответил за него: у Геринга в бразильском банке миллион двести пятьдесят тысяч долларов. Ты думаешь, что ты воевал во Франции, чтобы освободить эльзасцев? Нет, ты воевал потому, что концерну Рехлинга нужны были заводы и копи Франции. Ты думаешь, что ты захватил Чехословакию, чтобы спасти судетов? Нет, «Германскому» и «Дрезденскому» банкам захотелось присвоить банки Чехословакии. Каждый день в Германии умирают от голода дети. Картофельная кожура стала основой питания. Работницам снятся булки. Они не смеют и во сне мечтать о масле. Но каждый день магнаты Круппа переводят в Бразилию и Аргентину награбленные миллионы. Роскошно живут Круппы и Феглеры. Геринг тратит на своих охотничьих собак сотни тысяч марок. Его кобели едят лучше, чем немецкие рабочие. Ты называешь это «социализмом»? Глупец, ты повторяешь чужую ложь. Ты был народом-диалектиком. Ты стал солдатом-попугаем. У немецких помещиков огромные поместья. На них работают тысячи батраков. Фельдмаршал фон Браухич называет себя скромно «хуторянином». У этого хуторянина три тысячи га пахотной земли. Его батраки едят пустую похлебку и спят в нетопленых бараках. Таков «социализм» Гитлера. Немецкие капиталисты хотят овладеть нефтью Баку, пшеницей Украины, нашим марганцем, нашей сталью, нашим лесом. Они говорят себе: это — «крестовый поход». Значок свастики, похожий на спину паука, они называют «крестом», разбойный набег — «крестовым походом». Они лгут, и они научили тебя лгать. Им нужна бакинская нефть. Твоим офицерам хочется получить по сто га нашего чернозема или должность гаулейтера в России: они воюют, чтобы грабить. Да и ты к нам пришел с мешком для добычи. Стыдно читать письма немецких женщин. Все они просят своих мужей прислать им меховые манто, чулки или украинское сало. Они стали соучастницами гигантского грабежа. Ты говоришь после этого о рыцарстве гитлеровской Германии? Лучше молчи! Ты говоришь о «новом порядке» в Европе? Спроси, что думают о тебе французы и поляки, норвежцы и сербы. Тебя повсюду ненавидят. Ты стал пугалом народов. Ты говоришь о культуре, но ты погрузил свою страну, а потом захваченную тобой Европу в ночь. Ты воскресил пытки средневековья. Ты несешь народам кнут и виселицу. Ты не хочешь знать, кто ты. Но ты должен это знать. Ты должен понять, что ты слышишь ложь, говоришь ложь, ешь ложь и ложью дышишь. Сосчитай, сколько твоих знакомых уже убито в России. Пока ты еще можешь их сосчитать. Потом тебе придется считать уцелевших. Кто автор братских могил на полях Белоруссии и Украины? Твои господа. Посмотри — кругом тебя развалины. Что стало с Кельном? с Гамбургом? с Дюссельдорфом? Как выглядит главная улица Берлина — Унтер ден Линден? Если ты не научился понимать человеческие слова, слушай язык фугасок. Почему разрушаются немецкие города? Потому что Гитлер — это война, потому что Гитлер послал своих летчиков на Лондон и на Ковентри, на Москву и на Ленинград. Ты получаешь за разрушенные дома. Ты получаешь за пролитую кровь. Ты получил до сих пор только задаток. Но ты получишь все сполна. Вот что говорят наши листовки немецким солдатам. В древности люди считали, что существует мифический зверь василиск. По описанию Плиния, василиск — ужасен. Когда он глядит на траву, трава вянет. Когда он заползает в лес, умирают птицы. Глаза василиска несут смерть. Но Плиний говорит, что есть средство против василиска: подвести его к зеркалу: гад не может выдержать своего собственного вида и околевает. Фашизм — это василиск. Он несет смерть. Он не хочет взглянуть на самого себя. Германия боится зеркала: она завешивает его балаганным тряпьем. Она предпочитает портреты чужих предков. Но мы ее загоним к зеркалу. Мы заставим немецких фашистов взглянуть на самих себя. Тогда они сдохнут, как василиск. Кидайте бомбы, товарищи летчики! Кидайте и листовки... Гитлеровцы не уйдут от фугасок. Они не уйдут и от зеркала. 19 сентября 1941 г. Пауки в банке Солдат Рудольф Ланге немецкого мотополка был образцовым гитлеровцем. Найденный на его трупе дневник — это автопортрет фашиста. Дневник начинается за десять дней до войны. У Ланге болит нога. Он жалуется: «Пальцы распухли. Унтер-офицер Функе и ефрейтор Барч травят меня, считают, что я симулирую. Но я еще доберусь до этих подлецов!» 19 июня гитлеровцам сообщают, что предстоит набег на русскую землю — в перспективе жареные куры и Железные кресты. Нога все еще болит, но Ланге боится опоздать на грабеж: «Наш фельдфебель позвал меня и сказал, что я должен остаться из-за ноги. Остаться! Ни за что!» Еще войны нет. Еще они стоят в польском городе Модлине, но у Рудольфа боевой зуд. Он пишет: «Прибыл с товарищами по оружию в грязное гнездо, теперь, во всяком случае, принадлежащее Германии. Приятнее всего было бы расстрелять этот сброд. Я никогда не думал, что могут существовать такие истощенные субъекты. Когда видишь поляков, охота берет потянуть за курок. Ну, погодите, мы еще до вас доберемся!» 19 июня вечером лейтенант Биндер читает солдатам воззвание фюрера. Ланге в восторге. Он пишет: «В приказе нашего дивизионного командира говорится, что цель похода — Москва! Ура! Настроение у нас задорное. Над слезами мы смеемся». 22 июня Ланге пишет: «Большое разочарование. Мы представляли себе наступление иначе». Откуда этот минорный тон? Ланге объясняет: «Мы увидели могилы первых немецких солдат». На следующий день вояка беседует с Вилли. Он пишет: «Этот разговор меня поразил. Необходимо распространить политическое просвещение даже с применением насильственных мер». После этого следует непосредственно: «Проходя через местечко, я принял участие вместе с Вальтером в очистке магазинов. Захватили кое-что в машину». 26 июня у Рудольфа приятный день. «Противник прячется в необозримых лесах и ведет оттуда партизанскую войну. Привели пойманных партизан. По отношению к ним не может быть пощады. Партизан заставили выкопать для себя могилу. Мы равнодушно проехали мимо и поставили наши машины на кладбище. Проклятая немецкая гуманность здесь не у места. Я должен развить эту мысль перед всеми во взводе. Мне отвечают: «Будет еще много боев. Тебе это надоест по горло». Итак, день был прекрасный: Ланге насладился зрелищем белорусских крестьян, которые копали себе могилу. Ночь несколько огорчила Рудольфа. Унтер-офицер Кравинкель, Герд Фюрст и Леппаш хотели, чтобы Ланге чистил пулемет. А Ланге хотелось спать. После чего унтер-офицер Кравинкель «нарочно наступил на больную ногу» Ланге. Рудольф взвыл и записал: «Этот инцидент характерен для нашего взвода. Здесь дело не в нападках, которым я подвергался, а в том, что командование, организация и, к сожалению, даже товарищи — свиньи. Величайшие свиньи! При свисте пуль все теряют свои маски, и у каждого в глазах ярко светится эгоизм. Неспособность офицеров настоять на своем привела к тому, что наш взвод, еще недавно стоявший на высоте, превратился в разнузданную и ни на что не годную толпу. Недостает духа, который спаял бы нас воедино. Местность становится все более опасной. О приличном сне в машине не приходится думать. Один наступает на другого, и все ругаются». Ланге попадает в Барановичи. До него прошла немецкая мотоколонна. Он пишет: «Жутко выглядит разоренный город». Потом он отмечает, что по дороге из Мира в Столбцы они видят только развалины. Ланге философствует: «Мы не ощущали никакого сострадания, но лишь колоссальную волю к уничтожению. У меня руки чесались пострелять из моего пистолета по толпе. Скоро придут СС и выкурят всех. Мы боремся за величие Германии. Немцы не могут общаться с этими азиатами, русскими, кавказцами, монголами». Ланге находится во взводе, составленном из отборных головорезов, но он меланхолично замечает: «Мне больно, что мое воодушевление не находит себе отклика у товарищей. Напрасно я задаю себе вопрос: зачем же они добровольно записались в боевую часть?» Эти гитлеровские «добровольцы» не чересчур храбры. Ланге пишет: «Когда я, переутомленный, наконец-то заснул, меня снова разбудили товарищи, боящиеся партизан и напуганные выстрелами. Возбуждение в машине достигло апогея, когда Герд стал меня дразнить. Экельман был на часах, его охватывал ужас при каждом шорохе». Несется машина по дороге. В ней сидят гитлеровцы. Они дрожат от страха. Они боятся сосен и берез. И они грызутся друг с другом: пауки в банке. Утешился Рудольф Ланге в местечке Круско: «Сначала у меня не было охоты идти за добычей, но, кончив бульварный роман, я тоже начал обыскивать покинутые дома. Двери мы взламывали ломами и топорами. Мы дошли до околицы деревни — я держал все время оружие наготове. Я собрал по три яйца с каждого дома». И вот наступает то, о чем так мечтал бравый Ланге, — первый бой. Ланге вначале замечает: «Питание стало скудным. Вдруг зажужжали русские самолеты». На следующий день: «Лейтенант Лодтнер отказался наступать — наступление отправило бы всех нас в райскую обитель и не имело никаких шансов на успех. Противник оказывает упорное сопротивление». Наконец Ланге пишет: «Я должен сказать, что наш взвод не выдержал поставленного испытания. Час назад я не сказал бы этого, но теперь все ясно. Плохой сон в течение последних недель, скудная еда, старая рознь в нашем взводе и непривычное напряжение нервов привели к развалу взвода. Мы думали, что мы сможем подъехать к объекту на машине, внезапно атаковать врага, получить Железный крест и уехать. А случилось иначе... Но не моя задача укреплять в роте политические установки, любовь к фюреру и воодушевление». Еще недавно Рудольф Ланге считал, что укреплять любовь к фюреру именно его задача. Но вот прошло всего двадцать дней, и взвод развалился. Лейтенант Лодтнер собирает солдат и грозит им полевым судом. Ланге уверяет, что виноват во всем Экельман, который струсил. Экельман обвиняет Ланге. Унтер-офицер Кравинкель обвиняет обоих. А лейтенант Лодтнер — всех. 19 июня, узнав о предстоящем походе, Ланге писал: «Боже, благодарю тебя, что ты создал меня немцем!» 12 июля Ланге скулит: «Все потеряно, зачем я родился?..» Нечего сказать, герой! Человеконенавистники. Пауки в банке. 20 сентября 1941 г. 23 сентября 1941 года Немцы наступают на Ленинград. Пушкин переходит из рук в руки. Идут бои на побережье залива, на берегу Невы, в пригородах Ленинграда. Немцы несут большие потери. На старшем ефрейторе Габеле нашли неотправленное письмо: «Россия. На пути в Петербург. Ночью заморозки. Нет ни шинелей, ни одеял. Я сказал бы, что мы замерзнем, если бы верил, что мы переживем огонь русских...» Немцы пытаются устрашить Ленинград воздушными бомбардировками: по пяти, по восьми в день. Предписание Ленинградского совета, расклеенное сегодня на стенах города, предлагает ресторанам, парикмахерским, баням и другим коммунальным заведениями не прерывать работы при воздушных тревогах. Вчера три бомбы упали в Неву. Мальчишки ловили оглушенную рыбу. Слышны морские орудия. Осень наступила до срока. Холодно, моросит. Повсюду баррикады, рвы. Вокруг города, несмотря на сильный артиллерийский огонь неприятеля, ленинградцы строят укрепления. Ополченцы сражаются рядом с красноармейцами. В отряде Кировского завода шесть друзей как бы символизируют братство народов: русский Ерунов, белорус Лешко, начальник цеха эстонец Гмино, слесарь еврей Окунь, бригадир украинец Голенко, поляк Вексель. Академик Банков продолжает работать над металлургическим исследованием. Композитор Шостакович заканчивает Седьмую симфонию. А вздыбленные кони из бронзы как будто прислушиваются к близящимся раскатам орудий. Жизнь и смерть Адъютант генерала Гудериана, лейтенант Горбах, был убит в боях возле Погара. В кармане лейтенанта нашли неотправленное письмо. Рядом с пустым бахвальством («через десять дней мы сомкнем кольцо вокруг Москвы в Туле») в письме имеются ценные признания. Лейтенант пишет: «Вы спрашиваете, какого я мнения о русских. Могу только сказать, что их поведение во время боя непостижимо. Не говоря о настойчивости и хитрости, самое примечательное у них — это невероятное упрямство. Я сам видел, как они не двигались с места под сильнейшим артиллерийским огнем. Брешь тотчас заполнялась новыми рядами. Эта звучит неправдоподобно, но я это видел часто своими глазами. Это — продукт большевистского воспитания и большевистского мировоззрения. Жизнь отдельного человека для них ничто, они ее презирают...» Немецкий лейтенант прав, говоря о беспримерной храбрости наших людей, об их священной стойкости, которую он именует «упрямством». Но не дано гудериановскому адъютанту понять душу наших людей. Он смеет рассуждать о человеке! Да в его Германии нет людей, там только машины, автоматы, роботы. А наши бойцы — живые люди. Один не похож на другого. Позади у каждого своя молодость, свое тепло, своя любовь. Но всех нас вяжет в одно любовь к свободе, привязанность к родине, чувство человеческого достоинства. Мы знаем, что такое настоящая жизнь, жизнь во весь рост, жизнь в полный голос. Эта жизнь настолько прекрасна, что ради нее каждый боец готов отдать свою жизнь. Против нас идут кавалеры черепа. От них веет могильным тленом. И вот один из этих служителей смерти говорит, что мы презираем жизнь. Слепец, он видел, как русские идут в бой, он видел, как русские не боятся огня, и он не понял одного: не жизнь мы презираем — смерть. И, если будет нужно, каждый из нас примет смерть ради жизни, ради счастья наших детей, ради чести нашей земли. В суровые дни испытаний, глядя смерти в глаза, мы присягаем на верность живой жизни. 23 сентября 1941 г. Каннибалы с погонами Генерал Кюблер, командир 49-го горно-армейского корпуса германской армии, прославил себя варварским разгромом Винницы. Теперь генерал предстал перед нами в новом свете. Этот гуманист рассуждает о том, что надлежит делать с советскими ранеными, попавшими в немецкие руки. Генерал выражается сухо и абстрактно: «Медицинская помощь раненым русским пленным оказывается только при условии, если в наличии имеются в достаточном количестве лекарства и перевязочные средства, с учетом своих собственных потребностей на дальнейшее время и возможности подвоза санитарного имущества. Запрещается перевозить русских раненых к перевязочным пунктам в машинах санитарных частей». Приказ достаточно ясен. Ты хочешь перевязать русского? Стоп! У нас перевязок заготовлено всего на три месяца, нужно их беречь для своих. Русские обойдутся и без перевязок. Ты собирался везти раненых на грузовике? Ни в коем случае. Горючее нам нужно для другого. А русские могут умирать и здесь. Каннибалы с генеральскими погонами, они не едят человечины, нет, они едят кур, а потом пишут приказы об умерщвлении раненых. Они смеют помечать свои госпитали знаком красного креста. Не краснея, они говорят о женевской конвенции. Но захваченных раненых они присуждают к медленной смерти: пусть их расклюют птицы, пусть их загрызут собаки... Практичные немцы берегут свою бязь — она им пригодится, чтобы перевязывать искалеченных гитлеровцев в 1942 году. Да и бязь не их, бязь краденая и лекарства краденые. Но краденый хлороформ они прячут, как золото, — раненый пленный для них не человек. Пусть прочтут все бойцы приказ людоеда Кюблера. Пусть они еще сильней стиснут зубы. Мы припомним все, когда настанет час расплаты. Мы не забудем о наших товарищах, оставленных без помощи гитлеровскими «санитарами» — мясниками — иначе их не назовешь. Пусть прочтут приказ людоеда наши санитары и носильщики. Об их мужестве говорят советские матери и советские жены. Кто не унесет раненого товарища от палачей? Спасти товарища — это спасти себя. Спасти товарища — это спасти родину. 24 сентября 1941 г. 25 сентября 1941 года Я родился в Киеве на Горбатой улице. Ее тогда звали Институтской. Неистребима привязанность человека к тому месту, где он родился. Я прежде редко вспоминал о Киеве. Теперь он перед моими глазами: сады над Днепром, крутые улицы, липы, веселая толпа на Крещатике. Киев звали «матерью русских городов». Это — колыбель нашей культуры. Когда предки гитлеровцев еще бродили в лесах, кутаясь в звериные шкуры, по всему миру гремела слава Киева. В Киеве родились понятия права. В Киеве расцвело изумительное искусство — язык Эллады дошел до славян, его не смогла исказить Византия. Теперь гитлеровские выскочки, самозванцы топчут древние камни. По городу Ярослава Мудрого шатаются пьяные эсэсовцы. В школах Киева стоят жеребцы-ефрейторы. В музеях Киева кутят погромщики. Светлый пышный Киев издавна манил дикарей. Его много раз разоряли. Его жгли. Он воскресал. Давно забыты имена его случайных поработителей, но бессмертно имя Киева. Здесь были кровью скреплены судьба Украины и судьба России. И теперь горе украинского народа — горе всех советских людей. В избах Сибири и в саклях Кавказа женщины с тоской думают о городе-красавце. Я был в Киеве этой весной. Я не узнал родного города. На окраинах выросли новые кварталы. Липки стали одним цветущим садом. В университете дети пастухов сжимали циркуль и колбы — перед ними открывался мир, как открываются поля, когда смотришь вниз с крутого берега Днепра. Настанет день, и мы узнаем горькую эпопею защитников Киева. Каждый камень будет памятником героям. Ополченцы сражались рядом с красноармейцами, и до последней минуты летели в немецкие танки гранаты, бутылки с горючим. В самом сердце Киева, на углу Крещатика и улицы Шевченко, гранаты впились в немецкую колонну. Настанет день, и мы узнаем, как много сделали для защиты родины защитники Киева. Мы скажем тогда: они проиграли сражение, но они помогли народу выиграть войну. В 1918 году немцы тоже гарцевали по Крещатику. Их офицеры вешали непокорных и обжирались в паштетных. Вскоре им пришлось убраться восвояси. Я помню, как они убегали по Бибиковскому бульвару. Они унесли свои кости. Их дети, которые снова пришли в Киев, не унесут и костей. «Отомстим за Киев», — говорят защитники Ленинграда и Одессы, бойцы у Смоленска, у Новгорода, у Херсона. Ревет осенний ветер. Редеют русские леса. Редеют и немецкие дивизии. Немцы в Киеве — эта мысль нестерпима. Мы отплатим им за это до конца... Как птица Феникс, Киев восстанет из пепла. Горе кормит ненависть. Ненависть крепит надежду. Пожаловал барин... Некоторые думали, что немцы привезут с собой русских помещиков. Плохо они знают гитлеровскую породу: герр хапун не то что краденой земли, он даже краденой булавки никому не отдаст. В русскую деревню Отрадное пожаловал барин — граф Кермер. Об этом нас известил приказ 38-го немецкого мотоциклетного батальона 18-й дивизии. В приказе сказано: «На основании приказа верховного командующего армией я постановляю, что выполнение указанных мероприятий в подчиненной мне области должно быть обеспечено находящимися в данной области войсками. Сельскохозяйственными офицерами назначаются: Лейтенант Маттерн (мотоциклетный батальон) — его ведению подлежат селения Мелехово, Кузьмичино, Митнево, Клевцы. Лейтенант граф Кермер (разведывательная группа 18-й дивизии) — его ведению подлежат селения Тимошино, Отрадное. Сельскохозяйственные офицеры устанавливают связь с доверенными старостами, которым указывают, какие работы должны быть немедленно выполнены. Чрезвычайно важно, чтобы урожай был собран без остатка и чтобы были проведены осенние посевы. Указания о поставках и выдаче хлеба последуют позднее. Колхозы сохраняются как хозяйства. Стремлению крестьян к разделу земли должен быть дан отпор. Крестьян следует поучать, разъяснив им, что колхозная система, как большевистская, отменяется. Однако на земле бывших колхозов будет вестись крупное хозяйство. Ничего другого не может быть. Каждый крестьянин обязан работать на общем дворе. За свою работу он будет получать через известные промежутки времени сельскохозяйственные продукты или плату. Для поддержки сельскохозяйственных офицеров коменданты селений назначают особо подходящих унтер-офицеров, которые осуществляют непосредственный надзор за работами и докладывают сельскохозяйственному офицеру об успехах в работе или о случаях саботажа, нежелания работать и т. д. На доверенного старосту должна быть возложена ответственность за проведение всех работ. Его нужно всемерно поддерживать против его односельчан. Кунерт». Лейтенант Маттерн и граф Кермер — вот новое столбовое дворянство: им раздают русские угодья. Они получат не только русский чернозем, но и русских крепостных. В 1861 году в России, под давлением народа, было уничтожено крепостное право. В 1941 году Гитлер его восстанавливает. Унтер-офицеры («особо подходящие») с плетками будут следить за ходом работ. «А через известные промежутки времени» граф Кермер будет швырять своим крепостным вершки от картошки и корешки от пшеницы. Для нерадивых — порка на конюшне. Для девушек — графская постель. Для недовольных — гитлеровская виселица. Барин пожаловал к нам: repp граф Кермер. Хорошо бы устроить социалистическое соревнование — кто первый уложит этого сиятельного разбойника. 26 сентября 1941 г. Киев На войне нужно уметь переносить горе. Горе питает сердце, как горючее — мотор. Горе разжигает ненависть. Гнусные чужеземцы захватили Киев. Это — горе каждого из нас. Это — горе всего советского народа. Его звали «матерью русских городов». Он был колыбелью нашей культуры. Когда предки гитлеровцев еще бродили в лесах, кутаясь в звериные шкуры, по всему миру гремела слава Киева. В Киеве родились понятия права и справедливости. В Киеве расцвело изумительное искусство, славянская Эллада. Берлинские выскочки, самозванцы топчут сейчас древние камни. По городу Ярослава Мудрого шатаются пьяные эсэсовцы. В школах Киева стоят жеребцы-ефрейторы. В музеях Киева бесчинствуют погромщики Гитлера. Киев был светлым и пышным — он издавна манил к себе голодных дикарей. Его много раз разоряли. Его жгли. Он воскресал из пепла. Давно забыты имена его случайных поработителей, но бессмертно имя Киева. Здесь кровью были скреплены судьба России и судьба Украины: истоки одной реки, корни одного леса. И теперь горе украинского народа — горе всех советских людей. В избах Сибири и в саклях Кавказа женщины с тоской думают о городе-красавце. Мы помним героев Киевского арсенала — это были первые бои за свободу. Бури революции освежили Киев. Я был там этой весной. Я не узнал родного города. На окраинах выросли новые кварталы. Липки стали одним цветущим садом. В университете дети пастухов сжимали циркуль и колбу — перед ними раскрывался мир, как раскрываются поля, когда смотришь вниз с крутого берега Днепра. Настанет день, и мы узнаем изумительную эпопею защитников Киева. Каждый камень будет памятником героям. Ополченцы сражались рядом с красноармейцами, и до последней минуты в немецкие танки летели гранаты, бутылки с горючим. Подступы города залиты вражеской кровью. В самом сердце Киева, на углу Крещатика и улицы Шевченко, гранаты впились в немецкую колонну. Настанет день, и мы узнаем, как много сделали для защиты родины защитники Киева. Мы скажем тогда: они потеряли сражения, но они помогли народу выиграть войну. Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы будем за многое мстить, мы отомстим им и за Киев. В восемнадцатом году они тоже гарцевали по Крещатику. Их офицеры тогда вешали непокорных и обжирались в паштетных. Вскоре им пришлось убраться восвояси. Я помню, как они убегали по Бибиковскому бульвару. Тогда они унесли свои кости. Их дети не унесут и костей. Отомстим за Киев, думают защитники Одессы. И вот гибнут вражеские дивизии, кочующие возле Южной Пальмиры. Отомстим за Киев, повторяют отважные ленинградцы. И вот гремят морские орудия, идут в штыки кировцы, враг истекает кровью. Отомстим за Киев, твердят бойцы у Новгорода, у Смоленска, у Херсона. И падают сраженные насильники. Ревет осенний ветер. Редеют русские леса. Редеют и немецкие дивизии. Когда убивают любимого командира, с сухими глазами идут в бой бойцы: отплатить врагу. Когда гитлеровцы сжигают дом, колхозники берут топоры и уходят в лес: отплатить врагу. Они осквернили Киев. Мы отплатим им за это — до конца, чтобы дети их детей суеверно дрожали при одном имени — «Киев». Мы освободим Киев. Вражеская кровь смоет вражеский след. Как птица древних Феникс, Киев восстанет из пепла, молодой и прекрасный. Горе кормит ненависть. Ненависть крепит надежду. Сомкнем ряды. Нам есть за что драться: за Родину, за наш Киев. 27 сентября 1941 г. (Советским детям) Советские дети временно занятых немцами районов! Настали суровые дни. Теперь не до игр. Я говорю с вами, как со взрослыми. Будьте сильными, дети! Германия напала на нас внезапно, она долго готовилась к разбойному набегу. Она собрала большие силы. Ей удалось занять наши западные области. Но немцы заплатили за это дорогой ценой — их лучшие дивизии перебиты. Война — дело трудное и сложное. Приходится иногда отдавать врагу города и села. Тяжело было нашим бойцам оставлять Минск, Смоленск, Киев, Харьков, но армия должна думать об одном: как одержать последнюю победу. С каждым днем немцы слабеют, с каждым днем растет наша сила. С дальних окраин нашей необъятной родины идут на запад все новые и новые дивизии. Мощные заводы Урала и Сибири изготовляют каждый день все новые и новые самолеты, танки, орудия. Мы одержим последнюю победу. Мы прогоним гитлеровцев. Ребята, не падайте духом! Мы вернемся. Вы росли для хорошей, свободной жизни, и вы увидите хорошую, свободную жизнь. За ваше счастье сражаются ваши отцы и старшие братья. Будьте достойны их! Гитлеровцы хотят вас обмануть. Они хотят вырастить из вас рабов. Не верьте ни одному их слову. Знайте, что каждый фашист — лжец. Они вам скажут, что они выиграли войну, — не верьте. Это ложь. Более двух лет Гитлер воюет. Он захватил много чужих стран, но победы он не добился. Он говорил, что займет скоро Лондон. Это было прошлым летом. Англичане ответили: «Попробуйте, мы вас ждем. Рыбы в море вас тоже ждут». Немцы испугались. Они начали бомбить Лондон, бомбили днем и ночью. Но англичане не сдались. Тогда, обезумев, гитлеровцы бросились на нас. Каждый день английские летчики бомбят Западную Германию, уничтожают заводы, порты, мосты. Теперь наши летчики бомбят Восточную Германию. А Берлин бомбят то советские, то английские летчики: скидывают на гитлеровское гнездо огромные бомбы. Мы уже встретились с англичанами в немецком небе. Скоро мы с ними встретимся на немецкой земле. Против немцев флот Великобритании. Германия окружена. У немцев мало бензина, мало каучука, мало меди. У них мало хлеба, они живут впроголодь. Вы видели, как они накидываются на еду, — это голодные крысы. Против гитлеровцев Америка. Там гигантские заводы работают круглые сутки — изготовляют самолеты и вооружение для Англии и для Советского Союза. На море немцев не видно — они боятся высунуть нос из портов. Транспорты идут свободно из Америки в английские и советские порты. Против немецких фашистов вся Европа. Я был в Париже, когда туда пришли гитлеровские бандиты, я видел, как их ненавидят французы. Их ненавидят и другие порабощенные народы: чехи, поляки, югославы, бельгийцы, голландцы, норвежцы, греки. Вот сколько у немцев врагов. Повсюду в захваченных странах сражаются партизаны, нападают на немецкие посты, спускают с откосов эшелоны. Крестьяне уничтожают хлеб и скот, чтобы не досталось добро насильникам. Рабочие ломают станки, изготовляют негодные моторы. Против гитлеровской Германии наша Красная Армия и весь наш великий народ. Вот уже около шести миллионов гитлеровцев убито или искалечено на нашей земле. Много тысяч немецких самолетов сбито. А сколько уничтожено немецких танков! Наша артиллерия хорошо работает — немцы очень ее не любят, они еще пробуют наступать, но они уже чувствуют, что их песенка спета. Они говорят, что разрушили Москву. Я пишу это в Москве. Из моего окна видна улица — идут трамваи, троллейбусы. Открыты все магазины. Работают кино и театры. Много раз немецкие самолеты пробовали прорваться к Москве. Их встречают наши истребители, наши зенитки. Сотни бомб немцы покидали вокруг Москвы на леса, на болота. В Москве они разрушили десятки домов. Но москвичей этим не запугаешь. Наша столица живет кипучей жизнью. Вы видели, что несут гитлеровцы нашему народу. Они чванливы, они гордятся тем, что они немцы. Они презирают другие народы. Они хотят быть первыми, взять палку и командовать. Я был у них в Берлине во время войны. Они одичали. У них теперь нет ни писателей, ни настоящих театров. Они сожгли лучшие книги. Это дикари. Они жестокие люди. Гитлер сказал прямо, что человеку лучше жить без совести. Так они и живут. Это бессовестные люди. Грабят другие страны, повсюду разрушают города, библиотеки, больницы, школы. Своих детей они растят для одного: для солдатского ремесла. Для них дети — это пушечное мясо. Но история не может повернуть вспять. Не может человечество вернуться к дикарским временам. Скоро уже наша армия и народы всего мира уничтожат этих бешеных волков. Не верьте ни одному гитлеровскому слову. Если с вами говорят немцы или люди, которые продались немцам, знайте, что они врут, не верьте их листкам, они написаны русскими буквами, но писала их немецкая рука. Русские дети, помните, что вы — русские. Не быть вам под немцами. Украинские дети, помните, что вы — украинцы, не быть вам под немцами. Белорусские дети, помните, что вы — белорусы, не быть вам под немцами. Еврейские дети, помните, что вы — евреи, не быть вам под немцами. Советские дети! Помните, что вы — граждане великого и свободного государства. Не быть вам под Гитлером. Будьте стойкими, ребята! На вас с надеждой и с гордостью смотрит наша необъятная родина. Вы оказались на опасном посту. Когда мы вернемся, мы прославим вашу отвагу. Ваши отцы, ваши братья сражаются за освобождение родины. Одни — в рядах Красной Армии, другие — в партизанских отрядах. Ребята, помните, что они сражаются за вас, не отрекайтесь от них! Не отрекайтесь от родины! Стыдите трусов! Поддерживайте слабых! Помогайте сильным! Мы знаем о героических подвигах детей в захваченных немцами областях. Мы помним их имена. Мы видим, что часто дети дают пример взрослым. Когда мы победим, перед вами раскроются все двери. Вы будете писателями, или летчиками, или актерами — кто кем захочет. Счастливой жизнью заживет наш народ. Для этого нужно победить. Кто верит в победу, тот помогает победе. Мы от вас отрезаны — между нами немецкие штыки, но слушайте: вот ветер подул с востока, вот пролетел над вами советский самолет — это родина шлет вам привет. Мы вас помним, мы в вас верим. Мужайтесь, дорогие ребята! Будьте верными друзьями! Мы вернемся! (Сентябрь — октябрь 1941 г.) Де Голль Прошлым летом я сидел в пустом, мертвом Париже перед радиоприемником. Из Бордо передавали старческое бормотание Петэна и суетливый лай Лаваля — первый вор Франции, как всегда, хапал и, как всегда, говорил о благородстве. Десять миллионов беженцев метались по вытоптанным полям. Агонизировала брошенная всеми французская армия. Я слушал смутный гул радио. С улицы доносился топот: это по древним улицам Парижа бродили табуны гитлеровцев. И вдруг донесся мужественный голос: «Я, генерал де Голль, призываю всех французов продолжать сопротивление. Летчики, ко мне! Ко мне, моряки! Ко мне, молодая Франция! Дряхлый маршал подписал позорное перемирие. Франция его не подписала. Франция продолжает войну, и Франция победит». Полковник де Голль первым во Франции понял роль авиации и танков. Он написал две книги о современных методах войны. Он требовал реорганизации французской армии. Старые генералы считали его безумцем. Линия Мажино была тем песком, в который зарывали головы страусы французского генштаба. Почтенные генералы жили славой прошлого. Они смеялись над словами полковника де Голля. В роковой май 1940 года полковник де Голль показал себя храбрым солдатом. Он организовал третью танковую бригаду и двинул ее навстречу врагу. Неделю спустя, когда началась Фландрская битва, де Голль требовал, чтобы его послали к Амьену. Капитулянты сделали все, чтобы потерять битву. Они держали в тылу танки и орудия. Настал час развязки. Де Голль вместе со всеми французскими патриотами требовал одного: «Отпор, отпор и еще раз отпор!» Он говорил: «Мы можем воевать за Луарой, за Гаронной, в Африке. Мы переживем страшные годы, но мы спасем Францию». Он говорил это людям, которые хотели спасти не Францию, но свои карманы. Старый мундир маршала прикрыл вора Лаваля. Французское правительство капитулировало. И тогда раздался голос из Лондона: «Франция умерла. Да здравствует Франция!» В Париже после оккупации города немцами находился адмирал Мюзелье. Он знал, что важные документы могут попасть в руки врага. Он проник в министерство. Он обошел штабы. Он сжег все. Потом он добрался до Лондона и сказал де Голлю: «Генерал, я с вами». С де Голлем пошел честный и умный генерал Катру. С де Голлем оказались тысячи командиров и десятки тысяч солдат. Родилась армия Свободной Франции. Эта армия показала себя достойной великих традиций. Живы дети героев Марны и Вердена. Они храбро сражались в пустынях Африки. Имя оазиса Мурзук останется славным в военной истории Франции. Что значит горсточка храбрецов, скажут скептики. Де Голль был один. Теперь вокруг него армия — с самолетами, с танками. Мы знаем, как горсточка храбрецов во главе с Гарибальди освободила Италию. Радиостанция де Голля семь раз в день несет порабощенной Франции слова гнева и надежды. Когда де Голль объявил «час молчания», все улицы Франции опустели. Когда де Голль сказал о букве «V», все стены Франции покрылись символом надежды. Когда де Голль сказал, что близится час решительной схватки, чаще забились сердца во Франции. Студентов собрали по аудиториям, прочли им послание маршала Петэна — о покорности, о долге, о традициях. Студенты дружно ответили: «Vive de Gaulle!» В конце сентября во Францию прибыл из Германии поезд с военнопленными: Гитлер решил побаловать маршала Петэна — он отпустил несколько тысяч рабов. Маршал Петэн приказал встретить военнопленных с цветами и с музыкой. Когда поезд остановился на Тулузском вокзале, из вагонов понесся один крик: «Vive de Gaulle!» Париж клокочет. Впереди гордость Франции — парижские рабочие. Гитлер и его французские лакеи расстреливают патриотов, режут им головы. Девяносто тысяч французских патриотов — в парижских тюрьмах. Каждый день судьи выносят смертные приговоры. Рабочий Катла, коммунист, депутат парламента, герой первой войны, гильотинирован за то, что не предал Францию. Свободомыслящие и католики, демократы и коммунисты, рабочие и студенты, женщины и подростки — вся Франция клокочет. На стенах Парижа немцы расклеили объявление: они обещают каждому доносчику тридцать тысяч франков. Тридцать сребреников... Но все иуды уже пристроены как штатные доносчики — в Виши с Петэном или в Париже с Лавалем. Добровольных доносчиков не нашлось. Германский генерал фон Штюльпнагель, наглый убийца с моноклем в глазу, торжественно хоронил немецкого офицера, застреленного на парижской улице. Тогда в двух кварталах Парижа снова заговорили револьверы — еще два насильника свалились замертво. Плывут от берегов Бретани рыбацкие лодки с юношами — это подкрепление де Голлю. На заводах Ситроена и Рено рабочие ломают станки — это саперы де Голля. В окрестностях Лилля рабочие расправляются с немецкими шпионами — это разведка де Голля. Кипит народная Франция — это тыл де Голля и это его фронт. Когда Гитлер напал на Советский Союз, де Голль сказал, что он восхищен мужеством русских. Радиостанция де Голля передала «Марсельезу» в исполнении хора Красной Армии: русские пели великую песню. Это не только гимн Свободной Франции, это и французский гимн свободе. Его нельзя слушать без волнения. Он создан героями, которые пошли против тиранов. С ним побеждали французы полтораста лет тому назад, с ним победит Франция де Голля. 9 октября 1941 г. В суровый час Настал час простых чувств и простых слов. Гитлер бросил в бой все свои силы. Он не считает потерь. Он торопится. Немецкие танки давят немецких раненых. Враг прорвался к Орлу. Враг грозит каждому из нас. Мы знаем, что враг силен. Это — сила машины. Он навалился на нас своим железным брюхом. Мы не тешим себя иллюзиями. Но мы знаем также, что враг изнурен, что он измучен двадцатью пятью месяцами войны, что в его тылу голод, что в его дивизиях бреши, что в его сердце тревога. Мы знаем, почему он торопится: он не может ждать. Он в страхе смотрит на океан: оттуда идет снаряжение для нас и для Англии. Он в страхе смотрит на Америку: дымятся трубы заводов. Он в страхе смотрит на календарь: зима на носу. Он не хочет зимовать в наших лесах. Немцы, взятые в последние дни, говорят: «Нам сказали, что, если мы дойдем до Москвы, нас отпустят по домам». Их ведут на смерть, соблазняя миром. Им говорили прежде: «Вперед! Я вам обещаю хлеб и сало». Теперь им говорят: «Вперед! Если вас не убьют, я обещаю вам жизнь». Мы должны выстоять. Сейчас решается судьба России. Судьба всей нашей страны. Судьба каждого из нас. Судьба наших детей. Гитлер как-то сказал Раушнингу. «Мне все равно, кто правит Россией — цари или большевики. Русские остаются нашими врагами». Да, эти разбойники не думают об идеях, о программах. Для них Россия — колония, страна сырья, непочатый край, питомник рабов, которые должны работать на немцев. Они хотят уничтожить Россию, разбить ее на «протектораты», на «генералгубернаторства», которыми будут заведовать пруссаки или баварцы. «Из России можно нашинковать двадцать немецких гау», — писала их газета «Франкфуртер цейтунг». В этот суровый час Красная Армия защищает нашу родину. Если немцы победят, не быть России. Они не могут победить. Велика наша страна. Еще необъятней наше сердце. Оно многое вмещает. Оно пережило столько горя, столько радости, русское сердце! Мы выстоим: мы крепче сердцем. Мы знаем, за что воюем: за право дышать. Мы знаем, за что терпим: за наших детей. Мы знаем, за что стоим: за Россию, за родину. 10 октября 1941 г. 10 октября 1941 года Москва — город моего детства. Я хорошо помню Москву прошлого века. Я вырос в тихом Хамовническом переулке. Зимой он был загроможден сугробами. Летом из палисадника выглядывала душистая сирень. В соседнем доме жил старик. Когда он проходил сутулясь, городовой на углу переулка подозрительно хмурился. А студенты и рабочие часто заходили в наш переулок, пели «Марсельезу», что-то кричали перед соседним домом: они приветствовали Льва Толстого. Это была сонная, деревянная уютная Москва с извозчиками, с чайными, с садами. Я помню баррикады в 1905 году — я был мальчишкой, я помогал — таскал мешки... Я помню бои в семнадцатом. Все это мне кажется далекой стариной. Москва менялась с каждым годом. Вырастали новые кварталы. Зимой снег жгли, как покойника. Автомобиль сменил санки. Обозначились новые площади. Дома переезжали, как люди, улицы путешествовали. Город казался гигантской стройкой. Его заселяла молодежь, и только воробьи казались мне старожилами, сверстниками моего детства. Я знал Москву в горе и в счастье, в лени и в лихорадке. Она сохранила свою душу — не дома, не уклад жизни, но особую повадку, речь с развалкой, добродушие, мечтательность, пестроту. Она не похожа ни на один город. Прежде говорили о ней «огромная деревня». Я скажу «маленький материк» — отдельный, особый мир. Вот узнала Москва еще одно испытание. За нее теперь идут страшные бои. Если пройти по московским улицам, ничего не заметишь: они выглядят, как всегда. Те же переполненные трамваи и троллейбусы, те же театральные афиши на стенах, те же женщины с кошелками. Но лица стали другими: глаза печальней и строже, реже улыбки. Есть старая поговорка: «Москва слезам не верит». Москва верит только делу — не словам, не жестам, даже не слезам. В первые недели войны Москва многого не понимала. Тогда были слезы на глазах. Тогда были женщины, которые суетились, куда-то тащили узелки с добром, тогда были тревожные вопросы. Не то теперь: Москва, как многие люди, может волноваться перед опасностью. Но когда опасность настает, Москва становится спокойной. Вчера я был на военном заводе. Я видел почерневшие от усталости лица: работают сколько могут. По нескольку суток не уходят с завода. Каждая женщина понимает, что она сражается, как ее муж или брат у Вязьмы сражается за Москву. Она знает, что именно она изготовляет. Чуть усмехаясь, говорит: «Для фашиста...» Это не жестокость, это скрытая и потому вдвойне страстная любовь: защитить Москву. Когда над кварталом, где находится завод, стоит жужжание моторов, когда грохот станков покрывают зенитки и тот свист, который стал языком, понятным в Москве, как в Лондоне, — ни на одну минуту не останавливается работа. Я спросил одну работницу, сколько она спит, она глухо ответила: «Грех теперь спать. Я что же — сплю, а они — на фронте?..» От работы отрываются только для военных занятий. Как друга, рассматривают пулемет — доверчиво, внимательно, ласково. Вчера в институте керамики, как всегда, шли занятия: девушки рисовали на фарфоре цветы. Вдруг одна встала: «Нужно учиться кидать гранаты, бутылки с горючим...» Ее все поддержали. Милая курносая Галя говорит мне: «Каждая из нас, если до того дойдет, убьет хоть одного фашиста». Это не бахвальство. Каждый человек волен выбирать судьбу. Москва, как Галя, свою судьбу выбрала: если ей будет суждено, она встретит смерть с одной мыслью — убить врага. Актеры Камерного театра разбирают станковый пулемет, а два часа спустя гримируются, играют, повторяют торжественные монологи. Студентки литературного факультета, влюбленные в Ронсара или в Шелли, роют противотанковые рвы. Все это без патетических слов, без криков, без жестов. Героизм Москвы на вид будничен. Москва любила яркие хламиды — для масленицы, для театра, для праздника. Она веселилась в звонкой одежде рыцаря. Она идет навстречу смертельной опасности в шинели защитного цвета. Сколько испытаний для женских сердец: от утра, когда ждет старуха мать почтальона — у нее четверо на фронте, до вечера, когда молодая мать, прижимая к себе младенца, прислушивается к голосам зениток. Москва всегда представлялась русским женщиной. За Москву, за мать, за жену сейчас сражаются люди от Орла до Гжатска... И женщина Москва подает бойцу боеприпасы, готовая, если придется, схватить ружье и пойти в бой. Врагу не найти своей, второй Москвы: Москва одна. Я видел, как читали подросткам статью Ленина из «Правды» 1919 года «Москва в опасности». Они слушали угрюмо, потом загудели: «На фронт!» А в это время в московских церквах служили молебны за защитников Москвы, и старушки несли в фонд обороны обручальные кольца и нательные кресты. Врагу не вызвать паники. Я слышал, как немцы по радио говорили: «Удирают красноармейцы, комиссары, жители». Это мечта Берлина. А Москва молчит. Она опровергает ложь немцев молчанием, выдержкой, суровым трудом. Идут на фронт новые дивизии. Везут боеприпасы. И город, древний город, моя Москва, учится новому делу: стрелять или кидать гранаты. И каждый день на фронтах, не только под Вязьмой, на далеких фронтах — у Мурманска, в Крыму — слышится голос диктора: «Слушай, фронт! Говорит Москва». Это коротко и полно значения. Пушкин писал: «Москва... как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Не только под Вязьмой, от Мурманска до Севастополя миллионы людей сражаются за Москву. Люди столпились, молча читают сводку. Все понимают: настали суровые дни. Что будет с Москвой?.. Сейчас мне рассказали о судьбе связиста Печонкина. Он был на наблюдательном пункте возле Гжатска, продолжал работать. Израсходовав все патроны и гранаты, он передал по проводу: «Работать дольше нет возможности. Немцы напирают со всех сторон. Иду врукопашную. Живым не сдамся». Выстоять! Немцы хотят нас разъесть своей ложью. Они говорят колхозникам: «Мы не против вас, мы против рабочих». Они говорят рабочим: «Мы не против вас, мы против интеллигентов «. На самом деле им все равно, кто ты — рабочий, колхозник, интеллигент, русский, украинец, грузин, еврей: они против всех нас. Они хотят завоевать нашу землю. Они хотят взять наше добро. Половину людей они хотят уничтожить. Другую половину обратить в рабство. Они говорят: «Мы против советского строя». Ложь. Им все равно, какой у нас строй. Им нужно нас ограбить. Во Франции была республика. Немцы были тогда против республики. В Югославии была монархия, немцы были против монархии. В Польше было правое правительство, немцы были против правых, в Норвегии было левое правительство, они были против левых. Они говорят: «Мы против коммунистов». Ложь. Они против всех граждан нашей страны. Они только за своих шпионов. Все честные люди для них враги. Кого они сейчас расстреливают в Чехословакии? Коммунистов? Нет, генералов, рабочих, крестьян, учителей, левых и правых. Они сажают в тюрьмы католических священников Франции, Бельгии, Словении. Они пытают православных священников Сербии. Может быть, для них аббаты и священники тоже «коммунисты»? Они говорят: «Мы против евреев». Ложь. У них есть свои евреи, которых они жалуют. У таких евреев в паспорте две буквы — «W. J.» — «ценный еврей». В Югославии немцы объявили, что «низшая раса» — сербы. В Польше они обратили в рабство поляков. Они говорят, что французы «низшая раса — полунегры». Русских они называют «монгольскими выродками». Они ненавидят все народы, кроме немцев. Они презирают все расы, кроме немецкой. Они говорят, что они дадут крестьянам землю. Ложь. Для крестьян у них одна земля — на могилу. У кого в Германии земля? У герцога Кобург-Гота десять тысяч га, у герцога Фридрих-Ангальт двадцать девять тысяч га, у графа фон Арним Мускау двадцать шесть тысяч га, у маршала Геринга двадцать тысяч га. Эти герцоги, графы, бароны решили прикарманить русскую землю. Немцы вводят в захваченных областях крепостное право. Колхозы они превратили в «предприятия германской армии», машинно-тракторные станции объявлены собственностью германского государства. Колхозники обязаны работать на «общинных дворах» под надсмотром немецких офицеров. Они говорят, что они несут рабочим «социализм». Ложь. Кто правит Германией? Капиталисты. Круппы. Феглеры. На одного маршала Геринга работает шестьсот тысяч рабочих. Немецкие капиталисты хотят забрать нашу нефть, наш уголь, нашу сталь, наш марганец, наш лес. Рабочие будут работать на них и есть помои. Немецкий медицинский журнал недавно разъяснил, что мясо «чрезвычайно вредно для славянской расы», поэтому немцы, заботясь о спасении всех рас, переведут славян на вегетарианский режим. Котлеты будут есть Геринги — им полезны котлеты с картошкой. Кожуру от картошки они выдадут русским рабочим. Они говорят, что они несут интеллигенции культуру. Жалкие выродки, они смеют говорить о культуре, нам, стране Пушкина и Толстого, Менделеева и Павлова, Мусоргского и Бородина. Они заставили французских писателей продавать на улицах орехи. Они заставили чешских профессоров убирать немецкие конюшни. Они заставили голландских музыкантов чистить сапоги немецким ефрейторам. Они уничтожают культуру. Они ищут русских ученых, русских врачей, русских инженеров, чтобы послать их на «трудовые работы»: убирать в Германии выгребные ямы. Они говорят, что они чтут мораль. Это развратники, мужеложцы, скотоложцы. Они хватают русских девушек и тащат их в публичные дома, выдают их своей солдатне, они их насилуют, заражают сифилисом. Они говорят, что они исповедуют религию. Но они поклоняются языческому богу Вотану. Они вешают священников. У них написано на бляхах «С нами бог». Но этими бляхами они бьют по лицу агонизирующих пленных. Они говорят, что они сторонники национальной культуры. О культуре они ничего не слыхали. Культура для них — это автоматические ручки и безопасные бритвы. Автоматическими ручками они записывают, сколько девушек они изнасиловали. Безопасными бритвами они бреются. А потом опасными бритвами отрезают носы, уши и груди у своих жертв. Они призывают фламандцев резать валлонцев, они призывают хорват резать сербов, они призывают украинцев резать русских. А потом они режут фламандцев, хорват и украинцев. Они заставляют норвежцев говорить по-немецки. Они заставляют чехов писать по-немецки. Они заставляют поляков перед смертью хрипеть понемецки. Они уничтожают национальную культуру. Они требуют, чтобы все народы отреклись от своей культуры. Они хотят, чтобы была только одна нация: немцы. Остальные пусть лижут камень и глотают пыль. Они не сотрут нас силой. Они не возьмут нас и хитростью. Каждый советский боец знает, за что он идет в бой. Колхозник дерется за землю дедов. Рабочий — за труд, за свое государство. Интеллигент сражается за нашу культуру, за книги, за право мыслить, творить, совершенствовать мир. Юноши сражаются за чистоту любви, за русских девушек. Отцы за счастье детей и за честь матери. Подростки за то, что перед ними. Старики за то, что они сделали. Русские за Пушкина, за Волгу, за березы. Украинцы за Шевченко, за хаты, за вишни. Грузины за Руставели, за горы, за виноградники. Все народы — за одно — за родину. Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть одна только мысль — выстоять. Они наступают, потому что им хочется грабить и разорять. Мы обороняемся, потому что мы хотим жить. Жить, как люди, а не как немецкие скоты. С востока идут подкрепления. Разгружают пароходы с военным снаряжением: из Англии, из Америки. Каждый день горы трупов отмечают путь Гитлера. Мы должны выстоять. Октябрь сорок первого года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости. Гитлеру не уничтожить Россию! Россия была, есть и будет. 12 октября 1941 г. 25 октября 1941 года Еще недавно я ехал по Можайскому шоссе. Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую песню о чужой любви. Тускло посвечивали купола Можайска. Теперь там немцы. Теперь там говорят наши орудия, они говорят о ярости мирного народа, который защищает Москву. Еще недавно я писал в моей комнате. Надо мной висел пейзаж Марке — Париж, Сена. В окне, золотая и розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет. Моя корреспонденция не ушла вовремя, она устарела. Я пишу теперь новую. Пишущая машинка стоит на ящике. Большая беда стряслась над миром. Я знал это давно: в августе 1939 года, когда беспечный летний Париж вдруг загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, счастье. Мы многое потеряли. Мы сохранили одно: надежду. Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, косматую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужто он еще недавно думал, возле какой стены поставить диван, собирал гравюры или трубки? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и в теплушках. Она ничего не жалеет. Взорван Днепрогэс, взорваны прекрасные заводы, мосты, плотины, вражеские бомбы сожгли Новгород, они терзают изумительные дворцы Ленинграда, они ранят нежное сердце Москвы. Миллионы людей остались без крова. Ради права дышать мы отказались от самого дорогого — каждый из нас и все мы, народ. На восток идут длинные составы: станки и поэты, дети и архивы, лаборатории и актеры, наркоматы и телескопы. В 1914 году французское правительство было в Бордо, а парижские такси спешили навстречу марнской победе. В ноябре 1936 года правительство испанской республики уехало из Мадрида в Валенсию. Я пережил горечь этого поспешного отъезда. Но армия тогда удержала Мадрид. Она держала его и потом, два года, под бомбами и под снарядами. Не сила взяла Мадрид — измена. Москва теперь превратилась в военный лагерь: она освобождена от гражданской ответственности. Она может защищаться, как крепость. Она получила высокое право: рисковать собой. В этом значение последних событий. Я видел защитников Москвы. Они хорошо дерутся... Земля становится вязкой, когда позади Москва, — трудно отступить на шаг. Враг напрягает все силы. За последние дни он кинул в Можайск и в Калинин новые дивизии: из Бретани, из Бордо, из Голландии. Каждый день Москва отбивает массированные налеты немецкой авиации. Много домов разрушено. На юге немцы подходят к Ростову. Они мечтают прорваться на Кавказ. В эти солнечные дни поздней осени Гитлер торопится. И тихо-тихо в Европе. Только чешские герои и пятьдесят нантских заложников пали на бранном поле рядом с защитниками Москвы... Я пережил исход из Парижа. Тогда из Франции уходила душа. Отчаянье французской армии, горе десяти миллионов беженцев могли бы родить сопротивление. Они родили равнодушие и старческий лепет Петэна. Неужели Гитлер надеется найти в России Лаваля? Вздорная мечта. У нас есть злые старички, у нас нет Петэнов. И воры у нас есть, но нет у нас Лавалей. Россия, вспугнутая с места, Россия, пошедшая по дорогам, страшнее России оседлой. Горе нашего народа обратится на врага. Я ничего не хочу прикрашивать. Русские никогда не отличались аккуратностью и методичностью немцев. Но вот в эти грозные часы наши скорее бесшабашные, скорее беспечные люди сжимаются, закаляются. Я с неделю глядел на разные города, станции, дороги. Наши железнодорожники показали себя героями: сотни поездов под бомбардировкой врага вывезли из столицы все, что нужно было везти. За Волгой, на Урале уже работают эвакуированные заводы. Ночью устанавливают машины. Рабочие зачастую спят в морозных теплушках и, отогревшись у костра, начинают работу. В десятках авиашкол учатся юноши — через несколько месяцев они станут на место погибших. В глубоком тылу формируются новые армии. Народ понял, что эта война надолго, что нельзя ее мерить месяцами, что впереди годы испытаний. Народ помрачнел, но не поддался. Он готов к пещерной жизни, к кочевью, к самым страшным лишениям. Война сейчас меняет свою природу: из политической схватки, из боев, за которыми мерещилась близкая развязка, она становится воистину отечественной, длинной, как жизнь, эпопеей народа, судьбой каждого, судьбой поколения. Впервые встало перед всеми, что дело идет о судьбе России на многие века. «Долго будем воевать, — говорят солдаты, уходя на запад, — очень долго». И в этих горьких словах наша надежда. Нельзя оккупировать Россию. Этого не было и не будет. Не только потому, что далеко от Можайска до Байкала. Россия всегда засасывала врагов. Русский обычно беззлобен, гостеприимен, но он умеет быть злым. Он умеет мстить, и в месть он вносит смекалку, даже хозяйственность. Мы знаем, что гитлеровцев теперь убивают под Москвой. Но они знают и другое: их убивают в Киеве, в Минске, в тысячах деревень. Слов нет, Гудериан хорошо маневрирует, но как усмирять крестьян от Новгорода до Мелитополя? Германская армия ничего не завоевывает: она только продвигается из города в город. У нее десятки, сотни фронтов. Россия особая страна, трудно ее понять на Кайзердамме или на Вильгельмштрассе. Россия может от всего отказаться. Люди привыкли у нас к суровой жизни. Может быть, за границей Магнитогорск и выглядел как картинка. На самом деле он был тяжелой войной. Неудачи нас не обескураживают. Издавна наши полководцы учились и росли на неудачах. Издавна наш народ закалялся в бедствиях. Вероятно, мы сумеем исправить наши недостатки. Но и со всеми нашими недостатками мы выстоим и отобьемся. Тому порукой не только история России, но и защита Москвы. Уэллс недавно написал: «Мы слишком мало помогаем вам». Мне хочется ответить: «Нет. Вы, может быть, слишком мало помогаете себе». А наша личная судьба?.. Может быть, врагу удастся глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы перестали жить эфемерным счетом — от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счет. Мы глядим навстречу трудным годам. Фраза «Победа будет за нами» еще четыре месяца тому назад была газетной фразой. Она превратилась теперь в гул русских лесов, в вой русских метелей, в голос русской земли. Мы выстоим! Еще недавно я ехал по Можайскому шоссе. Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую песню о чужой любви. Там теперь говорят орудия. Они говорят о ярости мирного народа, который защищает Москву. Еще недавно я писал в моей комнате. Над моим столом висел пейзаж Марке: Париж, Сена. В окно, золотая, розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет: ее снесла немецкая фугаска. Я пишу эти строки впопыхах: пишущая машинка на ящике. Большая беда стряслась над миром. Я понял это в августе 1939 года, когда беспечный Париж вдруг загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому честному человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, покой. Мы многое потеряли, мы сохранили надежду. Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужели он вчера гадал, какой покрышкой обить кресло, или горевал о разбитой чашке? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и теплушках. Здесь не о чем жалеть! Погиб Днепрогэс, взорваны прекрасные заводы, мосты, плотины. Вражеские бомбы зажгли древний Новгород. Они терзают изумительные дворцы Ленинграда. Они ранят нежное тело красавицы Москвы. Миллионы людей остались без крова. Ради права дышать мы отказались от самого дорогого, каждый из нас и все мы, народ. Москва теперь превратилась в военный лагерь. Она может защищаться, как крепость. Она получила высокое право рисковать собой. Я видел защитников Москвы. Они хорошо дерутся. Земля становится вязкой, когда позади тебя Москва, нельзя отступить хотя бы на шаг. Враг торопится. Он шлет новые дивизии. Он говорит каждый день: «Завтра Москва будет немецкой». Но Москва хочет быть русской. Что ищет Гитлер, врезаясь в тайники нашей страны? Может быть, он надеется на капитуляцию? У нас есть злые старики, у нас нет петэнов, и воры у нас есть, но нет у нас лавалей. Россия, прошедшая по дорогам, вдвойне страшнее России оседлой. Горе нашего народа обратится на врага. Я ничего не хочу приукрашивать. Русский никогда не отличался методичностью немцев. Но вот в эти грозные часы люди, порой бесшабашные, порой рыхлые, сжимаются, твердеют. Наши железнодорожники показали себя героями: под бомбами они вывозили из городов заводы и склады. За Волгой, на Урале уже работают эвакуированные цехи. Ночью устанавливают машины. Рабочие зачастую спят в морозных теплушках и, отогревшись у костра, начинают работу. В авиашколах учатся юноши, но через несколько месяцев они заменят погибших героев. В глубоком тылу формируется новая мощная армия. Народ понял, что эта война — надолго, что впереди годы испытаний. Народ помрачнел, но не поддался. Он готов к кочевью, к пещерной жизни, к самым страшным лишениям. Война сейчас меняет свою природу, она становится длинной, как жизнь, она становится эпопеей народа. Теперь все поняли, что дело идет о судьбе России — быть России или не быть. «Долго будем воевать», — говорят красноармейцы, уходя на запад. И в этих горьких словах — большое мужество, надежда. Нельзя оккупировать Россию, этого не было и не будет. Россия всегда засасывала врагов. Русский обычно беззлобен, гостеприимен. Но он умеет быть злым. Он умеет мстить, и в месть он вносит смекалку, даже хозяйственность. Мы знаем, что немцев теперь убивают под Москвой, но немцы знают, что их убивают и за Киевом. Слов нет, Гудериан умеет маневрировать, но и ему не усмирить крестьян от Новгорода до Таганрога. Германская армия продвигается вперед, но позади она оставляет десятки, сотни фронтов. Россия — особая страна. Трудно ее понять на Вильгельмштрассе. Россия может от всего отказаться. Люди у нас привыкли к суровой жизни. Может быть, за границей стройка Магнитки и выглядела, как картинка, на самом деле она была тяжелой войной. Неудачи нас не обескураживают. Издавна русские учились на неудачах. Издавна русские закалялись в бедствиях. Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки. Но и со всеми нашими недостатками мы выстоим, отобьемся. Тому порукой история России. Тому порукой и защита Москвы. Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней, мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа. Мы выстоим — это шум русских лесов, это вой русских метелей, это голос русской земли. 28 октября 1941 г. 1 ноября 1941 года Я привык к беженцам. Уже не первый год Европа кочует. На вокзалах северной России сидят люди. Они из теплой Украины. Где-то далеко их хаты, вишенники. Они спасли подушку и чайник. У них пустые, как бы невидящие глаза. Они похожи на беженцев из Малаги или из Альмерии. Из Москвы уехал старый профессор. Он растерянно моргает близорукими глазами. Зачем-то он привез электрический утюг жены — утюг бросился ему в глаза. А его работы погибли. Я видал таких же профессоров на берегу Луары... Теперь я увидел новых беженцев: закочевали станки, заводы. Я видел их в пути. Они ночевали на узловых станциях. Вчера я побывал на новоселье. В нескольких десятках километров от города в пустоши работает большой завод. Там изготовляют авиапулеметы и приборы для сбрасывания бомб. Этот завод не построен здесь, он сюда приехал, это завод-беженец. Еще недавно здесь была мастерская телег, старых русских телег, связанных со степью, с грязью, с медлительной жизнью захолустья. В кузнице под открытым небом горели печи петровских времен. Построили крыши, залили землю асфальтом, и сложные машины верещат не замолкая. Завод приехал из Киева. Две недели спустя он был готов. Он выпускает теперь вдвое больше пулеметов, нежели в Киеве. Там инженеры гордились зданием. Здесь тесно, трудно повернуться. Кругом непролазная грязь, бездорожье. Но теперь нужны не красивые здания, теперь нужно одно — оружие. И люди дают оружие. Десять лет тому назад я видел, как люди строили Кузнецк. Это было суровой эпопеей. Среди тайги росли громадные корпуса. Люди в землянках говорили о садах будущего города. Тогда люди умирали за мечту. Теперь они умирают за дыхание, за родной дом, за самое простое и за самое нужное. Рабочие работают по двенадцать часов: две смены. Они приехали из Киева с семьями. Они живут в тесноте. Трудно с продовольствием, но поразительна сила духа. Люди говорят: «Ничего, справляемся. Лишь бы выиграть войну». У всех людей большое горе: не то, что не привезли сахара или табака, не то, что тесно в крохотной комнатке. Нет, их горе другое: родной город узнал вражеское иго. И они лихорадочно спрашивают: «Не слыхали вы, что они наделали в Киеве?» У одного старого токаря немцы расстреляли в Киеве сына. Он не плакал, получив страшную весть, пошел сразу на работу. Я говорил с ним. Он нежно гладил ствол пулемета, как руку друга. Он повторял цифры производства. Для него работа теперь единственный душевный выход, единственное оправдание того, что он жив, когда его шестнадцатилетний Васюк расстрелян. Авиаприборы легки и точны. Они похожи на ювелирные безделки. Их делают среди пустыря, среди грязи, их делают люди, потерявшие кров и близких. Я был на другом пустыре. Там ставят станки из Москвы. Через неделю еще один бродячий завод начнет работать. Я не раз говорил о силе русского сопротивления. Русский может жить так трудно, что вспоминаешь древних подвижников. Сон России двадцатого века был сном об американской машинной цивилизации. Заводы становились храмами. Но вот настали дни испытаний, и оказалось, что русские могут работать на усовершенствованных станках, как их деды работали в поле с деревянным плугом. Чем глубже заходит враг в нашу страну, тем жестче становится сопротивление. Мы будем делать пулеметы, самолеты, танки — на бивуаках, в пустыне, в лесах. Мы поразим мир нашим упорством. Но пусть помнят наши друзья за проливом и дальше, за океаном: мы потеряли много наших промышленных центров, мы потеряли приднепровские города с их мощными заводами, руду Кривого Рога, Харьков, уголь Донбасса. Заводы Ленинграда и Москвы ушли на восток. Рабочий из Киева, тот, сына которого убили немцы, делает пулеметы. О нем можно написать чудесную поэму. Но сейчас нам не до поэм. Пусть помнят о судьбе этого токаря рабочие Англии и Америки. Сейчас стыдно уговаривать и поздно доказывать. Испытание Ветер гасит слабый огонь. Ветер разжигает большой костер. Испытание не задавит русского сопротивления. Испытание его разожжет. Мы не отворачиваемся от карты: мы видим Украину, захваченную врагом, немцев под Москвой, немцев под Ростовом. За этими словами скрыта страшная беда: сотни разоренных городов, миллионы порабощенных людей. Немцы обсуждают, под каким именем включить Украину в Германию. Вшивый Антонеску гарцует по улицам Одессы. Как это вытерпеть? А бомбы впиваются в нашу гордость, в нашу любовь — Москву... И вот сжимаются сердца. Глаза блестят от гнева. Растет сопротивление. По-прежнему геройски держится Ленинград. Защитники Москвы изумляют мир своей доблестью. В тылу готовится мощная армия. Киевские, харьковские, днепропетровские заводы работают среди полей Заволжья и Урала. Машины стали беженками. Наспех расставили станки. В тесноте работают рабочие: делают самолеты, автоматическое оружие, моторы. Враг в Донбассе. Но у нас Кузнецк, Караганда. Враг захватил Кривой Рог. Но у нас Магнитка, у нас мощные заводы Урала. У нас еще много земли, много нив, много станков. Наши враги вынуждены признать отвагу бойцов и командиров Красной Армии. Почему же мы отступали? Почему отдали немцам цветущие области, дорогие нам города? На том или ином участке фронта у врага оказывалось численное превосходство. У нас народу вдвое больше, чем у немцев, но у немцев больше моторов — они могут легче маневрировать. Пятнадцать лет тому назад мы начали строить заводы. Наша промышленность — молодая. Пятнадцать лет тому назад в Германии уже была сильная военная промышленность. Гитлер построил сотни новых военных заводов. Гитлер захватил Европу. Теперь на немцев работают заводы Франции, Чехии, Бельгии. У немцев оказалось больше моторизованных частей, и они врезались в сердце нашей страны. Однако каждый день наши летчики и артиллеристы уничтожают сотни немецких моторов и танков. Однако каждый день по трем океанам плывут к нам из Америки, из Великобритании сотни новых моторов. Гитлер это знает. Он торопится. Мы должны помнить: каждая отбитая атака, каждый выигранный день приближает нас к тому часу, когда мы будем сильнее немцев. Выстоять — вот наш долг. Наши юноши привыкли к чересчур легкой жизни. Широко раскрывались перед ними двери школ. У нас не человек искал работу, работа искала человека. И многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не то время. Теперь каждый должен взять на свои плечи всю тяжесть ответственности. Во вражеском окружении, в разведке, в строю каждый обязан думать, решать, действовать. Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой. Тебе дана высокая честь — защитить родину. Ты не ребенок — ты муж. На тебя с доверием смотрит страна, не уклоняйся от ответственности. Не уклоняйся от инициативы. У тебя есть оружие — винтовка, у тебя есть другое оружие — голова. Немцы — это автоматы. Ты — человек. Не забывай об этом ни на минуту. Русский любит свободу. Никогда не заставят русских маршировать, как гусей. Но свобода — это не беспорядок. Трудно было приучить москвичей переходить улицу по гвоздям. На войне ничего нет страшнее беспорядка. Противотанковые рвы — хорошее дело. Но есть рвы поглубже: это железная дисциплина. Она не пропустит врага вперед. Враг напал на нас исподтишка. Страшной была та короткая июньская ночь, и дорого она нам обошлась. Мы должны истребить беспечность. Быть всегда начеку. Нет спокойного участка. Враг может ударить внезапно. Нет мирного тыла. Враг может совершить налет, сбросить десант, прорваться вглубь. Проверь любой путь. Проверь любое слово. У врага хорошая разведка. У него опытные шпионы. Стой и молчи. Молчание — это оружие. Иногда это стоит выигранного сражения. Голодные, жадные немцы рвутся дальше. Их соблазняют магазины и квартиры Москвы. Они хотят зимовать в домах с центральным отоплением. Они хотят есть котлеты. Их нужно остановить. Их нужно хорошенько проморозить. Их нужно продержать в русских лесах на немецкой колбасе из гороха. Этот режим для них полезен — к весне они поумнеют. Английские летчики каждый день крошат немецкие города. Народы Европы готовятся к восстанию. Русские, украинцы, белорусы в захваченных врагом областях не складывают оружия. Друзья, мы должны выстоять! Мы должны отбиться. Когда малодушный скажет: «Лишь бы жить», ответь ему: у нас нет выбора. Если немцы победят, они нас обратят в рабство, а потом убьют. Убьют голодом, каторжной работой, унижением. Чтобы выжить, нам нужно победить. Если честный патриот хочет спасти родину, он должен победить. Если малодушный хочет спасти свою шкуру, он тоже должен победить. Другого выхода нет. Россию много раз терзали чужеземные захватчики. Никто никогда Россию не завоевывал. Не быть Гитлеру, этому тирольскому шпику, хозяином России! Мертвые встанут. Леса возмутятся. Реки проглотят врага. Мужайтесь, друзья! Идет месяц испытаний, ноябрь. Идет за ним вслед грозная зима. Утром мы скажем: еще одна ночь выиграна. Вечером мы скажем: еще один день отбит у врага. Мы должны спасти Россию, и мы ее спасем. 4 ноября 1941 г. Нет тыла Города Поволжья увидели людей, лишившихся своего крова, людей, добравшихся до Волги из захваченных врагом областей. Стало тесно в городах Поволжья. Скажем еще раз: в тесноте, да не в обиде. Конечно, каждому приятно жить у себя. Конечно, каждому обидно стоять в очереди. Конечно, каждого злит, когда он не находит на базаре молока. Но легче жить в тылу, нежели в блиндаже. Немецкие фугаски хуже очередей. Можно прожить без молока. Нельзя прожить под немцами. В этой войне нет тыла. Война повсюду. Наши летчики бомбят Берлин, а Берлин далеко в тылу. В Италии все население получает в день по двести граммов хлеба, а Италия далеко от фронта. Каждый должен теперь терпеть лишения. Пришлось поделиться комнатой? Не беда. Пусть подумают ворчливые люди о гарнизоне Ханко, который, окруженный со всех сторон, пятый месяц отбивает атаки врага. Плохо ли, хорошо ли мы жили, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем. В Париже до немцев было вдоволь продовольствия. В Париже не знали, что такое очередь. А когда пришли немцы, родились очереди, да какие — в один километр длиной — за пятью картофелинами. Немцы сидят в ресторанах и жрут бифштексы. А парижане получают по пятидесяти граммов хлеба. Конечно, обидно, если отбирают у человека комнату. Но хуже, когда у него отбирают страну. Тогда и податься некуда. Поляков немцы гонят в Германию: там они работают, как рабы. А кормят их похлебкой на картофельной кожуре. Сколько стоит молоко на базаре? Одни говорят — слишком дорого. Другие говорят — слишком дешево. Но в городах Украины, захваченных немцами, таких разговоров не услышишь. Там немцы попросту забирают все молоко. Они расплачиваются квитанциями: маленькая бумажка, можно из нее свернуть козью ножку, только не свернешь — даже махорку немцы забрали. Если города Поволжья хотят отстоять себя, они должны работать день и ночь. Приехали заводы из Киева, из Харькова, из Ленинграда, из Москвы. Рабочие наспех устанавливают станки. Делают моторы, самолеты, оружие. Женщины, учитесь работать. Идите на заводы. Защитники Москвы защищают не только Москву. Они защищают Горький, Казань, Куйбышев, Саратов. Помогите устроиться пришлым рабочим. Помогите колхозникам собрать картошку. Наладьте распределение. В городах много свободных магазинов. Очереди не от недостатка. Очереди от беспорядка. Пусть каждый проявит инициативу. Пусть никто не сваливает на другого ответственность. Теперь каждый человек — в строю. Не ворчать нужно — работать, организовывать, действовать. Эта война — не гражданская война. Это отечественная война. Это война за Россию. Нет ни одного русского против нас. Нет ни одного русского, который стоял бы за немцев. Немцы говорят, что они воюют против советского строя. Ложь! Им все равно, какой у нас строй. Они пришли не для того, чтобы спорить с нами. Они пришли, чтобы ограбить нас. Все русские должны подняться против них. Мы знали в жизни много трудного. Но мы не знали одного: никто никогда не ругал русских за то, что они русские. А теперь на улицах Смоленска, Новгорода, Орла стоят немецкие держиморды и орут: «Поворачивайтесь живей, русские свиньи!» Города Поволжья не хотят узнать позор. Города Поволжья должны глядеть правде в глаза. Враг силен. Но сильнее врага наше мужество, наша воля, наше единство. За Россию мы терпим, за Россию деремся, и Россию мы отстоим. 4 ноября 1941 г. Чехословакам Друзья-чехословаки, этот день был днем вашей гордости. Веселились чехи на Вацлавском наместье и в тысячах деревень. Веселились словаки под вехами Братиславы, на площадях святого Мартина и Жилины. Этот день остался днем вашей гордости. Но он стал теперь и днем вашего горя. Задыхаясь в бомбоубежищах, засыпанных мусором, люди узнают, какое счастье воздух. Под Гитлером вы узнали, какое счастье свобода. Вы — гордые люди, и вам без нее не жить. В этот день я хочу обнять моих друзей. Я не назову их имен: нас слушают палачи. Да и все чехословаки теперь мои друзья. Я хочу в этот тяжелый день сказать вам простые слова надежды: мы встретимся в свободной Праге, в кафе, в «Народном дивадле», на чудных улицах Малой Страны. Мы встретимся в Братиславе, на набережной Дуная, «под вехами». Мы поедем вместе в Тиссовец и в Детву. Мы споем песни про Яношека. Мы увидим над Градчанами трехцветный флаг. Праздник независимости вы справляете над свежими могилами мучеников. А в застенках пытают героев. Плачут статуи Пражского моста. Трауром покрылась площадь гуситского Табора. Сняли пестрые уборы девушки Моравии. Проклинают Иуду Тисо леса Оравы. Но святая кровь не высыхает. Она жжет. Она становится реками. Она будит спящих. Она разъедает железо. Не напрасно погибли герои Чехии. Их смерть — трубный глас. Их могилы — первые камни независимой Чехословакии. Русские люди преклоняются перед вашим мужеством. Над братскими могилами раздается салют: это орудия защитников Москвы салютуют героям Праги. За каждого расстрелянного чеха — тысячи немцев под Москвой. Мы многое потеряли за эти месяцы: покой, уют, добро. Горят наши города. Умирают наши люди. Но мы отстояли честь. Мы отстоим и свободу — нашу и вашу. 4 ноября 1941 г. Любовь и ненависть В этот день весь мир смотрит на Москву. О Москве говорят в Нарвике и в Мельбурне. Провода мира повторяют одно слово «Москва». Москва теперь не только город. Москва стала надеждой мира. И Москва осталась городом, русским городом. С каждым ее переулком связаны наши воспоминания. В ее запутанном плане, в чередовании старых особняков и новых многоэтажных корпусов — вся наша жизнь, вся наша история. Днем Москва живет обычной трудовой жизнью. Только стон стекла под ногой и суровость человеческих глаз напоминают о драме этой осени. Ночью Москва темна. Ее звезды не освещают путь врагу. Эта черная, побратавшаяся с ночью Москва остается маяком для измученного человечества. Мы знаем героизм других народов. Мы обнажаем головы перед чужими могилами. Защитники Москвы с волнением думают о стойкости Лондона. Два года город туманов и парков, город-порт и город милого диккенсовского уюта живет под бомбами, под бомбами он работает, под бомбами думает. Слава Англии! — чистосердечно восклицает русский народ. Слава высоко поднятой голове! Не пролив остановил немцев — воля английского народа, его гордость. Мы приветствуем английских летчиков. Они впервые сказали на добром языке фугасок: «Как аукнется, так и откликнется». Они били и бьют логово проклятого зверя. Мы приветствуем тебя, пионер свободы, неукротимый народ Франции. Ты пал на поле боя, преданный и обманутый. Мы помним героев Арраса, защитников Тура, твою отвагу и твою беду. Немцы думали, что ты умер, что народ Вальми и народ Вердена станет народом изменника Дарлана, вора Лаваля. Ты ранен, но ты жив. Мы приветствуем армию генерала де Голля, армию изгнания, армию мести. Мы приветствуем французских патриотов, которые не сложили оружия. Слава заложникам Нанта! Их пытали страхом. Их агонию растянули на недели. Перед смертью они пели песню свободы — «Марсельезу». Эту песню услышали и защитники Москвы. Мы приветствуем чехов. Они первые узнали всю меру горя. Они не сдались. Орудия защитников Москвы салютуют мученикам Праги. Мы приветствуем народ воинов — сербов. Не впервые их страна сожжена и залита кровью. В горы ушел народ. На немецкие приказы он отвечает свинцом. Немцы вынуждены издавать в Белграде военные сводки — война в Югославии закончена на бумаге, но на югославской земле война только начинается. Под Москвой мы платим и за Белград, за его развалины, за его ночи. Мы приветствуем храбрых греков. Мы были с ними душой на горных перевалах Албании. Мы восторгались тогда их стойкостью. Теперь мы вознаграждаем их за мужество: мы истребляем их палачей. Мы приветствуем неустрашимых норвежцев, рыбаков, которые стали солдатами, партизан Ларсена, молчаливых и стойких людей Севера. Мы приветствуем спокойных голландцев. Они отказались от мира ради чести. Мы помним и развалины Роттердама. Мы приветствуем народ труда — бельгийцев, их каждодневное, упорное сопротивление. Брюссель снова узнает радость восемнадцатого года: он увидит бельгийскую армию в своих стенах. Мы приветствуем нашу сестру Польшу. Слава польским партизанам! Мы слышим их выстрелы. На нашей земле строится теперь польская армия. И поляки, защищавшие Варшаву, получив винтовки, благоговейно целуют оружие. Они с нами пойдут на врага. С нами отвоюют свою землю. Мы приветствуем арсенал свободы — Америку. Руку и сердце дает она смятенной Европе. Слава труженикам Америки, ее инженерам и рабочим, — это тыл Европы, это наш тыл. Мы приняли на себя страшный удар. Мы не уклонились от него. Мы не хотим жить на коленях. Наш всенародный праздник в этом году омрачен развалинами и могилами. Свободу мы защищаем на своей земле, и мы оплачиваем ее своей кровью. Великим народам суждены великие испытания. Мы хотели мирно трудиться, строить дома, распахивать целину. Нам выпала другая судьба. Мы должны взрывать наши заводы. Мы должны рыть противотанковые рвы. Мы должны защищать Москву — здесь, под Москвой. И вот слово «Москва» обходит мир. Утром люди, просыпаясь на другом полушарии, с тревогой спрашивают: «Как Москва?..» Они могут спать. Их сон охраняют орудия Москвы. У русского народа большое сердце. Он умеет любить. Он умеет и ненавидеть. В этот торжественный и грозный день мы даем клятву любви и ненависти. Мы истребим гитлеровцев. Мы отплатим немцам за все обиды, за все горе. Они идут к нам с надеждой поживиться. Они считают города и десятины, копи и склады. Они не сочтут своих могил. Их самки требуют от самцов: «Пришли мне русскую шубенку». Мы заставим этих самок проплакать свои глаза. Жители Берлина ответят за улицы Москвы. Крестьяне Украины будут допрашивать прусских баронов. И русские вдовы будут судить мерзкого Гитлера. Он получит за все, он и его лакеи. Румыны проклянут тот час, когда вшивый Антонеску ворвался в Одессу. Венгры ответят за Днепропетровск. Сто лет итальянцы не будут спокойно глядеть на восток. Час расплаты придет. И теперь, в самые трудные часы русской истории, в день омраченного праздника, мы еще раз присягаем на верность свободе, на верность родине, на верность России. Смерть врагам! — говорит Москва. Слава союзникам, слава друзьям, слава свободным народам! За себя сражается Москва, за себя, за Россию, и за вас, далекие братья, за человечество, за весь мир. 7 ноября 1941 г. Им холодно Берлинский корреспондент «Националь цейтунг» пишет: «Немецкие солдаты, наступающие на Москву, понимают, что они сражаются за крышу, способную укрыть их в непогоду, за теплую зимнюю квартиру». Итак, мы осведомлены, какие чувства воодушевляют германских «героев» Волоколамска и Наро-Фоминска. Это квартиранты, которые выступили в поход за теплыми комнатами. Они стали скромнее. Летом они шли за поместьями. Каждый из них рассчитывал на сто га русской земли. Ефрейторы присматривались к поместьям с удобствами. Погода стояла хорошая. И эсэсовцы загорали на солнце, мечтали о беседках, верандах и гамаках. Теперь они думают не о земле, но о крыше, о крохотных комнатках на Арбате или на Ордынке, о крохотных комнатках и о большущих печах. Ефрейторы оказались зябкими... Богатые немцы зимой ездили на «зимний спорт» в горы. Там они ходили на лыжах и катались на салазках. Теперь Гитлер послал свой народ на зиму к нам. Предстоят и лыжи и салазки. Беда одна: этим спортсменам холодно, им негде отогреться. Позади у них развалины городов. Они стоят в поле. А разбойники привыкли грабить с комфортом. Они требуют центральное отопление. Вокруг них уже подымаются первые русские метели. Они рвутся к Москве, чтобы не замерзнуть. Москва для Гитлера — это политический триумф. Москва для немецкого рядового — это теплая нора. Не быть им в Москве! Не отогреется зверье в наших домах. Пускай зимуют среди сугробов. Одна квартира для них: промерзшая земля. Им холодно? Мы их согреем шрапнелью. Не для того мы строили новые квартиры, огромные корпусы, больницы, школы, метро, чтобы загадила нашу Москву мерзкая немчура. Товарищи бойцы, не жалейте свинца для непрошеных квартирантов! Поддайте им жару в ноябре, а в январе они немного остынут. В январе они узнают, что такое крещенские морозы. Посмотрим, что скажут дюссельдорфские коммивояжеры и гейдельбергские студентики, когда настанет настоящая русская зима. Москва у них под носом. Но до чего далеко до Москвы! Между ними и Москвой — Красная Армия. Их поход за квартирами мы превратим в поход за могилами! Не дадим им дров — русские сосны пойдут на немецкие кресты. С востока идут на подмогу свежие дивизии. С востока идет на подмогу старый русский маршал — дед-мороз. 11 ноября 1941 г. 12 ноября 1941 года На одной станции в Центральной России я видел беженцев из Западной Украины. Среди них был старик еврей с большой белой бородой и голубыми глазами. Он молча сидел среди узлов и женщин, похожий на библейского пророка. Вдруг он встал, его глаза потемнели, длинные ногти впились в ладонь. Одна из женщин тихо сказала: «Он вспомнил»... Старик вспомнил, как в Виннице немецкий офицер убил четырехмесячного младенца, ударив его головой о чугунную плиту. Их много, еврейских беженцев. Им есть что вспомнить. Некоторые вырвались из городов, захваченных немцами. Они рассказывают страшные истории. Одного хасидского цадика немцы закопали живьем. Это было возле Коростеня. Из земли торчала голова, и ветер трепал бороду. Цадик пел перед смертью, прославлял жизнь, и последними его словами было: «Зеленая трава долговечней Навуходоносора...» Возле Одессы пьяный румынский полковник устроил военные ученья: солдаты должны были стрелять в убегавших еврейских детей. В Прилуках немцы связали шестерых еврейских девушек, изнасиловали их и оставили голыми с надписью: «Уборная для немецких солдат». Убегают старики, женщины, дети. Мужчины сражаются. Вместе с русскими и с украинцами. Отстаивают свою Родину. Среди Героев Советского Союза — еврей генерал Крейзер. Он отличился в боях под Смоленском. Он вывел армию из окружения под Брянском. Среди награжденных сотни еврейских имен. Вчера возле Волоколамска погиб еврей Рабинович. Я его знал. Это был близорукий болезненный юноша. Он изучал старый провансальский язык, переводил средневековых поэтов. На войну пошел добровольцем — в ополчение. Его мать говорила: «Он слабый, простудится...» Раненный в плечо, Рабинович со связкой гранат дополз до немецкого танка, взорвал танк и погиб вместе с ним. Обер-могильщик Некоторые говорят: «Гитлеру все удается». Слов нет, тирольский маляр сделал большую карьеру: он обманул и поработил немецкий народ, он завоевал десять государств. Однако пора сказать, что не все Гитлеру удается. Гитлер хотел блефовать, шантажировать, воевать не воюя, отбирать страны угрозами. Он дорвался до войны. Он хотел въехать в Лондон и в Москву, как он въехал в Прагу. Вместо этого он получил войну, и какую! Нет теперь в Европе страны, где не росли бы деревянные кресты над убитыми немцами. Уже восемьсот дней воюет Германия, и конца не видно ее войне. Гитлер хотел воевать так, чтобы вся тяжесть войны падала на его противников. В начале войны Геринг горделиво сказал: «Ни одна вражеская бомба не упадет на немецкую землю. Я за это отвечаю». Вряд ли жители Кельна и Мюнстера, Гамбурга и Бремена утешатся, вспомнив речь Геринга. Десятки немецких городов разгромлены. Наши летчики и английские не забыли столицу Германии — Берлин. Гитлер хотел кататься по освещенным улицам, среди триумфальных арок и восторженной толпы. Он торопливо несется мимо развалин и трупов. Гитлер хотел завоевать Англию. Он изучал план Лондона. Он выбрал площадь для большого парада. Он согнал миллионы солдат к портам Ла-Манша. Его солдаты в мечтах уже заказывали себе английские костюмы и курили английские трубки. Они до сих пор ходят в немецких костюмах из деревянной трухи и курят немецкий табак из капусты. Гитлер хотел покорить мир. Он строил «карманные крейсеры» и подводные лодки. Он уверял, что возьмет Англию измором. Он посылал коммивояжеров в Бразилию и в Чили. Он видел себя императором двух полушарий. Но англичане едят австралийское мясо и канадскую пшеницу. А немецкий флот жмется к берегу, отсиживается в Киле. Море осталось для врагов Гитлера открытой дорогой. Море сделалось для Гитлера тюремной стеной. Гитлер хотел договориться с завоеванными народами. Он посадил в Норвегии Квислинга, и слово «квислинг» тотчас стало ругательством. Он заигрывал с французами. Он отобрал себе пол-Франции, но зато он подарил французам прах сына Наполеона. Французы ответили на речь Гитлера выстрелами. Гитлер начал во Франции с улыбок. Теперь он должен расстреливать французских заложников. Гитлер думал, что Югославия будет его союзником. Когда югославы встали на защиту отечества, Гитлер рассвирепел и сжег Белград. Потом он попробовал обласкать хорватов. Но хорваты уходят в горы и бьют немецких захватчиков. Гитлеру не удалось укротить ни голландцев, ни бельгийцев, ни поляков, ни греков. Он хотел сделать из Европы цветущую колонию для немцев. Европа обратилась в пустыню. Он хотел, чтобы все народы работали на немцев. Он добился одного: все народы в горе и нищете проклинают Германию. Гитлер хотел договориться с Америкой. Он брал себе только полмира. Он пробовал льстить американцам. Он слал в Соединенные Штаты искусных провокаторов и благовоспитанных шпионов. Он ласково шептал: «Америка для американцев. Европа для меня». Сладкие речи он подкреплял подводными лодками. Он одновременно льстил и угрожал. Америка ответила ему не только словами. Америка ответила ему скрежетом зубовным всех своих заводов. Из Америки идут к берегам Англии и России транспорты: самолеты и танки, танки и самолеты. Он хотел, чтобы с ним была вся Европа. Против него оказалась не только вся Европа. Против него оказалась и вся Америка. Гитлер метался, как затравленный зверь. Он слал в Англию бомбардировщики, которые убивали английских детей. Потом он послал в Англию медоречивого Гесса. Гесс полетел налегке, без бомб, даже без зимнего пальто... Гитлер хотел договориться с Англией. Гитлер протягивал свою окровавленную руку. Внуки Питта — не наивные девушки. Рука Гитлера повисла в воздухе. Гитлер хотел «молниеносно» завоевать Россию. Он рассчитывал быть в Москве пятнадцатого августа. Потом торжество перенесли на сентябрь. Потом Гитлер решил устроить парад седьмого ноября на Красной площади. Парад был седьмого ноября на Красной площади, но Гитлера на нем не было. Гитлер хотел пройти по России, как он прошел по Европе — без жертв. Русские поля покрылись немецкими крестами. Гитлер боялся июльского зноя — у немецких ефрейторов нежная кожа. Теперь эти ефрейторы узнали, что такое русская зима. Теперь Гитлер говорит, что он не любит молниеносных войн. Он, дескать, не торопится. Гитлер хотел нестись, как лань. Последние недели он идет, как черепаха. Надо надеяться, что вскоре он пойдет, как рак. Гитлер хотел сломить наше сопротивление если не бомбами, то речами, хитростью, провокацией. Он пробовал науськивать один народ на другой. Он пробовал науськивать колхозников на рабочих. Он сплотил против себя весь советский народ. Он выкормил мстителей. Он заставил русских детей метать ручные гранаты. Он разбудил ружья русских стариков. Он хотел заговорить Россию. Он ее разъярил. Гитлер хотел, как Наполеон, войти в Египет. Он остановился на пороге Египта. Он думал, что его союзники — итальянцы — побьют рекорд по легкому боксу. Они побили рекорды по легкому бегу. Гитлер думал, что он найдет у нас хлеб и соль, пшеницу и сало, оборудованные заводы и уютные квартиры. Немцы нашли у нас пустые амбары, взорванные верфи, сожженные корпуса заводов. Вместо домов они завоевали щебень и сугробы. Гитлер хотел накормить свой народ синтетической колбасой, химическими сосисками, лабораторными котлетами. Но немецкий народ отощал. Он мечтает о настоящей догитлеровской колбасе. Ему снятся стародавние веймарские сосиски. Гитлер сказал, что сорок первый год будет годом победы Германии, что новый, сорок второй год немцы встретят в залитых светом городах под звуки победных литавр. Сорок первый год принес немцам миллионы и миллионы могил. Сорок второй они встретят в темных городах среди развалин. Они будут уныло жевать синтетическую колбасу. Миллионы вдов скажут: «Гитлер убил моего мужа». Миллионы сирот спросят: «Гитлер, где наш отец?» Не литавры зазвучат — сирены. Германия узнает всю меру горя! Гитлер хотел быть Наполеоном. Но кто он? Директор страшного бюро похоронных процессий, пьяный факельщик, обер-могилыцик Германии. Кому роет могилу тирольский шпик? Еще миллиону немцев — под Москвой и под Ростовом, под Ленинградом и под Севастополем. Кому роет могилу этот бездарный маляр? Германии. 18 ноября 1941 г. Фронт народов В начале этого месяца английские бомбардировщики бомбили военные сооружения на севере Франции. Было перебито немало немцев. При бомбардировке погибли также семь французов, местных жителей. Один из английских бомбардировщиков потерпел аварию. Летчики разбились. Немцы похоронили их тайком, но население узнало об этом, и семь вдов, семь француженок, мужья которых погибли при бомбардировке, принесли цветы на могилу английских летчиков. Это — не сентиментальная история, это сводка о боевых действиях французского народа. Враги моих палачей — мои друзья, — говорит французский народ. Больше всего боится Гитлер единства своих противников. Он пытается натравить народы Европы друг на друга. Он пытается натравить Европу на Америку. Но нет крепче цемента, нежели кровь. Кровь связала народы Европы, — кровь мучеников и кровь героев. Греческие рыбаки радостно кричат, увидев в небе английские бомбардировщики, и норвежские рыбаки поздравляют друг друга, узнав, что русская лодка потопила немецкий транспорт в Барде или в Киркенесе. Немецкие листовки пытаются породить в наших сердцах сомнение. Враги хотят восстановить нас против наших друзей. Не нужно думать, что гитлеровцы только рычат. Нет, они умеют и петь. Гесс в Англии не ругался. Гесс в Англии ворковал. Он говорил: «У меня один враг — Россия». Друзья Гесса теперь пишут сентиментальные листовки и кидают их нам: «У нас один враг — Англия». Англичане выслушали Гесса, но они не послушались Гесса. Когда Гитлер напал на Советский Союз, англичане ответили: «Взаимная выручка». Англичане помнят развалины Ковентри и детские могилы. Англичане знают, что под Москвой Гитлер рвется и к Лондону, что под Ростовом он сражается и за Моссул. Англичане не ворона, да и Гитлер не лиса — сыра ему не видать. «Ваши союзники вам ничем не помогают», — было сказано в немецкой листовке. Немецкий бомбардировщик скидывал листовки и фугаски на предместья Москвы. Бомбардировщик был сбит советским летчиком, и этот советский летчик летал на американском истребителе. На немецкую ложь ответила честная пулеметная очередь. Мы не станем рассказывать немцам, сколько военного снаряжения нам доставили и доставят союзники. Наше дело убивать немцев — все равно как: на наших истребителях или на американских, в наших танках или в английских. Мы не станем докладывать Гитлеру, где и когда откроется второй фронт. Наше дело убивать немцев на нашем фронте. Англичане займутся вторым фронтом. А за этим пойдут и другие фронты — освободительная война охватит всю Европу, вся Европа станет фронтом. Не было союза более прочного, нежели союз народов против Гитлера. За кого мы сражаемся? За себя. Почему англичане бомбят Рур? Потому что Лондон хочет жить. Почему Америка шлет транспорты с самолетами? Потому что американцы не хотят обречь своих детей на рабство. Каждый за себя, и все за всех. Мы теперь на самом ответственном участке. Основной удар направлен на нас. Год тому назад Гитлер хотел взять Лондон. Не взял. Теперь он хочет взять Москву. Не возьмет. Мы отстаиваем наш дом, и мы отстаиваем весь мир. На нашей земле гибнут убийцы Лондона и Ковентри, палачи Праги и Нанта. «Союзники вам не помогут», — нашептывают гитлеровские провокаторы. Мы усмехаемся в ответ — помогут, не нам — себе. Гитлер не взял нас танками, не возьмет и серенадами. 20 ноября 1941 г. Мы им припомним! По-разному складывается судьба народов. Итальянцы, поляки, сербы, греки хорошо знают, что такое национальный гнет. Русский народ много пережил на своем веку. Он знал опричнину и крепостное право. Он знал голод, войны, мор. Но никогда он не знал национального унижения. Никогда русских не попрекали за то, что они русские. Презренный Гитлер решил посягнуть на русскую честь, на русскую гордость. Передо мной грязная бумажка — приказ германского коменданта города Красноармейска. «24 октября 1941 г. Приказ. Гражданское население города Красноармейска, встречая германского военнослужащего, должно приветствовать его путем снятия головного убора. Все лица, не подчиняющиеся этому распоряжению, будут наказаны согласно германским военным законам». По улице идет немецкий солдат: он только что ограбил чей-то дом. Из его карманов торчат серебряные ложечки и дамская кофта. От него разит шнапсом. Этот мерзавец убил раненого русского. Он весело насвистывает: «Ах, майн Пупхен». И вот перед ним ломать шапку? Перед его начальником обер-лейтенантом, двуногим зверем, который пытает арестованных? Перед окаянной немчурой? Они наводят револьверы: «Снимай шапку, не то застрелю!» Потом они умиленно пишут в своих газетах: «Русские приветствуют немцев, обнажая головы». Им мало убить — они хотят еще унизить. Они не знают русской души. Мы все им припомним. Мы им припомним не только разрушенные города, мы им припомним и нашу смертельную обиду. Шапками они не отделаются — придется им расплачиваться головой. 25 ноября 1941 г. Ночь маршала Петэна Престарелый маршал Петэн работал до поздней ночи. Ему нужно было убрать генерала Вейгана. Англичане очищают от немцев Ливию. Немцы готовятся захватить Тунис и Алжир. Вейган был помехой, и немцы предложили маршалу Петэну убрать Вейгана. Маршал послушно подписал указ. Затем он стал сочинять послание французским «добровольцам», которых Гитлер посылает на Восточный фронт. Маршал написал: «Сражаясь против Советской России, вы защищаете честь Франции». Он задумался и отложил перо. Он не знал, что писать. Он мог бы продолжить: «Наши деды пели песню: «Нет участи выше, чем умереть за родину». Пойте теперь: «Нет участи лучше, чем умереть за Гитлера». Гитлер захватил нашу страну. Будьте благодарны Гитлеру — он не побрезгал французским хлебом. Гитлер убил на дорогах Франции сто тысяч беженцев. Будьте благодарны Гитлеру — он не обошел своим вниманием «негроподобных» французов. Ступайте на восток! Умрите за Гитлера! Немцы разрушили Орлеан и Амьен, Руан и Камбре. Отблагодарите их, разрушьте русские города. Помогите немцам захватить русское добро. Гитлер занял две трети Франции. Он сделал меня, старого маршала, своим почетным лакеем. Разве это не честь для Франции? Когда вы поможете Гитлеру взять Москву, Гитлер выпьет бутылку французского шампанского. Он пожалует мне железный крест. Он пожалует вам деревянные кресты. Идите в поход, храбрые французы! Эйнцвай!..» Престарелый маршал уснул. Его комната заполнилась шорохом, гулом. Маршал спрашивает: «Кто это?» Он видит множество теней в солдатских шинелях. Он удовлетворенно говорит: «Здравствуйте, друзья! Вы ведь французские солдаты немецкой армии?» Тени отвечают: «Нет, маршал. Мы солдаты французской армии. Мы ваши солдаты, маршал. Мы солдаты Вердена». — «И вы тоже спешите на восток?» — «Да, мы спешим на восток. Мы скажем защитникам Москвы: Париж, великий Париж с вами. Мы, герои Вердена, склоним наши нетленные знамена перед героями Москвы. Мы спешим и на юг — там наши союзники бьют немцев в Ливийской пустыне. Там сражается горсть французских героев». Престарелый маршал нахмурился: «Ага! Значит, вы перекинулись к де Голлю?» — «Нет, маршал, мы не перекинулись. Перекинулись вы — не к де Голлю, а к фон Абетцу, к врагам Франции, к немцам. Когда-то вы защищали от врага каждую пядь земли. Теперь вы раскрыли перед врагом ворота Франции. Вы были солдатом. Вы стали привратником. Земля Вердена проклинает вас, маршал. Мы спешим на восток. Мы не хотим, чтобы генерал фон Бок прорвался к Москве». — «Почему? Какое вам дело до русских? Что вам Москва?» — «Маршал, мы думаем о Париже. По Парижу ходит немецкий генерал фон Штюльпнагель. Он издевается над французами. Когда генерал Бок побежит на запад, генерал Штюльпнагель понесется на восток. Мы хотим освободить Францию. Мы хотим отомстить за кровь нантских заложников. Мы хотим жить свободными или умереть...» Маршал трет глаза: «Умереть? Разве вы не умерли? Мертвые не смеют разговаривать... Я попрошу гестапо поставить посты на кладбищах Вердена. Я, маршал Филипп Петэн, запрещаю мертвецам вести антинемецкую пропаганду. Я приказываю...» Не мертвые говорят с маршалом Петэном — живые. Говорит французский народ. Он кует в подполье оружие. Он готовит свой фронт. Он прислушивается — орудия Москвы — надежда мира. И французский народ повторяет два слова: «Москва держится». У Гитлера нет французских «добровольцев»: сотню босяков и сутенеров не выдать за французский народ. Но прислушайтесь, друзья, — через горы, через снежные поля, через окаянную Германию доходят до Москвы слова бессмертной «Марсельезы»: Вперед, сыны отечества, День славы наступил!.. 28 ноября 1941 г. После Ростова 26 ноября берлинская радиостанция спесиво заявила: «Когда немцы занимают какойнибудь город, они никогда его не отдают». Три дня спустя хвастунов выгнали из Ростова. Бежали знаменитые танкисты Клейста, бежали «горные стрелки» Клюбера, бежали «викинги» — бежали, как будто они не викинги, но самые обыкновенные итальянцы. Германское командование опубликовало изумительную сводку. Вот ее текст: «Войска, оккупировавшие Ростов, в соответствии с полученными приказами, эвакуировали кварталы города, чтобы предпринять, ставшие необходимыми, беспощадные репрессивные меры по отношению к населению, которое вопреки правилам войны приняло участие в боях, направленных в спину германских войск». Суровое у нас время — нам не до смеха. Но здесь давайте посмеемся! Битые немцы все еще хорохорятся. Они уверяют, что они ушли из Ростова назло нам. Они ушли, потому что им нужно расправиться с населением. Мы знаем, что немцы умеют расправляться с мирными жителями на месте. Чтобы вешать жителей Белграда, они не уходят в Загреб. Чтобы терзать парижан, они не перекочевывают в Лилль. Если они ушли из Ростова, это потому, что их из Ростова выгнали. Это понятно даже немецким дуракам, которых девять лет отучали думать. Это понятно даже немецким детям. Они бегут к Таганрогу и в злобе ругаются: «Мы расправимся с жителями Ростова». Но пять тысяч палачей уже негодны для расправы: их закопали в землю. Они кричат: «Мы разгромим город из орудий!» Но наши бойцы считают орудия, захваченные у немцев. Они повторяют: «Мы ушли из Ростова, чтобы наказать Ростов». Браво, эсэсы! Вам придется «наказать» и всю Россию — уйти прочь. Но не пять тысяч трупов мы зароем в нашу землю, а пять миллионов. Освобождение Ростова — радостная весть. Это — первая ласточка. Это — первый освобожденный город. Ростов говорит защитникам Москвы: «Держитесь! Немцы умеют не только наступать. Они умеют и убегать». Мы знаем: опасность по-прежнему велика. Враг на пороге Москвы и Ленинграда. Но сегодня с новой верой мы говорим: «Стой! Ни шагу назад!» Русские показали, что они умеют бить немцев. Трудно только начало. 2 декабря 1941 г. Ответ Риббентропу В Берлине было задумано большое торжество: собрали «союзников» Германии. Предполагалось, что Гитлер сообщит им о взятии Москвы. Программу праздника пришлось в последнюю минуту переменить. Москву немцы не взяли, и Гитлер решил, что не стоит зря показываться перед своими лакеями. «Союзникам» преподнесли бывшего коммивояжера, сбывавшего скверное шампанское, — Иоахима фон Риббентропа. Фон Риббентроп — первый наглец Германии. Когда он был послом в Англии, англичане пробовали убить его иронией. Ему говорили: «Вы — настоящий джентльмен». Фон Риббентроп не смущался, он развязно отвечал «Jawohl, конечно», наступая при этом собеседнику на ногу. Фон Риббентроп умеет быть любезным, когда нужно сбыть поддельное вино или выдать мобилизацию за сельское празднество. Он умеет и дерзить, это ловкий мужчина. Перед лакеями фон Риббентроп был великолепен. Он сначала расхвалил свою челядь. Вшивые румыны у него стали легендарными героями, маршал Маннергейм — пасхальным агнцем. Потом фон Риббентроп начал ругаться. Он обличал всех — президента Рузвельта, Черчилля, англичан, особенно он поносил русских. Его слова о русском народе настолько живописны, что их стоит выписать: «Русский человек туп, жесток и кровожаден. Он не понимает радости жизни. Ему неизвестны понятия прогресса, красоты и семьи». Ай да Риббентроп! Какой он прыткий в берлинской лакейской! Как он отважно нападает на русских — у себя дома, подальше от наших красноармейцев! Как ловко жонглирует словами этот разбитной коммивояжер! Мы не знаем прогресса? Кто это говорит? Министр государства, которое гордится тем, что в середине двадцатого века оно возродило десятый век. Прогресс гитлеровцев? Да, это знатный прогресс! В 1941 году они воскресили обычаи своих предков, диких германцев. Они ввели палача с топором, дуэли на молотах — один прогрессист разбивает голову другому, аутодафе для несчастных книг, еврейские погромы и «расовую теорию». Эти ревнители прогресса выбросили из своей страны самого крупного ученого нашего времени — Эйнштейна. Они сожгли сотни тысяч книг. После Дарвина они вернулись к генеалогическим деревьям. Они оскопляют чехов — так дикари на заре человечества оскопляли врагов. Они ввели экономику кочевников, которые вытаптывали страны. Они превратили Европу в пустыню. Они поклоняются языческому богу Вотану, они приносят ему и его первосвященнику, тирольскому шпику Гитлеру, кровавые жертвоприношения. Вновь над Европой — черная смерть и ужас тысячного года, когда люди суеверно ждали светопреставления. Красота? О какой красоте смеют говорить эти люди? Они сожгли музей Франции — Руан. Они сожгли Новгород. Они выкинули из немецких музеев самые прекрасные картины. Их красота — это лягушечьи лапки Геббельса, это пирамиды из черепов, это распоротые животы полек и сербок. Кто посягнул на красоту мира, на древнюю Грецию? Друзья фон Риббентропа, банда механизированных мешочников. Нет города уродливей, чем столица гитлеровской Германии с ее пузатыми бюргерами, с ее обер-лейтенантами, морды которых изрублены на дуэлях, с ее толстозадыми валькириями и пауком-свастикой на фасадах. Семья? Погодите, кто говорит о семье? Геббельс, публично избитый за блуд? Доктор Лей, который насилует девочек? Или, может быть, господа ефрейторы, которые устраивают в наших городах публичные дома и оскверняют наших женщин? Фон Риббентроп назвал наш народ «тупым и жестоким». Было бы обидно, если бы этот проходимец хвалил наш народ. Народ, который до всего дошел своим умом, народ Ломоносова, народ самоучек назван «тупым». Как здесь не посмеяться? Наш народ дал миру величайших ученых. Чьи книги читали немцы до того дня, когда Гитлер приказал своему народу стать народом дураков? Может быть, немцы в 1932 году читали романы Геббельса или «философские» опусы мошенника Розенберга? Нет, они читали Толстого и Достоевского, Чехова и Горького. Русские — «тупой народ»? Мы многое придумали. Мы придумаем, как получше перебить этих прогрессивных погромщиков, тупых и зазнавшихся фашистов. Есть у нас изобретатели. Может быть, весной какая-нибудь «тупая» бомба свалится на острую голову фон Риббентропа — надумаем и это. Фон Риббентроп говорит, что мы — «жестокий и кровожадный народ». Это говорит гитлеровец, то есть представитель племени, уничтожившего десятки миллионов людей. Что думают о гуманности фон Риббентропа польские вдовы и сербские сироты? Русские были мирным, может быть, чересчур мирным народом. Лев Толстой жил не в Берлине. Братство народов люди провозгласили не в Потсдаме. Когда Германия голодала, мы слали немецким рабочим хлеб. Фон Риббентроп об этом не помнит: он тогда спекулировал на французском шампанском. Теперь мы решили перебить всех немцев, которые ворвались в нашу страну. Мы их не хотим мучить или пытать. Мы попросту хотим их уничтожить. Это гуманная миссия, она выпала на долю нашего народа. Мы продолжаем дело Пастера, который открыл сыворотку против бешенства. Мы продолжаем дело всех ученых, нашедших способы уничтожения смертоносных микробов. Во имя прогресса, красоты, семьи, русский народ, — огонь по немецким оккупантам! 3 декабря 1941 г. Черная душа Почему Вальтер Дарре считается в Германии «специалистом по крестьянству»? Потому что Вальтер Дарре презирает крестьян. Он заявил: «Проблема сельского хозяйства — это проблема химических удобрений и племенного скота. А рабочие руки всегда найдутся». Почему доктор Лей — «специалист по рабочим»? Потому что доктор Лей считает рабочих «простачками» — так он изволил выразиться. Доктор Лей закабалил рабочих Германии. Почему гитлеровцы называют Альфреда Розенберга «специалистом по России»? Потому что Альфред Розенберг ненавидит Россию. «Специалисты» — у них палачи: один рубит головы рабочим, другой расстреливает крестьян, третий вешает русских. Остзейские бароны набили руку на карательных экспедициях и на государственной измене: они либо усмиряли народные восстания, либо продавали Россию германской империи. Альфред Розенберг затмил своих предков: он и усмиритель, и предатель. Он родился в Ревеле. С детства говорил по-русски и думал по-немецки. Учился в Риге. Пел «Боже, царя храни», но при этом нетерпеливо поглядывал на запад: его царя звали тогда Вильгельмом. Когда Россия защищалась с оружием в руках, Альфред Розенберг окопался. Во время войны он неожиданно выехал за границу. Приятель Розенберга Гиммлер считает, что Розенберг тогда занимался шпионажем. Вернувшись в Россию, Розенберг решил закончить образование. Он мирно сдавал зачеты. Рижский техникум перевели в Москву. В 1918 году молодой, но прыткий Альфред ходил по темным московским улицам и жадно ел паечный хлеб. Он мечтал, что немцы придут в Москву. Но гора не пришла к Магомету. Розенберг отправился в Германию, и в 1919 году беглый балтийский барон встретился в Мюнхене с мелким шпиком Гитлером. Адольф понял Альфреда, Альфред понял Адольфа. Учителем в те годы был Альфред: Розенберг изложил перед восхищенным Гитлером все «теории» старых русских черносотенцев. Гитлер пробовал лопотать: «Людендорф предлагает...» Розенберг его прерывал: «Людендорф — ерунда! В России был жандармский полковник Зубатов — вот это философ! Нужно организовать союзы рабочих с помощью полиции. Объявить, что правительство стоит над классовой борьбой. Фабриканты будут счастливы. А рабочие не посмеют бунтовать. Мало усмирять, надо обманывать. Зубатов был умницей... Мы должны внушать презрение к русским. Мы должны говорить, что немцы — первый народ в мире». С того дня Альфред Розенберг стал «специалистом по России». Он занялся одним: он поносил русский народ. Вот несколько отзывов Розенберга о русских: «Только варяги, то есть немцы, смогли преодолеть дикий хаос русской степи... Русские не способны к творчеству. Это — подражатели. Они органически ниже любого дикого народа». «В России можно проверить правильность расовой теории — существование России представляет смертельную опасность для северной, то есть германской, расы». «Русский народ не способен возвыситься до понятия чести. Он способен только на бескровную любовь». «Необходимо обуздать народ, отравленный Толстым». Розенберг не только говорил, он и действовал. Он посылал диверсантов в Россию, печатал фальшивые червонцы, устраивал взрывы, убийства. Гитлер сделал его негласным министром иностранных дел: Розенберг стоял во главе всей подрывной работы гитлеровцев за границей. Он содержал заговорщиков в Эльзасе, подготовлял мятежи судетов, наставлял румынских «легионеров». Одновременно он писал книжки с громкими названиями: «Борьба духовных ценностей» или «Грядущая империя». Этот погромщик из Ревеля считался первым философом оболваненной Германии. «Поход на Восток» — вот как Розенберг определил свою программу. Он писал: «Надо загнать русских в Азию». В мечтах он уже торговал бакинской нефтью и украинской пшеницей. Он говорил: «Мы начнем с освобождения Украины» — «освободить» на их языке это значит прикарманить. Он числился также педагогом: он воспитывал гитлеровскую молодежь. Он приучал будущих эсэсовцев к насилиям и грабежу. Он говорил: «Женщины любят только жестоких». Он выдвигал вперед самых тупых и самых бессовестных. Он пояснял: «Необходимо, чтобы один приказывал и чтобы все ему повиновались». Началась вторая мировая война. Из Риги, из Таллина в Берлин приехали друзья, родственники и клиенты Розенберга. Он их дружески принял: «Погодите. Скоро справедливость восторжествует. Снова варяги поплывут на Восток...» Он любит изысканно выражаться: он хочет показать гитлеровским босякам, что он, Альфред Розенберг, — человек с высшим образованием. Он не маляр, он — барон. В начале войны он возвышенно провозгласил: «Эта война прикончит всех англичан». Когда французские капитулянты сдали немцам Париж, Альфред Розенберг впал в восторг. Этот человек обожает унижать. В частной жизни он унижает женщин и прислугу. Ему этого мало. Он жаждет унизить народы. Он приехал в Париж. Он вошел в здание французского парламента, поднялся на трибуну и горделиво сказал: «Мы выкинем идеи французских просветителей в мусорный ящик». Месяц спустя я увидел Альфреда Розенберга в Брюсселе. Он устроил парад эсэсовцев на площади Конституции: он старался даже в деталях унизить побежденных. Он мечтал поехать в завоеванный Лондон, войти в здание английского парламента и крикнуть: «Ваша хартия свободы пойдет на растопку». Но в Лондон он не попал... Теперь барон Альфред Розенберг дожил до желанного часа: Адольф Гитлер назначил его «министром Восточных областей» — ему вручены захваченные гитлеровцами советские области. Барончику сорок восемь лет. Он еще полон прыти. Он видит себя Альфредом первым, российским кайзером. На своем новом посту Альфред Розенберг уже принял три решения: 1. Собственность колхозов объявляется собственностью германского государства. 2. «Министерство» Розенберга будет помещаться в здании советского посольства. Розенбергу понравился старинный особняк на Унтер ден Лиден. Этот дом издавна был посольством России. Розенберг развлекается: он хочет в доме, где защищали Россию, над Россией измываться. 3. На почтовых марках «для бывшей России» будет напечатано изображение Гитлера с немецкой надписью «Остланд» — «восточная провинция». Остзейский барончик мстит русским. За что? За то, что он ел русский хлеб? За то, что русский народ велик? Кто поймет черную душу этого проходимца... Наверно, он поедет в Ясную Поляну и будет там глумиться над могилой Льва Толстого. Мы теперь знаем, какая судьба ждет нас, если Гитлер победит. Россия станет «восточной провинцией». Грабить, вешать, пытать будет ничтожный немчик по имени Альфред. Нет, этого не будет! Альфред Розенберг забыл русскую историю, хотя когда-то он ее учил. Розенберг думает, что русские способны только на «бескровную любовь». Он узнает скоро, что такое кровная русская ненависть. 5 декабря 1941 г. Русская музыка Нет трагедии без шута. Зимний ветер крутит пыль на улицах запущенного Берлина. Стучат костыли калек — чечетка смерти. Каждый вечер миллионы немок мечутся в тревоге: они еще ждут. Каждое утро в Германии просыпаются несколько тысяч новых вдов. С востока как бы доходит запах человечины. А мясник Гитлер шлет на бойню новые и новые дивизии. Берлину страшно. Берлин теряет голову. И вот тогда показывается на сцену первый шут Германии — колченогий Геббельс. Второго декабря Геббельс обратился к немецкому народу с пламенным призывом. Он просит вспомнить о немецких солдатах, сражающихся далеко от родины. «Жертвуйте», — кричит Геббельс. Что же нужно немецким солдатам? Может быть, замерзая, они мечтают о валенках, о фуфайках, о теплых рукавицах? Может быть, голодные, они просят банку консервов? Нет, немцам под Москвой не хватает одного: музыки. Шут Геббельс пишет: «Наши солдаты изнывают вдали от Германии среди безотрадных просторов. Жертвуйте патефоны и побольше граммофонных пластинок». Надо надеяться, немки и немцы откликнутся на призыв доктора Геббельса. Зачем им патефоны? Они охотно отнесут все пластинки на указанные пункты. И среди снежных сугробов раздастся: «Ах, майн либер Аугустин...» Романс «Почему, красавица, ты так недоступна» пошлют немцам, которые умирают под Москвой. Ведь они уже пятого октября, согласно немецким газетам, находились «в предместьях Москвы». Прошло шестьдесят дней. Погибли сотни тысяч немцев. «Предместья» оказались длинными... Москва оказалась недоступной. Пусть дураки послушают перед смертью сентиментальный романс. А другую песенку: «Счастье проходит слишком быстро» Геббельс может направить в Мариуполь. Может быть, ктонибудь из ростовских «победителей» прислушается к трелям певицы. Боюсь только, что им не до колоратуры... Шут даже из смерти делает балаган. Москва стала для немцев Верденом этой войны. Окрестности нашей столицы превратились в огромное немецкое кладбище. Здесь погребены не только сотни тысяч немцев — здесь погребена слава Германии. Впрочем, немецким солдатам не до славы. Они тоскливо чешутся задеревеневшими от холода пальцами. Они плачут от ледяного ветра. Они суеверно прислушиваются к разрывам: чей черед? Каждый из них проклял тот день, когда он родился, и все они прокляли тот день, когда родился Гитлер. Шут Геббельс шлет этим живым мертвецам патефоны. Они будут слушать марши и вальсы, вальсы и марши. Геббельс не пошлет им единственно уместной пластинки: траурный марш. Шагайте, мертвецы, по снегу! Хороните свое счастье! Хороните свою Германию! Нет, вместо этого над могилами гнусаво завизжит патефон: «Татари-татара, валери-ва-лера». А вдруг затеряются по дороге патефоны? Что будут делать музыкальные немцы «среди безотрадных просторов»? Но, может быть, их порадуют наши артиллеристы? Это — тоже музыка, и немцы хорошо знают некоторые мелодии наших орудий. Мы их побалуем хорошим концертом. А если уцелеет кто-нибудь из них, он никогда не забудет нашей русской музыки. Товарищи бойцы, немцы соскучились по музыке. Придется для них исполнить — на орудиях, на минометах, на пулеметах — очередной номер: траурный марш Германии. 7 декабря 1941 г. Ледяные слезы Немецкое радио передает каждый день с фронта описание солдатской жизни. Этим заняты «РК» — «роты пропаганды». Обычно в таких передачах — бодрые монологи образцовых эсэсовцев: «Пришли, увидели, победили». Но вчера в передаче с немецкого фронта послышались правдивые слова, они были посвящены русскому морозу: «Дует ледяной ветер. Он как бы заодно с нашими врагами. Из глаз невольно текут слезы. Преглупая картина! Мы вытираем глаза и говорим, что мороз нам не страшен. Если башмаки не слишком тесны, мы надеваем по две пары носков и, кроме того, заворачиваем ноги в газету. Но все же ноги коченеют...» Может быть, в ближайшие дни передачи «РК» сообщат нам о состоянии передних конечностей немцев, их ушей и носов. За спокойным голосом диктора слышится дрожь: сидят и лязгают зубами победители всего мира с отмороженными лапами, сидят и плачут — плачут не от чувств — какие могут быть чувства у этих зверей? Нет, плачут от мороза. Воистину, «преглупая картина»! С завистью смотрят немецкие пленные на русские валенки. Они опрашивают: «Что это?..» По-немецки даже нет такого слова. Русский с детства приучен к русским морозам. Русский дом, русская одежда рассчитаны на суровую зиму. А немцам это внове. Они сидят при тридцати градусах в тесных башмаках. Сидят и плачут. Плачут убийцы русских детей, плачут, как девчонки. Не думайте, что в них заговорила совесть. Нет, их растрогал мороз. Движется северный ветер — он несется, как танковая колонна. Метель слепит людей. Это русская зима идет на захватчиков. Смейтесь, гороховые шуты! Плачьте, убийцы! Приползли к нам? Получайте! 9 декабря 1941 г. Вторая война Передо мной письмо, найденное в штабе немецкого батальона: «Многоуважаемый господин командир. В связи с несчастьем, постигшим нашего любимого сына, я вынуждена обратиться к вам с просьбой сообщить мне, как мог мой сын погибнуть смертью героя в Польше, когда война там давно уже закончилась? Ведь он пробыл там девять месяцев, и никогда ничего не случалось. Я надеюсь, что мой сын похоронен, как подобает, и что его могила не поросла сорной травой. Прошу возвратить мне вещи моего сына. С немецким приветом Фрида Бегль. Регенсбург. Винтервег, 83». Итак, наивная обитательница Регенсбурга думала, что война в Польше кончилась. Она думала, что теперь в Польше тишь да гладь, божья благодать — немцы вешают поляков и заедают виселицы краковской колбасой. Но вот ее сын неожиданно погиб: его, наверно, подстрелил поляк. И в Регенсбурге из окаменевших глаз горе выжало слезы. Фрида Бегль не плакала, когда немцы убивали десятки тысяч поляков, когда они издевались над польскими женщинами, когда они мучили польских детей. Теперь она плачет. Вместе с ней плачут и другие немки. Плачьте, сударыни, война в Польше не кончилась. Война в Польше начинается — вторая народная война. В польских лесах живут мстители. В польских городах гнев разряжает револьверы. Война не кончилась и во Франции. За последние дни три немецких офицера на узких улицах старого Парижа ответили своей кровью за позор Компьена. Это не первые и не последние. Каждый день французы выходят на охоту: бьют насильников. Нужно много немецкой крови, чтобы очистить французскую землю. Близок день, когда из рек выплывут пулеметы. Не в розницу — оптом будут бить тогда немцев французы. Вспомнив слова «Марсельезы», они «напоят нечистой кровью борозды земли». Госпожа Мюллер, ваш сын еще пьет шампанское в кабаках Парижа? Готовьте траур, сударыня: скоро вы узнаете, что он погиб «смертью героя». Вы предупреждены, незачем будет беспокоить «многоуважаемого господина командира» — война во Франции не кончилась. Война не кончилась и в Норвегии. На Лофотенских островах отважные рыбаки в темные зимние ночи истребляют немцев. Недавно в городке Свольере «исчезли» четыре немца. Море выкинуло один труп. Фрау Шурке, ваш первенец еще пьет «аквавиту» в Осло? Запаситесь носовыми платочками и не мечтайте о могиле с цветами. Немцы умеют мучить людей, и люди ненавидят даже мертвых немцев. Их не хоронят, их закапывают. А в Норвегии — рядом море, незачем утруждать руки. Война не кончилась и в Греции. В Пирее греки взорвали склад с горючим. Погибло восемнадцать немцев. Наверно, в Дрездене немки думали, что достаточно повесить грязную тряпку над Акрополем, и Греция будет усмирена. Нет, Греция воюет. Фрау Шуллер, ваш любимец пьет в Афинах мускат? Не сомневайтесь: немцы его похоронят с почестями. А гречанка, у которой немцы убили детей, плюнет на могилу вашего сына. Может быть, немки думали, что война кончилась в Югославии? Может быть, узнав, что Белград сожжен, они мечтали: хоть бы моего сына послали в Югославию! Но в Югославии идет великая война. Сербские патриоты уже освободили от насильников четверть страны. Тысячи немцев перебиты отважными партизанами. Фрау Данкеман, вы говорите завистливым соседкам: «Мой не в России. Нет, слава богу, мой в Югославии, а там война давно кончилась». Вы думаете, что он пьет далматинское пиво? А он лежит с раскрытым ртом на горном перевале. У него карманы полны — здесь и брюссельское кружево, и сербское сало. Но никто не перешлет вам этих «трофеев». Плачьте, сударыня, вдвойне. Война не кончилась в захваченных Гитлером странах. Война продолжается. Она кончится только тогда, когда последний насильник упадет, обливаясь кровью. Война от океана до океана. Единый фронт от Бискайского залива до Ледовитого океана, от Азовского моря до Атлантики. Война не кончилась ни в Минске, ни в Житомире, ни в Пскове. Немцы хотели сражаться на одном фронте. Им приходится сражаться на тысячах фронтов. Каждый дом становится крепостью — рыбацкий дом в Бретани и украинская хата. Каждое дерево скрывает засаду — олива Греции и лапландская ель. Плачьте громче, немки! Вам не увидеть ваших сыновей. Вам не найти дорогих вам могил. Спросите Гитлера, что он сделал с вашими сыновьями. Он раскидал их кости по всему миру. Вы лопочете: «Неужели война еще не кончилась?» Нет, сударыни. Вы начали. Кончим мы. 10 декабря 1941 г. Свидетели Вот приказ главнокомандующего германской армией: «Борьба против антигерманских элементов среди гражданского населения России возлагается на особые отряды безопасности. Военнослужащим воспрещается присутствовать при выполнении отрядами безопасности необходимых мероприятий, а особенно фотографировать работу отрядов безопасности». Этот приказ — победа гестапо над немецкими генералами: Гиммлер получает монополию на виселицы, гестаповцы добились привилегии жечь деревни, расстреливать из пулеметов женщин и уничтожать русских детей. «Отряды безопасности» — это эсэсовцы, волки из волков, змеи из змей. Конечно, и прочие немцы не любят церемониться. Обер-лейтенанты под видом борьбы с государственной изменой насилуют русских девушек. Ефрейторы, говоря, что они очищают страну от коммунистов, очищают крестьянские избы от одеял и подушек. Немецкие солдаты, якобы сражаясь с партизанами, убивают десятилетних детишек. Но все это для гитлеровцев — мелочи. Оптовые убийства, расстрелы десятков тысяч горожан из пулеметов, уничтожение деревень, камеры пыток для арестованных поручаются «отрядам безопасности». Почему же военнослужащим возбраняется присутствовать при массовых казнях, пытках, при зверских расправах? Может быть, фельдмаршалы щадят чувствительные души ефрейторов? Может быть, нервы фельдфебелей начинают пошаливать? Нет, чужой кровью немца не проймешь. Не смутишь его агонией чужих детей. Почему же главнокомандующий подписал этот приказ? Ответ прост: главный палач, Адольф Гитлер, боится ответственности. Среди немецких солдат достаточно болтунов. Попадется такой в плен и расскажет: «В Киеве наши здорово поработали — привели женщин на кладбище и расстреляли, а в Ростове наши сожгли детей в подвале — замечательно работали». Еще опасней фотоаппарат. Немцы любят запечатлевать на пленке свои подвиги. Я видел фотографии с виселицами для сербов, с убитыми гречанками. Видел и фотографии, сделанные у нас: расстрел старого русского крестьянина, голую девушку на площади украинского городка. Имеются, наверно, и фотографии киевских зверств. Фотообъектив — наблюдательная штука, он запечатлевает все — и мучения жертв, и морды палачей. Гитлер страшится ответственности. Гиммлер поджимает хвост. Эсэсовцы начинают понимать, что не все им резвиться — придется и отчитываться. Они хотят убивать без свидетелей. Они хотят пытать без посторонних. Они боятся улик — долой фотоаппараты! Наивные уловки! У нас миллионы свидетелей. Не всех они убили. А уцелевшие все видели. Сожженные дома — это тоже свидетели. Женские кофты в немецких штабах — это тоже улики. Мы обойдемся без немецких фотографий. Мы не станем гадать, какой эсэсовец насиловал, а какой проламывал черепа. Мы знаем, что все эсэсовцы — наперсники Гиммлера и профессиональные палачи. Настанет день, и мы посадим Гитлера на скамью подсудимых. Он ответит за все. Может быть, он скажет: где улики? где свидетели? Тогда встанут из могил замученные. Тогда бросятся на Гитлера матери растерзанных. Тогда заговорят даже камни испепеленных русских городов. Тогда завопит наша земля, оскорбленная немецкими зверствами: «Смерть! Смерть! Смерть!» 13 декабря 1941 г. Живые тени Телеграмма из Парижа сообщает: «Германские оккупационные власти решили снести памятники Вольтеру и Жан-Жаку Руссо. Металл будет использован для нужд военного ведомства». У немчуры хозяйственный глаз и длинные руки. Кастрюля? Тащи кастрюлю! Дверная ручка? Живо отвинчивай! Памятник? Давай памятник! Вольтер стоял на набережной Сены. Он глядел на букинистов, на старые, очень старые книги. Он глядел также на веселых парижских детей. Это была замечательная статуя, и это была душа Франции: ее благородная ирония, ее разум, ее любовь к свету. Теперь по набережной Сены бродят тупые ефрейторы. Их раздражала улыбка старого француза — бронзовая, но живая. Руссо и Вольтер зажгли в сердце Франции любовь к свободе. Их книги были фундаментом величественного здания, именуемого французской революцией. После Руссо стала постыдной несправедливость. После Вольтера стало позорным изуверство. Теперь, когда Францию захватили люди, для которых справедливость — пустой звук, для которых просвещение — враг, нет места в Париже для Руссо и Вольтера. Может быть, на освободившиеся пьедесталы немцы поставят другие статуи — из гипса: вместо Руссо мясник Гиммлер, вместо Вольтера колченогий Геббельс. Мы знали, что гитлеровцы ненавидят будущее. Они хотят остановить ход истории. Они беспощадно истребляют дерзкую мысль. Они травят изобретателей и поэтов. Они ненавидят и настоящее. Европа жила большой, сложной жизнью. Люди работали, боролись, любили, мечтали. Гитлеровцы обратили Европу в концлагерь, в пустыню, в кладбище. Они ненавидят и прошлое. У них нет предков. На кого они могут сослаться, кого помянуть? Даже инквизиторы отрекутся от Гиммлера. Даже колдуны-алхимики высмеют Геббельса. Только древние германцы, варвары в звериных шкурах, приносившие кровавые жертвы богу Вотану, с удовлетворением посмотрят на зверства тирольского шпика. Они воюют с памятниками. В Кракове они снесли статую Шопена. В Париже — статуи Вольтера и Руссо. У нас они стреляли в портреты Пушкина. Но тени прошлого живы. Их не расплавить, не застрелить. В городах истерзанной Польши по ночам бродит тень Шопена. В тишине слышатся вечные мелодии, и поляки говорят друг другу: «Жива красота. Жива Польша». По улицам темного Парижа ночью ступает Руссо. Он заходит в печальные дома. Он повторяет старые слова о совести, о счастье. В ставни стучится Вольтер. Старик пришел, чтобы приободрить французов. Он говорит о глупости тиранов, о неизбежной победе разума. В Москве на Тверском бульваре стоит Александр Сергеевич Пушкин, и зима снова серебрит его юную голову. Защитники Москвы охраняют не только сон живых москвичей. Они охраняют и статую великого поэта. И в напряженной тишине, между двумя атаками, московские переулки обходят крылатые слова: ...что в мой жестокий век восславил я свободу... Свобода, тебя не снести! 14 декабря 1941 г. Близится час Мы не зря пережили тяжелую осень. Мы не зря узнали горечь отступления. Мы закалились. Мы научились бить немцев. За Ростовом — Тихвин, за Тихвином — Елец, за Сталиногорском — Истра, за Истрой — Калинин. Не все им кататься в танках, не все пировать. Нашлась управа на проклятую немчуру. Завоеватели Парижа удирают из Ливен. «Герои» Фермопил теряют штаны в Алексине. Затаив дыханье, мир смотрит, как «непобедимая» германская армия откатывается от Москвы. Это только начало. Мы знаем, что впереди еще много испытаний. Проклятый гитлеряга получил по носу. Но от щелчков такие не дохнут. Гитлеряге придется расшибить голову. Путь наступления — долгий путь: деревня за деревней, дом за домом. Немцы понимают, что их ждет. Они будут отчаянно защищаться. Они, возможно, еще не раз попытаются прорвать наш фронт и перейти в контрнаступление. Они налепили на лоб пластырь и спесиво почесывают зад. Они пишут: «Русские просто заняли пункты, очищенные нами по соображениям высшей стратегии». Нет, мы не «просто» заняли Ростов и Тихвин. Пришлось предварительно перебить десятки тысяч немцев. Да и немцы не «просто» очищали наши города. Они пробовали удержаться. Их выгнали из Клина. Их выбили из Калинина. «Высшая стратегия»? Объяснение для немецких остолопов. Когда выполняют стратегические операции, не бросают орудий, орудия не окурки, не теряют танков, танки не булавки. Пускай михели и фрицы утешаются «высшей стратегией». Гитлер может выдать фельдмаршалу Рунштедту орден за очищение Ростова. Он может подарить золотую шпагу фельдмаршалу фон Леебу за бегство из Тихвина. Он может осыпать бриллиантами мундир фельдмаршала фон Бока за Клин, за Калинин, за Сталиногорск. Он может сказать, что климат Ростова вреден для немцев, что гитлеровцы, поглядев в бинокль на Москву, нашли ее малопривлекательной, он может сказать, что, когда зимний ветер дует в спину, это приятней, чем когда он дует в лицо. Битый шут еще может хорохориться. Важно начало: наши бьют немцев. Слушайте, славные защитники Севастополя: немцы умеют удирать. Слушайте, украинцы: скоро черед Харькову. Глядите, бойцы далекого Мурманска: у немцев не только танки, у них есть пятки, и эти пятки красиво сверкают. Дыши свободней, Ленинград: кольцо вокруг тебя разжимается. У немцев еще сотни дивизий. У немцев еще тысячи и тысячи танков. Немцы еще топчут наши богатейшие области. Они еще жрут и спят в наших чудесных городах. Но что-то треснуло в их проклятой машине. Поглядите — немец уже не тот. Его глаза бегают. Его сердце, трусливое и наглое, беспорядочно бьется. В его тупую квадратную голову закрались первые сомнения. Нелегко его будет добить. Но теперь даже дураки видят, что мы его добьем. Полгода рыскали бешеные волки по нашей земле, по нашим городам. Близится час облавы. 20 декабря 1941 г. Руки коротки Газета «Франкфуртер цейтунг» пишет: «Хлопчатобумажная фирма «Бремер» объявила об увеличении оперативного капитала до пяти миллионов марок, предназначенных на посевы и закупку хлопка в рамках экономического развития Востока, в том числе на посевы хлопка в Туркестане». Слов нет, у немецких богачей длинные руки. О чем они мечтают во Франкфурте между двумя английскими бомбежками? О хлопке Туркестана. А тем временем акционер фирмы «Бремер», он же обер-лейтенант немецкой армии, поспешно удирает из Калинина. «Почему вы дрожите, герр обер-лейтенант?» — спрашивает его неделикатный коллега. Обер-лейтенант отвечает: «Холодно... Пфуй, какой ужасный климат». Врет немец: не только от холода его трясет — от страха. Мечты о хлопке Туркестана придется оставить. Далеко от Калинина до Ташкента. Ближе от Калинина до Франкфурта. Да и не в одних километрах дело. Шесть месяцев немцы шли на восток. Теперь изменилось направление: они бегут на запад. Не о Туркестане им следует думать — о своей проклятой норе. Они уже делили шкуру русского медведя. Но здесь-то и приключился конфуз: «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел». Они в мечтах уже тащили наш хлопок, они перепродавали друг другу акции Магнитки, они, облизываясь, приценивались к бакинским промыслам. Их разбудили орудия Красной Армии. Они недавно еще хвастались: «Мы смотрим в бинокль на Москву». Посмотрели. Хватит. Зря они выложили пять миллионов. Денежки пойдут на другое: отстроят Калинин. А господа акционеры фирмы «Бремер» расстанутся со своими сигарами — пошлют голубчиков в Клин: пусть чинят дороги. 21 декабря 1941 г. Солнцеворот Это было в солнцеворот. Самая короткая ночь в году прикрыла злодеяние немцев. Мы знаем теперь, как это было — по сотням немецких дневников, по рассказам пленных. Дивизии Гитлера были подготовлены к нападению. Немцы нетерпеливо перебирали ногами: их манила богатая и сытая страна. Сигнальные ракеты прорезали теплую ночь. Раздались первые выстрелы. Немецкие самолеты бомбили наши города. Это было в ночь на воскресенье. Одни мирно спали, другие развлекались в клубах, на вечеринках... Немцы напали исподтишка, прилетели на яркие огни городов, ползли, как гады в нескошенной траве, переплывая пограничные реки, убивали безоружных жителей. Это было полгода тому назад. Всего полгода... Нам кажется, что это было сто лет тому назад: на войне день становится годом. Вспомним — мы были тогда молодыми. Мы многого не понимали. У нас тогда были седые люди с детской душой. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет. Ничто так не возвышает народ, как большое испытание. Нашу верность проверили каленым железом. Нашу гордость испытали танками и бомбами. Мы выкорчевали из сердец беспечность. Мы выжгли малодушие. Легко мы расстались с уютом и покоем. Шли месяцы. Враг продвигался вперед. Жестче становились глаза. Люди молчали. Но молча они думали об одном: мы выстоим! Все короче становились дни. Вот и новый солнцеворот. Самая длинная ночь в году покрыла снежные просторы. По белому снегу среди черной ночи идут наши бойцы. Они идут вперед. Они преследуют отступающего врага. Мы — выстояли. Не многие из немецких солдат, перешедшие 22 июня нашу границу, выжили. Шесть месяцев тому назад они весело фыркали: война им казалась забавой. Они восторженно грабили первые белорусские села. Они обсуждали, какое сало лучше — сербское или украинское. Они знали, что они непобедимы. Разве они не побывали в Париже? Разве они не доплыли до Нарвика? Разве они не перешагнули через горы Эпира? Они пришли к нам посвистывая. Где они? В земле. На их место пришли новые. Пришли старики. Пришли подростки. Пришли калеки. Пригнали испанских каторжников. Пригнали румынский скот. Пригнали марсельских сутенеров. Пригнали босячье всей Европы. Немцы еще стреляют из автоматов. Немцы еще ранят наши города. Немцы еще пускают на нас свои танки. Но это не те немцы. Вода разъедает камень. Наше сопротивление разъело немецкую душу. Где их былая спесь? Они не поют, они дрожат от холода. Они мечтают не о московских ресторанах, но о хате, о крыше, о хлеве. Они суеверно говорят друг другу: «Зима только начинается...» Они замерзали в декабре. Что с ними станет к февралю? В ночь солнцеворота мы с усмешкой им напомним: солнце — на лето, зима — на мороз. Мы знаем, что враг еще силен. Есть имена, которые жгут наши сердца, они не дают нам спать, они кормят нашу ненависть, они пестуют наш гнев: Киев и Харьков, Курск и Орел, Днепропетровск и Одесса, Минск и Смоленск, Псков и Новгород. Мы помним о городахмучениках. Мщение, как вино, со временем оно становится крепче. Мы только пригубили чашу. Мы знаем, что миллионы живых немцев еще топчут нашу землю. Ни минуты передышки! Отдыхать мы будем потом. Но в ночь солнцеворота мы спокойно говорим: шесть месяцев для нас не прошли даром, мы научились бить немцев. Мы были народом на стройке. Мы стали народом на войне. В длинные декабрьские ночи среди сугробов шли немцы. Они шли на запад. Мир увидел необычное зрелище: немцы убегали. Они убегали, теряя танки и орудия. Убегая, они жгли города. Зарево освещало немецкие трупы. В Германии они зажигали костры в честь своих побед. У нас они жгли города в честь своего поражения. В эфире заучат имена наших побед: Ростова и Ельца, Клина и Калинина. От Америки до Ливии, от Норвегии до Греции об одном говорят люди: немцы отступают. Выше подняли голову французы. Чаще грохочут выстрелы сербских партизан. С восхищением смотрят на Красную Армию наши друзья и союзники. Не зря древние лепили победу с крыльями: она облетает моря. Наши победы — это победы всего человечества. В тяжелые октябрьские дни, когда враг наступал, когда Гитлер готовился к въезду в Москву, мы повторяли одно: «Выстоять!» Победа не упала с неба. Мы ее выстояли. Мы ее оплатили горем и кровью. Мы ее заслужили стойкостью и отвагой. Нас спасла высшая добродетель: верность. Героев Ростова благодарит Париж. За героев Калинина молятся верующие сербы. Героев Ельца приветствует Нью-Йорк. Героям Клина жмут руки через тысячи верст стойкие люди Лондона. Русский народ принял на себя самый тяжелый удар. Он стал народомосвободителем. Мы думаем в эту ночь солнцеворота о всех пионерах победы. Мы вспоминаем бойцов, которые вокруг Москвы не дрогнули под натиском танков. Мы вспоминаем прекрасный Ленинград. На его долю выпали горькие испытания. Город, который казался академией, музеем, заводом, стал крепостью. Мы думаем о наших летчиках, о наших моряках. Мы думаем о человеке, который в летнее утро сказал нам суровые и правдивые слова, который в грозный день 7 ноября приподнял нас своим мужеством и своей волей, который провел корабль государства через грозные штормы, мы думаем о нашем главнокомандующем, о Сталине. Впереди еще много испытаний. Нелегко расстанется Германия со своей безумной мечтой. Нелегко выпустит паук из своей стальной паутины города и страны. Они не уйдут с нашей земли. Их нужно загнать в землю. Их нужно уничтожить. Одного за другим. 22 декабря, солнце — на лето, зима — на мороз. Добавим: война — на победу. 23 декабря 1941 г. Немецкое рождество Под елкой, занесенной снегом, лежал немецкий солдат. Его белые мертвые глаза глядели на запад. В его кармане нашли письмо из Вернигероде: «Дорогой Вилли. Скоро наше немецкое рождество. Мы встретим его без тебя. Я и Марта — мы надеемся, что ты не забудешь нас и пришлешь нам подарочки из России на елку». Вот и пришло их немецкое рождество. Черно в Вернигероде, над городом горы Гарца, над городом Брокен, и кажется, что там ведьмы справляют свой шабаш. Нет, это ветер воет в трубе. Марта и Анни стоят перед пустой елочкой. Три огарка и прошлогодняя потускневшая звездочка. Вот и дед-мороз, он, наверно, принес подарки. На нем кепи почтальона. Что он вытащит из сумки? Меховую шапку, русский окорок, чулочки для Анни? Нет, это конверт. «Ваш муж погиб смертью героя на Восточном фронте». Повесьте казенную бумагу на елку под тусклой звездой вашего фюрера. Ветчины не будет, чулочков не будет. Далеко от вас, где-то под Тулой, метель заносит труп вашего Вилли. У почтальона много повесток. Он стучится из дома в дом. Этот дед-мороз никого не обойдет, он не забудет ни Гильду, ни Эмму, ни Фриду. Вот ваше немецкое рождество! Вы думали его справлять иначе; вы думали среди мертвой Европы зажечь веселые елки, вы думали танцевать на великом кладбище немецкий канкан, вы думали, пьяные шнапсом и кровью, петь «Мир на земле». Ваш мир — мир волков, ваше рождество — рождество Ирода. Мы не хотим смеяться над слезами Марты или Анни, но мы видим эти строчки, эти аккуратные готические палочки: «Пришли нам подарочки из России». Мы видим жадную слюнявую морду немецкой гиены, мы коротко скажем: «Сударыня, вы дождались подарков, вы получили по заслугам, плачьте, если слезы могут обелить вашу черную совесть». Мы были мирным народом. Лев Толстой в оскверненной вами Ясной Поляне думал об одном — о мире. В темную октябрьскую ночь, когда народы молчали по горло в крови, рабочие искалеченного вами Петрограда прокричали: «Миру мир». Мы не хотели чужого добра, мы не зарились на чужое счастье, мы привели пшеницу на север, и мы открыли каналы, как чудесные аорты. Мы любили книги и тепло братских рук. Вы приняли наше миролюбие за слабость, вы напали на нас, вы разбудили нашу ненависть, вы вырастили наш гнев. Теперь для нас вы не люди, нет у нас для вас ни жалости, ни снисхождения, у нас для вас железо и елки. Под нашими елями вы уснете непробудным сном. Горите, три огарка на елочке в Вернигероде! Плачьте, немецкие женщины! Ваше рождество станет постом, постом без конца. А не хотите плакать — пляшите, шуты и шутихи, дуйте в дудочки, благодарите фюрера за немецкое рождество! Весной тают снега, весной вы услышите запах мертвечины. Весной придет в Вернигероде барабанщик Ганс, и он сыграет вам гитлеровский марш. Он будет пристукивать деревяшками, барабанщик полумертвой Германии. 25 декабря 1941 г. 1942 С Новым годом! Год году рознь. Бывают годы тихие и дремучие. Люди проводят новые дороги, пишут романы, открывают сыворотки. Блаженно улыбаются новорожденные, и старики умирают от старости. Бывают и другие годы, они сразу выглядят, как даты. Их трудно пережить, и забыть их не дано. Таким останется в нашей памяти год 1941-й. Первого января 1941 года Гитлер сказал: «Этот год будет годом нашей конечной победы». У маниака, завоевавшего к тому времени половину Европы, кружилась голова. Он видел перед собой коленопреклоненное человечество, джунгли Индии, преображенные в мюнхенские пивные, немок, мечущих свой приплод в русских степях, и проволоку концлагерей от Северного полюса до Южного. Вряд ли история знала столь захолустного мечтателя. Грандиозной военной машиной управляет полуграмотный и душевнобольной пигмей. Мелкий бес плюет в бюст Вольтера и суеверно сжигает «Романцеро» Гейне. Немцы обожают слово «Kolossal» — все у них «колоссальное» — и танки, и женщины, и шутки. Трубка? Два метра длины. Пивная кружка? Три литра вместимости. Статуя Германии? На мизинце этой «Германии» уместится шестипудовый Геринг. «Колоссальными» были и мечты Гитлера. Маниак лишен радостей жизни. Он не женат. Он не ест мяса, не курит. Ему нужны другие утехи: пожар тысячи городов, агония миллионов людей, пытки, виселицы. Год тому назад Гитлер был еще пьян французской кровью. Он еще дышал гарью сожженного Роттердама. Он еще тешился развалинами Лондона и Ковентри. Новый год казался ему заманчивым — сколько еще неопустошенных стран и неубитых людей! Многим казалось, что Гитлер идет к победе. Он как бы шутя сжег Белград и надругался над камнями Акрополя. Он захватил Крит. Он ворвался в Египет. Он поднял мятеж в Ираке. Он расположился в Сирии. Он послал пиратов к берегам Америки и хвастал: «Америка никогда не осмелится выступить против меня». Маниак вертел глобус: он искал землю для новых кладбищ. В июньскую ночь он напал на Россию. Он двинул на нас все танки Европы. Он послал на нас своих холопов — финнов и неаполитанцев. Он захватил Белоруссию и Украину. Немецкие офицеры любовались в бинокли башнями Кремля. Гитлер проник в самое сердце России. Немцы резвились в Ясной Поляне, жгли тургеневские усадьбы, шли на Рязань. Немецкие танкисты безобразничали в Ростове. Немецкие интенданты уже чуяли запах бакинской нефти. Одиннадцать месяцев Гитлер торжествовал. Но в году — двенадцать месяцев, и декабрь — последний месяц. 1941 год не стал для Гитлера годом «конечной победы». 1941 год стал для Гитлера годом первого поражения. Декабрь увидел новых немецких солдат. Их не узнать. Они поседели от инея. Они забыли о «крестовом походе», о расовых признаках. Они забыли даже о трофейных подстаканниках. Железным крестам они предпочитают кацавейки, и даже генералы думают не столько о «великой Германии», сколько о теплых набрюшниках. В фатальный для Гитлера месяц, декабрь, Америка объявила войну Германии. В 1941 году Гитлер получил одного нового союзника: уголовника Павелича, правителя «независимой Хорватии». В 1941 году Гитлер получил двух новых врагов: СССР и США. В захваченных областях Советского Союза Гитлер нашел мало пшеницы и много партизан. Каждый захваченный город стал западней для немцев, каждая тыловая дорога стала для них дорогой смерти. С востока в Германию идут длинные эшелоны: солдаты с отмороженными конечностями, одноногие, безрукие, слепые. А на Востоке — могилы, могилы в лесах, могилы в степи, могилы среди городских домов — немецкие кости, раскиданные от Вислы до Дона. Настанет минута, часы пробьют двенадцать в черном, холодном Берлине. Кто первый скажет запинаясь: «С Новым годом»? Могильщик Гитлер? Или его возлюбленная, безносая дама — смерть? По главной улице Берлина Унтер ден Линден пройдут голодные женщины в трухлявых платьях. Гитлер отнял у них мужей. Мужья погибли — под Ростовом, под Ленинградом; под Тулой, под Калугой. Гитлер разул и раздел свой народ. Он уморил его на голодном пайке. Он привез в страну миллионы иностранцев: рабочий скот. Голодные итальянцы спят с женами немецких ефрейторов, и пленные французы, проклиная Германию, пашут ненавистную им землю. Чертополох взойдет на ней, крапива. Германия стала тюрьмой и публичным домом Европы. Стучат на Унтер ден Линден культяпки калек. Чернеют развалины домов, снесенных английскими и русскими бомбами. «С Новым годом», — скажет слепой вдове, и вдова ответит: «Блаженны слепые». С какой радостью Гитлер остановил бы время! Он больше не верит в будущее. Он жадно цепляется за прошлое. Он истерически выкрикивает: «Я выступил... Я покорил... Я победил...» Из всех глагольных времен на его долю осталось одно: прошедшее. Он с ненавистью смотрит на новую непривычную цифру — 1942. Он охотно заменил бы ее другой — 1940. Ему еще кажется минутами, что он в Компьенском лесу глумится над поверженной Францией. Но время не то. Два года не прошли даром. Эсэсовцы Гитлера спят непробудным сном в снегах России. А его маршалы? Маршалов он разогнал. Русский декабрь стал надеждой мира. Волхвы и народы смотрят на звезды Кремля. «С Новым годом» — эти привычные слова заучат теперь по-иному: в них надежда измученного человечества. Люди мечтают о мире, о хлебе, о свободе, и новый год сулит им счастье. Сейчас на севере Норвегии круглые сутки ночь. Рыбаки Тромзе слушают голос бури. Они говорят друг другу: «С Новым годом! В этом году они уберутся восвояси». В Греции сейчас цветут мимозы — среди голода и смерти. В Греции пастухи говорят друг другу: «С Новым годом! В этом году мы их выгоним». Ночь над Парижем. Когда-то он сиял и смеялся. Теперь он молчит. И только под крышами Парижа в черной мансарде девушка шепчет другу: «С Новым годом! В этом году мы их перебьем». В ночь на Новый год наши бойцы гонят врага. Для них новогодняя ночь — ночь высокой работы. О них сейчас думает наша страна от Мурманска до Ашхабада. С Новым годом, Красная Армия! Ты выдержала страшные дни. Ты не отдала немцам Москву. Ты пройдешь по освобожденной земле как весенний ветер. Ты пройдешь по Германии, как очистительная гроза. Мы не меряем победы на аршины и на фунты. Мы не примем четвертушки победы, восьмушки свободы, половинки мира. Мы хотим свободы для себя и для всех народов. Не погасить маяка свободы у берегов Америки. Не поставить на колени детей Лондона. Не быть Парижу немецким участком. Не быть Польше немецкой каторгой. Мы хотим мира не на пять, не на десять, не на двадцать лет. Мы хотим, чтобы наши дети забыли о голосе сирен. Мы хотим, чтобы они рассказывали о танках, как о доисторических чудовищах. Мы хотим мира для наших детей и для наших внуков. Не затем мы сажаем деревья, не затем строим заводы, чтобы каждые четверть века на нас нападали буйные кочевники Берлина. Мы хотим полной победы. Палачей мы уничтожим. Их оружие сломаем. Впереди, за жертвами и за подвигами, нас ждет чудесное будущее. Мы выросли на сто лет. Мы очистились от всех скверн. Люди, которые будут жить после нашей победы, узнают всю меру человеческого счастья. 1 января 1942 г. Когда волк начинает блеять... По случаю Нового года Адольф Гитлер обратился к немецкому народу с посланием. Тон послания чрезвычайно меланхоличный. Чувствуется, что автор не мог отвязаться от мыслей о Керчи и Калуге. К немецкому народу обращается не только «фюрер», но и новый главнокомандующий. Вряд ли ему есть чем похвастать. Если генерал-фельдмаршал Браухич сдал Ростов и Калинин, то ефрейтор Гитлер уже успел сдать Калугу. Напрасно Гитлер кричит своим дивизиям: «Стоп!» Немецкие дивизии продолжают двигаться на запад, и никто не знает, где они остановятся. Гитлер заверяет, что его солдаты отходят добровольно: они предпочитают зимние квартиры снежным сугробам. Но мало ли удобных квартир в Калинине? Мало ли теплых уголков в Калуге? Гитлер заверяет, что отход немецких армий преследует одну цель — укоротить фронт. Но фронт не стал короче. Фронт стал длиннее. В него вонзились хорошие русские клинья. Его приплюснули хорошие русские клещи. Между Клином и Каширой была маленькая подкова. Между Старицей и Козельском — огромная арка. Гитлеру нечем успокоить немецкий народ, и в своем новогоднем послании Гитлер вздыхает. Этот старый волк блеет: «Я хотел мира, а не войны». Вы слышите, народы Европы, поджигатель Варшавы, палач Белграда, убийца Парижа, погромщик Киева — миролюбивейший дядя! У него конфетки в кармане. Он хотел приласкать всю Европу, а бяки на него обиделись. Он хотел мира, но ему грозили норвежцы. Он хотел мира, но под него подкапывались бельгийцы. Гитлер пишет: «Я хотел работать в области культуры и образования». Неужели вы не догадывались, что тирольский шпик — гуманист, просветитель, дама-фребеличка? Он, оказывается, хотел работать на ниве просвещения. Он хотел мирно жечь книги и казнить ученых. Но ему помешал Люксембург. На него напал Люксембург, и Гитлеру пришлось от школьных учебников перейти к танкам. Гитлер настаивает: «Я хотел посвятить себя цивилизаторской миссии». Разумеется, это — цивилизатор. Он ведь рубил головы на плахе. Он стерилизовал женщин. Он заменил науку родословными. Он заменил любовь случкой. Он заменил университеты концлагерями. Он хотел продолжать, но вдруг греки накинулись на него, и бедному Гитлеру пришлось воевать. Волк сидит в бабьем чепчике, подвязал щеку и блеет, но посмотрите — волчья морда в свежей крови. Гитлер лицемерно восклицает: «Кому была выгодна война? Владельцам военных предприятий». Ближайший соратник Гитлера маршал Геринг сладко жмурится: Геринг стоит во главе треста военных заводов, и война его неслыханно обогатила. Улыбается фон Риббентроп, хлопает себя по карману Гиммлер, мурлычет колченогий Геббельс — у всех в Южной Америке миллионы и миллионы — дивиденды с крови, с развалин, с трупов. Гитлер кончает послание лепетом ханжи: «В начале нового года мы можем только просить всевышнего, чтобы он дал нам нужные силы. Если мы останемся верны нашим обязанностям, судьба будет такой, какой того хочет провидение. Мы боремся за наш хлеб насущный, за наш народ, за наше будущее. Бог нам поможет, и 1942 год даст нам спасение». Наследник Ирода, приверженец кровавого Вотана, человек, терзавший французских и сербских священников, прикидывается богомольцем. Он, дескать, не убивает детей, нет, он только молится и надеется на провидение. Волк ласково смотрит. Волк протягивает деткам соску. Волк жалуется — его затолкали овцы. Но, посмотрите, на волчьих лапах кровь. В глазах волка — виселицы Волоколамска, а его шерсть пахнет гарью — это сожженные русские города. Гитлер начал 1941 год бодрым криком: «Победа». Он закончил год жалобным воем: «Спасение». Он хочет оправдаться перед немцами. Он хочет сыграть великомученика. Он хочет выдать разбойную Германию за бедную, обиженную девочку. Он хочет загримировать эсэсовцев — этих насильников и грабителей — невинно пострадавшими. Он уверяет, что борется за свой народ и за свое будущее. Конечно, Гитлеру дорого его будущее — шпику или править миром, или висеть на дереве. Конечно, Гитлеру мил его народ — эсэсовцы и штурмовики, Геринг и Геббельс, фон Крупп и Феглер. Конечно, Гитлер борется за свой «хлеб насущный» — тридцать месяцев Германия живет разбоем, тридцать месяцев она жрет краденый хлеб. Теперь немцы начали улепетывать. Теперь у них в горле засела краденая краюха. Теперь подходит время рассчитываться. Хорошо, когда волк начинает блеять! Для нашего уха это замечательная музыка. Но еще лучше будет, когда волк захрипит. А он обязательно захрипит. Мы не умилимся его чепчиком. Мы не примем гранату за соску. Мы его ненавидим, как только может ненавидеть человек. Мы не забудем о Киеве, когда придем в Берлин. Мы не забудем о наших городах и селах, когда ворвемся в логово зверя. За Днепр ответит Одер. Мы вспомним о виселицах Волоколамска, когда придем в Берхтесгаден. Волк захрипит. 6 января 1942 г. Весна в январе Сначала я считал брошенные немцами машины, потом запутался. Их были сотни. Нагло и жалко глядели на восток морды пушек. Как пойманные слоны, послушно плелись немецкие танки. Я вспомнил слова берлинской сводки: «Мы добровольно укоротили фронт...» Чудаки, они укорачивают костюм вместе с мясом. «Укорачивают» и мимоходом теряют танки. Наше наступление с каждым днем крепчает. Об этом говорят немецкие могилы. Вначале видишь индивидуальные кресты с тщательно нарисованной свастикой, с затейливыми надписями. Этих хоронили еще на досуге. Их зарывали на площадях городов, в скверах, в деревнях возле школы или больницы. Немцы хотели, чтобы даже их мертвые тревожили сон наших детей. Мы проехали двадцать — тридцать километров. Пошли простые березовые кресты. Этих хоронили второпях и оптом: «Здесь погребено 18 немецких солдат», «Здесь погребен лейтенант Эрих Шредер и 11 солдат». За Малоярославцем нет и крестов. Этих не похоронили. Они валяются возле дороги. Из-под снега торчит то рука, то голова. Замерзший немец стоит у березы, рука поднята — кажется, что, мертвый, он еще хочет кого-то убить. А рядом лежит другой, заслонил рукой лицо. На березовом кресте рука русского написала: «Шли в Москву, попали в могилу». Дух наступления, как ветер, несет вперед наши части. Бойцы идут по целине, а снега-то, снега!.. Ничто их не останавливает. Позавчера была метель, снег слепил. Наступали. Вчера было солнце и тридцать градусов мороза, дух захватывало. Наступали. Я разговорился с одним бойцом. Он чуть прихрамывал. Оказалось, что три дня тому назад осколок мины его ранил в колено. Хотели отослать в госпиталь. Боец запротестовал: «Не пойду! С июня я отходил. А теперь чтобы без меня?..» Мороз его веселил. Он только находил, что мороз «легонький» — «покрепчал бы, как у нас» — это сибиряк. Генерал-майор Голубев сказал мне: «Немцы наступали отсюда, дошли до Нары. Что же, мы прошли тот же путь в два раза скорее, чем они. Мы наступаем, а потерь у них куда больше, чем у нас». Переменилась наша армия. Выросла не только материальная часть, выросли и люди. Бойцы возмужали, будто они прожили за полгода длинную жизнь. Обогатился опыт каждого. Боец, колхозник из Заволжья, говорит: «Я теперь это дело раскусил — как фрицев бить». И смеется генерал Голубев: «Я две военных академии прошел. Война — третья и самая главная...» Немцы упорно обороняют узлы сопротивления. Они хотят измотать нас. Но мы не расшибаем голову об стену: мы обходим узлы сопротивления. Немцы много месяцев говорили о мешках, обхватах, клиньях, клещах. Теперь они барахтаются в нашем мешке, они задыхаются в наших обхватах, они корчатся, пронзенные нашими клиньями, и они умирают, сдавленные нашими клещами. В яркий, ослепительный день января на дороге наступления я думаю о пионерах победы. Победу мы начали строить не 6 декабря, но 22 июня. Победу строили герои, не пропускавшие немцев, истреблявшие еще свежие германские дивизии, взрывавшие мосты, выходившие из вражеского окружения, пережившие горечь отступления, позволившие нашей стране выковать новое оружие и поднять на ноги новые части. На фронте чувствуешь, какой любовью окружена Красная Армия, — для нее работает и дышит огромная страна. Если много стало у нас автоматов, это значит, что ночей не спят рабочие Урала. Если ест боец жирные щи, это значит — сибирские колхозницы помнят о фронте. «Мало у нас было минометов, теперь хорошо...» Откуда эти минометы? Завод, что в ста километрах отсюда, давно эвакуировали. Но остались старики пенсионеры, остались устаревшие станки, осталось немного сырья. Остальное сделали русская смекалка и русская преданность. Хорошие минометы. Хорошо они бьют немцев. Старые рабочие маленького русского городка могут спокойно спать, А варежки чудесные у курносого, веселого минометчика. Варежки связала какая-то Маша в городе Аткарске, прислала к празднику. Фамилии своей не написала — «Маша», и все. Может теперь спокойно спать русская девушка Маша. Ведут пленных. Лейтенант, ефрейтор, солдаты. Дрожат, хнычут. У одного левая нога в кожаном башмаке, правая в эрзац-валенке. Оказывается, правую ногу он отморозил. Ефрейтор мне поясняет: «Легко обмороженные в госпитали не отсылаются». Да и не отошлешь — у половины немецких солдат ноги отморожены. На головах пилотки. Летом они их носили лихарски. Теперь стараются засунуть под пилотку уши. Из носу течет, он не вытирает лицо — рука замерзла. А когда привели в избу, все стали чесаться. Лейтенант пахнул одеколоном, вылил, наверно, на себя утром целую бутылочку. Он приподнял свитер, чтобы сподручней было чесаться, и один из наших бойцов крикнул: «Ты погляди: не вошь — медведь! Никогда я такой не видел...» Глядят на пленных бойцы с отвращением: «Эх, немчура...», «Вшивые фрицы...» Ефрейтор был во Франции. Он вступил с передовыми немецкими частями в преданный Париж. Смешно подумать — может быть, я его видел в Париже? Изменился, голубчик! Спесь с них наши посбивали. Вчера из лесу вышли четыре немца: волков выгнал мороз. От деревни осталась одна изба — другие немцы сожгли. Немцы поскреблись в дверь. Старая колхозница сплюнула: «Кто жег? Ты. Немец. Иди на мороз, грейся...» Дощечка осталась: «Село Покровское». А села нет. Село сожгли немцы. Что видишь по дороге на запад? От изб остались трубы да скворечники на деревьях. Отступая, немцы посылали особые отряды «факельщиков» — жгли города и деревни. Когда не успевали сжечь все, жгли самое хорошее. Жгли со смаком. В Малоярославце эти культуртрегеры показали себя вовсю: сожгли две школы-десятилетки, детские ясли, больницу и городскую библиотеку с книгами. Вот их трупы. А рядом бутылки из-под французского шампанского, норвежские консервы, болгарские папиросы. Страшно подумать, что эти жалкие люди — господа сегодняшней Европы... Часть «господ», впрочем, уже не будет пить шампанского: лежит в промерзшей земле. В селе Белоусово остался нетронутым ужин. Бутылки они откупорили, а пригубить не успели. В селе Балабаново штабные офицеры спали. Выбежали в подштанниках — и торжественно, в шелковых французских кальсонах, погибли от русского штыка. Женщины, когда видят наших, плачут. Это — слезы радости, оттепель после страшной зимы. Два или три месяца они молчали. Сухими, жесткими глазами глядели на немецких палачей. Боялись перекинуться коротким словом, жалобой, вздохом. И вот отошло, прорвалось. И кажется, в этот студеный день, что и впрямь на дворе весна, весна русского народа посередине русской зимы. Страшны рассказы крестьян о черных неделях немецкого ига. Страшны не только зверства — страшен облик немца. «Показывает мне, что окурок в печку кидает, и задается: «Культур. Культур». А он, простите, при мне, при женщине, в избе оправлялся. Холодно, вот и не выходит». «Грязные они. Ноги вымыл, утерся, а потом морду — тем же полотенцем». «Один ест, а другой сидит за столом и вшей бьет. Глядеть противно». «Он свое грязное белье в ведро положил. Я ему говорю — ведро чистое, а он смеется. Опоганили они нас». «Все украли, паразиты! Детские вещи взяли. Даже трубу самоварную и ту унесли». «Хвастали, что у них страна богатая. Нашел у моей сестры катушку ниток, а у меня кусок мыла. Мыло не душистое, простое. Все равно, обрадовался, посылку сделал — домой подарок мыло да нитки». «Говорят мне: стирай наше белье, а мыла не дают, показывают — стирай кулаками». «Не дашь ему сразу — ружье приставляет». «Опоганили нас» — хорошие слова. В них все возмущение нашего народа перед грязью не только телесной, но и душевной этих гансов и фрицев. Они слыли культурными. Теперь все увидели, что такое их «культура» — похабные открытки и пьянки. Они слыли чистоплотными — теперь все увидели вшивых паршивцев, с чесоткой, которые устраивали в чистой избе нужник. Когда их выгоняют, в уцелевших избах три дня моют пол кипятком, скребут, чистят. «Что дверь раскрыла, бабушка?» — спросил я. Старуха ответила: «Ихний дух выветриваю. Прокоптили дом, провоняли, ироды». Крестьянка с хорошим русским лицом, с лицом Марфы-посадницы, рассказала мне: «Боялись они идти на фронт. Один плакал. Говорит мне: «Матка, помолись за меня» и на икону кажет. Я и вправду помолилась: «Чтобы тебя, окаянного, убили». Добрым был русский народ. Это всякий знает. Умел он жалеть, умел снисходить. Немцы совершили чудо: выжгли они из русского сердца жалость, родили смертную ненависть. Старики и те хотят одного: «Всех их перебить». Некоторые из них три месяца тому назад еще были слепыми и глухими. Один встретил наших с куренком, кланяется, говорит: «Дураков вы принимаете? Дурак я. Шли немцы, а я думал — мне что? Мы люди маленькие. А они внучку мою угнали. Так и не знаю, где она. Корову зарезали. С меня валенки сняли, видишь, в чем хожу. Курицу одну я от них упрятал. Как услышал, что уходят, — затопил печь, старуха для вас зажарила. Спасибо, что пришли...» Стоит и плачет. А в душе у этого семидесятилетнего деда — та же ненависть, что у всех нас. Дом старика не сожгли — не успели. Много домов спасли красноармейцы от огня. За Малоярославцем наши наступали быстро, и немцы, откатываясь, не успевали выполнять приказ — все уничтожать. В одном селе «факельщики» уже выгнали всех из домов, а тут услыхали пулеметную очередь и убежали. Деревня уцелела. В другом селе подожгли один дом, потом показались наши лыжники — немцы удрали. А пожар наши погасили. Не только дома спасли бойцы — жизни. Я видел приговоренных к расстрелу — их не успели расстрелять. Тащили девушку с собой — испугались, бросили. Каждый красноармеец может написать своим: «Я спас от огня русский дом. В этом доме теперь живут русские. Будут там расти дети. Вспомнят и про нас. Я спас от веревки русского человека. Его вели к виселице. Но мы подоспели». Не только родину спасает боец, он спасает еще такое-то село — Лукьяновку, или Петровское, или Выселки. Он спасает такого-то человека — пастуха Федю, лесничего Кривцова, учительницу Марию Владимировну. И каждого бойца благословляют теперь в освобожденных домах спасенные люди. По скрипучему снегу едут в санях крестьяне, торопятся — скорей бы повидать свой дом. Еще недавно они шли на восток суровые и скорбные. Теперь, улыбаясь и жмурясь от яркого, залитого солнцем снега, они идут на запад. Их обгоняют бойцы. Они тоже торопятся: выбить врага из Медыни. Этот город рядом. Его обошли. Его сжали. Завтра заплачут от радости люди и камни еще одного освобожденного города. Пусть в Малоярославце люди радуются — сегодня снова начала работать электростанция, и в домах светло. Пусть в Боровске вставляют в рамы стекла — люди наконец-то отогреются. Пусть в Ильинском колхозники выветривают и чистят загаженные немцами дома. Все это позади. Красная Армия идет вперед, и она смотрит вперед. Она думает не о Малоярославце, не о Боровске. Она думает о Вязьме, о Смоленске. Перед ней люди, которых нужно спасти от смерти, — русские люди. И по пояс в снегу, не зная усталости, идут вперед любимцы России. 14 января 1942 г. Преступление и наказание В одной из сожженных деревень под Можайском можно увидеть назидательную картину: на пепелище лежит полусгоревший труп немца. Огонь выел его лицо, а голая ступня, розовая на морозе, кажется живой. Колхозницы рассказывают, что этот немец вместе с другими «факельщиками» поджигал деревню. Бутылка с горючим вспыхнула в его руке. Лежит ком обугленного мяса: преступление и наказание. В другой деревне, от которой осталось два дома и сто восемь труб, колхозницы увидели пленного немца. Фриц был грязен и жалок. Ничего нет гнуснее глаз убийцы, которые становятся сентиментальными, рук разбойника, которые складываются для молитвы, голоса насильника, который переходит на нежный лепет. Фриц ворковал, что у него дома жена и дети. Тогда одна колхозница подбежала к немцу и крикнула: «Ты коров наших ел? Ел. Кур ел? Ел. Почему ты мой дом сжег?» Немец в ответ забубнил: «Нихтс! Нихтс! Не я. Гитлер...» Потом он обратился к переводчику: «Ради бога, защитите меня от вашего гражданского населения!..» Они жгут сейчас русские города и деревни. Безумцы, они не понимают, что они жгут Германию. Я вижу страну гитлеровцев, сгоревшую, с голой розовой пяткой... Поджигатели сами сгорят. Я знаю, они тогда завопят: «Нихтс! Нихтс! Это не мы. Это Гитлер». Но мы теперь учимся не слышать поздних жалоб. Мы учимся не видеть притворных слез. Мы скажем каждому: «Не только Гитлер жег — ты. Гитлер для тебя был божеством, фюрером, Вотаном. А для нас Гитлер — ничтожество, шпик, один из фрицев. Такой же фриц, как ты. Не ссылайся же на Гитлера. Умел грабить, умей держать ответ». Не одна колхозница придет со счетом — миллионы. Весь наш народ, вся Европа. От Черногории до Норвегии. Вы будете выть: «Защитите нас от сорока народов». Никто вас не защитит. Ваши военные заводы, ваши арсеналы взлетят. Ваши крепости будут срыты. Ваша свастика будет растоптана. Вы сможете на берлинской улице, именуемой «Аллеей побед», поставить еще один памятник: Германию с факелом. Германию-поджигательницу, обугленную, уродливую и черную, как ночь, — горе-Германию. 20 января 1942 г. Можайск взят Передо мной немецкая карта. Ее нашли в брошенной машине. На этой карте две стрелы. Они направлены в сердце России — Москву. Одна пронзает Одинцово, другая Голицыне. Это карта ноября, так называемое «Можайское направление». Можайск взят. Этого все ждали, и все же это нам кажется нечаянной радостью. Для москвичей имя древнего города стало символом: «Они еще в Можайске». Из Можайска шли танки на Москву. Можайск для немцев был последним полустанком перед Красной площадью. В Можайске немцы заранее праздновали победу. Сегодня москвичи с облегчением скажут: «В Можайске их больше нет». Другими стали и лица людей, и карты штабов. Вот глядит на карту генерал-лейтенант Говоров. Красные стрелы рвутся на запад. В Можайске была доиграна последняя сцена великой битвы за Москву. В этой битве принимали участие стойкие бойцы, отважные командиры, танкисты и артиллеристы, летчики и конники. Зоркий и спокойный глаз наркома обороны следил за каждой деталью гигантского сражения. Передо мной один из участников битвы за Москву: генерал Говоров. Хорошее русское лицо, крупные черты, как бы вылепленные, густой, напряженный взгляд. Чувствуется спокойствие, присущее силе, сдержанная страсть, естественная и простая отвага. Вот уже четверть века, как генерал Говоров занят высокими трудами артиллериста. Он бил немцев в 1916 году, он бил интервентов, он пробивал линию Маннергейма. Артиллерия — издавна гордость русского оружия. Славные традиции восприняли артиллеристы Красной Армии. В самые трудные дни советская артиллерия сохраняла свое превосходство. Есть в каждом артиллеристе великолепная трезвость ума, чувство числа, страстность, проверяемая математикой. Как это не похоже на истеричность немецкого наскока, на треск автоматов, на грохот мотоциклов, на комедиантские речи Гитлера, на пьяные морды эсэсовцев! Может быть, поэтому, артиллерист с головы до ног, генерал Говоров кажется мне воплощением спокойного русского отпора. Генерал рассказывает о мужестве артиллеристов, защищавших в октябре Москву. Бывало, они оставались одни... Они не пропустили немцев. Теперь артиллерия перешла в наступление: «Нам приходится прогрызать оборону врага. Артиллерия участвует во всех фазах битвы. Она должна уничтожить узел сопротивления, изолировать его от других узлов. Потом — следующий, третий. Насыщенность автоматическим оружием не позволяет ограничиться подавлением огневых точек. Загонять под землю? Нет, уничтожать. Артиллерия теперь не может руководствоваться только заявкой пехоты. Артиллерия ведет бой...» Не замолкает телефон в штабе. Он дребезжит всю ночь. Генерал не спит. Его тяжелые свинцовые глаза впились в карту. Он говорит в трубку: «Нет. Направо. «Язык» показал, что они отходят по рокадной...» Потом генерал надевает шинель и, огромный, шагает по снегу: проверяет, останавливает, торопит, скромный и мужественный, хороший хозяин и хороший солдат. На Можайском направлении немецкий фронт был прорван 10 января. Сейчас над Можайском развевается наше знамя. Здесь у немцев было много материальной части, огромные склады. Все это предназначалось для Москвы. Многое действительно попадет в Москву — вот немецкие тягачи, немецкие орудия, немецкие машины... Сожженные дома. Отравленные колодцы. Минированы не только обочины, но и трупы фрицев. Варварским разрушением немцы пытаются задержать Красную Армию. Напрасные усилия! Воду в колодцах подвергают анализу. На мину существуют миноуловители. А дома?.. Что же, бойцы давно привыкли к лесам, вне населенных пунктов спокойней. Идут по снегу бойцы. Связисты подвешивают провода. Гремят орудия. Широкая прямая дорога ведет от Можайска на запад. Мы прошли только первый переход. Это — длинная дорога. Отсюда до крайнего мыса Европы, до «конца земли» — Финистера — царство смерти. Это — трудная дорога. Но покорно скрипит снег, но уверенно ступают бойцы, длинная дорога будет пройдена. 21 января 1942 г. Второй день Бородина Восемнадцатого января в деревне Шаликово, почти целиком сожженной немцами, женщина причитала: «Стращали, что назад придут, паразиты!» На следующий день дальнобойная артиллерия немцев начала стрелять по уцелевшим домам деревни. Ответили наши орудия. А под утро бойцы генерала Орлова пошли в атаку. Они заняли деревню, которая переходит в окраину Можайска. Немцы пытались защищаться. Шли бои на улицах. Боец в темноте спросил старушку: «Бабушка, какая это будет деревня?» Та руками всплеснула: «Заблудился ты — Можайск это. Немцы здесь. Убьют тебя...» Он в ответ рассмеялся: «Зачем убьют? Я их перебью, это точно...» Было еще темно, когда наши дошли до центра Можайска. Немцы убежали. Рассвело час спустя. Жители Можайска увидели над зданием горсовета красный флаг. Немцы спешили. Они все же успели взорвать Николаевский собор, Вознесенскую церковь, кинотеатр, гидростанцию. Заминировали больницу, но не успели взорвать. Зато взорвали сто своих раненых. Хотели поджечь дом, где находилось триста раненых красноармейцев, но наши пришли вовремя. Сколько раз я слышал эти два слова: «Наши пришли!» Их не забыть — прекрасные слова! Можайск сразу стал тылом. Срывают со стен немецкие бумажонки. Вставляют фанеру в рамы. В магазине суета: завтра начнут отпускать хлеб, крупу, конфеты. Только березовые кресты в центре города напоминают о трех месяцах немецкого ига. Вот идет по улице немолодая женщина. Она знает, что такое немцы. Ее мужу, Валентину Николаевичу Николаеву, учителю математики и пенсионеру, было шестьдесят два года. Он шел по улице, вынул носовой платок. Немцы его расстреляли — за то, что он «сигнализировал русским летчикам». За что они убили двенадцатилетнюю девочку, изнасиловав ее? За что повесили неизвестного патриота? Не нужно спрашивать: на то они немцы. Торопятся наши бойцы. Они спасли в Можайске триста друзей. Они спасли в селе Псарево шестьдесят дворов. Они спасли в Горках памятник Кутузову. Они спасли в Семеновском девушку, которую немцы хотели угнать с собой. Они спасли тысячи домов и десятки тысяч жизней. Их подгоняют два слова: «Наши пришли». И мысль: наши ждут. Трудно идти. Снег глубокий — завязаешь. А мороз — тридцать градусов. Но Можайск всех развеселил. Шли дальше, не останавливаясь. За день прошли пятнадцать километров. Вот и Бородино. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Проклятая немчура хотела, чтобы мы забыли о нашем великом прошлом. Когда я подъехал к Бородинскому музею, он еще горел, подожженный немцами. Огненные языки лизали на фронтоне слова: «Славным предкам». Почему немцы устроили в музее Бородина скотобойню? Почему, убегая, подожгли музей? Они мстили славным предкам за доблесть славных потомков. Они хотели уничтожить память о 1812 годе, потому что сто тридцать лет спустя Бородино снова увидело героев — в других шинелях, но с русским сердцем. Они хотели взорвать памятники. Не успели. Рядом с памятником Кутузову вчера торжественно похоронили трех советских артиллеристов, отдавших свою жизнь за славу и величие России. При Бородине немцы хотели задержать наше наступление. Их обошли с севера, и немцы убежали. Они отомстили музею и всем селам окрест. Стоит тяжелый запах гари. В большом селе Семеновском, памятном по 1812 году, из ста семи домов осталось три. Сожжено село Бородино. От села Горки осталась только немецкая надпись: «Gorki». Не забуду я крестьянской семьи возле пепелища. Пришли посмотреть, не пощадил ли чего огонь. Замерзли и грели застывшие руки у головешек того, что еще вчера было их домом. Старик, женщина, четверо ребят. И женщина вдруг истошно крикнула: «Паразиты! Чтоб их!..» Казалось, кричит русская земля. Бойцы делятся едой с погорельцами. Бойцы ускоряют свой шаг. Их окрыляет надежда — спасти еще один дом, еще одну семью. Широка дорога на запад. Немцы поставили на ней новые столбы с указанием, сколько километров до Москвы. Сосчитать было легче, чем пройти. Наши бойцы теперь не смотрят, сколько от Москвы. Они смотрят, сколько до Вязьмы. Они смотрят, и они идут вперед. Вчера они взяли Уварове — последний пункт Московской области. Генерал Орлов, улыбаясь, говорит: «Скоро ко мне приедете» — он из Белоруссии. А бойцы шутят. «Скоро фрицы вяземские пряники попробуют...» В одной деревне ребята показали мне, что немцы бросили, удирая: награбленное добро. Один немецкий офицер оставил сорок бюстгальтеров — решил было и на этом спекульнуть. Мальчонка допытывается: «Дяденька, зачем это немцу?» Жалкие люди, они способны убить человека из-за какой-то тряпки. Они защищаются в деревнях потому, что им страшно убираться на мороз. Почему они еще воюют? Да потому, что им страшно держать ответ. Мы говорим не о мести — о справедливости. Мы не хотим расстреливать немецких учителей шестидесяти двух лет. Мы не тронем двенадцатилетних девочек. Мы не собираемся поджигать немецкие музеи. Но мы знаем одно: тем, кто убил учителя Николаева, тем, кто убил двенадцатилетнюю девочку, тем, кто поджег музей Бородина, — на земле не жить. Смертные приговоры подписаны и скреплены русским народом. Россия не забудет второй день Бородина: сожженных сел, уничтоженного музея и доблестных красноармейцев, которые сказали своим славным предкам: мы вас не осрамили, мы отстояли Москву от проклятых чужеземцев. 24 января 1942 г. Великое одичание Германия была окружена глухой стеной. До мира едва доходили стоны ее концлагерей. По столицам Европы разъезжал гладенький Риббентроп. Мало кто заглядывал в черную душу свежевыбритого коммивояжера. Иногда немцы показывались на международных выставках: вежливые приказчики раскладывали прекрасно изданные книги. Посетители не смотрели, что там напечатано. Вместо фотографий воспроизводили старые портреты. Думая о Гете, забывали о Гитлере, помня Шиллера, пренебрегали Геббельсом. Наивные люди полагали, что Германия — страна, а она стала огромной воровской организацией. Думали, что немцы — народ, а они стали многомиллионной бандой. Стена пала. В сожженных русских городах этнографы всего мира могут изучать повадки и быт гитлеровского племени. Я начну с внешнего облика. Тошно глядеть на пленных — до того они грязны. Колхозницы в уцелевших избах обдают стены кипятком, скребут пол, держат открытыми настежь двери: «Дух ихний выветриваем». Немцы превратили комнаты, где они жили и спали, в нужник. «Что говорят пленные?» — спросит гражданин в Куйбышеве или в Свердловске. На это трудно ответить: пленные не разговаривают, пленные чешутся, они шумливы, как паршивые собаки. На их руках кора грязи, а грудь покрыта бисером насекомых. Голубые подштанники и розовые рубашонки, вывезенные из Парижа, стали буро-серыми. Колхозницы рассказывают о быте этих непрошеных постояльцев. Один вытирал ноги, а потом тем же полотенцем лицо; другой оправлялся в избе при женщинах; третий бил вшей на столе, где его сотоварищи обедали; четвертый в помойном ведре кипятил кофе; пятый держал сахарный песок в грязном носке. Не стоит продолжать. Это было лет десять тому назад. В Германии один коммерсант мне спесиво говорил: «У нас, видите ли, даже свиньи отличаются чистоплотностью...» Конечно, это было риторикой — купец хотел поднять в цене вестфальскую ветчину, но как случилось, что немцы, гордившиеся своей аккуратностью, стали куда грязнее свиней? Немец, который оправлялся в избе при женщинах, искал пепельницу, чтобы бросить окурок. Ряд условностей, заученных правил, механических жестов отделяет берлинца 1942 года от дикаря. Культура современной Германии — это тонкая пленка над хаосом первобытного варварства. Попав в условия русской зимы, немец перестал мыться; он не хочет мыться на морозе. Он предпочитает зуд дрожи и вшей — морозу. Если нет теплой уборной, пусть станет уборной комната. Так псевдоцивилизованный человек в две недели становится животным. Внешняя чистоплотность связана с внутренней. Солдат гогенцоллерновской Германии отнюдь не был ангелом. Он тоже грабил и бесчинствовал. Но по сравнению с немцем выпуска 1942 года он был наивной институткой. В нем жили некоторые моральные устои. Он, например, понимал, что такое мать. Он старался не плевать в комнате. Он грабил, но знал, что грабит, и краденое не называл «трофеями». Гитлер совершил операцию: он действительно удалил из сознания немцев совесть. После такой ампутации немецкие солдаты оказались одновременно и сильными, и слабыми. Сильными, поскольку они лишились моральных тормозов; слабыми, поскольку утратили человеческое достоинство. Я знаю, что вши водятся на теле, а не в сознании человека. Я знаю, что эти насекомые непосредственно связаны с трикотажным нитяным бельем, которое немцы не меняют по два, по три месяца. И все же я берусь утверждать, что вши связаны также с фашизмом, что отсутствие моральных норм позволило немцам опуститься даже внешне, дойти до их теперешнего облика. Я видел лейтенантов, обрызганных одеколоном и полных вшей. Им не хотелось отстаивать свой человеческий облик. А одеколон был автоматическим продлением давнего и ныне мертвого быта. Прославленная цивилизованность сошла сразу с немцев, как тонкая позолота. Нужно ли говорить о внутренней нечистоплотности? Они не только раздевают русских и французов, они крадут друг у друга кусочек хлеба, щепотку табаку, пару носков. Напрасно офицеры борются с триппером в своих приказах, заявляя, что триппер «мешает солдатам служить фюреру». Гитлеровцы не выходят из домов терпимости. Они покрыли стены русских школ непристойными рисунками. Я видел немецкого ефрейтора, который занимал достойный пост — начальника дома терпимости. Их подсумки и карманы начинены непристойными открытками вперемешку с семейными фотографиями. Они рассказывают проституткам о своих женах и невестах. Это воистину грязные существа. Гитлеровский режим уничтожил в них остатки христианской морали, культ семьи, примитивную честность. Все это заменено фатализмом игрока: не рискну — не выиграю. Их называют иногда язычниками. Это неверно. В любой языческой религии существовали понятия добра и зла. Они отсутствуют в сознании гитлеровца. Для него хорошо все, что удается. Один негодяй написал в своем дневнике: «Когда я расскажу Эльзе, что я повесил большевичку, она мне, наверно, отдастся». Вряд ли Ницше признал бы в этих хищных баранах своих последователей. Аморальность современной Германии ближе к скотному двору, нежели к философской системе. Так, наперекор всем историческим концепциям, в самом центре Европы в тридцатые годы двадцатого века определилось государство, снабженное усовершенствованной техникой и весьма напоминающее кочевую разбойную орду. Мужья отправляются за добычей. Жены ждут: им привезут голландский сыр, парижские чулки, украинское сало. Разговоры о преимуществе германской расы и ученые трактаты в сорок печатных листов о достоинстве геббельсовского черепа — только анахронизм, старая немецкая привычка оправдывать каждый чих «научной теорией». Быстро сползли с немцев все атрибуты культуры. Они легко приняли размножение по заданиям эсэсовских начальников, «исправление» евангелия согласно бреду тирольского маниака Гитлера, утверждение убийства как естественного состояния человека, возврат к навыкам пещерного века. Этому одичанию большой страны способствовала гипертрофия механической цивилизации. Каждый немец привык к жизни автомата. Он не рассуждает, потому что мысль может нарушить и аппарат государства, и его, фрица, пищеварение. Он повинуется с восторгом. Это не просто баран, нет, это экстатический баран, если можно так выразиться, это баранофил и панбаранист. В механическое повиновение он вносит ту долю страсти, которая ему отпущена. Сколько раз, разговаривая с немецкими пленными, я в нетерпении восклицал: «Но что вы лично об этом думаете?» — и сколько раз я слышал тот же ответ: «Я не думаю, я повинуюсь». В автоматизм мыслей и поступков они вносят присущую им истеричность. Чувство меры им чуждо. Они взяли так называемую «золотую середину» и довели ее до абсурда. Аккуратность и умеренность в их понимании становятся бредовым педантизмом с маниакальными ограничениями. Они живут на ходулях, оставаясь колбасниками или тюремщиками. С припадочным пафосом они говорят о выигранных пфеннигах или о выпоротом сынишке. Что такое Гитлер с его наполеоновскими позами? Шпик, заболевший манией величия, уголовник, уговоривший своих коллег, что он гигант, одна клетка огромной раковой опухоли. Мы увидели этих людей. Они загадили наши города. В Париже они сносят Эйфелеву башню, у нас строят виселицы. Они ознаменовали свой «крестовый поход» домами терпимости, он стал походом гонококков. Они показали, что за машинной цивилизацией Германии не скрыто никаких общечеловеческих норм. К нам пришли первобытные существа с автоматическим оружием. От их «философии» хочется прежде всего в баню. А видя их упорное сопротивление, не только не чувствуешь уважения, но переживаешь глубочайшую брезгливость: хочется над трупом каждого немца закричать: «Великая вещь — человеческая свобода!» Их нелегко будет уничтожить. Они спаяны не идеями (какие уж тут идеи!), но механическим послушанием и чувством круговой поруки. Они не стыдятся пролитой крови, но они не слепые — и кровь они видят. Они понимают, что нельзя будет все свалить на Гитлера и объявить, будто Геринг — пасхальный ягненок. У всех рыльце в пуху. Идея объединяет героев. «Мокрое дело» спаивает шайку. Шайка эта большая, и, как говорится в сказке, таскать их не перетаскать. Конечно, мы их «перетаскаем», но это будет весьма серьезной работой. Однако то, что произошло под Москвой, — не случайный эпизод, а глубоко поучительная и высокоморальная история. Сила человеческого духа, свет разума, достоинство победили тьму варварства, неодушевленную механику «роботов», напыщенность паразитов. Мы пронесли свет сквозь мглу этой осени, свет нашей культуры и той, которую мы справедливо называем всечеловеческой. Это свет древней Греции, свет Возрождения, свет просветителей восемнадцатого века — все, что человек противопоставил покорности, косности, атавизму. Дневное, ясное начало положено в нашу борьбу против Германии: разум, душевная чистота, свобода, достоинство. «Вы знаете, что такое справедливость?» — спросил я пленного немца. Он вместо ответа закрыл рукой лицо, как будто я хотел его ударить. Такой я вижу теперь Германию — она боится взглянуть вперед. Она еще дышит, еще движется, еще стреляет, она еще способна убивать и разорять, она еще способна причинить миру величайшие бедствия, но все это не живая жизнь, а сокращение мышц, напоминающее повторность посмертных явлений. 29 января 1942 г. Нет! Есть вещи, о которых советский человек должен думать днем и ночью. Забыть о них — это значит потерять свое достоинство. Помнить о Киеве. Помнить о Харькове. Помнить о Минске. Помнить о Смоленске. Помнить о Новгороде. В голодном Киеве на Крещатике немцы устроили публичный дом. В мертвом Харькове ветер качает тела повешенных. В Минске среди развалин тирольский шпик Гитлер устроил свою ставку. Над полуразрушенным кремлем Смоленска треплется поганая фашистская тряпка. Наглые немцы смеют называть наш древний Новгород «Неугардом». В наших городах они насилуют. В наших городах вешают. В наших городах жрут и дрыхнут. Они не собираются уходить по доброй воле. Они переехали с женами и свояченицами, с голодными жадными придворными, с палачами и с девками, с плотниками для виселец, с мешками для краденого добра. Немецкая газета «Данцигер форпостен» в передовой 5 февраля пишет: «В оккупированных областях Советского Союза мы должны все начать сначала. Деятельность немецких хозяйственников очень походит на деятельность ганзы и немецких рыцарей в эпоху средневековья... Мы придерживаемся добрых старых немецких традиций. Мы стараемся объяснить народам СССР, что производство товаров важнее их распределения. СССР издавна является сферой германского влияния. Немецкий народ должен превратить эту страну в свою житницу. Немцы должны рассматривать завоеванные восточные области не как протекторат, но как свою родину, как часть великой Германии». Обнаглели гитлеровцы. Им мало Клина и Можайска — подзатыльниками этих наглецов не образумишь. Их нужно перебить — под землей они станут скромнее. Они хвастают тем, что ввели на нашей земле средневековье. Они говорят о «славных традициях немецких рыцарей». Знаем мы эти традиции! Ворами были, ворами остались. Были бандиты с копьями и мечами, стали бандиты с автоматами. Они хотят, чтобы мы работали, а они будут «распределять». Сгибайся в три погибели — фриц пошлет товары своей гретхен. Этот «рыцарь» сумеет «распределить». Его программа точно сформулирована: СССР должен стать житницей для немцев. Нет и нет! Не будут колоситься нивы Украины для немчуры. Не станут русские работать на вшивое рыцарство. Не будут белорусы кормить голодных регирунгс-президентов. СССР, по словам немецкой газеты, «издавна является сферой германского влияния». Плохо фрицы знают историю. Знала Россия иго, но не немецкое. Побывали в Москве налетчики, но не немцы. Не брали никогда немцы Москвы. А у русского полководца бренчали в кармане ключики от Берлина. Когда в 1918 году предатели привели немцев в Киев, недолго они там резвились. Легко они туда вошли. Трудней было оттуда выйти... Фриц из Данцига приглашает немцев «рассматривать» Харьков или Новгород как свою родину. Рассматривать можно — это дело темное. Вот фрицы даже рассматривали в бинокль Москву. Тех фрицев мы прикончили, а бинокли взяли. Пусть колбасник из Дюссельдорфа рассматривает Новгород как свою родину. Мы знаем, где он родился. Мы даже знаем, где он умрет. Они родились в Магдебурге, в Свинемюнде, в Швейнфурте, в Кайзерлаутерне, в Люденсшейде. Там их родина. Но умрут они в Киеве, в Харькове, в Минске, в Смоленске, в Новгороде. Здесь их могила. 20 февраля 1942 г. 2 марта 1942 года Сегодня утром в Русаковской больнице мальчик Ваня Громов мне сказал: «Были у меня две руки, одну немцы отгрызли». Ваня из деревни Новинки. Его звали «Ваня золотые руки» — он искусно мастерил скворечники и гнул лыжи. Ему 15 лет. 19 ноября деревню заняли немцы. Ваню взяли в штаб, его допрашивали три офицера. Хотели узнать, кто из деревни ушел к партизанам. Он молчал. По приказу офицера два солдата отвели мальчика в пустую избу, посадили на стол, ремнем прикрутили ноги к ножкам стола. Потом Ваню повалили на стол и привязали левую руку. Один солдат принес пилу. Немцы отпилили Ване кисть левой руки. Я видел двенадцатилетнюю Зою Феофистову. Из десяти пальцев на руках у нее остался один — остальные отвалились. Было 35 градусов мороза, когда Зою с матерью и братьями выгнали из избы. Немцы перед этим отняли у них все теплые вещи. У Зои отняли и варежки. Она несла на руках трехмесячного брата. Немцы стреляли. Мать несла двух мальчиков. Зоя говорит: «У меня камешки гремели в руках от мороза». Она боялась выронить брата. Немцы убили мать и двух детей. Младенец выпал из обмороженных рук Зои. У нее нет больше рук. У нее нет семьи. Она говорит: «Я бы их растерзала по пальчикам...» В избу возле Истры заглянул немец. В избе было только четверо детей. Старшей Симе девять лет. Немец бросил в окно ручную гранату. Сестра Симы Оля шести лет с ампутированной ногой спрашивает доктора: «Тетенька, а нога у меня вырастет?» Русаковская больница была и прежде больницей для детей. Там лечили больных корью, коклюшем. Теперь это хирургическая больница: двести двадцать детей, изувеченных немцами. Так повсюду, где побывали немцы. В деревне Кадниково Ленинградской области в избе Сидорова спали 7 немецких солдат. Двухлетний ребенок расплакался. Тогда один солдат застрелил ребенка. В деревне Беглово немцы предложили населению немедленно очистить все избы. Васильева сказала, что она не может уйти — у нее 4 маленьких детей. Солдат застрелил двух детей и сказал через переводчика: «Теперь ты сможешь их унести». В селе Овинище Калининской области немцы убили 26 детей, из них 5 грудных. В деревне Пестово немцы пытали 13-летнего мальчика Колю Нилина: «Скажи, где прячутся партизаны?» Мальчик молчал. Немцы вырезали ему язык. Я видел рисунки маленьких детей. На одном коробка с конфетами и пять крестов. Автор рисунка, девятилетняя девочка, рассказывает: «У немцев стояла коробка с конфетами. Женя взял одну конфету. Его убили. Убили маму, тетю Полю и Сашу. А у меня только нога сломанная...» Мальчик шести лет нарисовал, как немцы кидают ребенка в печь: «Я видел». В Керчи оккупанты приказали родителям отправить детей в школу. Дети ушли с тетрадями и книжками. Домой они не вернулись. В противотанковом рву возле города нашли 245 трупов школьников. Разрушены или сожжены ясли, школы, детские дома. Вот цифры по Московской области. Немцы побывали здесь в 23 районах. До оккупации было 1220 школ. Из них осталось 294. Из 50 детских садов осталось 22. Было 14 детских домов, все разрушены. Ущерб, нанесенный школьному делу, только в этом небольшом отрезке земли превосходит 60 миллионов рублей. Сотни тысяч детей остались без крова. С каждым днем растет число сирот. Законы войны суровы: чтобы спасти всех людей России, государство должно в первую очередь думать о фронте. Однако государство окружает заботой бездомных детей и сирот. И на помощь государству приходят граждане. В конце декабря работница завода «Богатырь» Овчинникова первая вызвалась усыновить сироту. Муж Овчинниковой на фронте, у нее дома трое детей. Она сказала: «Накормлю и четвертого». Четырехлетняя Валя нашла материнскую любовь и уют. Примеру Овчинниковой уже последовали десятки тысяч людей. Вот письмо младшего лейтенанта Руднева. Его семья в Донбассе на оккупированной немцами территории. Руднев не знает, живы ли его дети, но он предлагает высылать свой аттестат — 200 рублей тем, кто будет содержать усыновленного им мальчика. Он пишет: «Если мои выживут, мальчишка найдет себе в моей жене хорошую мать. Если они погибли, я сам его воспитаю». Я встретил девятнадцатилетнюю Мартынову. Она ждет ребенка. Ее муж на фронте. Она пришла, просит, чтобы ей дали сиротку: «Когда муж вернется с войны, он найдет двух детей...» Из Дербента, из далекого Дагестана прачка Чинарова просит дать ей ребенка. Она согласна приехать за ним. Таких писем ежедневно сотни изо всех углов России. На фронте молодой боец спросил меня: «Как усыновить сироту?» Это большое народное движение. Оно еще раз показывает, до чего сплотилась, срослась наша страна. Нелегко теперь живется людям, тесно в городах, приходится от многого отказываться, но для ребенка, для чужого, нет, для своего — советского — всегда найдется и кусок хлеба, и крыша, и материнская ласка. 16 марта 1942 года (О Кнуте Гамсуне) Все знали и любили романы писателя Кнута Гамсуна. В старости этот большой писатель стал мелким политиком. Он предал Викторию ради Квислинга и отрекся от Пана ради Вотана. Гамсун ненавидит Советский Союз. Чтобы очернить нашу страну, он готов даже возвеличить царскую Россию. Он пишет: «В старой России люди веселились. Жизнь можно было назвать тихой поэтической мечтой». Я перечел книгу «В сказочной стране» — это описание поездки на Кавказ через Москву. Книга для прежнего Гамсуна плохая: в ней много нелепостей, и говорит она скорее об авторе, нежели о стране. Есть в этой книге следующая сценка: «Офицер делает рукой повелительный жест — стой! И мужики останавливаются. Очевидно, он — их хозяин. Может быть, ему принадлежит эта деревня?.. Когда однажды в Петербурге грозная толпа преследовала на улицах Николая Первого, он зычно крикнул: «На колени!» — и толпа опустилась на колени». (Так невежественный турист Гамсун описывал 14 декабря 1825 года.) Засим Гамсун предается апологии рабства: «Наполеона слушались с восторгом. Слушаться — это наслаждение. И русский народ еще на это способен». Гамсуну пришлось удовлетвориться эрзац-Наполеоном. Перед немецким наместником он почувствовал «наслаждение», и в восемьдесят два года он старательно стал на колени. Он возмущен Россией: почему советский народ не останавливается, когда немецкий ефрейтор кричит ему «стой»? Гамсун прославляет «новый порядок», то есть подчинение всего мира Германии. Он называет англичан «трусливым и ленивым народом», а Соединенные Штаты — «страной блефа». Писателя Гамсуна больше нет, перед нами плагиатор Геббельса. Борьба с суровой природой сделала норвежцев мужественными. Люди там живут отъединенно, может быть, поэтому они привыкли уважать человека и ценить дружбу. Оккупанты не нашли в Норвегии угодливых людей, развращенных легкой жизнью и готовых к любому «сотрудничеству». Имя Квислинга окружено презрением. И вот старый писатель, обязанный славой родине, ее красоте, ее нравам, ее людям, перебежал к врагам своего народа. Незачем рассказывать о судьбе Норвегии под пятой оккупантов. Я знавал эту прекрасную страну в годы ее счастья. Теперь — голодный паек, тюрьмы, до войны пустовавшие, набиты патриотами, расстрелы. Я провел чудные дни на Лофотенских островах. Теперь, встречая это название в газете, я испытываю боль: я понимаю, что значит борьба лофотенских рыбаков за человеческое достоинство. Я знаю о подвигах партизан Ларсена. Всемирно известный писатель и скромный норвежец Ларсен пошли по разным дорогам. Один предпочел верности измену и родине — похвалы Геббельса. Другой выбрал тернистый путь борьбы и подвига. Когда босяк из «особого квартала» Марселя записывается в легион Дорио, над его решением не приходится ломать голову, можно предоставить слово винтовке. Но как знаменитый писатель дошел до апологии разбоя, до восхваления палачей, до предательства? Ответ мы находим в духовной биографии Гамсуна. Я оставляю сейчас в стороне и восторг перед Николаем Первым, и культ коленопреклонения, столь неожиданный на устах «бунтаря». Я подчеркиваю другое: Гамсун ненавидел прогресс, и Гитлер представился ему почти мифическим жандармом, способным остановить ход истории. Конечно, далеко от давних размышлений туриста Гамсуна до виселиц в русских городах. Но старый писатель признал в эсэсовцах своих преемников. Что такое для Гамсуна фашизм? Это прежде всего бунт против прогресса, утверждение темной стихии вместо разума, объединение людей, не имеющих подлинных традиций, всех, кого мы вправе назвать беспризорниками истории. Что взяли наци от прошлого? Несколько суеверий, цилиндр палача да орудья нюрнбергских пыток. Фашисты не только убивают писателей, они уничтожают старые книги. Все помнят берлинские костры. В Париже гитлеровцы включили в «список Отто» 2000 обреченных произведений. Они повалили памятник Шопену в Кракове, в Париже они хотят снести памятники Вольтеру и Руссо, они осквернили могилу Толстого. Это не случайные выходки разнузданной солдатни, это система. В одной Франции гитлеровцы уничтожили 300 памятников старины. У нас они разрушили город-музей Новгород, монастырь в Истре, собор в Можайске, музеи Чайковского и Чехова. Чем объяснить обдуманный вандализм? Людям, которые ненавидят будущее человечества, ненавистно и его прошлое. Фашизм выступил с отрицанием XIX века. Завсегдатаи берлинских пивнушек называли его «веком заблуждений». Но и дальше им не на что оглянуться. XVIII век для фашистов тоже заблуждение — ведь это век энциклопедистов и французской революции. В XVII веке их смущает работа гуманистов. Иногда можно услышать, что фашизм «воскресил средневековье». Неправильное утверждение, обидное для наших предков. Люди средневековья многого не знали, но они хотели знать. Эпические поэмы, готические соборы были энциклопедией эпохи, ее жаждой приблизиться к познанию мира. А фашизм — отказ от познания, он — вне истории. Мировоззрение Уэллса не схоже с мировоззрением советского писателя. Различны пути католического мыслителя Маритена и Эйнштейна. Физик Ланжевен и Хемингуэй живут в разных мирах. Но все они не мыслят развития человечества вне культурных традиций. Никто теперь не станет преуменьшать значение русской революции. Мы влюблены в будущее. Именно поэтому мы не отрекаемся от прошлого. Эллада, Возрождение, век просветителей — кто не пил из этих ключей? Здесь то, что нас объединяет с Уэллсом, с Эйнштейном, с Ланжевеном, с Маритеном, с Хемингуэем, со всем мыслящим человечеством. Большое требует продолжения. Нельзя, поняв величье прошлого, отказаться от творчества и движения. Фашизм недаром проклинает интеллигенцию. Годы, когда наци одерживали свои легкие победы, историк назовет затемнением Европы. Фашисты боятся представителей мысли, на лицах которых можно различить свет, будь то рождение мысли или фосфорический отсвет прошлого. Фашизм ни на один час не опирался на подлинную интеллигенцию. Он был мятежом подонков, неудачников, полуграмотных всезнаек, интеллектуальных босяков. Страшна судьба писателей старшего поколения, вошедших в литературу одновременно с Гамсуном или на десяток лет позже. Томас Манн и Генрих Манн в изгнании. Стефан Цвейг покончил жизнь самоубийством. В доме Ромена Роллана стоят немецкие фельдфебели. Поэт Мачадо умер на границе, уходя от фашистских оккупантов. Унамуно перед смертью проклял фашизм. Могилы мертвых, вынужденное молчание живых — вот ответ Гамсуну. Он предал не только родину, но предал и слово. Можно было бы напомнить о судьбе композиторов и врачей, о мучениях старого прославленного художника Марке или знаменитого физика Перрена в оккупированной Франции. Но как уместить на телеграфных бланках мартиролог европейской мысли? Германия захватила свыше десяти государств, она нашла в них только одного знаменитого апологета — Гамсуна. Мы не станем отрицать его литературного таланта. Мы не сожжем его романов. Но писателя Гамсуна уже нет. А профашистские статейки?.. Скажем прямо — Геббельс и тот пишет их лучше. Фашизм не спасут ни тысячи танков, ни седины бывшего писателя. Отступничество Гамсуна еще теснее сплотит прогрессивную интеллигенцию. Мы понимаем, с каким чувством следят интеллигенты двух полушарий за борьбой России против фашистского войска. На русских полях мы отстаиваем культурные ценности, память человечества и его творческие силы. Прогресс — это бег с эстафетой. Нелегкий бег — история знала и нашествие вандалов, и костры инквизиции, и изуверство властителей на час. Но всякий раз новое поколение принимало эстафету из окровавленных рук людей мысли и света. Под огнем мы отбиваем великое нашествие тьмы. Мы многое потеряем в этой борьбе, но мы сохраним для нового счастливого поколения мысль, свет, совесть человечества. 6 апреля 1942 года Большой город — это лес. В нем все водится. В нем можно заблудиться. Я знал Москву тихой и сонной. Москву моего детства, с конками, с бубенчиками троек, с мечтательными студентами в пивных, которые цитировали Ибсена и Метерлинка. Я знал Москву первых лет революции, романтическую и нищую. Люди шли по мостовой, тащили за собой салазки. Не было трамваев, не было дров, не было хлеба. А над снежными сугробами горело из ярких электрических лампочек три слова: «Дети — цветы жизни». Я знал Москву стройки, когда дома передвигались, когда весь город пахнул штукатуркой, когда путешествовали улицы — придешь через неделю и не узнаешь площади, где прожил годы. Теперь я живу в суровой военной Москве. Враг был рядом. Мы все об этом помним. А на окраинах города еще сохранились баррикады и рвы. По мостовой еще шагают патрули. Враг еще в 170 километрах от столицы. Но большой город — это большой город, в нем водится все, и вчера в книжном магазине на Кузнецком мосту я видел чудака, который улыбался, как победитель: он нашел первое французское издание романа Бальзака «Беатриса». Солнце припекает, и москвичи отогреваются после суровой зимы. В центре города уже сухо. Дети играют в скверах. В зоологическом парке резвятся молоденькие медвежата. Любовно смотрят москвичи на проходящих по улицам бойцов — весна, русская весна не может стать весной Гитлера... В каждой семье утром ждут почтальона. В каждой семье теперь есть новое божество — то доброе, то злое — диск хриплого репродуктора. В каждой семье часть жизни там, на западе, часть жизни, да и вся жизнь. Москва спокойна, но за этим спокойствием скрыты гнев, надежда, тревога за близких, высокий накал самопожертвования. Каждую ночь я еду по пустым улицам из редакции домой. Комендантские патрули останавливают редких прохожих. Затемненный город загадочен, и напряженно шофер всматривается в тьму. А в небе россыпь звезд... Иногда небо оживает: в нем огни разрывов, сигнальные ракеты. В домах звенят стекла от рева зениток. Люди просыпаются и поворачиваются на другой бок. В Москве обстреляны даже воробьи. Вот только грачи волнуются: они недавно прилетели, они не пережили московской осени, им «юнкерсы» внове. А москвичи привыкли: у меня есть приятель Ваня, ему в июле исполнится один год, но он уже пережил добрую сотню воздушных тревог. Несколько дней тому назад в Колонном зале исполняли Седьмую симфонию Шостаковича. Зал, потрясенный, слушал патетический финал. А на улице выли сирены. Их вой не проник в зал. Публике объявили о тревоге, когда концерт кончился, и люди не торопились в убежища, они стояли, приветствуя Шостаковича, — они еще были во власти звуков. Позавчера была необычная ночь: по темным улицам шли женщины с куличами. Разрешено было ходить всю ночь: в церквах служили пасхальную всенощную. Было много верующих. Я с трудом проник в старую церковь. После ночной темноты свечи казались нестерпимо яркими, а певчие пели: «И смертью смерть поправ...» Большие заводы еще осенью уехали из Москвы. Но война диковинное хозяйство. Чего только не требует фронт. И москвичи работают день и ночь. Еще не рассвело, а уже выходят первые трамваи. Метро везет рабочих к станкам, а ночная смена возвращается домой. Многие спят на заводах. Один инженер рассказал, что с 22 июня он забыл про жизнь — некогда даже прочитать газету. «Отдохну потом», — говорит он. Москва смотрит на запад. Большой город — лес. В цветочном магазине на Петровке продают первые весенние цветы — цикламены. А в птичьем магазине получена первая партия певчих птиц. Окна магазинов забиты щитами. Вокруг мешки с песком. А в магазине девушка покупает вазу для цветов. В огромный госпиталь приехали актеры. На певицу надевают больничный халат. Она улыбается: она привыкла переодеваться. Пять минут спустя она поет арию из «Лакмэ». Врач вздыхает: ему не удастся дослушать — привезли новую партию раненых. Очередь: донорки. Кто не отдаст своей крови раненому бойцу! Очередь: вечерняя газета. С жадностью раскрывают листы. Сводка: «Не произошло ничего существенного». За этими сухими словами — ожесточенные бои, атаки и контратаки, тысячи подвигов. Сурово живет Москва. Лишения ее не пугают. Этот город много пережил на своем веку. В его плане нет архитектурной стройности. В его облике нет единства эпохи. Город горел, город менялся. Город казался сумбурным, путаным, пестрым. Но Москва всегда славилась своим большим сердцем, щедростью, умением пережить любое горе. Что значат все лишения перед тоской ноября?.. На концерте Шостаковича я видел людей приподнятых, скажу точнее — торжественных. Редко когда искусство так сливалось с жизнью каждого. А это настоящее искусство, очищенное от злободневности, от иллюстративности. Есть в первой части невыносимая мелодия — пошлая, замысловатая и, однако же, убогая. Она врывается в мир разнородных звуков вместе с дробью барабана, растет, захватывает все — так что у слушателей захватывает дух — и потом гибнет, побежденная иной гармонией. На глазах у фронтовиков были слезы. А маленький кудесник Шостакович растерянно оглядывался, точно он сам не понимал, из каких темнот военной ночи он высек свои звуки. В соседнем зале помещается выставка «В защиту детей». Нестерпимо глядеть на фотографии изуродованных детей. Здесь Дантов ад, его последнее кольцо. Потом вдруг выходишь на свет божий, — это заговорила Овчинникова, московская работница, сердечная женщина, которая взяла девочку-сироту (ее родители были убиты немцами в подмосковном селе). Овчинникова рассказывает, как маленькая Надя постепенно забывает о пережитом. Детям дано забывать. Это великое счастье. А Москва — не ребенок. Москва — старый город. Москва все помнит. Каждый раз становится больно, когда проходишь мимо старого университета, искалеченного немцами. Я бывал в этих аудиториях давно — тридцать лет тому назад... В редакции газеты три девушки расшифровывают телеграммы военных корреспондентов: Крым, Донбасс, Мурманск. «Уничтожен батальон противника... Нанесены большие потери». Поэт Симонов — военный корреспондент. Он только что вернулся с фронта. Он побывал зимой и в Мурманске, и в Керчи, плавал на подводной лодке к берегам Румынии, обморозил лицо в самолете. Он читает мне стихи о маленькой девочке, которую вынесли из горящего дома два кавалериста. Это стихи о том, как через двадцать лет в глазах женщины скажется испуг, отсвет пожара, тень войны, и она сама не поймет, почему она загрустила. Она ведь все позабыла — детям дано забывать. А Москва — не ребенок. Москва — не притворщица. Издавна говорят: «Москва слезам не верит». Москва верит только делу — суровому делу. Москва верит своим защитникам. В большой типографии наборщики набирают новые книги. Скоро выйдут новые издания Стендаля и Киплинга, Чосера и Мопассана, Гейне и Гашека, Колдуэлла и Уэллса, Брехта и Ромена Роллана. Тиражи по 50, по 100 тысяч — люди читают, и в подсумке красноармейца часто можно увидеть томик стихов. А больше всего читает Москва «Войну и мир». Новое издание (сто тысяч) разошлось за три дня. Каждый хочет оглянуться назад, чтобы понять себя и чтобы увидеть будущее. Часы на кремлевской башне вызванивают четверти. Сейчас глубокая ночь. Далеко где-то пролаяли зенитки, и снова тихо. Как весит время в ночи войны! Кажется, оно из железа: каждая минута гнет спину. Но вот новая сводка: «Трофеи Западного фронта». Шесть часов утра. «Освобождено 132 населенных пункта». Весеннее солнце. Москва просыпается и жадно слушает бесстрастный голос диктора. Бойцам Брянского фронта Гитлер с января месяца говорит о весне. Он хочет утешить немецкий народ. Он объясняет немцам, будто зимой германскую армию били не русские люди, а русские морозы. Может быть, гретхен в Берлине и верят вралю фюреру. Но фрицы на фронте хорошо знают, кто именно их бил. Из Ливен их выгнали не морозы. Из Ельца их выгнали не холода. Фрицев била Красная Армия. Наши бойцы их выгнали из теплых городов в снежные поля. Тогдато Гитлер заговорил о весне. Весна придет. Но русская весна не будет весной Гитлера. Мы покажем фрицам, что они умеют удирать и весной. В брянских лесах и зимой жили партизаны. Весной партизанам будет привольней. И новой жизнью заживут брянские леса. Фриц не любит леса. У них в Германии три дерева растут, и фрицы говорят: «Какой дремучий лес». До войны фриц стоял за прилавком или сидел в конторе. Он боится леса: в лесу легко заблудиться. В лесу водятся партизаны. В лесу фриц будет дрожать и весной. Скоро мы увидим брянские леса. Незачем там ходить фрицам. Пора и честь знать. На крутом берегу стоит древний русский город Брянск: он ждет русскую армию. Немецкий генерал Гудериан помнит, как его побили под Брянском. Ехали немцы в танках, а пришлось им убегать пешком. Это был первый урок Гудериану. Теперь Гудериан стал ученым — у него на лбу написано: Елец, Тула, Ливны. Вряд ли Гудериан радуется весне. Он знает, что танками теперь русских не запугаешь. Есть у нас свои танки — получше немецких. Есть у нас хорошие противотанковые пушки. Есть у нас и смельчаки. Такой выйдет, и танку конец. Карл Генке, гудериановский танкист, в письме своей Гретхен жалуется: «Подумать — сколько немецкого труда было положено, чтобы сделать танк, сколько немецких семейств ради этого танка отказывались от куска хлеба, и вот выходит какой-то русский дикарь с бутылкой, да, да, простой бутылкой он уничтожает громадину...» Вот до чего разобиделся немец! Ну, ничего, обидим и других. Довольно они катались в танках! Пускай потаскают своих мертвецов пешком! Друг-боец, русские города перед тобой: Мценск и Карачев, Брянск и Трубчевск. Там плачут русские женщины: ждут тебя — освободителя. Русские дети хотят жить, а немцы их убивают. По ночам сколачивают гитлеровцы виселицы для русских людей. Друг-боец, идет весна, освобождается земля от снега, скоро птицы прилетят, появится трава, просыпается и сердце человека. В плененных городах говорят: весна идет, а с весной придут наши родные братья, русские люди, друзья-красноармейцы. Надоели нам фрицы. Жили мы по-своему. Они к нам пришли. Зачем? Чтобы раздеть, разуть, сжечь дома, обобрать до последней ниточки, вытоптать поля, вырубить сады. Они пришли голодные, чтобы отнять молоко у наших детей. Они пришли блудливые, чтобы перепортить наших девушек. Они пришли нахальные, чтобы онемечить наш народ. Они пришли жестокие, чтобы пытать, мучить, вешать русских. Хватит! Не терпит немцев русская земля. Не терпит больше муки русское сердце. Они говорят: «Весна будет временем решительных боев». Ладно, мы тоже торопимся. Они торопятся награбить, мы торопимся освободить нашу Родину. Если мы уничтожим весенних фрицев, больше мы не увидим фрицев зимних. Идет наша весна. Друг-боец, откуда бы ты ни был, ты защищаешь свой город, свое село, свой дом. Освободи Мценск, чтобы немец не грозил Казани. Освободи Орел, чтобы люди спокойно спали в Сибири. Весной кипит сердце. Весна — время молодости. За жизнь, за свободу, за Родину — на немцев! 8 апреля 1942 г. 20 апреля 1942 года Я видел немецкий танк, выкрашенный в зеленый цвет. Его подбили наши в начале апреля, тогда еще лежал снег, и немецкий танк напоминал франта, который преждевременно сменил одежду. Но не франтовство — нужда выгнала в холод весенние танки и весенние дивизии Гитлера. А теперь снег сошел. Дороги потекли. Они покрыты ветками, едешь и подпрыгиваешь: автомобиль будто скачет галопом. Распутица на несколько недель замедлила военные операции. Кое-где — в Карелии, в районе Старой Руссы, на Брянском фронте — продолжаются атаки наших частей, но это отдельные операции. Перед майскими битвами наступило грозное затишье. А по Десне, по Днепру проходят последние льдины. На полях — разбитые немецкие машины, трупы людей и лошадей, шлемы, неразорвавшиеся снаряды — снег сошел, открылась угрюмая картина военной весны. Никогда столько не говорили о весне, как в этом году. Гитлер колдовал этим словом. Он хотел приободрить немецкий народ. И вот весна наступила. Две армии готовятся к бою. Тем временем Гитлер начинает лихорадочно оглядываться назад. Что его смущает? Добротные фугаски томми? Кампания в Америке и в Англии за второй фронт? Растущее возмущение порабощенных народов? Так или иначе, Гитлер начал весну походом... на Виши. Для этого ему не пришлось израсходовать много горючего. Несколько баков на поездки Лаваля и Абеца. Английское радио передает, что фон Рундштедт перекочевал с Украины в Париж. Это, однако, только путешествие генерала. По дороге фон Рундштедт должен был встретиться с немецкими эшелонами: Гитлер продолжает перебрасывать дивизии из Франции, Бельгии, Норвегии в Россию. Видимо, ни RAF, ни статьи в американской печати, ни гнев безоружных французов не отразились на немецкой стратегии. Перед весенними битвами Гитлер хочет приободрить своих солдат, потерпевших зимой поражение. Он пускает слухи о новом «колоссальном» вооружении немцев. Он распространяет вздорные сообщения о слабости Красной Армии. Вряд ли солдаты 16-й армии обрадуются, услыхав по радио рассказы Берлина о том, что в русских полках теперь только шестидесятилетние старики и шестнадцатилетние подростки... Сейчас не время говорить о наших резервах. О них расскажут летние битвы. Я побывал в одной из резервных частей, видел молодых, крепких бойцов, хорошо обученных и хорошо экипированных. Настроение в резервных частях прекрасное: все понимают, что враг еще очень силен, но все понимают также, что враг будет разбит. Прошлым летом люди помнили о Париже, о Дюнкерке, о Крите. Теперь они помнят о Калинине, о Калуге, о Можайске, о Ростове. Ненависть к захватчикам воодушевляет резервистов. Прошлым летом Германия представлялась русскому крестьянину государством, фашизм еще мог сойти за газетное слово. Теперь фашизм стал реальностью — сожженными избами, трупами детей, горем народа. Между Нью-Йорком и Филиппинами не только тысячи миль, между ними — мир. Сибиряк чувствует, что под Смоленском он защищает свою землю и своих детей. Наши заводы хорошо работали эту зиму. Не стоит напоминать, в каких тяжелых условиях протекала эта работа. Миллионы эвакуированных показали себя героями. Есть у нас танки. Есть самолеты. Наши друзья часто спрашивают: «А как показали себя американские истребители? Английские танки?» Легко понять чувства американского рабочего или английского моряка, которые хотят проверить, не напрасно ли пропал их труд. Отвечу сразу: не напрасно. Я видел немецкие бомбардировщики, сбитые американскими истребителями. Я видел русские деревни, в освобождении которых участвовали английские «матильды». Но правда всего дороже, и друзьям говорят только правду: у нас фронт не в сто километров, и на нашем огромном фронте английские и американские истребители или танки — это отдельные эпизоды. Достаточно вспомнить, что все заводы Европы работают на Гитлера. И Гитлер самолеты не коллекционирует. Гитлер не копит свои танки — его самолеты и танки не во Франции, не в Норвегии, они даже не в Ливии — они перед нами и над нами. О втором фронте говорят у нас повсюду — в блиндажах и в поездах, в городах и в деревнях, женщины и бойцы, командиры и рабочие. Мы не осуждаем, не спорим, мы просто хотим понять. Мы читаем цифры ежемесячной продукции авиазаводов США и улыбаемся: мы горды за наших друзей. И тотчас в голове рождается мысль: какой будет судьба этих самолетов? Мы говорим о втором фронте как о судьбе наших друзей. Мы знаем, что теперь мы воюем одни против общего врага. Вот уже триста дней, как война опустошает наши поля, вот уж триста ночей, как сирены прорезают наши ночи. Мы пошли на все жертвы. Мы не играем в покер, мы воюем. Судьба Ленинграда, его истерзанные дворцы, его погибшие дети — это символ русского мужества и русской жертвенности. Накануне весны мы говорим о втором фронте как о военной мудрости и как о человеческой морали. Так мать, у которой все дети на фронте, глядит на другую — ее дети дома... Лоскутная армия Шесть лет тому назад Гитлер заявил: «Только немцам мы предоставим высокое право умирать за Германию». Теперь Гитлер стал менее привередливым: он набирает наемников, где только может. Его армия — это разноязычный сброд. Он пригнал андалузцев на Волхов, норвежцев в степи Украины, венгров в брянские леса, чехов в Крым. Его солдаты не понимают друг друга. До них доходит один язык — прусской дубинки. Кто на Ленинградском фронте сражается за Германию? Августиниус Хардштейн, солдат «нидерландского легиона». Он жил прежде в Амстердаме. Пришли немцы, разрушили, обобрали Голландию. Напрасно Августиниус искал работы. Ему хотелось есть, и он продал свою душу черту. От наемника отступился отец, от него отшатнулись друзья. Немцы выдали ему миску супа и солдатские штаны. За что он воюет? За кусок хлеба, который немцы отняли у его матери. Рядом с белесым Августиниусом — чернявый Хосе Перес, чистильщик сапог, а впоследствии солдат «Голубой дивизии». Его брата фашисты убили в 1936 году. Хосе немцы выдали 1000 песет, и он пошел умирать за Гитлера. В его родном городе женщина на улице ему сказала: «Иуда». Когда испанских наемников везли через Францию, французы кидали в окна вагонов камни и кричали: «Смерть фашистам!» Забившись в угол, чистильщик сапог впервые подумал: стоило ли за 1000 песет продать себя живьем Гитлеру? За французскими камнями последовали русские снаряды, и Хосе перед смертью написал своей матери: «Нас здорово надули...» А вот и француз Клод Пикар. Этот не кидал камней в фалангистов. Он сам пошел на службу к Гитлеру: он солдат французского легиона, созданного ренегатом Дорио. Судя по документам, Пикар в прошлом «торговый представитель»; но в его записной книжке имеются пометки, свидетельствующие о несколько своеобразной торговле: имена девушек и расписание пароходов, отбывавших из Марселя в Буэнос-Айрес — Пикар торговал живым товаром. Он сбывал также непристойные открытки оптом и кокаин. Это мастер на все руки, он мог бы стать одним из министров Лаваля. В министры он не попал и дошел только до звания старшего ефрейтора германской армии. Он продавал прежде девушек. Пришел тяжелый день, и он продал себя. Что такому Пикару могилы расстрелянных заложников, пустыри Франции, детские гроба? Ему выдали 2000 франков и два пакета папирос «Голуаз»... В германской армии теперь все подонки Европы, все авантюристы, все уголовники. Норвежец Бекстрем решил стать держимордой при Квислинге и записался в школу для полицейских. Немцы его подвели: объявили, что практические занятия происходят в Донбассе. Бекстрема включили в дивизию «Викинг». Этот викинг, ознакомившись с огнем русской артиллерии, поднял руки вверх. Поляк Петер Курзац был полотером в Берлине; не раз сидел в тюрьме — за кражи. Потом бравый Петер отправился в Старую Руссу выручать генерала фон Буша, перехватил шнапса и очухался в плену. Солдат французского легиона Васик Грилак родился в Румынии, состоял в испанском подданстве, служил сначала во французской армии, а потом в немецкой. Некто Иоганн Гиллер вообще забыл, какой он национальности. Он заявил нашим бойцам: «Это не имеет никакого значения. Если у вас хорошие харчи и мне положат сто марок в месяц, я буду воевать за вас...» «Мы сражаемся за великую Италию», — сказал Муссолини. Но Форначари Атилио, берсальер из дивизии «Челере», придерживается другого мнения: «Зачем нам завоевывать русские города, когда немцы уже заняли всю Италию? Я думаю, что Муссолини получил от Гитлера отступные... А каково мне? Майор кричит «вперед!», но ведь оттуда стреляют русские. Зачем я пойду на верную смерть? За немцев? Но это свиньи. Они курят целый день папиросы, а нам не дают даже окурков...» Наемники и рабы ненавидят своих господ. Лейтенант «Голубой дивизии» Хорхе Меркадель пишет в дневнике: «Боевой дух нашей дивизии теперь направлен всецело против немцев». Капрал Эдвин Виррат, финн, говорит: «У нас все знают, что в горе Финляндии виноват Гитлер». Голландец Вернер Кригер, посланный немцами на Калининский фронт, говорит: «Конечно, у нас есть враг, но не русские — немцы». Датчанин Кнут Якобсон из полка «Норланд» пишет своей жене в Одензее: «О том, как нам живется, ты догадаешься сама. Здесь нами командуют немцы, как в Дании...» Венгерец Молнар Антал, отправленный на Юго-Западный фронт, возмущенно заявляет: «Немцы нас сожрут, это как пить дать. А мы должны воевать за проклятого Гитлера...» И плачется румын Ион Васи: «Немцы у меня в деревне забрали всю кукурузу. А на фронте немцы ругают нас «кукурузниками» и хотят, чтобы мы за них умирали». Гитлеровцы насильно послали против России славян, и с ненавистью к немцам идут в бой чехи, поляки, хорваты, словаки. Солдат 514 полка Кшиковский рассказывает: «В каждом взводе у нас несколько поляков. Немцы над нами издеваются. Я сдался в плен потому, что не хочу воевать за немцев». Солдат Карл Гасда 396 полка говорит: «Я — чех и ненавижу Гитлера. Мы носим немецкую форму, но это не значит, что мы хотим защищать Германию. Увидев русских, я бросил винтовку. Вы — наши братья». В «хорватском авиационном легионе» 65 хорват и 100 немцев. Пилот Зденко Копецкий показал: «Хорваты не хотят воевать против России. Меня вызвали в Загреб и зачислили в германскую армию. Мне приказали дать подписку, что я «доброволец». В газете «Словак» лакеи Гитлера пишут: «Ошибочно утверждают, что словацкая армия участвует в войне против России. Наши дивизии посланы на фронт против частей, составленных из угротюркских племен и стремящихся подменить русскую культуру лютеранской...» Нелегко, видимо, послать брата-словака против русского... Немцы не скрывают своего презрения к наемникам. О румынах они говорят не иначе как «мамалыжники»; издеваются над трусливостью итальянских чернорубашечников; словаков называют «вшивыми богомольцами», а венгров — «эрзац-гусарами». Наемники ненавидят друг друга. В мои руки попал приказ генерального штаба румынской армии: «1. Один нижний чин, возвратившийся из села Казанки, информировал нас, что в селе Казанки распространились слухи, будто венгерцы заняли трансильванский город Орадеа Маре. Этот слух дошел и до нас. 2. Произведенное расследование установило, что эти слухи пущены венгерскими войсками, находящимися в городе Кривой Рог. В связи с этим установлено, что некоторые офицеры и солдаты румынской армии, знающие мадьярский язык, к сожалению, вместо того чтобы избегать венгров, с которыми обстоятельства привели нас в соприкосновение, заводят с ними разговоры. А венгры не теряют случая, чтобы провести свою пропаганду. Они пустили ложные слухи, зная, что среди наших солдат много уроженцев округа Орадеа Маре. 3. Излишне опровергать эти слухи. Господин генерал приказывает довести до сведения офицеров и солдат, чтобы они остерегались венгров и не входили с ними ни в какие сношения. Нарушившие этот приказ будут строго наказаны. Старший офицер генерального штаба подполковник Давидеску». Против кого воюет подполковник Давидеску и его вшивая армия? Против нас или против венгров? На что зарятся дивизии венгерских «эрзац-гусаров» — на Орел или на Орадеа Маре? Эти «союзники» ненавидят друг друга смертельной ненавистью. Официально Антонеску говорит о «боевом союзе», а полуофициально Давидеску объясняет этот «союз» «обстоятельствами, которые привели нас в соприкосновение». «Обстоятельства» — вот последний псевдоним Гитлера. «Почему вы в Крыму, дорогой скрипач Попадеску?» — «Обстоятельства». «Что ты делаешь под Брянском, венгерский гусар Попадоли?» — «Обстоятельства». Их пригнали в Россию, как скот, как мулов, как баранов, и они стыдливо бормочут: «Ничего не поделаешь — обстоятельства...» Генералы подносят друг другу ордена. Каких только орденов нет у битого Антонеску — и финский, и хорватский, и словацкий, и итальянский, не говоря уж о немецком. Что же, Гитлер коллекционирует страны, а его лакеи коллекционируют ордена. Хорваты Павелича думают, как бы вырезать итальянцев. Словаки Тиса мечтают отобрать у венгров Кошицы. Венгры готовятся к походу на Румынию. Жалкие полки — без чести, без доблести, подлинная армия наездников. Она отличается в грабежах и насилиях. Испанцы из «Голубой дивизии» насилуют русских девушек. В районе Брянска венгры и финны под предлогом «борьбы с партизанами» жгут русские деревни. Берсальеры грабят украинцев. Румыны вешают крымских татар. Они плохо вооружены, плохо экипированы: немцы не хотят тратиться на рабов. В одном из последних приказов по румынской армии сказано: «Если не будут приняты экстренные меры, в ближайшем времени наши солдаты окажутся голыми». В приказе по финской армии указывалось, что солдаты промышляют нищенством. В смешанных частях немцам дают мясо, а наемникам пустую похлебку. Датчане из дивизии «Викинг» жалуются: «Мы глядим, как едят немцы из нашего взвода, и у нас текут слюнки...» Нечего сказать, «братство по оружию»! Немцы кидают наемников на самые опасные места. Агентство Рейтер сообщает, что из 300 000 румынских солдат, участвовавших в походе на Украину, 200 000 убиты или ранены. Даже среди немцев нет единства. «Великая Германия», разъеденная фашизмом, расползается по швам. Есть солдаты двух категорий — «рейхсдейтчше» и «фольксдейтчше»: первые — это подданные Германии, вторые — немцы из других государств, мобилизованные в германскую армию. Все офицеры и унтер-офицеры, разумеется, «рейхсдейтчше», они открыто издеваются над своими «братьями по крови». Австрийцы — это «полуарийцы», это плебеи гитлеровской Германии. Солдат Карл Фукс 3 пехотного полка говорит: «Пруссаки презирают нас, а мы, австрийцы, их ненавидим. У австрийских солдат одна мысль — сдаться в плен русским». 55 пехотная дивизия была составлена главным образом из австрийцев. Но офицеры были коренными германцами. Эта дивизия сражалась неохотно и таяла с каждым днем. Австриец Карл Граун пишет в дневнике: «Мне противна мысль умереть за Германию — я ведь помню, как «наци» вторглись в Вену». В 169 полку нет ни голландцев, ни поляков, ни австрийцев, но и там существует «национальная иерархия»: пруссаки презирают саксонцев. Солдат 409 полка Альфред Шлагберг говорит: «Пруссаки позорят немецкую армию». Эсэсовец Вальтер Гортель возмущен силезцами: «Это канальи. Вся беда от них». А ефрейтор 42 саперного батальона Курт Шнабе говорит: «Баварцы — не немцы, нужно посадить в лагеря всех баварцев». Вот «фатерланд» Адольфа Гитлера, вот его единая и «великая Германия»! Это волки в клетке. Пока у них есть мясо, они жрут и молчат. Когда мясо кончается, они впиваются в бока друг другу. Наемники изумительно грабят, они образцово вешают, но они плохо сражаются. За деньги убивают. За деньги не умирают. У лоскутной армии Гитлера нет того священного цемента, который связывает людей в одно: у них нет чувства родины. Какое дело неаполитанцу до «великой Финляндии», до бреда выжившего из ума Маннергейма, который хочет присоединить к Хельсинки... Урал? Какое дело финскому дровосеку до дури Антонеску, всерьез поверившего, что румынские босяки будут владеть прекрасной Одессой? Какое дело марсельским громилам и роттердамским сутенерам до «великой Германии»? Их привели на восток голод и плеть, бесчестье и невежество, измена и корысть. Эта лоскутная армия не выстоит перед массивными ударами. Великая сила ведет нас в бой против захватчиков: мы отстаиваем нашу родину. Дружба народов у нас не вывеска, а живое горячее чувство. Татарин в далекой Карелии защищает свой дом. Под Новгородом украинец борется за Киев. Не насилье связало в одно народы России — любовь. Мы вместе много пережили, вместе изведали горе и счастье. Какой русский не вспомнит с восторгом вершины Кавказа? Какой грузин не посмотрит благоговейно на гранит нашей Северной Пальмиры? Какой украинец не скажет горделиво: «Моя земля — от Белого моря до Черного, от Карпат до Тихого океана»? В германской армии много танков и много минометов, но нет в ней сердца, это армияавтомат. Рабы наняли других рабов, и рабы говорят рабам: «Умирайте за Гитлера. Мы дадим вам краденый хлеб. Мы дадим вам чужие города. Мы дадим вам сто марок, тысячу франков, десять тысяч лей». И в ответ подымается в нашем сердце лютая ненависть: как они смели привести к нам этих золоторотцев Европы, этих вшивых сутенеров, этих международных шулеров? На нашей земле пасутся презренные наемники, едят наш хлеб, оскверняют наших девушек. Этого не стерпит советский народ. 22 апреля 1942 г. Оправдание ненависти Из всех русских писателей гитлеровские идеологи относятся наиболее снисходительно к Достоевскому. Гитлеровцам понравились сцены нравственного терзания, показанные великим русским писателем. Однако фашисты — плохие читатели, им не понять гения Достоевского, который, опускаясь в темные глубины души, озарял их светом сострадания и любви. Один из немецких «ценителей» Достоевского написал в журнальной статье: «Достоевский — это оправдание пыток». Глупые и мерзкие слова. Гитлеровцы пытаются оправдать Гиммлера Достоевским. Они не в силах понять жертвенности Сони, доброты Груни. Русская душа для них — запечатанная книга. Русский человек по природе незлобив, он рубит в сердцах, легко отходит, способен понять и простить. Многие французские мемуаристы рассказывают, как русские солдаты, попав в Париж после падения Наполеона, помогали француженкам носить воду, играли с детьми, кормили солдатскими щами парижскую голытьбу. Даже в те черные годы, когда враг нападал на Россию, русские хорошо обращались с пленными. Петр после Полтавы обласкал пленных шведов. Наполеоновский офицер Соваж в своих воспоминаниях, посвященных 1812 году, называет русских «добрыми детьми». Лет десять тому назад я попал в трансильванский город Орадеа Маре. Меня удивило, что в магазинах, в кафе, в мастерских люди понимали по-русски. Оказалось, что многие жители этого города во время мировой войны попали в плен к русским. Все они трогательно вспоминали годы, проведенные в Сибири или в Центральной России, подолгу рассказывали о доброте и участливости русских. Еще в начале этой войны я не раз видел, как наши бойцы мирно калякали с пленными, делились с ними табаком и едой. Как случилось, что советский народ возненавидел немцев смертной ненавистью? Ненависть не лежала в душе русского человека. Она не свалилась с неба. Ее наш народ выстрадал. Вначале многие из нас думали, что это — война как война, что против нас такие же люди, только иначе одетые. Мы были воспитаны на великих идеях человеческого братства и солидарности. Мы верили в силу слова, и многие из нас не понимали, что перед нами не люди, а страшные, отвратительные существа, что человеческое братство диктует нам быть беспощадными к фашистам, что с гитлеровцами можно разговаривать только на языке снарядов и бомб. «Волкодав — прав, а людоед — нет». Одно дело убить бешеного волка, другое — занести свою руку на человека. Теперь всякий советский человек знает, что на нас напала свора волков. Дикарь может разбить изумительную статую, людоед может съесть величайшего ученого, попавшего на остров, населенный каннибалами. Немецкие фашисты — это образованные дикари и сознательные людоеды. Просматривая недавно дневники немецких солдат, я увидел, что один из них, принимавший участие в клинском погроме, был меломаном и любителем Чайковского. Оскверняя дом композитора, он знал, что он делает. Искалечив Новгород, немцы написали длинные изыскания об «архитектурных шедеврах Неугарда» (так они называют Новгород). На трупе одного немца нашли детские штанишки, запачканные кровью, и фотографию детей. Он убил русского ребенка, но своих детей он, наверное, любил. Убийства для немцев — не проявление душевного разгула, но методическая деятельность. Убив тысячи детей в Киеве, один немец написал: «Мы убиваем маленьких представителей страшного племени». Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных свойствах того или иного гитлеровца. Немецкие добряки, те, что у себя дома сюсюкают, катают на спине детишек и кормят немецких кошек паечной колбасой, убивают русских детей с такой же педантичностью, как и злые. Они убивают, потому что они уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови. В начале войны я показал пленному немцу листовку. Это была одна из наших первых листовок, в ней чувствовалась наивность человека, разбуженного среди ночи бомбами. В листовке было сказано, что немцы напали на нас и ведут несправедливую войну. Немец прочитал и пожал плечами: «Меня это не интересует». Его не интересовал вопрос о справедливости: он шел за украинским салом. Ему внушили, что разбойные войны — это заработок. Он шел добывать «жизненное пространство» для Германии и «трофейные» чулки для своей супруги. В грабеже немцев нас поразили деловитость, аккуратность. Это не проделки отдельных мародеров, не бесчинства разнузданной солдатни, это — принцип, на котором построена гитлеровская армия. Каждый немецкий солдат материально заинтересован в разбойном походе. Я написал бы для гитлеровских солдат очень короткую листовку, всего три слова: «Сала не будет». Это то, что они способны понять, и это то, что их действительно интересует. В записных книжках немцев можно найти перечень награбленного; они считают, сколько кур съели, сколько отобрали одеял. В своем разбое они беззастенчивы, как будто они не раздевают живых людей, а собирают ягоды. Если женщина попытается не отдать немецкому солдату детское платьице, он ей пригрозит винтовкой, если она вздумает защищать свое добро, он ее убьет. Для него это не преступление: он убивает женщин, как ломают сучья в лесу — не задумываясь. Отступая, гитлеровцы сжигают все: для немцев русское население такой же враг, как Красная Армия. Оставить русскую семью без крова для них военное достижение. У себя в Германии они ходят на цыпочках, не бросят на пол спички, не посмеют помять травинку в сквере. У нас они вытоптали целые области, загадили города, устроили в музеях уборные, превратили школы в конюшни. Это делают не только померанские землепашцы или тирольские пастухи, это делают приват-доценты, журналисты, доктора философии и магистры права. Когда боец-колхозник увидел впервые деревню Московской или Тульской области, от которой остались только трубы да скворечницы, он вспомнил свою деревню на Волге или в Сибири. Он увидел в лютый мороз женщин и детей, раздетых, разутых немцами. И в нем родилась лютая ненависть. Одни немецкий генерал, приказав своим подчиненным безжалостно расправляться с населением, добавил: «Сейте страх!» Глупцы, они не знали русской души. Они посеяли не страх, но тот ветер, что рождает бурю. Первая виселица, сколоченная немцами на советской земле, решила многое. Теперь все у нас поняли, что эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных детей в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь наша ненависть созрела, она уже не мутит голову, как молодое вино, она перешла в спокойную решимость. Мы поняли, что нам на земле с фашистами не жить. Мы поняли, что здесь нет места ни для уступок, ни для разговоров, что дело идет о самом простом: о праве дышать. Ненавидя, наш народ не потерял своей исконной доброты. Нужно ли говорить о том, как испытания расширили сердце каждого? Нельзя без волнения глядеть на многодетных матерей, которые в наше трудное время берут сирот и делятся с ними последним. Я вспомнил девушку Любу Сосункевич, военного фельдшера. Она под огнем перевязывала раненых. Землянку окружили немцы. Тогда с револьвером в руке, одна против десятка немецких солдат, она отстояла раненых, спасла их от надругательств, от пыток. Скромна работа другой русской девушки — Вари Смирновой: под минометным и ружейным огнем она, как драгоценную ношу, несет пачку с письмами на передовые позиции. Она мне сказала: «А как же иначе?.. Ведь все ждут писем, без письма скука съест...» Но не только к своим живо участие в душе русского, он понимает горе других народов. Большая человеческая теплота чувствуется в обращении женщин многострадального Ленинграда к женщинам Лондона. Не раз бойцы меня расспрашивали о горе Парижа. Привелось мне присутствовать при том, как бойцы слушали заметку о голодной смерти, на которую гитлеровцы обрекли греков; и один боец, колхозник из Саратовской области, выслушав, сказал: «Вот ведь какая беда!.. И как бы скорей перебить этих фрицев, людям помочь?» Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью, любовью к родине, к человеку и к человечеству. В этом — сила нашей ненависти. В этом — ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он — представитель человеконенавистнического начала, за то, что он — убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за вытоптанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, но против автоматов, которые выглядят, как люди, но в которых не осталось ничего человеческого. Наша ненависть еще сильней оттого, что они с виду похожи на человека, что они могут смеяться, что они могут гладить коня или собаку, что они в дневниках занимаются самоанализом, что они замаскированы под людей и под культурных европейцев. Мы часто употребляем слова, меняя их первоначальное значение. Не о низменной мести мечтают наши люди, призывая к отмщению. Не для того мы воспитали наших юношей, чтобы они снизошли до гитлеровских расправ. Никогда не станут красноармейцы убивать немецких детей, жечь дом Гете в Веймаре или книгохранилище Марбурга. Месть — это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами. Мы тоскуем о справедливости. Мы хотим уничтожить гитлеровцев, чтобы на земле возродилось человеческое начало. Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть пределы и у широты: я не хочу сейчас ни думать, ни говорить о грядущем счастье освобожденной от Гитлера Германии — мысли и слова неуместны и неискренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев. Железо на сильном морозе обжигает. Ненависть, доведенная до конца, становится живительной любовью. «Смерть немецким оккупантам» — эти слова звучат, как клятва любви, как присяга на верность жизни. Бойцы, которые несут смерть немцам, не жалеют своей жизни. Их вдохновляет большое, цельное чувство, и кто скажет, где кончается обида на бесчеловечного врага и где начинается кровная привязанность к своей родине? Смерть каждого немца встречается со вздохом облегчения миллионами людей. Смерть каждого немца — это залог того, что дети Поволжья не узнают горя и что оживут древние вольности Парижа. Смерть каждого немца — это живая вода, спасение мира. Христианская легенда изображала витязя Георгия, который поражает копьем страшного дракона, чтобы освободить узницу. Так Красная Армия уничтожает гитлеровцев и тем самым несет свободу измученному человечеству. Суровая борьба и нелегкая судьба, но не было судьбы выше. 26 мая 1942 г. По дорогам войны Я проехал триста километров по земле, отвоеванной у немцев. Зимой снег сострадательно прикрывал раны. Теперь повязка снята. Там, где были дома, — крапива, чертополох и, как сорняки, немецкие шлемы, скелеты машин, снаряды. Женщина в Калуге сказала мне: «Может быть, теперь они почувствовали в Кельне, что такое их война». Ее дом немцы сожгли, пятнадцатилетнего сына расстреляли. Наш вездеход водитель величает «козлом» и, одобрительно ухмыляясь, поясняет: «Этот козел всюду пройдет». И «козел» действительно сворачивает на глухую дорогу, по которой прежде пробирались только телеги колхозников. Шумный, веселый ливень обрушился на землю, рыжая дорога кажется потоком лавы. Но «козел» отважно плывет по этой земной хляби, кренясь и вздымаясь, как лодочка среди бушующего моря. Изуродованные или сожженные города — Малоярославец, Угодский Завод, Козельск, Калуга, Перемышль, Сухиничи. У каждого города позади длинная жизнь, своя судьба, свои горести и радости. Но как похожи друг на друга развалины! Пришли немцы: взрывали, жгли. Что им наша история, наш труд, наша любовь? «Факельщики» жгли и горланили: «Тарари-тарара, валери-валера», и кто не поймет чувства старушки, которая, переиначивая на русский лад слово «фрицы», говорит: «Фирсы проклятые». Красавица Калуга с древними церквами на крутом берегу Оки, она покалечена. Обида берет за все: и за старую церквушку с ее наивной прелестью белых стен и голубых луковок, и за уютный дом с колоннами, в котором когда-то юноши нараспев читали стихи начинающего поэта Пушкина, и за новый клуб с широкими окнами, глядевшими в будущее. Все это немцы сожгли. За последние годы здесь много строили. В городе, издавна слывшем захолустным, появились высокие дома, школы, театры. Я молча прошел по длинной улице, от которой остались только развалины. О чем тут говорить? Мы знаем, с каким трудом строили наши города, и мы молчим: здесь нужно не говорить — истреблять. Сожжены сотни сел. В редких уцелевших домах живут по три, по четыре семьи. Старики, вспоминая месяцы ига, спрашивают: «Гитлер где?» Сожженные немецкие танки, гильзы, железо, и среди мира смерти буйно цветут цветы, желтые, розовые, фиолетовые. Кажется, никогда я не видел столько цветов. На опушках лесов обугленные, обезглавленные минами березы, а глубже, в пуще, обычный зеленый покой, и неизменная кукушка пророчит девушке в гимнастерке долгую жизнь. Вот район, освобожденный от немцев в марте и в начале апреля. Бои здесь были упорными. Еще лежал снег, мешая идти вперед, а лед на реках был уже тонким, танки по нему не проходили. Здесь мало леса. В селах двухэтажные кирпичные дома. Немцы их превратили в доты. А села большие — по триста — четыреста домов. Наши части одно за другим освободили тридцать таких сел. В селе Попково немцы засели в школе. Когда наши саперы подошли, раздались детские крики: «Не взрывайте, здесь мы», — немцы затащили с собой в школу русских ребят. И саперы ушли. Тогда немцы выставили детей под артиллерийский огонь. Ярость охватила наших бойцов, они взяли школу. Женщина в селе Маклаки спокойно говорит: «Дом взорвали. Мужа увели. Дочку испортили». Это — спокойствие большого горя. Аккуратно свернутый в красную трубочку пакетик, в нем аммонал. Такие пакетики немцы закладывали в печь, и от дома оставалась груда битого кирпича. Впереди шли танкисты. Я побывал в танковой части, которой командует Токарев. Жива память о двух танкистах — окруженные врагами, перед смертью они запели «Интернационал»: лейтенант Ковачук и сержант Зинченко. Среди танкистов много украинцев, находчивых, смешливых и смелых. А командир — сибиряк, решительный и бесстрашный. Сейчас танкисты учатся, отдыхают, помогают колхозникам в полевых работах, и — девушки дивятся — герой, недавно освободивший их село, скромно пашет. Ждут новых боев. Один танкист сказал мне: «Лошадкам не терпится, стучат копытами» — «лошадками» он шутя называл танки. Я сказал, что впереди шли танки. Я забыл о саперах. Когда-нибудь поэт напишет замечательную поэму о мужестве советских саперов. Они прошли сотни километров по заминированной земле, каждый вытащил тысячи мин. «Как же вы ни разу не ошиблись?» Сапер, улыбаясь, отвечает: «Сапер ошибается только раз в жизни». За рекой немцы укрепились. Генерал-лейтенант Рокоссовский, командир большого спокойствия и большой страсти, говорит: «Немцы напрасно обижаются на зиму. Конечно, зима по ним ударила, но зима их спасла. Не немецкие солдаты, а русские снега остановили преследование отступавшей германской армии». Я видал гвардейцев, их дивизия — это ополченцы Ленинградского района города Москвы. Год тому назад они были мирными людьми. Пришлось променять перо на винтовку, токарный станок на станковый пулемет и колбы на гранаты. Они это сделали. Они сделали и большее: они полюбили победу не как далекую мечту, не как историческую справедливость, не как статую из мрамора, но как сестру — обветренную, задымленную и запыленную, в поту и в крови. Недавно пять разведчиков нашли в лесу заржавленный волчий капкан. Они, смеясь, рассказывают: «Фрица в капкан поймали. Ефрейтор, а оказался закапканенный». Сказываются отвага и смекалка русского человека. Немцы боятся темноты, леса, ночных шорохов, природы. Они не знают языка птиц, не умеют различать следы. В Сибири жили охотники за пушным зверем, а жители Лейпцига только торговали мехами. За рекой немцы. А там дальше — за немцами — партизанский район. Оттуда приходят и прилетают. Партизаны рассказывают о больших боях. Против немцев они двинули немецкие танки, бронепоезд. Привезли недавно пленного ефрейтора. Попав в плен к партизанам, немец изумился. Ему говорили, что партизаны — это бородатые бандиты, которые закусывают водку котлетами из немцев. А ефрейтор увидел бритых людей, хорошо вооруженных, и они не только не съели ефрейтора, но даже дали ему творогу со сметаной, и ефрейтор сказал: «Майн готт, за четыре месяца впервые я хорошо покушал». Этот ефрейтор ручной, он даже пас в партизанском районе колхозное стадо. Он рассказывает, что немцы боятся партизан: «У нас полковник заболел животом. Вызвали врача. А врач говорит: «Не поеду! Меня по дороге партизаны застрелят». Его повезли силой. Он приехал и говорит полковнику: «Я теперь сам болен. Вы меня и лечите». Партизаны дали мне крохотные газеты и листовки, напечатанные на оберточной бумаге или на листках из школьных тетрадок. Они написаны и напечатаны партизанами. Простые суровые слова: «Дорогие братья и сестры! Подымайтесь на врага! Бейте всюду фашистских гадов! Не давайте пощады предателям родины! Вступайте в партизанские отряды!» Пленные немцы угрюмо лопочут: «Гитлер капут». Что им еще сказать — ведь они в плену. Вот ефрейтор Иоганн Гальтман. Он крестьянин. Боец его спрашивает через переводчика: «Хозяйство у тебя большое?» Немец отвечает: «Куда там — всего-навсего один француз». Пленный француз для него — лошадь. И, услышав ответ ефрейтора, бойцы сердито отплевываются: «Разве это люди?» Бойцы теперь не очень-то верят причитаниям пленных немцев, но одно бесспорно: немцы приуныли. Была у них солдатская песня — для судетских немцев, для эльзасских сепаратистов, для немецких колонистов в Венгрии, в Югославии, в Румынии: «Вир воллен гайм инс райх» — «Мы хотим жить в Германской империи». Теперь они переделали эту песенку; «Вир воллен гайм, унс райхт» — «Мы хотим домой, с нас хватит». Увы, они хвастают — с них еще мало. Приунывшие, они и обороняются, и ходят в атаку. Нужно нанести им еще немало серьезных ударов. Тогда они перестанут петь: «Мы хотим домой», тогда они молча побегут домой. Молча или хрюкая: один разведчик, который привел пленного немца, мне сказал: «Он всю дорогу, извиняюсь, с перепугу хрюкал...» Был на переднем крае шумный день. Бурю вызвал скромный диктор радиоустановки. Напротив стоят немцы 211-й дивизии, сформированной в Кельне и составленной из уроженцев Рейнской области. Диктор начал: «Солдаты, уроженцы Кельна! Свыше тысячи английских самолетов бомбили вчера Кельн...» Немцы открыли ураганный огонь: они не смогли отстоять Кельн, но они решили уничтожить диктора. А когда снова воцарилась тишина, раздался тот же спокойный голос: «Солдаты, уроженцы Эссена! Вчера крупные соединения английских бомбардировщиков...» Горячее солнце. Сухие дороги. Сухие, горячие глаза людей. 6 июня 1942 г. О патриотизме Нелегко вырастить плодовое дерево: много оно требует труда и забот. А чертополох невзыскателен. Гитлер, создавая свою «гитлеровскую молодежь», потворствовал самым низким инстинктам человека. Он не воспитывал, — он натаскивал, науськивал. Нельзя назвать патриотизмом мироощущение немца гитлеровской формации. Патриотизм обозначает любовь к своей стране, к своему народу. Как всякая большая любовь, патриотизм расширяет сознание. Подлинный патриот любит весь мир. Нельзя, открыв величие родной земли, возненавидеть вселенную. Безлюбые люди — плохие патриоты. А лжепатриотизм фашистов покоится на презрении к другим народам, он суживает мир до пределов одного языка, одного типа людей, одной масти. Давно, еще до первой мировой воины, будучи подростком, я попал в Германию. Я восхищенно глядел на чудеса немецкой техники. Как-то я оказался в небольшом загородном ресторане. Был воскресный день. В беседке сидели немцы, сняв пиджаки, пили пиво и, привставая, что-то пели. Я прислушался, слова песни были: «Германия превыше всего». В ту самую минуту я понял, что, несмотря на опрятность берлинских улиц, несмотря на все достижения немецкой полиграфии или механики, Германия не «превыше всего», что в ее самоутверждении есть страшные низины человеческого духа. Гитлер нашел подходящую почву для своей «расовой теории». Он легко внушил молодым немцам (сыновьям тех самых, что пели в беседке), будто они, и только они, — люди, а кругом «низшие расы», «недочеловеки». Приказчику из сигарного магазина было лестно почувствовать себя «сверхчеловеком», влезть на ходули и оттуда пренебрежительно взглянуть на мир. Что Париж? Магдебург лучше. Что Оксфордский университет? Прусская казарма почтенней. Что Лев Толстой? Автор порнографических романов Ганс Эверс пишет куда занятней. Горизонт самого просвещенного немца, воспитанника современной Германии, определяется границами «рейха». Один немецкий офицер, человек с высшим образованием, разговорился со мной в Париже. Он был не только оккупантом, но и туристом: осматривал город. Меня он принял за француза, и он поставил мне забавный вопрос: «Как вы ухитряетесь придавать вашей отсталой стране видимость культурной страны?» Этому начитанному дикарю не приходило в голову, что он оказался в действительно культурной стране. Гитлеровцы презирают французов, называя их «негроидами» и утверждая, что французы — это «метисы». По соображениям тактики, гитлеровцы льстят мусульманам, однако в Испании они возмущенно отмахиваются от андалузцев, и слово «мавр» в устах немца звучит как оскорбление: андалузцев гитлеровцы осуждают за «примесь арабской крови». Союз с Японией не мешает немцам демонстрировать свое презрение к «монгольской расе». В оценках культуры славянских народов гитлеровцы исходят из общего утверждения, что «славяне — низшая раса». Пражский университет — старейший университет Европы. Это не мешает немецким фашистам уверять, что «чехи — дикари». Музыка поляка Шопена для гитлеровского журнала «кудахтанье глупой курицы». Гитлер (человек глубоко невежественный и не способный прочитать книгу в сто страниц) говорит, что Лев Толстой «русский ублюдок». «Расовая теория» прикидывается наукой: немцы любят научную терминологию. Шарлатан в Германии, придумав «теорию», с помощью которой можно выиграть миллион в рулетку, пытается украсить свои выкладки ссылками на высшую математику. Немецкий народ, как и другие европейские народы, создался в итоге длительного скрещивания представителей разных племен, в частности среднеевропейских славян, заселявших некогда большую часть Пруссии. В книгах, изданных гитлеровцами, можно найти фотографии «лучших представителей северной германской расы». Однако ни уродливый Гитлер, ни колченогий Геббельс, ни тучный Геринг никак не похожи на «образцовых германцев». Немцы всегда дорожили видимостью. Поэтому их не смутили фашисты, заменившие антологию мировой литературы, книги Шекспира, Сервантеса, Гюго изображениями идеальных производителей германской расы. В Германии продавали скверные папиросы в изумительных металлических коробках. Как-то табачный фабрикант мне рассказал, что упаковка обходится ему дороже табака. Не так ли немцы, воспитанные Гитлером, ставят выше всего форму человеческого черепа, не интересуясь тем, что в этом черепе помещается? Все знают, что гитлеровцы уничтожают национальную культуру других народов. Но необходимо отметить, что они обкорнали, принизили национальную культуру немецкого народа. Миллионы сердец освещала поэзия Гейне. Ее романтическая ирония была солью в стране, приученной к пресному хлебу. Гитлеровцы нашли, что череп Гейне неустановленного образца, и новое поколение Германии не знает даже имени Гейне. Так Гитлер, присоединив к «рейху» польскую Познань или французскую Лотарингию, отлучил немцев от источника немецкой поэзии. Ограничив понятие национальной культуры рамками языка или условным определением «расы», Гитлер способствовал национальному одичанию Германии. Изгнание из университетов ученых, оказавших огромное влияние на развитие немецкой науки во главе со знаменитым физиком Эйнштейном, резко сказалось на понижении культурного уровня страны. Почему Германия должна была расстаться со многими из ее передовых умов? Да потому, что, согласно «расовой теории», они оказались не чистокровными германцами. Наука была заменена лженаукой. Новые профессора, люди по большей части невежественные, придумывали «чисто арийскую физику» или «строго германскую математику». Фашистский профессор Эрвик Гек заявил: «Математика — это проявление северного арийского духа, его воля к господству над миром». Гитлеровцы удалили из немецких музеев произведения новой французской живописи и тем самым надели шоры на глаза молодых художников Германии. Современная архитектура в гитлеровской Германии отменена как «вредный американизм». Гитлеровские архитекторы рабски копируют старое немецкое зодчество, причем фашистам не приходит в голову, что, имитируя готический собор, трудно построить хороший вокзал. Немецкая литература не знала большого классического романа, ее как бы поглощала поэзия: Гете, Шиллер, Гейне, Рильке. Немецкие писатели двадцатого века учились на иноязычном романе: на «Лавке древностей» Диккенса, на «Отверженных» Гюго, на «Отце Горио» Бальзака, на «Войне и мире» Толстого. Какие учителя оставлены писателями современной Германии? Графоман Геббельс... Советский патриотизм — естественное продолжение русского патриотизма. Русским всегда было чуждо пренебрежение к другим народам. Петра не унизило то, что он учился корабельному делу в Голландии. От этого он не перестал быть Великим. В восемнадцатом веке Франция шла впереди других народов, и книги Вольтера, попадая в русские захолустья, рождали первых вольнодумцев. Молодые русские патриоты, сражавшиеся против Наполеона, нашли в Париже еще теплую золу французской революции. Они увлеклись идеей свободы; так подготовлялось восстание против царского самодержавия 14 декабря 1825 года. Гений Пушкина, столь органически русский, столь связанный всеми корнями с русской историей, с русской природой, с русской речью, был в то же время всечеловеческим гением. Пушкин страстно любил чужеземных поэтов: Шекспира, Шенье, Байрона, Мицкевича; Герцен и Белинский воспитывались на Гегеле. Живопись Италии была откровением не только для большого русского художника Иванова, но и для его друга, великого Гоголя. Мечников учился у Пастера, как у Мечникова учились многие ученые Запада. Опыт рабочего движения Франции, Германии, Англии помог русской искре стать пламенем. Русский народ учился у других народов Европы, и он учил своих учителей. Русский роман преобразил всю мировую литературу: вне Толстого и Достоевского нельзя себе представить творческий путь любого французского или немецкого писателя. Русская музыка обошла самые глухие углы мира. Имена Менделеева, Лобачевского, Павлова известны каждому студенту Кембриджа или Сорбонны. Не было события в новейшей истории, настолько видоизменившего путь и лицо человечества, как русская революция. В самые тяжелые времена русский народ не отчаивался в судьбе своей родины, горячо любил ее, отважно ее защищал — без злобы к другим народам, без дешевого зазнайства, без мнимо-горделивых, а по существу рабских выкриков: «Мы превыше всего». Наша советская родина досталась нам нелегко: ее мы оплатили кровью лучших, ожесточенным трудом целого поколения. Сколько нужно было распахать целины, застроить пустырей, преодолеть косности и суеверия! Мы не закрывали глаза на трудности. Мы знали и знаем, что многие деревья приносят плоды пятьдесят лет спустя после того, как они посажены. Мы не ждали чудес, но верили в человеческую волю. И страна менялась у нас на глазах. Как дети радуются обновке, мы радовались всему — и помидорам под Архангельском, и постановке «Гамлета» в колхозном театре. Мы видели, как растут наши города. Но пуще всего мы радовались росту человека. Легко воспитать десять тысяч избранных за счет других, противопоставить просвещенной знати многомиллионное невежество. Мы хотели другого: света для всех. Мы были пионерами, а путь прогресса не шоссе с верстовыми столбами — его приходится прокладывать среди девственного леса. Перед нами был свет, и, порой сбиваясь с пути, мы неизменно выходили на верную дорогу. Советский патриотизм освещен большой внутренней радостью, наш народ справедливо гордится своей исторической миссией. Советский патриотизм в то же время прост, органичен, как привязанность птицы к воздуху, рыбы к воде: мы любим ту стихию, вне которой нам не жить. Каждый русский писатель самозабвенно любит русский язык. Но разве эта любовь мешала и мешает писателям понять красоту, силу других языков? Мы знаем, какую роль сыграл Кавказ в русской поэзии — от Пушкина и Лермонтова до Маяковского. Фашист ненавидит человека, у которого волосы другого цвета, который говорит на другом языке. Нас радует многообразие мира. Мы гордимся многообразием нашей родины. В дни сурового испытания народы нашей родины показали, что такое подлинное родство. Весть о первом убитом ребенке Белоруссии пробудила сибирские села. Русские и украинцы, армяне и грузины, евреи и узбеки — все народы нашей страны сражаются, чтобы освободить плененные советские города. Сыновья Украины показывают чудеса храбрости в далекой Карелии, и забайкальские дивизии бьются за родную Украину. Старший брат в советской семье, русский народ достиг уважения других народов не самоутверждением, но самоотверженностью: он шел впереди, он идет впереди других по той дороге, где человека встречают не только цветы, но и пули. Вот почему таким почетом окружены русский народ и русский язык. Мы говорили в мирное время: это язык Пушкина и язык Ленина. Мы скажем теперь: это язык боя. Когда мы говорим: «Россия», мы этим не выделяем того или иного народа. Слово «Россия» теперь не название государства, а нечто глубоко внутреннее, связывающее нас с нашей историей, вторую отечественную войну с первой, молодого красноармейца с Суворовым, колыбели детей с могилами предков. Поэт советской эпохи Маяковский писал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва». Любовь к Парижу не заставила его отступиться от родной Москвы, но любовь к Москве помогла поэту полюбить и оценить Париж. Наш патриотизм помогает нам любить другие, далекие народы, понимать чужую культуру. Для нас наши боевые товарищи — это не только армии, это и народы, достойные почета, дружбы. Мы ценим древности Англии и юношеский размах Америки. Мы знаем, что века государственной культуры помогли англичанам отстоять свой остров от фашизма и на самолет Гесса ответить тысячей самолетов над Кельном. Для нас Париж — это не Лаваль, потому что мы помним про Вальми, мы не забыли и Гюго. Мы восхищались и восхищаемся доблестной историей французского народа, и мы не отвернемся от него теперь, когда он попал в беду. Читая про то, как Гитлер сносит с земли чешские города и убивает чешскую интеллигенцию, мы испытываем беспредельный гнев: мы знаем, что такое Прага, этот очаг славянской культуры. Наш патриотизм раздувает в нас любовь к человечеству и к человеку. Для фашистов нет ни дружбы народов, ни боевого союза. Гитлеровцы презирают своих «союзников». Они швыряют им ордена, как кидают собаке кость, и за это вассальные народы должны проливать свою кровь. Румынский фашист готов перегрызть горло венгерскому. Муссолини, получив пинок от Гитлера, спешит дать затрещину Павеличу. Рядовой фашист ненавидит иноплеменного фашиста. Это — пауки в банке, которые хотят пожрать друг друга. Звериной злобе фашизма, его притеснению народов и людей, его унылой казарменной сущности мы противопоставляем свободный мир, сложный и разнообразный, где все языки смогут прославлять жизнь, творчество, труд, любовь. Мы не переносим нашей ненависти к фашизму на расы, на народы, на языки. Я знаю, что девять десятых немецкой молодежи отравлены ядом фашизма, который поражает организм, как сифилис. Но никакие злодеяния Гитлера не заставят меня забыть о скромном домике в Веймаре, где жил и работал Гете. Я люблю итальянский народ, и, беседуя с пленными итальянскими солдатами, я всякий раз радуюсь: фашизм в Италии не сумел проникнуть в сердце народа, он остался накожной болезнью, отвратительной экземой. И мне обидно, что жалкий комедиант Муссолини говорит на том языке, на котором говорили Петрарка и Гарибальди. Мы знаем, что строй народа не случайность. Не случайно новая глава истории человечества открылась на осенней петроградской ночи. Гитлер родился в Тироле, этот проходимец пришел в Германию как иностранец. Но не случайно ему удалось превратить Германию в кочевую разбойную страну и сделать из миллионов немцев солдат кровожадной мародерской армии. Читая рассказы Мопассана, мы видим, как вели себя пруссаки во Франции семьдесят лет тому назад. Я видел солдат императорской Германии в той же Франции в 1915 году. Мы можем смело сказать, что у гитлеровцев были отцы и деды. Германия, кичливо кричавшая: «Я превыше всего», оказалась в обозе истории. По пути прогресса народы идут не гурьбой, а караваном. Честь и слава тому народу, который первым вышел в путь! Не случайно фашистские армии узнали первое поражение на русской, на советской земле — под древней Тверью — Калинином и под юным Сталиногорском. Вот почему слово «Москва» теперь, как ветер, вдохновляет боевые знамена Англии и Америки. Вот почему слово «Москва» позволяет выше поднять голову измученным народам Европы — французам и чехам, сербам и полякам. Когда мы называем Красную Армию «освободительницей», мы думаем, прежде всего, о наших плененных городах, об Украине и Белоруссии, о древних Новгороде и Пскове. Но за каждым шагом Красной Армии следят миллионы исстрадавшихся людей на другом конце Европы. Имена героев, бойцов и командиров Красной Армии повторяют и рыбаки Бретани, и пастухи Греции. Гитлеровцы хотели завоевать весь мир, и в этой войне Германия потеряла свое лицо, свою душу, — Германия потеряла Германию. Мы вышли в бой, чтобы отстоять свой дом, свою землю, и в этой справедливой войне мы обрели любовь, признание всех народов мира. Такова сила, таково волшебство подлинного патриотизма. 14 июня 1942 г. 21 июня 1942 года Это было год тому назад. Короткая июньская ночь казалась Москве обычной. Люди, засыпая, мечтали о летних каникулах, о горах Кавказа или о голубом море Крыма. Это была ночь на воскресенье, в клубах молодежь танцевала. На подмосковных дачах, среди сирени и жасмина, влюбленные тихо говорили о том, о чем говорят влюбленные всех стран и всех времен. Москва поздно проснулась. Люди завтракали, когда в густой медовый полдень лета вмешался взволнованный голос диктора. Мы узнали, какой ночью была та ночь. Мы узнали, как немецкие бомбардировщики налетели на залитые светом города, как ползли гитлеровцы среди высокой, некошеной травы. Война... Это слово прозвучало, как труба архангела. Прошел год. Это слово стало жизнью. Помню зимний вьюжный день. На стене висел плакат: «Что ты сделал для победы?» К стене подошел человек в солдатской шинели. Мне показалось, что он разглядывает плакат. Я подошел ближе и увидел, что у человека нет глаз: свои глаза он отдал победе. Почему передо мной сейчас эта черная повязка среди серебряного снега? Я хочу сказать английским друзьям о самом простом — о наших жертвах. Все знают, как был взорван Днепрогэс. Об этом писали газеты всего мира. Изба крестьянки Прасковьи Филипповны была обыкновенной избой. Нужно ли говорить о привязанности крестьян к своему дому? Это было недавно в небольшом селе Ленинградской области. По размытой дождем дороге подошел к околице отряд партизан. И Прасковья Филипповна, выбежав навстречу партизанам, закричала: «Скорей сюда! Вот мой дом. В нем спят четырнадцать фашистов. Не жалейте дом — жгите, кидайте гранаты!» Сколько домов сожгли наши люди, чтобы дома не достались немцам? В сухие знойные дни люди жгли как спички свои дома и свое добро. А что не сожгли хозяева, сожгли потом гитлеровцы. Пожар был прежде катастрофой, божьим гневом народных легенд. В этот год пепел стал бытом, и под пеплом поседела Россия. Но у нее молодые глаза и молодое сердце. Человек, привыкший сызмальства к избытку, не знает цены вещам. Новая Россия родилась в годы разрухи. Богатство прежде было достоянием немногих. Нельзя говорить о домнах Кузнецка, не напомнив, что в России накануне революции еще были курные избы — без труб. Крестьяне ходили в лаптях. Миллионы и миллионы неграмотных вместо подписи покорно ставили крестики. Легко понять, как дорожила Советская Россия началом достатка. Посаженные деревья только-только начинали приносить плоды, когда нагрянул враг. Мы уничтожали не просто добро — мы уничтожали добро, оплаченное героическим трудом, жертвами целого поколения. В Витебске горели склады сукна. Крым дышал запахом пороха и муската: старое вино впитала сухая земля. Люди жертвовали всем. Прошлым летом и осенью Россия кочевала. Кто видел эти караваны беженцев, никогда их не забудет. Люди молча уходили на восток. Шли украинские крестьяне, шли старые евреи из Белоруссии, шли актрисы по вязкой грязи дорог на высоких каблучках... Уходили за Волгу вагоны с машинами. Переезжали заводы. Переезжали города. Сложные станки оказывались в степи среди снега. Камерный театр, один из самых изысканных театров мира, ставил спектакли в пустыне возле Аральского моря. Ученые дописывали книги в теплушках. Киевляне распылились среди сел Средней Азии. Башкирия приютила школы Одессы. Сколько скрыто за этими словами горя, разъединенных семей, суровой жизни на бивуаках, самоотверженного труда! Враг уничтожал самое дорогое русскому сердцу. Немецкие бомбы искалечили северную Флоренцию — Новгород. Немецкие орудия калечат дворцы Ленинграда. Старые усадьбы и церкви, музеи и школы сожжены немцами. Гитлеровцы хотят умертвить самосознание русского народа, заставить его забыть свою историю: они уничтожают наши реликвии — от дома в Ясной Поляне до Бородинского музея. Они оскорбляют нас, превратив Одессу в захолустный румынский город и посадив наместником в Остланде балтийского проходимца Розенберга. На Западе гитлеровцы расстреливают, у нас они вешают. В Пушкине (так называется теперь Царское Село) в аллее, которую когда-то любил начинающий поэт, лицеист Пушкин, зимой висели русские люди, повешенные немцами. Я видел виселицу Волоколамска, я хочу забыть про нее — с такими воспоминаниями трудно жить, и я не могу забыть. Женщины в освобожденных селах бессвязно рассказывали мне, как у них на глазах убивали детей. Я ехал с товарищем по проселочной дороге. Товарищ вдруг сказал мне: «Не смотрите». Я посмотрел: возле обочины лежал труп женщины, одна грудь была отрезана. Мы пережили и это... Вокруг меня семьи со страшным зиянием: убит муж, сын, брат. Это никогда не зарастет. Так лет десять вокруг Вердена не росла трава: был снесен верхний покров земли. Женщины работают. У них сухие глаза. Ни одна вам не скажет о своем горе. А горе это простое и непоправимое: ее Вася или Петя убит. В этом горе сблизились люди всех языков. Я был на фронте, когда в роту пришло письмо от семидесятилетнего еврея Мордуха Шлемовича. Его сын, веселый и смелый Лейб Шлемович, был убит в начале мая — он гранатой подбил танк и пошел на второй, но здесь его убили. Старик писал: «Мне 70 лет. Возраст и здоровье не позволяют мне быть в рядах бойцов, но я горжусь, что мой Лейб, как и старшие мои сыновья, сражается в рядах Красной Армии. Если мой сын здравствует, то мне, как отцу, хотелось бы поддерживать с ним письменную связь. Но вот уже месяц, как я не получаю от него известий. Если же мой сын погиб в бою, то моя обязанность передать его двухлетнему ребенку любовь к родине и ненависть к фашизму, с которыми Лейб уходил на фронт. Прошу сообщить мне о моем сыне». Бойцы молча выслушали письмо, ничего не сказали. Но в тот же вечер шесть писем было написано старику. Русский ефрейтор Грачев писал: «Ваш сын умер как герой, и я хочу обнять вас и сказать вам спасибо от нашей роты и от нашей родины, что вы вырастили такого человека». А грузин Ираклий Мурадели написал трогательно, посвоему: «Кончится война — поедем жить к нам, в горы. У нас хорошо, будешь родным человеком». Нет жертв, перед которыми остановилась бы Россия, чтобы отстоять свою свободу. Прекрасен был День флага Объединенных Наций. Но как не напомнить, что в этот день флаг свободы развевался над истерзанным Севастополем, где люди в кромешном аду отбивались от десяти немецких дивизий и пятисот немецких самолетов? Как не напомнить о судьбе Ленинграда, пережившего жестокую зиму, об испытании голодом и холодом, о снаряде, падающем на детские дома, о великом городе Пушкина, Гоголя, Достоевского, который финские наемники, прикидывающиеся «борцами за независимость маленьких наций», клянутся снести с лица земли — немецкими снарядами? Год жертв. Год испытаний. Сегодня я был на заседании Верховного Совета. Я видел Сталина. Решимость в его глазах, уверенность в победе и боль за родной народ, за страну. Приехали делегаты отовсюду. Среди них много людей, которых я знаю. Они изменились — за сколько десятилетий будет зачтен один такой год? Но никогда Россия не была еще такой крепкой, как теперь: испытания ее закалили. Воюет поколение, твердо верившее в дружбу народов. Воюют люди, в свое время с волнением читавшие роман Ремарка, болевшие за лишения немецкого народа. Нелегко им было понять, кто перед ними. Не в нравах нашего народа ненавидеть противника. Наши молодые бойцы сначала верили, что перед ними обманутые люди, которые прозреют от первой листовки. Год войны все изменил. Ненависть, как уголь, жжет сердце каждого русского. Недавно в трамвае ехал боец-снайпер. Товарищ сказал про него: «Он застрелил 70 фашистов». И тогда старая женщина, вся седенькая, морщинистая, подошла к снайперу и с необычайной человеческой лаской сказала: «Спасибо!» Конечно, наши люди и до войны были патриотами. Но нелегко человеку понять, что такое воздух, — для этого его нужно кинуть в глубокую шахту. Русский народ не знал национального гнета, никто никогда не унижал русского за то, что он русский. Гитлеровцы помогли нашему народу осознать до конца, что такое национальное достоинство, что такое взыскательный, всепоглощающий патриотизм. Вся Россия теперь идет на Гитлера, и, если этот сумасшедший честолюбец способен задуматься, он должен устрашиться совершенного: он пробудил роковую для него силу. Жизнь до войны была трудной и легкой: трудной, потому что приходилось преодолевать бедность и техническую отсталость старой России, легкой, потому что все дороги были открыты любому юноше. Я помню, как лет восемь тому назад подростки, кончившие среднюю школу, говорили мне о своей детской «драме»: кем стать — инженером, летчиком, писателем? Люди, которым теперь 20–25 лет, были неженками. Отцы говорили: «Мы выстрадали для них жизнь, пусть живут». Молодым не приходилось прокладывать путь, они шли по годам, как по шоссе. Не человек искал работу, работа искала человека. Прошел год. Наши юноши стали суровыми солдатами. Они идут с бутылками на танки и таранят вражеские самолеты. Мы многое потеряли за этот год: мир, уют, близких. Мы многое за этот год обрели: ясность мысли, плодотворную ненависть, огонь патриотизма, завершенность, зрелость каждого человека. Россия в гимнастерке, обветренная, обстрелянная — это все та же бессмертная Россия и это новая Россия: она заглянула в глаза победе. Прошел год с той июньской ночи. Мы были одни. Мы выдержали на себе весь удар германской армии. Мы дали возможность англичанам собраться с силами, достроить армию, усилить военное производство. Вся наша эпопея от подвига Гастелло до обороны Севастополя позволила Америке продумать мировую трагедию, продумать ее в еще не затемненных городах и послать через океан те транспорты, которые завтра станут вторым фронтом. Все наши жертвы, от развалин Новгорода до осиротевшего дома колхозницы Марии Сундуковой, потерявшей на войне семерых сыновей, позволили англичанам подготовить операции на континенте тщательно, во всех деталях. Немецкие плоты, угрожавшие Англии, теперь на Азовском море. Прошел год. Мы выстояли. Мы ждем боевых друзей. Крепость России Ленинград больше Ленинграда. Ленинград — это Россия. Здесь впервые русский народ выпрямился во весь рост. Здесь избяная Русь стала державой. Хороши деревянные домики, но настал день, и северная столица России покрыла топь гранитом. Сонной жизнью жили когда-то Суздаль и Владимир. Россия проснулась и двинулась к морю. Так вырос Петербург. В нем много камня, и люди в нем крепкие как камень. В нем слышен запах моря, и люди в нем смелые, как моряки. Город шел впереди страны, дважды с него началась наша история: при Петре, при Ленине. Это город ученых, мозг страны. Это город Пушкина, Гоголя, Достоевского, и нет в мире человека, который не знал бы, что такое Невский проспект. Это город путиловцев, город, где Ленин говорил с рабочими и где пушки «Авроры» говорили с веками. Это самый прекрасный город мира, и построить такой город мог только великий народ. «Мы возьмем Петербург, как мы взяли Париж», — писала прошлой осенью газета «Берлинер берзенцайтунг». Глупые слова! Немцы никогда не брали Парижа. Париж им сдали предатели. Немцы вошли в Париж, как входит приезжий в гостиницу, — перед ними распахнулись все двери. А Ленинград не гостиница, Ленинград — крепость, и немцы не вошли в Ленинград. Осенью обер-лейтенанты обсуждали, где они разместятся: в Зимнем дворце или в гостинице «Астория». Их разместили в земле. Немцы особенно ненавидят Ленинград. Для них этот город — символ русской мощи. Никто никогда Ленинграда не завоевывал. Из Петербурга русские диктовали мирные условия побежденному Берлину. В Петербург приезжали немецкие колбасники и немецкие парикмахеры, кормились с русского стола. Но когда в восемнадцатом году на Петроград двинулись немецкие генералы, рабочие Питера их встретили хорошим пулеметным огнем. В немецком военном учебнике сказано: «Ленинград не защищен никакими естественными преградами». Глупцы, они не знали, что Ленинград защищен самой верной преградой — любовью России. Немцы захотели отомстить Ленинграду. Они ранят его изумительные памятники. Они убивают его женщин и детей. Они стараются задушить неукротимый город. Но Ленинград не один. С Ленинградом — Россия. Кто на переднем крае? Вот украинец. Он дерется за нашу северную столицу. Он знает, что среди отважных бойцов, которые теперь сражаются на юге, немало ленинградцев. А рядом с украинцем — рабочий-сибиряк, пастух из Армении, колхозник из Поволжья, еврей. Эти люди говорили на разных языках, теперь они на одном языке повторяют: — За родину, за Ленинград! Год воюет Россия. Год воюет Ленинград. 22 июня 1941 года немцы смотрели на минутную стрелку. Теперь они перестали смотреть и на календарь. Они перешли нашу границу с картами Урала и Сибири. Теперь они скромно говорят: «Мы должны защищать Германию». Год тому назад они пели: «Ха-ха-ха! Это веселая война». Теперь им не до песен, теперь за них поет наша «катюша». Они хотели смести с лица земли Ленинград. Ленинград много пережил, но Ленинград жив. А что стало с Кельном? С Любеком? С Эссеном? С Ростоком? Берлину не спится, Берлин знает, что он ответит сразу за все — за Лондон и за Ленинград. У английских летчиков хорошие фугаски в две тонны. От таких даже немцы умнеют. О русских артиллеристах правильно говорят: «Эти попадут и комару в глаз». Германия хотела окружить Ленинград, выдать его своей солдатне. А теперь немцы под Ленинградом тоскливо озираются. За их спиной призрак второго фронта. Окружат Германию, и крепко окружат! Час расплаты близится. Защитники Ленинграда не одни. С ними — Англия, с ними — Америка. Зачем отправляются каждый день американские солдаты в Англию? Не обозревать достопримечательности — воевать. Зачем Америка изготовляет каждый месяц пять тысяч самолетов? Не копить машины — бить немцев. Вот и лето. Это — время гроз. Гитлер не может ждать. Каждый день работает против него. Гитлер попробует наступать. Он все поставит на карту. Скорпион, издыхая, кусается, но наши бойцы научились бить немецких скорпионов. Год не прошел зря. Он принес нам много горя, и это горе нас закалило, у нас теперь каждая деревня стала непобедимой, как Ленинград. Наша страна была мирной страной. Немцы ее обидели смертной обидой, кровью русских детей, пеплом русских городов. И Россия стала страной в солдатской шинели, страной с винтовкой, страной-дотом. О ленинградский гранит сломал себе зубы немецкий пасюк, жадная крыса — Гитлер. За раны Ленинграда гитлеровцы ответят на Рейне и на Одере. Еще раз по врагу, защитники Ленинграда! К вам на помощь идут сыны России, корабли мира, самолеты свободы. За Ленинград мстят английские летчики, на Ленинград работают рабочие Урала. За Ленинград воюет Россия. Века будут немцы проклинать тот час, когда припадочный ефрейтор привел их к берегам Невы. Века будут вспоминать наши внуки ваши подвиги, защитники Ленинграда! 22 июня 1942 г. «Каштанка» Мы часто употребляем слова условно, не задумываясь, подходят ли они к случаю. Так гитлеровцев иногда называют «собаками». А вот передо мной Жучка, мохнатая лайка с добрыми карими глазами. Она спасла немало раненых бойцов. Нет в ней ничего общего с жестокими и низкими существами, которые приползли на нашу землю, и обладай Жучка даром речи, она, наверно, сказала бы своему вожатому: «Не зови ты немцев собаками». Издавна собаку окрестили четвероногим другом. Она помогала и пастуху, и охотнику, и пограничнику. Ум собаки и терпение ее воспитателя делают чудеса. Все знают, как собаки-водолазы спасают тонущих или как сенбернары выручают путников, замерзающих в горах. Кто зимой не видел на фронте нартовых собак? Это русские лайки, пушистые, ласковые, выносливые. Они спасли тысячи и тысячи жизней. В лесу по глубокому снегу четыре лайки быстро, но осторожно везут лодочку с раненым. Машины не могут проехать, лошади не проходят, а собаки совершают по нескольку рейсов в день. Помню одну упряжку. Лайки замечательно работали, только иногда Шарик ворчал на Красавчика — они были в ссоре, но знали, что теперь не до драки, и ворчали вполголоса. В лодочке лежал раненый лейтенант, любимец роты: осколок мины разбил колено. Один из бойцов подошел к псам, погладил их и серьезно сказал: «Молодцы, что довезли...» На одном участке Западного фронта отряд нартовых собак перевез за месяц 1239 раненых и доставил на передний край 327 тонн боеприпасов. Передо мной записка, нацарапанная наспех карандашом: «Наша часть, наступая, несет потери. В церкви скопилось много раненых. Вывезти не на чем. Если можно, сейчас же пришлите нартовых собак. Положение серьезное. Командир медсанбата». Собаки поспели вовремя и вывезли раненых. Собаки выручали и в заносы, и в распутицу. Теперь собаки тащат упряжки на колесах. Они пробираются по лесу между кустами. Их не пугают ни мины, ни пули. Я знаю лайку Мушку. Осколок мины оторвал у нее ухо, но она продолжает работать. Это обстрелянная собака. При сильном огне она не идет, но ползет. Другие собаки явно уважают Мушку и следуют ее примеру. Мушка вывезла много раненых. Недавно один боец отдал ей свой кусок мяса и задумчиво сказал: «Как будто она... А может, и не она — похожая... Вот такая меня спасла возле Ржева...» Есть собаки по природе приветливые, общительные, они незаменимые помощники санитара. Было это возле Сухиничей. Шотландская овчарка Боб в белом халатике ползла по поляне. Короткая пауза между атакой и контратакой. Раненые попрятались в ямах или в воронках. Боб отыскал шестнадцать раненых. Найдя человека среди снега, Боб ложится рядом и громко, взволнованно дышит: я здесь. Боб ждет, не возьмет ли раненый перевязку: на спине у собаки походная аптечка. И Бобу не терпится — скорей бы взять в зубы брендель (кусок кожи, подвешенный к ошейнику, — знак того, что собака нашла раненого) и поползти к санитару: иди сюда... Боб нашел семнадцатого — лейтенанта Яковлева. Когда собака поползла за санитаром, начался обстрел из минометов. Осколок оторвал у Боба сустав передней лапы. Он все же дополз до хозяина, не выпуская изо рта бренделя, торопил: скорей за мной!.. Есть и другие собаки, с характером угрюмым, недоверчивым. Эти превосходно охотятся за «кукушками». Барс открыл трех немецких автоматчиков, четвертый застрелил Барса, но тем самым выдал себя и был снят снайпером. Видал я и другого охотника за «кукушками» — Аякса. Это крупная, отнюдь не приветливая овчарка. Аякс не выносит немецкой формы, серо-зеленая шинель приводит его в ярость. Кроме того, Аякс считает, что человеку не подобает сидеть на дереве. Для него самое большое удовольствие прочесать лес. Я не знаю, можно ли перевоспитать молодых гитлеровцев. Сомневаюсь. Но немецкую собаку наши перевоспитали. Ее взяли вместе со штабными бумагами. Она занималась низким делом: искала партизан. Теперь этот пес, прозванный «Фрицем», ищет «кукушек». В январе гвардейский стрелковый полк оказался в тылу у врага — под Вереей. Проволочная связь часто рвалась, радиоустановки были разбиты. Связь поддерживали четырнадцать собак. Собаки ползли по открытой местности под ураганным минометным огнем. Здесь погибла овчарка Аста, она несла из батальона на командный пункт полка донесение: «Огонь по березовой роще». Аста, раненая, доползла до своего вожатого Жаркова. Положение было восстановлено. В тот самый день был ранен Жарков. Однажды собака Тор принесла следующее донесение: «Залегли. Не можем поднять головы — сильный обстрел». Тор понес назад приказ: «Людей поднять. Вести наступление». Два часа спустя гвардейцы вошли в Верею. Комиссар полка Орлов говорит: «Собаки нас выручили под Вереей...» Как не вспомнить рыжего эрдельтерьера Каштанку? Раненная в голову, с разорванным ухом, истекая кровью, Каштанка подползла к вожатому: доставила в батальон донесение. Ее забинтовали и отослали назад: другой связи не было. Две недели, забинтованная, она поддерживала связь с резервом. Было это возле Нарофоминска. Там Каштанка и погибла от снаряда. Многие бойцы ее помнят. Связная собака предана долгу, ее не остановят ни пуля, ни птица в кустах, ни река, ни смерть: она спешит с донесением. Она пробегает, а под огнем, маскируясь, проползает два-три километра. Красноармеец Козубовский добился, что его собака поддерживает связь между двумя пунктами, расположенными на линии огня и отстоящими один от другого на шесть километров. Когда наши защищали высоту Крест, эрдель Фрея проделала тридцать три рейса — семьдесят километров. В последний раз Фрея принесла донесение смертельно раненная: осколок мины раздробил ей челюсть. Что добавить к этому простому рассказу? На войне люди больше, чем когда-либо, ценят верность. Мы все помним прекрасный рассказ Чехова «Каштанка». Теперь Каштанка спасает раненого хозяина. 25 июня 1942 г. Севастополь Двадцать три дня... «Севастополь все еще держится» — эти слова облетают мир и наполняют гордостью ревнителей свободы. В первые дни немецкого штурма враги, друзья, сторонние наблюдатели взвешивали шансы двух сторон. Силы были неравными, и военные обозреватели предсказывали: «Вопрос трех дней, может быть, одной недели...» Немцы тогда хвастали: «Пятнадцатого июня мы будем пить шампанское на Графской набережной». Они знали, сколько у них самолетов, они знали, как трудно защищать город, отрезанный от всех дорог. Они забывали об одном: Севастополь не просто город. Севастополь — это слава России. Развалины. Чудом уцелевший памятник Ленину смотрит на пожарище. Статуя выстояла — как душа нашей родины. Севастополь — островок. С трех сторон — немцы, с четвертой — вода, запруженная немецкими минами, кипящая от немецких снарядов, вода, над которой висят немецкие самолеты. Севастопольцы теперь зовут Краснодар или Новороссийск «Большой землей». Две тысячи самолетовылетов в день — немцы бомбят и бомбят. Двадцатичетырехдюймовые мортиры. Двенадцать, пятнадцать вражеских дивизий, и все же Севастополь держится. Мы видали капитуляцию городов, прославленных крепостей, государств. Но Севастополь не сдается. Наши бойцы не играют в войну. Они не говорят: «Я сдаюсь», когда на шахматном поле у противника вдвое, втрое больше фигур. В начале июня немцы, разнежившись на солнце, ухмылялись: им сказали, что через три дня они будут в Севастополе. Курт Кунзевиц, проживающий в Брауншвейге, писал своему брату, ефрейтору Отто: «Желаю тебе поскорее оказаться в Севастополе, а там не стесняйся. Если увидишь кого-нибудь подозрительного — к стенке! Жалеть их нечего. И без церемоний гони всех вон из домов. Бери хлеб, яйца, а если посмеют ворчать, стреляй в них, и все тут. Смерть для русских самое подходящее лекарство». Одиннадцатого июня Отто Кунзевиц испустил свой дух под Севастополем: вместо яичек он получил гранату. Смерть оказалась хорошим успокоительным лекарством для многих немцев. Супруга обер-фельдфебеля Людвига Рейхерда пишет мужу: «Мне снилось, что я тебя искала возле Севастополя и не могла найти — повсюду могилы, могилы. Какой кошмар!..» Симферополь забит искалеченными немцами. Ялта пахнет карболкой. Обер-лейтенант Оскар Грейзер пишет в дневнике, найденном нашими бойцами под Севастополем: «Возле Бахчисарая есть долина, которую местные жители называют Долиной Смерти. Теперь она оправдала свое наименование: там покоится значительная часть населения Эрфурта, Иены и моего Эйзенаха...» Пленный Кнейдлер хнычет: «Мы не ожидали такого сопротивления. Тут каждый камень стреляет. Просто чудо, как я вышел живым из такого ада...» А другой пленный, Клейн, признается: «Вначале у нас было настроение боевое. Теперь наши солдаты ужасно нервничают. Многие сомневаются: можно ли взять этот проклятый город!..» Да, немцы разнервничались: они не ожидали, что под Севастополем они увидят севастопольцев. В суеверном страхе немцы называют наших моряков «черной смертью». Недавно один моряк уничтожил тридцать немцев. Его принесли, раненого, в лазарет. Тельняшка была красной. Кругом повторяли: «Вот молодец — один против тридцати!..» Моряк ответил: «Не знаю. Я их не считал — я их бил». Командир батареи защищал высоту. Не было больше снарядов. А немецкие танки обтекали холм. И командир передал: «Прошу открыть огонь по мне». Одна рота отбила три танковых атаки. Немцы пошли в четвертую. Головной танк прорвался к нашим окопам. Тогда политрук Ткаченко, с гранатами на поясе, бросился под танк. Бойцы усилили огонь, и остальные танки повернули обратно: четвертая атака была отбита. Немцы заняли наши окопы. Бойцы начали отходить. Но политрук Гакохидзе, с винтовкой и с гранатами, ринулся вперед. За ним побежали три бойца. Политрук, ворвавшись в окоп, швырнул две гранаты, заколол немецкого офицера и трех солдат. А потом, схватив ручной пулемет, он начал в упор расстреливать немцев. Четыре героя уничтожили семьдесят немцев. Потерянные окопы были отвоеваны. «Чудо», — говорят о защите Севастополя газеты всего мира. Военные обозреватели ищут объяснения, пишут о скалах, о береговых батареях. Но есть одно объяснение чуду под Севастополем — мужество. В истории останется поединок небольшого гарнизона с пятнадцатью вражескими дивизиями. 30 июня 1942 г. Писатель-боец Мы понесли большую потерю: погиб большой писатель и чудесный человек Евгений Петров. Он принес в советскую литературу фантазию юга и глубоко человеческий, просветляющий душу юмор, который роднит его с традициями русских классиков. Он умел видеть: у него были не только глаза художника, но и сердце художника. Он сразу подмечал те как бы незначительные детали, которые определяют характер человека или вещи. Он умел разбираться в сложности жизни. Он видел и нашу советскую стройку, и старый Париж, и энергию Нового Света. Нужно быть тонким наблюдателем, чтобы в стране небоскребов разглядеть одноэтажную Америку. Нужно быть настоящим художником, чтобы в шуме войны услышать лирические признания бойца-героя. Евгений Петров был веселым человеком, влюбленным в жизнь. Его оптимизм был коренным: не программой, но природой. Ему хотелось, чтобы жизнь была еще лучше, чтобы людям жилось легче. Он об этом говорил страстно, весь загораясь. Он понимал, что мешает человеку — косность, мещанство, чиновничий футляр. Он боролся с этими противниками человеческого. Он не был едким сатириком, он не бичевал, но в его ласковом юморе была сила, которая помогала людям крепче бороться и сильнее любить. Такому человеку жить бы да жить — создан он был для счастья. А погиб он на боевом посту, погиб, потому что любил жизнь, любил друзей, любил родину. С первого дня войны он знал одну страсть: победить врага! Он не отошел в сторону, не стал обдумывать и гадать. Он был всюду, где был наш народ. Его видели защитники Москвы в лихие дни ноября. Он был в освобожденном Волоколамске. Как-то зимой он поехал к Юхнову, вернулся контуженый, но, как всегда, бодрый, говорил: «Юхнов возьмем...» Недавно он побывал на далеком севере, у Мурманска. Я был с ним, когда его спросили: «Хотите в Севастополь?» Он весь засиял: «Конечно!» Это было две недели тому назад. Петров знал, что дни Севастополя сочтены, но он хотел донести до нашего народа, да и до всего мира, рассказ о беспримерном мужестве севастопольцев. Он писал для «Правды», для «Красной звезды». Весь год войны он посылал свои очерки в Америку, они печатались в сотнях крупнейших газет. Они рассказывали американцам о доблести Красной Армии. Петров знал Америку и находил слова, которые доходили до самого сердца его заатлантических читателей. Своими телеграфными очерками он подбодрял рабочих, которые изготовляли самолеты и танки, он придавал бодрости американским солдатам, которые готовились к дальнему плаванию и к трудному европейскому походу. Петров много сделал, чтобы открыть Америке правду нашей войны. Петров много сделал для нашей победы. Евгений Петров писал романы вместе с безвременно умершим Ильфом. Кто не знает «Двенадцати стульев», «Золотого теленка»? Теперь миллионы читателей Петрова и Ильфа сражаются за родину. Они разделяют горе советских писателей. С гордостью за нашу литературу они подумают: Евгений Петров был с нами... Не случайно последней главой в жизни Петрова была героическая защита Севастополя. Огонь краснофлотцев как бы кидает свой отблеск на черную ночь, куда ушел от нас Петров. Свое имя он связал с Севастополем — для нас и для истории. Мы узнали о смерти писателя в трудные дни, когда враг, чувствуя свою неминуемую гибель, страшась второго фронта, напрягает все силы, чтобы ворваться в глубь России. Читатели в гимнастерках, друзья-бойцы, вспомните веселые довоенные дни, когда вы читали об Остапе Бендере и об автомобиле-гну. Вспомните газетные листы с рассказами Петрова о героях нашего зимнего наступления. Ваша горечь за потерю любимого писателя придаст вам силы. За все мы отплатим немцам. И за Евгения Петрова. 5 июля 1942 г. Отобьем! Наш народ закалился за год войны. Он узнал горечь осеннего отступления. Он узнал гордость зимних побед. Он понял, что разбить немцев нелегко, и он понял, что немцев можно разбить. Нас постигла военная неудача: немецкие танки прорвались к степям Средней России. Над родиной снова сгрудились грозовые тучи. Народ, переживший победы у Ростова, у Калинина, у Можайска, не хочет тешить себя иллюзиями. Он видит опасность, и он говорит: отобьем! Опасность велика. Колосятся пышные нивы черноземного края. Захолустные города стали крупными промышленными центрами. Как кровеносная артерия, магистраль соединяет Москву с Ростовом. Враг грозит пожрать хлеб, захватить заводы, перерезать артерию. Немецкие солдаты приободрились: перед ними невытоптанные нивы, несожженные села, неразграбленные города. Крысы ползут на восток: их ведет голод. Немецкие танкисты уже приготовили мешки для добычи. Немецкие палачи уже сколачивают новые виселицы. Мы отобьем немцев. Мы отбили их в самые страшные месяцы осени. Тогда враг был сильней. Он шел вперед, уверенный в своей победе: он помнил о Седане, о Дюнкерке, о Крите. Теперь враг не тот: на его щеке клеймо декабрьского разгрома. Прошлой осенью на нас шли кадровые дивизии Гитлера, цвет германской армии, молодые головорезы. Эти сгнили в русской земле. Теперь на нас идут пестрые дивизии, сорокалетние, подростки, разноплеменные наемники. Мы устояли перед лучшими полками Гитлера, неужели мы не устоим перед его новыми частями? Нет, наши бойцы не осрамят знамен гвардии! Нет, наши бойцы не потревожат сна героев, погибших за Москву! Мы должны остановить немцев, и мы их остановим. Гитлер хотел наступать весной. Защитники Севастополя вырвали у Гитлера драгоценный месяц — июнь. Гитлер начал свой весенний поход в июле. Он поздно начал. Мы должны его заставить рано кончить. Мы должны отбить немцев. Прошлой осенью у нас было куда меньше танков, чем у немцев. Немецкие бомбардировщики тогда нагло прорезали наше небо. Трещали немецкие автоматы. Теперь не то. Конечно, враг накопил танки для прорыва. Но разве мало у нас замечательных танков? Теперь наши истребители гонят немцев с неба. Теперь наши бомбардировщики жгут немецкие танки. Теперь у нас много автоматов, бронебойных ружей, минометов. Теперь мы обязаны отбить немцев. И мы их отобьем. Прошлой осенью многие бойцы не знали, кто перед ними. Они думали, что гитлеровцы — это люди. Теперь нет человека, который не знал бы, что такое гитлеровец. Мы увидели виселицу Волоколамска. Мы увидели пепелище Истры. Мы увидели девушек с отрезанными грудями и детей, распиленных на куски. Настали грозные дни. Это возврат немецкой лихорадки. Но второй приступ слабее первого. Мы выдержали первый. Мы должны выдержать второй. Если есть среди нас малодушный, скажем ему: не срами своей матери! Один боец, заколебавшись, может погубить роту. Одна рота может погубить полк. Немец видит перед собой непроходимую стену: это ваша армия. Немец ищет в стене слабое место. Он хочет пройти. Мы его не пустим. Мы его остановим. Мы его отгоним от захваченных городов — их свежие раны еще дымятся. По всем фронтам, как пропуск, пройдут крылатые слова: «На выручку!» Не за тот или иной город началась битва — за Россию. Опять на нее занес свою гнусную руку Гитлер. Друзья, вы отбили немца в трудные дни декабря, когда он подошел к пригородам Москвы. Отбейте его теперь! Битва только-только разгорается, и слышно в грозовой ночи: — Отобьем! 8 июля 1942 г. Отечество в опасности 14 июля парижский народ взял зловонную Бастилию. Разрушив тюрьму, люди танцевали: они радовались свободе. Легко было взять Бастилию. Труднее было отстоять свободу от хищных соседей. Пруссаки и австрийцы вторглись во Францию. Молодой республике грозила смерть. Тогда патриоты обратились к народу с бессмертными словами: — Отечество в опасности! Солдаты республики при Вальми разбили врага и отстояли свободу своей родины. Полтораста лет спустя пруссаки снова вторглись во Францию. Что делали французы? Они безмятежно ждали событий. Они подсчитывали, сколько квадратных километров у Германии, с одной стороны, у союзников, с другой стороны, и они благодушно повторяли: «Мы сильнее». Никто не напомнил французскому народу в те роковые дни, что отечество в опасности. Немцы вошли в Париж, и ужасы Бастилии померкли перед ужасами немецких тюрем. Год тому назад, в июльское утро, Сталин сказал советскому народу: отечество в опасности! С тех пор прошло много дней. Мы узнали превратности войны. Мы пережили поражения и победы. Мы отстояли Москву. Мы побили немцев, но мы их не добили. Накопив силы, немцы снова двинулись на восток. Глядя на карту, мы сейчас чувствуем священную тревогу: отечество в опасности! Немцы подошли к Богучару. Они рвутся дальше — к солнечному сплетению страны — к Сталинграду. Они грозят Ростову. Они зарятся на Кубань, на Северный Кавказ. Преступно не видеть угрозы и преступно растеряться от угрозы. Красная Армия найдет в себе силы преградить путь жадному врагу. Немцы грозят не тому или иному городу, не тому или иному краю. Угроза повисла над всей страной. На берегах Дона, в южной степи, сибиряк защищает Сибирь и уралец — Урал. Казах сражается за свою степь и армянин — за свои горы. Немецкий клинок впился в южные просторы России. Бойцы Красной Армии выбьют клинок, отгонят немцев. Нет десяти фронтов, есть один фронт. Можно на Волхове отстаивать Дон. Можно под Гжатском драться за Сталинград. Бойцы, в ваших руках судьба родины, в руках каждого стрелка, каждого наводчика, каждого танкиста! Немцы торопятся. Немцы теперь воюют по минутной стрелке. Не пропустим драгоценного времени! Вспомним прекрасные слова Петра Великого: «Промедление смерти подобно». Победа не валяется на земле. Победа не падает с неба. Победу нужно высечь из камня, вырвать из тверди. Часто человек бывает малодушным перед ничтожной болезнью, перед житейской неприятностью. Но теперь идет вопрос о жизни и смерти. Кто выдаст свою дочь насильникам? Кто отдаст своего брата палачам? Кто даст дом матери немецким «факельщикам»? Кто даст Россию немцам? Отечество в опасности, друзья! Все на немца. 14 июля 1942 г. Трудный путь Гигантская битва в донских степях не затихает ни на час. Мы с горечью видим, как на отдельных участках фронта наши части отходят под натиском неприятеля. Мы с радостью следим за нашими частями, которые стойко отражают атаки немцев, переходят в контратаки и отбивают у врага потерянную территорию. На войне нужно уметь все пережить. Слабое сердце легко переходит от отчаянья к благодушию и от благодушия к отчаянью. Но на войне земля становится блиндажом, и даже самое слабое сердце на войне закаляется, как сталь. Может быть, наивные люди в далеком тылу зимой думали, что германская армия уже уничтожена. Бойцы, гнавшие немцев от Калинина и от Можайска, знали, что далек и труден путь к победе. Может быть, теперь в далеком тылу некоторые неврастеники думают, что немцы победили. Бойцы знают, что даже самые блестящие успехи немцев не приблизили их к победе: против них — Красная Армия, которая сражается и которая победит. 3 октября 1941 года Гитлер сказал, что Красная Армия уничтожена и что через несколько недель война будет закончена. Два месяца спустя Красная Армия перешла в наступление. На войне нельзя шаманить: криками «победа» не победишь. Победу нельзя вытянуть из мешочка: война не лотерея. Победу строят. Победу добывают. Победу берут с боя, как дот, как высоту. По сравнению с битвами на нашем фронте бои в Африке небольшие сражения, но и в них нелегко добиться решающих успехов. Немцы однажды уже переходили через границу Египта. Они однажды уже присматривались к гостиницам Каира. Вскоре после этого они оказались за Бенгази. Англичане ослабили напряжение и в течение нескольких недель потеряли Ливию. Две недели тому назад немцы говорили: «Скоро мы будем в Александрии». Англичане собрались с духом и остановили танки Роммеля. Плохого солдата неудачи валят на землю. Хороший солдат на каждой неудаче учится. Старые фронтовики, пережившие осеннее отступление, многому научились. Молодые бойцы, недавно получившие свое боевое крещение, выйдут из битв сильными и умудренными. Год тому назад немцы были много сильнее нас. Немецкие командиры тогда обладали большим боевым опытом. Немецкие солдаты тогда слепо верили в победу. Они не знали дотоле поражений. Мы отступали, но мы отступали с боем. Мы нашли в себе достаточно силы, чтобы в последний, двенадцатый час в пригородах священной Москвы остановить врага и нанести ему жестокий удар. Теперь мы ведем бой в лучших условиях. Правда, нам еще не хватает порядка, точности, железной дисциплины. Но наша армия хорошо вооружена. Наши командиры и бойцы приобрели известный опыт. Немецкие солдаты растеряли на дорогах отступления долю своей спеси. Наши бойцы увидели, что у немца имеется не только чванливая морда, но и жалкий зад. Теперь мы должны остановить немцев, и мы их остановим. Прошлым летом мы воевали по немецкому календарю. Мы говорили: «Немцы решили закончить войну в три недели. Немцы заявили, что будут в Москве 15 августа. Немцы говорят, что они возьмут Ленинград 1 сентября». Теперь немцы молчат о датах. Теперь немецкие газеты пишут о новой зимней кампании. Они не взяли нас с нахрапу. Они не возьмут нас и в тяжелом, долгом бою. Хорошие танки КВ. Прекрасные противотанковые ружья Симонова. Отменные у нас штурмовики. Но решит победу человек, его стойкость, его ум, инициатива, дисциплина. Мы должны победить, потому что не сравняться презренному фрицу, насильнику и вору, с советскими людьми. Но победа не дастся легко, не придет сама собой. Говорят, что каждый — своего счастья кузнец. Скажем: каждый — кузнец счастья родины, каждый — кузнец победы. Долго уже длится эта проклятая война. Кто из нас забудет тот день, когда на нас напали немцы? Жили мы до войны каждый своей жизнью, были у нас и радости и горести. Но кто теперь не улыбнется, вспомнив огорчения довоенных дней? Немцы оторвали нас от любимого дела, от родного дома, от жены, от детей. Немцы осквернили нашу землю, раскидали семьи, разорили наше гнездо. Мы хотим как можно скорее покончить с народным горем. Идут часы истории, от нас зависит, как они пойдут. Трудно сейчас бойцам в донских степях: Гитлер бросил против них десятки танковых дивизий. Но смелость не только берет города, смелость крошит танки. 16 июля 1942 г. Сильнее смерти Орган эсэсовцев «Шварце кор» в передовой 9 июля рассуждает: «Опыт научил нас считаться с упорством противника, поэтому неправильно торопиться регистрировать недели войны, километры завоеванной территории, число пленных... Прежде всего, нужно примириться с особенностями большевистского человека, к которому следует подходить с новой меркой. В отдельном человеке отражается упорство всей системы, не знающей компромисса. Нам, европейцам, кажется феноменальным, что большевистские солдаты месяц за месяцем идут в наступление, на верную смерть и, не задумываясь, жертвуют жизнью в обороне. Капитуляций окруженных частей, крепостей, опорных пунктов — этих нормальных явлений всех прочих войн — в СССР не бывает. Пленных удается брать только в тех случаях, когда враг полностью рассеян. Откуда берется это непонятное ожесточение? Здесь действуют силы, которым нет места в мире наших обычных представлений... Нужно предполагать, что у большевистского человека есть вера, помогающая ему совершать невероятные вещи...» Палачи Гиммлера ошеломлены: русское сопротивление им кажется нарушением всех правил игры. Они считают, что Россия должна была сдаться, как Франция, и они пожимают плечами: откуда такое упорство?.. Эсэсовцы привыкли иметь дело с малодушными или с предателями. Они негодуют: почему Севастополь не капитулировал? Почему москвичи не вышли навстречу фон Боку с ключами города? Почему Ленинград не понял «нормальных» явлений и не пустил на Невский немецких ефрейторов? Почему защитники Воронежа, вместо того чтобы сдаться в плен, истребляют немцев? Откуда это ожесточение? На помощь эсэсовцам приходит Геббельс. Он объясняет в газете «Дас рейх»: «Большевистская армия иногда сражается с почти животным упорством. Она обнаруживает презрение к смерти, которое является более чем примечательным». Колченогий выписывает слова «презрение к смерти», не понимая всей глубины их значения. Он не в силах объяснить эсэсовцам, в чем та «вера» наших бойцов, о которой говорит «Шварце кор». Таинственной книгой за семью печатями остается душа нашего народа для немецких грабителей. Они не понимают, что ведет наших людей в бой. Скажем прямо: любовь — любовь к семье, любовь к родине, любовь к жизни. Нет силы выше, чем настоящая любовь. Данте сказал, что она движет небесными светилами. Мы скромно добавим, что она испепеляет железные чудовища, которые рвутся к нашим городам. Я получил сегодня письмо от бойца-казаха. Я приведу его: в нем ответ на вопрос, поставленный газетой Гиммлера. Красноармеец Асхар Лекеров пишет: «Ваша статья «Июнь» мне много напомнила. Я сидел в тесной, сырой землянке, но мне казалось, что я сижу в большом театре мира. Передо мной проходила на экране жизнь казахского народа. Страна бывших пастухов. Голод. Кочевники в голодной степи. Ныне цветущий край... Я вспомнил июнь 1941 года. Я тогда находился в своем колхозе. До революции это место называлось Батбах, то есть болото. Из горы текла маленькая речка, ее тоже звали Батбах. Никто здесь не жил — говорили, что нельзя жить. А сейчас на берегу этой речки новое колхозное село, около ста тридцати дворов, громадная школа-семилетка, клуб. И при каждом доме огород — бахши. А между прочим, до революции казахский народ даже не имел понятия, что такое картошка или помидоры. Четыреста гектаров посевной площади, десять тысяч овец, шестьсот коров, семьсот лошадей — вот это картина Батбаха в июне 1941 года. Я люблю родной край, родную землю, люблю мой Батбах. Хочу купаться в речке Батбах... И я вам прямо скажу, товарищ Эренбург: я хочу жить после победы над врагом. Но когда жаркая схватка с врагом, я про все забываю. Меня волнует одна мысль: разбить, уничтожить палачей. Во мне кипит кровь. Простой маленький казах превращается в непобедимого громадного борца. После мне самому смешно... Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть, как герой, как Чапай, — тогда хотя бы наши вспомнят, что такой-то погиб в геройском бою с фашистами». Это простодушное, глубоко человечное письмо справедливо говорит о силе нашего бойца. Что движет казаха Асхара Лекерова? Любовь к его краю, к пастбищам, к горной речке, к тому большому миру, который открылся для всех народов нашей родины после Октября. Бойца Асхара Лекерова ведет в бой также лютая ненависть: он знает, кто разлучил его с родными местами, с близкими; он зовет немцев палачами: это палачи нашей родины. Родина говорит каждому бойцу: «Стой, держись — и ты победишь. Стойкие побеждают. Трусы гибнут. Родина будет жить — и ты будешь жить!» Асхар Лекеров любит жизнь, как любит жизнь каждый советский человек. Он не хочет умирать. Он ищет не смерти, но победы. И вот эта любовь к жизни позволяет нашим бойцам идти навстречу смертельной опасности. Может быть, последней мыслью бойцов, которые, обвязавшись гранатами, бросались под танки, чтобы преградить путь врагу, было: до чего чудесна жизнь!.. Асхар Лекеров пишет, что простой казах становится в священном пылу боя непобедимым и огромным. Это правда. Казах, или русский, или украинец — все они становятся одним непобедимым и огромным народом. Это позволяет нам отбивать атаки немецких танков; Это позволяет нам и теперь, в трудные дни нового испытания, сказать: наш народ непобедим. 18 июля 1942 г. Убей Вот отрывки из трех писем, найденных на убитых немцах. Управляющий Рейнгардт пишет лейтенанту Отто фон Шираху: «Французов от нас забрали на завод. Я выбрал шесть русских из Минского округа. Они гораздо выносливей французов. Только один из них умер, остальные продолжают работать в поле и на ферме. Содержание их ничего не стоит, и мы не должны страдать от того, что эти звери, дети которых, может быть, убивают наших солдат, едят немецкий хлеб. Вчера я подверг легкой экзекуции двух русских бестий, которые тайком пожрали снятое молоко, предназначавшееся для свиных маток...» Матаес Цимлих пишет своему брату ефрейтору Генриху Цимлиху: «В Лейдене имеется лагерь для русских, там можно их видеть. Оружия они не боятся, но мы с ними разговариваем хорошей плетью...» Некто Отто Эссман пишет лейтенанту Гельмуту Вейганду: «У нас здесь есть пленные русские. Эти типы пожирают дождевых червей на площадке аэродрома, они кидаются на помойное ведро. Я видел, как они ели сорную траву. И подумать, что это — люди!..» Рабовладельцы, они хотят превратить наш народ в рабов. Они вывозят русских к себе, издеваются, доводят их голодом до безумия, до того, что, умирая, люди едят траву и червей, а поганый немец с тухлой сигарой в зубах философствует: «Разве это люди?..» Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого — нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! — это просит старуха мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! 24 июля 1942 г. Судьба России Я получил письмо от командира Казанцева. Он пишет: «Нужно поднять в русском народе такую ненависть к немцам, чтобы наш русский человек бил немцев всем, чем может, чтобы женщины, старики, дети вооружились топорами, косами, камнями и при встрече с немцами убивали их. Все наши столетние завоевания, все созданное нашими предками и современниками может оказаться в руках врага. Мы, наше поколение, несем ответственность за судьбу России. Ведь — представьте себе на минуту — если бы врагу удалось осуществить свое подлое дело покорения нашего народа, тогда следующее поколение, те, которым теперь пять или десять лет, плевали бы нам в глаза за то, что мы оказались не на высоте и не сумели отстоять величайшую державу мира...» Священная тревога чувствуется в словах командира Казанцева: тревога за судьбу России. Оказавшись в глубокой шахте, чувствуешь, что такое воздух. Когда мать больна, чувствуешь всю силу любви к ней. В эти суровые дни мы поняли, что враг грозит России, и одна мысль одушевляет нас: отстоим родину! Кропотливо, год за годом, дом за домом, строили люди Россию. Строили стены Кремля, палаты и бойницы. Строили на северных реках просторные избы. Строили городские ворота, башни, крепости. Строили дома, каменные и деревянные, церкви с золотыми куполами, дворцы с колоннами, арки и мосты. Русь отбивалась от ханов, отбивалась от немцев, крепла, росла, хорошела. Великая держава вышла к двум океанам, к Черному и к Белому морям, она поднялась на крышу мира — Памир, своим дыханием она растопила льды Арктики. По Двине, по Сухони, по Онеге плыли еще теплые стволы деревьев. Из них сколачивали корабли, ими укрепляли шахты. Русская земля богата черным золотом: есть уголь и в Донбассе, и в Сибири. Там, где некогда язычники поклонялись божественному огню, возникли грандиозные нефтяные промыслы. В Сибири охотники били пушного зверя. Плавали в Волге огромные рыбины. Вологодские кружевницы плели затейливые кружева, и мастера Дагестана ковали кинжалы. Снегом хлопка покрывались плодоносные земли Средней Азии. В Абхазии зацвели апельсинные рощи, и впервые красные помидоры загорелись на огородах Архангельска. Вспыхнули электрические лампочки в избах Печоры, в саклях Кавказа, в белых хатах Украины. Заводы изготовляли станки и телескопы, автомобили и хронометры. В неистощимой земле находили монеты Киевского княжества и новые жилы золота. В стране было все — северные олени и тигры, кедры и магнолии, горы Кавказа и бескрайные степи, тундра и виноградники Крыма, многомиллионные города и заповедники природы — безлюдные чащи. Россия стала частью света, материком. В ней жили, работали, горевали и радовались дети многих народов. Великая держава, она не подчинялась никому. Она выбрала свой путь, она первая в мире провозгласила права труда и братства. Мы любим ее громко, торжественно, как мощное государство. И мы любим ее просто, задушевно, по-семейному, как свою избу. Мы любим ее достоинства и ее недостатки, ее славу и ее обиды. Идет бой за Россию, за державу, сколоченную трудом поколений и окропленную кровью поколений, за державу, которая родилась на светлых водах Днепра, о молодости которой говорил вечевой колокол Новгорода, которую бережно строили — от Ивана Калиты до наших дней. Идет бой за свет русской культуры, за язык Пушкина, за украинскую песню, за наши книги, за наши музеи, за наши школы. Сколько нужно было веков напряжения, чтобы избяная, лесная Русь создала гранитный Ленинград! Только великий народ мог построить Адмиралтейство. Только великий народ мог родить Льва Толстого. Только великий народ мог двадцать пятого октября открыть новую эру. Нам досталась в наследство единственная, прекрасная, трижды любимая страна. В нее вторгся алчный немец. Он хочет убить Россию. Мы видим опасность, и мы сознаем всю глубину нашей ответственности. Внуки или будут прославлять подвиги героев 1942 года, или они проклянут нас, изнывая в немецком плену. Может быть, наша ненависть остыла? Может быть, мы забыли развалины Киева, поруганную Одессу, сожженный Смоленск, изуродованный Новгород? Теперь нашу ненависть снова накалили добела: немцы залили кровью города Донбасса и тихие казацкие станицы. Враг грозит Сталинграду. Враг рвется на Кубань. Суровые дни требуют от нас двойного мужества, двойной решимости. Если ты сражаешься сейчас у Дона за золотые нивы, за сады, в которых уже тяжелеют яблоки, помни — враг должен ступать только по немецким трупам, враг должен шагать только к своей смерти, врага нужно остановить. Если на твоем участке между раскатами орудий водворяется тишина, прислушайся к ней, и ты услышишь, как учащенно бьется сердце разгневанной России — сейчас решается ее судьба на годы, может быть, на века. Бойцы, перед вами девушка на виселице, и немец с петлей в руке — немец замахнулся на Россию. Бойцы, в ваших руках будущее родины. 28 июля 1942 г. Проклятое семя Вот страница, написанная мной в 1916 году: «Я видел, что сделали немцы с провинцией Суассонэ перед тем, как ее очистить. Это не разгул пьяных солдат, это расчетливая работа. Перед уходом немцы приказали жителям деревень переехать в города, а в городах собрали всех на окраинах. Специальные отряды «поджигателей» на велосипедах разъезжали, сжигая все на пути: заводы, поместья, фермы, крестьянские дома. Целые города — Бапом, Шони, Нель, Ам, сотни деревень выжжены дотла. Кругом пустыня на пятьдесят верст в глубину. За это отступление Гинденбург получил высочайшую благодарность. Верно, и поджигателям роздали Железные кресты за усердие. Проект умерщвления страны был хорошо разработан и тщательно, методически приведен в исполнение. В апрельское утро в Шольне я глядел на плодовый сад. Меня поразили нетронутые цветущие деревья: немцы знают, что эта область славится грушами и сливами; уходя, они не оставили ни одного дерева — все срубили. А в Шольне стояли рассаженные шпалерами нежно розовеющие грушевые деревья. Я подошел ближе и увидел, что все деревья — более двухсот — подпилены. Рядом со мной стояли французские солдаты, крестьяне. Один из них сказал: «Сволочи! Ведь сколько трудиться надо, чтобы это вырастить...» Я не изменил ни одного слова. Это написано двадцать шесть лет тому назад. Это было сделано немцами двадцать шесть лет тому назад. Но кто не вздрогнет, прочитав о Бапоме или о садах Шольна? Кто не вспомнит Истру и деревни на Можайском шоссе? Они все те же. Нет, если угодно, они подучились. Тогда они были новичками. Они стали опытными поджигателями, маститыми грабителями, усовершенствовавшимися палачами. Двадцать шесть лет тому назад они жгли, разъезжая на велосипедах. Теперь им нужно много жечь, они торопятся, они несутся на мотоциклах. Они были разбойниками. Они стали рецидивистами. Они обратили в пепелище цветущую Францию. Они жгут и терзают русскую землю. Поклянемся, что мы положим этому предел. Мы не допустим, чтобы каждые четверть века негодяи с Железными крестами на груди и с бидоном в руке обращали плоды высокого труда в гору пепла. Нам трудно теперь, очень трудно. Немцы на Дону. Но мы сегодня с особенной уверенностью говорим: мы покончим с потомственными поджигателями. 2 августа 1942 г. Стой и победи! Лейтенант Аросев, небритый, с глазами, красными от бессонных ночей, повторял: «Убьют так убьют — я смерти не боюсь...» Скрипели жалостно телеги беженцев, и в золоте заката бледнел пожар села. Политрук Савченко внимательно поглядел на Аросева, покачал головой и ответил: «Умереть легко, нам другое нужно — победить». На войне каждый храбрый солдат должен быть готов к смерти, но он сражается не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы победить. Он сражается для того, чтобы жить. Он защищает свою жизнь, жизнь близких, жизнь родины. Малодушие — это вовсе не большая любовь к жизни, нежели отвага. Разве заяц привязан к жизни сильнее, чем лев? Малодушие не помогает зайцу, оно только подгоняет охотничью собаку. Когда рядовой француз решил спасти себя любой ценой, он все потерял. Он погиб под немецкой бомбой или в немецком плену. Мнимо благоразумные французы говорили тогда, что они хотят «оградить Париж от разрушений». Они впустили в Париж немцев. Немцы разграбили город, обратили его жителей в рабство, увезли добро и произведения искусства, снесли памятники, сделали из Парижа базу своей военной промышленности, и тогда Париж узнал новые, воздушные бомбардировки. Когда хочешь жить, ничем не рискуя, когда боишься чем-либо пожертвовать, теряешь все. Это верно и для народов, и для людей. Вот уже больше года, как воюет Россия. Люди стосковались по родным местам, по семьям, по близким. Кто не вспомнит ненароком май прошлого года, дом, работу, любимых? Эти воспоминания укрепляют наше сердце. Есть у нас в армии юноши, принесшие на фронт свою первую любовь, чистую, как глубокое утро. Целомудренная и страстная любовь укрепляет отвагу юного солдата. Он впервые чувствует: «Я — мужчина, я должен оградить ее, мою любимую, от низких и грязных немцев». Он знает, что где-то, далеко от фронта, девичье сердце учащенно бьется, когда раздается хриплый голос репродуктора: «От Советского Информбюро». Есть у нас в армии отцы. Много писали о материнской любви, мало написано о любви отца: она стыдливей, она прикрыта мужской стойкостью, ее не сразу разглядишь. Но вот на фронте отцовская любовь делает чудеса. Бойцы знают, что где-то ребятишки доверчиво спрашивают маму: «Папа скоро вернется? Папа побьет немцев?» Для них война — это игра. Они безгранично верят в отца: отец все может. Если отец пошел, чтобы побить немца, отец его побьет. И на плечах бойца ответственность за детские игры, за спокойное дыхание трехлетнего малыша в детской кроватке, за жизнь, за тепло, за целость семьи. А сколько людей на фронте вдруг поняли, как они любят свою мать? Сколько бойцов в тревожном полусне вспоминают имя жены, ее ласковое прозвище?.. Жить хотел наш народ, и он принял бой за жизнь. Жить хочет наш народ — и не опустит он оружия, пока не высвободит живую жизнь из опасности. Родина — это нечто живое: как мать, как жена, как ребенок. Так издавна говорили о Руси, потом о Расеюшке — родной и любимой. Мы хотим жить, и это чувство воодушевляет бойца, когда он, не колеблясь, идет навстречу смерти. Не гибели ищет он — жизни. Убивают многих на войне — это знает каждый, но общая любовь к жизни цементом скрепляет взвод, роту, полк, армию. За жизнь товарища! — скажет боец, и, как эхо, ответят ему миллионы: за жизнь родины! Придет день, и мирный розовый рассвет подымется над степью Дона, над лесами Смоленщины, над зелеными, сырыми лугами Валдая. Зарастут рубцы на земле. Люди вернутся от танков, от гранат, от винтовок к косам, топорам, к сетям. Расцветет наша родина, легко вздохнут люди, и могилы героев предстанут пред всеми, как вехи на пути к жизни. А живые бойцы, прошедшие через все испытания, обновят, очистят, украсят жизнь, и не будет тогда выше и почетней звания: «Это идет фронтовик». «Стой и победи!» — говорит родина каждому из нас. Ты пришел на передний край не для того, чтобы умереть, но для того, чтобы убить врага. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Если ты не убьешь немца, немец придет в твой город, в твое село, обесчестит твою любовь, замучает твоих детей, сожжет твой дом. Ты должен быть готов к смерти — на то война. Но ты должен думать не о смерти — о победе. В руках командира — судьба сотен и тысяч людей. Он должен быть смелым не только на поле боя, он должен быть смелым перед боем и после боя: он должен смело организовать победу, смело продумать план сражения, смело решать и смело приказывать. Может быть, иной боец подумает: «Но я-то отвечаю только за себя». Неправда — каждый боец отвечает за своих товарищей, за свой полк, за родину. На войне каждый человек несет огромную ответственность. Завтрашний день — это союзник смелых и враг малодушных: потерянное сегодня трудно наверстать завтра. Мы должны полагаться только на себя: если мы не спасем себя, никто нас не спасет. За столом победителя всегда тесно — нет отбоя от друзей, но пусто в зачумленном доме побежденного. Если герой погиб, преградив путь врагу, мы не скажем: «Он умер», мы скажем: «Он победил» — он многих спас от смерти. Есть смерть обидная, ненужная, и есть смерть, которая и не смерть, а победа: когда человек своей смертью попирает смерть. «Мы не хотим умирать», — говорят храбрые казаки, защищая землю дедов от поганого немца. «Мы не хотим умирать, мы хотим победить», — говорят они и убивают немцев, рубают их, крошат, топчут конями. Россия хочет жить, вся Россия от края до края, от вольной Сибири до Карпат, от стыдливых берез на берегу Онеги до магнолий Кавказа. Россия говорит каждому из своих солдат: «Я хочу, чтобы ты жил. Стой и победи!» 8 августа 1942 г. О морали Передо мной статья, напечатанная 4 августа 1942 года в «Дейли мейл». Она рассказывает о параде, имевшем место в одном из немецких лагерей, где содержатся военнопленные англичане. Лейтенант Битти, командовавший десантной операцией в Сен-Назере, был взят немцами в плен. Английское командование наградило лейтенанта орденом Виктории. Немецкий комендант лагеря, выстроив пленных офицеров, огласил приказ о награждении Битти. По словам газеты, он даже «горячо зааплодировал». Описание церемонии кончается следующими словами: «Немецкий комендант поздравил Битти, что было джентльменским поступком». Русских военнопленных немцы кормят отбросами, заставляют их руками собирать испражнения, подвергают их пыткам. Пленных поляков, французов, сербов немцы превратили в крепостных. Если немцы «джентльменски» обращаются с английскими пленными, то, конечно, не потому, что немцы — джентльмены, а потому что Гитлер все еще не потерял надежды найти людей, которые жаждут быть обманутыми. Немцы всегда плохо разбирались в психологии других народов. Гитлер, видимо, решил, что один вечер в Мюнхене перечеркнул века английской истории, что наследники Питта превратились в наивных девушек, которых можно заговорить. Комендант лагеря, поздравивший Битти, — один из учеников злополучного Гесса. Я рад, что английские военнопленные не разделяют мучений, которые выпадают на долю других союзных солдат, попавших в лапы к немцам. Статья «Дейли мейл» мне, однако, кажется печальной. Можно было бы ответить журналисту, написавшему о «джентльменском» поступке коменданта лагеря, что после сен-назерского рейда немцы замучили и расстреляли тысячи беззащитных французов. Но сейчас меня интересует не бестактность журналиста, а своеобразная концепция войны, которая сказывается в упомянутой статье. Я принадлежу к поколению, которое пережило Верден, Сомму, Галицию. После первой мировой войны мы возненавидели войну. Все писатели, пережившие 1914–1918 года, написали книги, проникнутые гневом или скорбью, — от Барбюса до Ремарка, от Олдингтона до Хемингуэя. Мы приветствовали все, что казалось нам противодействием новой войне. Как случилось, что вчерашние пацифисты благословили войну? Название романа Хемингуэя «Прощай, оружье!» было клятвой поколения. Десять лет спустя Хемингуэй прославил оружие в руках испанцев, отстаивавших свою свободу от Гитлера и Муссолини. В мире появилось нечто новое: фашизм, представляющий угрозу для жизни народов и людей, для человеческого достоинства, для свободы. Мы отвергали и отвергаем войну как естественное явление, как рыцарский поединок, как кровавый матч. Мы убеждены, что танки не годятся для организации мировой экономики и что фугаски не решают идеологических споров. Есть единственное оправдание войны: бесчеловечность гитлеровской Германии, ее одичание, ее воля к уничтожению других народов. Статья «Дейли мейл» мне представляется аморальной. Если читатель согласится с оценкой поведения немецкого коменданта, он должен осудить войну: джентльмен с джентльменом держит пари, но не дерется. Не раз говорили, что подход к войне как к спортивному матчу вреден для успешного ведения военных действий. Мне хочется добавить, что такой подход безнравствен и бесчеловечен. Для англичан, переживших Лондон и Ковентри, ненависть к низкому врагу — понятное чувство. Они знают, как знают это русские, что только большая ненависть оправдывает войну. До такой ненависти нужно созреть, ее нужно выстрадать. А война без ненависти — это нечто бесстыдное, как сожительство без любви. Наш народ жил вне тумана национальной или расовой нетерпимости. Русские издавна уважали чужую культуру, жаловали и любили иностранцев. Не грех сейчас напомнить о том хлебе, который посылала отнюдь не богатая Россия немецким женщинам после мировой войны. Вчера я получил письмо от украинского лейтенанта Супруненко, он пишет: «Я не знал прежде, что можно кого-нибудь так ненавидеть. Я — артиллерист, и мне обидно, что я не могу убить немца штыком или прикладом или задушить его своими руками». Священное чувство! Оно родилось от крови русских женщин и детей, замученных немцами, оно родилось на пожарищах наших городов. Описание немецких зверств в России некоторые пуритане считают «безнравственным чтением». По-моему, в таком случае «безнравственны» сообщения о бомбардировках Кельна и Любека. За что бомбят немецкие города? — спросит наивный человек. Ведь ему не хотят показать, кого бомбят и за что бомбят. Чех поймет с полуслова муки Киева и Керчи: он знает Лидице. Норвежец разделит гнев каждого русского: норвежец видел Гиммлера не только на экране. Француз помнит расстрелы заложников, и француз скажет о письме Супруненко: «Это писал мой брат». Пусть Ла-Манш останется непроходимым для полчищ Гитлера, но пусть через эту узкую полоску воды перешагнут гнев и ненависть всей Европы. 13 августа 1942 г. Россия После артиллерийской подготовки немцы пошли в атаку. Они думали, что в рощице не осталось живой души. Тогда закричал Жамбул Тулаев: «Ни шагу назад!» Семь бойцов. Пулеметчики выбыли из строя. Тулаев лег за пулемет. Немецкие автоматчики просочились во фланг. «Ни шагу», — кричал Тулаев. Атака была отбита. Жамбул Тулаев — бурят. До войны он был искусным охотником. Далеко до дома Тулаева, далеко от Старой Руссы до Байкала. Но Жамбул Тулаев защищает свою родину. Гавриил Хандогин родом из Красноярского края. Бродил по тайге, с ружьем, — бывало, приносил домой по двадцать белок. Жил хорошо человек: жил, как ему нравилось. Напали на Россию немцы. На Волхове осколок мины ранил Хандогина: оторвал указательный палец на правой руке. Что же, Хандогин приспособился. Недавно он убил сто шестнадцатого немца. Он говорит: «Ох, и зол я на них!..» Абдулла Сифербеков — лезгин. Он уложил много немцев. Он говорит: «Наш народ любит оружие, умеет стрелять. Я с детства бил кабанов. Когда кабана подстрелишь, он кидается — злой, но немцы хуже кабанов; немца мы не трогали, немец на нас пошел. Я их бью лучше, чем кабанов. Нужно их всех перебить — это и дитя понимает». Иосиф Катус — белорус. Был механиком. Когда напали немцы, сменил отвертку на ручной пулемет. Недавно он ходил в атаку. Немцы открыли сильный минометный огонь. Катус крикнул: «Вперед, друзья!» Он расстрелял немецкого офицера и десяток солдат. Вдохновленные его примером, пошли другие. Когда командир поздравил Катуса, смельчак ответил: «Беларусь...» Донской казак сержант Александр Сазонов, бросая в немцев одну гранату за другой, приговаривал: «Это вам за Ростов, это за Новочеркасск». Казак Петр Астахов еще недавно выращивал резвых дончаков, теперь он уничтожает немецкие танки: он уже подбил две машины. Казак Яков Рябов говорит: «Мы их зарубаем. Неумеючи и свинью не убьешь, а немца нужно бить умеючи». Об умении Рябова могли бы рассказать немцы, но мертвые молчат. Минометчик Николай Анжинов — калмык. Он защищает славный город Ленина. На его счету несколько десятков убитых немцев. Таджика Тэшабоя Алимова прозвали «грозой фашистов»: он перешел реку и, захватив вражеский пулемет, начал давать очереди по удирающим немцам. Чуваш Тарханов — артиллерист-зенитчик. У него верный глаз, и он не пропустит «юнкерса». Боец Илья Шнеер до войны был переводчиком. Окруженный немцами, Шнеер расстрелял все патроны, гранатой взорвал себя и семерых немцев. За три недели до смерти Шнеер прислал мне письмо. Он писал: «Евреи сражаются рука об руку с русскими, с украинцами, с казахами. У меня четверо детей. Пусть будут лучше сиротами, но пусть живут в свободной России...» Широка и привольна Сибирь. Нет шире сердца, чем у сибиряка, шире и смелее. В маленьком городке Алтая живет семья Героя Советского Союза полковника Батракова. Полковник пишет своей жене: «Ты говоришь, что тебе не нравится самое упоминание о смерти. Кому оно нравится? Но если это ради родины, что значит одна или несколько жизней...» Отважно дрался у синего моря Григорий Коваленко, сержант по званию, герой по сердцу. Он говорил друзьям: «Мать сгибла. Хату герман спалыв. Бить гадов хочу». Веселый хлопец из Полтавщины, когда немцы подошли близко, он врос в скалу и стал скалой. В машины с немецкой пехотой Коваленко кидал связки гранат. Он не пропустил немцев. Младшему сержанту Федору Чистякову двадцать лет. Он сын ленинградского рабочего и сам работал на заводе слесарем: потомственный питерский рабочий. Отец Федора Чистякова погиб в боях с немцами. Сын поклялся отомстить за отца. Немцы пошли в атаку. Чистяков лег за пулемет, он косил немцев. Когда кончились пулеметные ленты, Чистяков взялся за автомат. Когда опустели диски, он пустил в ход гранаты. Он говорит: «Если бы немцы не отступили, я бы их руками задушил...» Сколько разных людей, сколько разных судеб! Но одно чувство роднит всех: убить немца. Люди говорят на разных языках, но есть одно слово, которое все понимают: Россия. Одна мать, одна родина. Когда немцы топчут нивы Кубани, гнев раздувает сердце Сибири. Когда немцы жгут белые хаты Украины, казахи и калмыки целятся в мерзких факельщиков. Разные у людей глаза, но во всех глазах один огонь: ненависть. О мести шумит сибирская тайга, яростью наливаются гроздья Кахетии, немецкой крови просит сухая полынная степь. Видал ли ты могучее ветвистое дерево? Оно было крохотным деревцом. Ему много лет. Ему больше лет, чем тебе. Его сердцевину опоясали круги: каждый круг — год, и кругов не счесть. Великое дерево наша Россия. Она началась с разобщенных племен, с первых ратных подвигов, с первых рукописных книг. Она стала великой державой. Волга начинается, как ручеек. В колыбели — младенец. Он может стать Пушкиным. Государство создается веками. Без него человеку не жить. В мирное время есть у кого тайга и ружье, у кого стамеска, у кого плуг, у кого книга. Когда настает время великих испытаний, нет больше личной судьбы — только судьба России. В далеком тылу женщины говорят: «Придут немцы, мы их встретим цепами». Старики в тоске смотрят на охотничьи ружья, на ножи, на камни. Народ готов на все, лишь бы спасти Россию. Настали решающие недели. Немцы идут вперед по своим трупам. Немцы истекают кровью. Их можно остановить. Их нужно остановить. Великая беда грозит России. 14 августа 1942 г. Эрнест Хемингуэй Мадрид тех лет. Развалины домов на Пласа Дель Соль, мусор, яркие плакаты, столбы холодной пыли, детские трупы, ручные голуби, грохот снарядов и повсюду два слова: «No pasaran». Уже не призыв — заклинание. Шумно было тогда на улице Гран Вия, где стоял небоскреб «Телефонного общества», облюбованный артиллерией Франко. Неподалеку от небоскреба находилась поврежденная фугаской гостиница «Флорида», некогда пышная и похожая в наступившем запустении на театральную бутафорию. В номерах стоял мороз, и большинство номеров пустовало, только один постоялец не хотел расстаться с «Флоридой»: Эрнест Хемингуэй на спиртовке варил кофе и писал любовную комедию. Он мог бы ее писать не в гостинице «Флорида», под бомбами и снарядами, но в земном раю, в настоящей Флориде. Почему предпочел он голодный, черный, разрушенный Мадрид? Что его привязало в те годы к Испании? Оружье. Оружье в чистой руке оскорбленного народа. Декабрь 1937-го. На побережье цвели апельсины, а в горах не утихала метель. Я встретил Хемингуэя: он спешил к робкой, нечаянной победе; расспрашивал, как проехать к Теруэлю; боялся опоздать. Мне привелось быть с ним у Гвадалахары. Глядя на брошенное итальянцами снаряжение, он бормотал: «Узнаю...» — он вспоминал Капоретто. Тогда он сердцем был с теми, кто бросал оружие. Теперь влюбленными глазами он смотрел на испанских солдат, которые вытаскивали из блиндажа красные гранаты итальянцев, похожие на крупную клубнику. Он часто бывал на командном пункте двенадцатой бригады. Генерал Лукач, он же венгерский писатель Матэ Залка, объяснял Хемингуэю план атаки, и Хемингуэй говорил: «Понимаю, товарищ генерал». Может быть, кому-нибудь придет в голову суетное предположение: писатель собирал материал для будущего романа. Убожество, глубокое непонимание того, как рождаются книги, привычка обходиться эрзацами искусства. Можно пойти в лес за ягодами, нельзя пойти в жизнь за литературным материалом. Этот «материал» обычно приходит непрошеный, как личная драма, он вытесняет все чувства, все помыслы, он душит писателя, и писатель пишет, чтобы не задохнуться. Книгу нельзя задумать по плану, книгой нужно заболеть. Не один раз война насильно завладевала Хемингуэем. Война стала основной темой его жизни. Большой, на вид здоровый человек, чудак, который в иную эпоху создал бы вымышленный мир ужасов и радостей, был рано застигнут войной. Война его искромсала. Так родился роман «Прощай, оружье!». Я не знаю другой книги о войне, столь горькой. А в Европе после первой мировой войны было написано много горьких книг. Сущность Хемингуэя — то, что он показывает людей не только раздетых, но и освежеванных, короткие фразы диалога, которые бьют прямой наводкой, — все это совпало с темой войны. Мастерство Хемингуэя органично, ему нельзя подражать. Это не литературная школа, это особенность голоса, глаз, сердца. Предельная детскость многих диалогов, на самом деле — зрелость ума и чувств. Нет здесь ничего фальшивого, никакой литературщины. Предсмертный бред, любовная записка, исповедь пьяного покажутся манерными и стилизованными по сравнению с разговорами персонажей Хемингуэя. Его книги производят впечатление безыскусственности: такова сила высокого искусства. Диалоги не только новы как явление литературы, они новы вообще, их не было — так люди не разговаривают. Но каждому ясно, что люди должны разговаривать именно так. Однако не только обнаженность придает исключительную силу роману «Прощай, оружье!»: в этой книге человек противопоставлен войне, и роман Хемингуэя с большим правом, чем многие другие прославленные книги, может быть назван исповедью поколения. В первой мировой войне карты были спутаны, праведники смешаны с грешниками, и совесть писателя страдала по обе стороны так называемой «ничьей земли». Герои Барбюса страдали в голубоватых шинелях, герои Ремарка и Ренна — в серозеленых, герои Олдингтона — в защитных. Как и в других книгах Хемингуэя, в романе «Прощай, оружье!» герой — американец среди европейцев. На Фреде Генри шинель итальянца. Но он, как и персонажи Ремарка или Барбюса, смятен, растерян. Им говорили о родине, а притягивала их ничья земля, некая третья правда. Оружье для них — кандалы. Из всех героев литературы первой мировой войны Фред Генри не самый умный, отнюдь не самый храбрый, да и не самый совестливый, но он самый человечный. В первом романе Хемингуэя война — это машина, восставшая на человека, танк, ставший эпохой. Кругом итальянцы, народ живой и жизнерадостный, глубоко привязанный к простейшим и мудрейшим удовольствиям. Трудно подобрать для Фреда Генри партнеров лучше. Прибавьте к этому любовь, целомудренную и чувственную любовь англичанки Кэтрин, и Фред Генри прощается с оружьем; он говорит: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир». Легко сделать политические выводы: дезертир тех лет яростно сражался под Мадридом, яростно сражается теперь против фашистов, а командиры многих победоносных армий первой войны вторую начали как капитулянты и кончили ее как дезертиры. Но проблема проще и сложнее. Исповедь поколения продолжается, поскольку одному поколению достались две войны, не считая промежуточных войнушек. С кем заключил сепаратный мир Фред Генри? Разумеется, но с двуединой монархией Габсбургов. Он думал: с жизнью; оказалось: со смертью. И смерть не насытилась первой победой. Она вскоре снова предстала перед Хемингуэем. Она предлагала ему капитуляцию на почетных условиях. Она снова соблазняла его жизнью. Хемингуэй обожает рыбную ловлю. У него есть маленький домик где-то в субтропическом парадизе. Это человек, привязанный к жизни, влюбленный в свое дело. Жить бы да жить! Разве не прожили поколения, оттеняя свое радостное существование хорошо придуманными трагедиями? Но тема войны не отстает от Хемингуэя. Когда нет войны, смерть приходит к человеку на испанских аренах или в песках Африки, смерть ищет тореадоров или охотников. Это в паузе между двумя катаклизмами. О мировой войне в те годы начинают говорить пренебрежительно, как о далекой варварской эпохе, — она не повторится, человечество выросло. А смерть занята примеркой. Сначала на скелет напяливается черная рубашка итальянских фашистов, — офицерики, удиравшие при Капоретто, берут приступом народные дома и рабочие клубы, а обнаглев, начинают героически травить ипритом абиссинских пастухов. Потом смерть надевает коричневую рубашку немецкого покроя. На черепе вырастают усики Адольфа Гитлера. С кем подписал сепаратный мир Фред Генри? С кем думал помириться Эрнест Хемингуэй? Настают критические годы. Фашизм готовится истребить человечество. Три демократии Запада хотят отмолчаться: их не тронут, если они не закричат. Можно выпить со скелетом на брудершафт, можно объявить косу смерти мирным сельскохозяйственным орудием, можно принять самолет сына Муссолини, повисший над песками Эфиопии, за ангела мира. Так поступили многие. Отступили многие. Отступничество стало насморком писателей, и отступничество в тридцатые годы нашего века перестали замечать, как в тридцатые годы прошлого века не замечали условностей романтики. Хемингуэй — по природе художник, а не идеолог, — я не хочу поэтому останавливаться на ошибочности той или иной из его политических оценок. Я только укажу, что он сразу нашел мужество назвать смерть — смертью. В 1936 году он выступил против итальянского фашизма, напавшего на Абиссинию. Статья называлась «Крылья над Африкой». Хемингуэй любит итальянский народ, но еще сильнее он любит жизнь: он разглядел тень бомбардировщика над Аддис-Абебой. Зачем он прощался с оружьем? Зачем люди кричали на узких улицах: «Viva la pace»? И вот — Испания. Хемингуэй приехал в Мадрид. В первую осень он пережил с Испанией ее надежды, горе, отчаянье. Он писал в американские газеты очерки: как многие другие, он не хотел поверить в торжество отступничества. Потом, уже в Америке, он написал роман «По ком звонит колокол». Фред Генри стал Робертом Джорданом. Хемингуэй, развенчавший некогда героику, живет мужеством испанских партизан. Его поколение — наше поколение, — двадцать лет тому назад распрощавшееся с оружьем, приветствует и охотничье ружье кастильского пастуха, и танки свободы. В чем сила нового романа Хемингуэя? Роберт Джордан не говорит: «Война», — война войне рознь. Он не заключает сепаратного мира. Он воюет против фашистов, — следовательно, против смерти. Роман — длинная повесть о нескольких днях во вражеском тылу. Американец Роберт Джордан и кучка испанских партизан взрывают мост, чтобы помешать фашистам подкинуть подкрепление. Есть в этом романе утверждение жизни. Любовь за день до смерти еще убедительней, еще телесней, еще глубже, чем в «Прощай, оружье!». Испанка Мария, горькая и нежная, как сьерра, еще отчетливее женщина, нежели нежная Кэтрин. Но Роберт Джордан ни за что не простится с оружьем: знает, почему он воюет. Есть войны, которые чище и выше величайшего блага — мира. Хемингуэй сказал об этом накануне второй мировой войны, среди общего смятения умов и сердец. Нет сейчас иного пацифизма, кроме лакейской угодливости Жионо. Круг замкнут: писатель, написавший «Прощай, оружье!», пуще любви, пуще искусства благословляет ручной пулемет. Я не знаю ничего оптимистичней последних страниц печального романа «По ком звонит колокол». Партизаны, взорвав мост, пробираются к республиканцам. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой. Он прощается с Марией — с любовью, с жизнью, он прощается с боевыми товарищами: «Идите. Спешите». Когда девушка упирается, он говорит: «Ты уйдешь за себя и за меня...» Он остается один. Он не хочет покончить жизнь самоубийством: ему предстоит еще один глубоко жизненный поступок — убить врага. Он пересиливает боль: пуще всего он боится потерять сознание. С ручным пулеметом он ждет, когда покажется на дороге фашистский отряд, посланный вдогонку партизанам. Вот последняя страница этой изумительной книги: «Скорей бы они пришли, сказал он. Пришли бы сейчас, а то нога начинает болеть. Должно быть, распухает. Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд, подумал он. Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики — вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо иметь запасную ногу. Он с усилием улыбнулся на это, потому что нога теперь сильно болела в том месте, где был задет нерв. Ох, пусть идут, подумал он. Скорее бы они шли, сволочи, подумал он. Скорей бы. Скорей бы шли. Нога теперь болела очень сильно. Боль появилась внезапно, после того как он перевернулся, и бедро стало распухать, и он подумал: может быть, я сейчас сделаю это. Я не очень хорошо умею переносить боль. Послушай, если я что сделаю сейчас, ты не поймешь превратно, а? Ты с кем говоришь? Ни с кем, сказал он. С дедушкой, что ли? Нет, ни с кем. Ох, к дьяволу, скорей бы уж они шли. Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться, и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо. Лучше не допустить до этого. Так, может быть, все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено? А то, ох, слушай, да, слушай, пусть они идут скорей. Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты — плохо. Именно ты — совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А по-твоему? Нет, не пора. Потому что ты еще можешь делать дело. До тех пор пока ты знаешь, что это, ты должен делать дело. До тех пор пока ты еще помнишь, что это, ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут! Пусть идут! Так думая о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как они едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо. Думай, как они едут всю ночь. Думай, как они завтра приедут в Гредос. Думай о них. К черту, к дьяволу, думай о них! Дальше Гредос я уже не могу о них думать, сказал он. Думай про Монтану. Не могу. Думай про Мадрид. Не могу. Думай про глоток холодной воды. Хорошо. Вот так оно и будет. Как глоток холодной воды. Лжешь. Оно будет никак. Просто ничего не будет. Ничего. Тогда сделай это. Сделай. Вот сейчас сделай. Уже можно сделать это. Давай, давай. Нет, ты должен ждать. Ты знаешь сам. Вот и жди. Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание. Я знаю, потому что к этому уже три раза шло и я удерживался. Я удерживался, и оно проходило. Но теперь я не знаю. Наверно, там, в ноге, внутреннее кровоизлияние, ведь эта кость все разодрала кругом. Когда поворачивался, тогда особенно. От этого и опухоль, и слабость, и начинаешь терять сознание. Теперь уже можно это сделать. Я тебе серьезно говорю, уже можно. Но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить. Поступок, сделанный вовремя... Ладно, сказал он. И он лежал совсем спокойный и старался удержать себя в себе, чувствуя, что ползет из себя, как иногда снег с горной вершины, и сказал теперь совсем спокойно: только бы мне додержаться, пока они придут. Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу. Отряд остановился возле серой лошади и крикнул что-то офицеру, и офицер подъехал к нему. Он видел, как оба склонились над серой лошадью. Они, конечно, узнали ее. Этой лошади и ее хозяина недосчитывались в отряде со вчерашнего утра. Роберт Джордан видел их на половине склона, совсем близко от него, а внизу он видел дорогу и мост и длинную вереницу машин за мостом. Он теперь вполне владел собой и долгим, внимательным взглядом обвел все. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы рядом на земле и потрогал кору дерева, за которым он лежал. Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу хвойных игл и дуло пулемета упер в сосну. Рысью поднимаясь вперед, по следам ушедших, офицер должен был проехать ярдов на двадцать ниже того места, где лежал Роберт Джордан. На таком расстоянии тут не было ничего трудного. Офицер был лейтенант Беррендо. Он только что вернулся из Ла-Гранхи, когда пришло известие о нападении на нижний дорожный пост, и ему было предписано выступить со своим отрядом туда. Они мчались во весь опор, но мост оказался взорванным, и они повернули назад, чтобы перевалить через гору и выйти к теснине кружным путем. Лошади их были все в мыле и даже рысью шли с трудом. Лейтенант Беррендо поднимался по склону, приглядываясь к следам; его худое лицо было сосредоточенно и серьезно. Его автоматическая винтовка торчала поперек седла. Роберт Джордан лежал за деревом, сдерживая себя очень бережно и очень осторожно, чтобы не дрогнула рука. Он ждал, когда офицер выедет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную хвойными иглами лесную землю...» *** Так умер Роберт Джордан, истребив перед смертью фашистский отряд. Так встретил писатель Эрнест Хемингуэй вторую мировую войну. Он сразу узнал врага. Он не колебался. Он приветствовал народы, поднявшие оружье для защиты жизни. Сейчас мы думаем об этом прекрасном писателе в Москве, — в Москве, к которой зимой подходили фашисты, в Москве, которая не сдалась и не сдастся. Есть у Роберта Джордана русские братья и сестры. Вспомним двадцать восемь. Вспомним хрупкую девушку «Таню». Сколько русских перед смертью повторяли слова Роберта Джордана: «Если ты задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить...» Не было и нет лучших читателей у Хемингуэя, чем народ, который показал миру таран и дал бойцов, взрывавших на себе немецкие танки. Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой, всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы защитим жизнь: в этом призвание нашего злосчастного и счастливого поколения. А если не удастся мне, многим из нас, увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в роковой час американца с разбитой ногой на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце? 16 августа 1942 г. Ненависть и презрение Немцы продолжают на юге наступать. Они знают, что август на исходе. Они страшатся новой зимы. Они делают все, чтобы сломить наше сопротивление. Они рвутся к Грозному — к нашей нефти. Они приблизились к Волге, они грозят Сталинграду. Здесь каждый километр стоит сотни. Здесь нельзя отходить. Удачи на юге подбодрили немцев. Они повеселели на кубанских харчах. Они лихо поплевывают: они хотят прикинуться бесстрашными. Но на душе у них смутно: за бочками вина им мерещатся кресты, за победными сводками — снежные сугробы. Палачи не бывают героями. Нет мужества у грабителей. Немцы наступают, но мы ни на минуту не должны забывать, что немцы — трусы. Солдат Иозеф пишет своей сестре Сабине: «Совсем недавно несколько русских женщин закололи навозными вилами двух немецких солдат». Немка Лила Павличек пишет из Бремена своему мужу Францу: «Позавчера был налет англичан. Это такой ужас! Я слегла. Весь вчерашний день у меня был понос». Такие не пойдут с вилами на солдат, такие восторженно мяукают от «трофейных» посылок и воют от первой сирены. Мужья не лучше. Танк старшего лейтенанта Макшанцева шел на двенадцать немецких танков. Макшанцев снарядами зажег три немецкие машины. В самом разгаре боя у нашего танка заклинило башню. Тогда Макшанцев пошел на таран. Он лбом ударил по ходовой части немецкой машины. Остальные танки немцев пошли наутек. Что сказал победитель, старший лейтенант Макшанцев? Одно: «Немцы трусы». Они не трусы, когда они воюют против детей. Нет, тогда они «герои». Недавно рота немцев сожгла деревню Ламовы Горки, Дедовического района, Ленинградской области. Немцы вопили: «Всех перебьем». Они действительно всех перебили. Они расстреляли из пулемета Саню Михайлова, одиннадцати лет, Ваню Иванова, тринадцати лет, Васю Рыхлова, пятнадцати лет, Васю Петрова, одиннадцати лет, и Анну Теплякову, трех месяцев от роду. Они не отступили и перед стариками, они «отважно» убили Савелия Егорова, семидесяти трех лет, Василия Рыжкова, восьмидесяти пяти лет, Ивана Антонова, восьмидесяти семи лет, и Анну Рожкову, девяноста лет. Когда партизаны поймали одного из участников этого расстрела, немец валялся в ногах и вопил: «Я никого не трогал! Это Гитлер виноват, а я только чистил картошку...» Григорий Котов огнем ручного пулемета сдержал напор немцев. Три часа он косил немцев, он опорожнил тридцать дисков и убил сто гитлеровцев. Немцы не выдержали, побежали. Что говорит Котов? Он только усмехается: «Фриц нахал до поры до времени, а если дать ему по зубам, фриц драпает как миленький...» Скажите Григорию Котову, что немцы прошли от Бретани до Кавказа, он ответит: «Значит, их не сдержали. А их можно сдержать. Против меня шло двести, а я был одни...» «Почему вы воюете?» — этот вопрос я задавал многим пленным. Немцы отвечали: «Потому что Гитлер приказал», или: «Потому что нам нужно пространство», или: «Потому что нам нельзя жить, не воюя». Кажется, скотина и та мычит человечней. Почему немцы воюют? Чтобы грабить. Вор может быть нахальным. Вор не может быть храбрым. Политрук Кузьмин шел впереди роты. Он был дважды ранен в бою. Его хотели отправить в санбат. Он ответил: «Нет. Крови я много потерял, это правда. Но я не потерял ни капли ненависти. Пустите — хочу бить немцев!» Есть ли сила, которая удержится перед такой ненавистью? Кто жил на этой земле? Подлец Курт Шурке или Кузьмин? Чей дом позади? Чьи дети не спят, разбуженные пушками? «Грабь пространство», — хрипло кричат немцы, и в ответ раненый Кузьмин отвечает: «Друзья! Братья! Родные мои бойцы! За Россию!» Под Сталинградом убили фельдфебеля Ганса Готтрей. На нем нашли неотправленное письмо: «Это сплошное безумие! В моей роте одиннадцать человек. Если бы русские знали, в каком мы состоянии! Жара, пожары, непрерывный огонь. Никто у нас на родине не подозревает, что такое война в России...» Немцы наступают на Сталинград крупными силами. Но это не та война, о которой мечтали немцы. Они решили убивать. Они не подумали, что им придется и умирать. Фельдфебель Ганс Готтрей восклицает: «Если бы русские знали!..» Мы знаем, что происходит в сердце всех этих фельдфебелей и солдат. У орла Германии клюв стервятника и сердце курицы. Бойцы юга должны остановить обнаглевших трусов. Бойцы Западного и Калининского фронтов должны помочь бойцам юга. Не считать врагов: счет делу не поможет. Бывает, один удерживает сотню, бывает, сотня бежит от одного. Не рассчитывать на горы и на реки: у немцев есть и горные танки, и понтоны, но русские не раз останавливали немцев среди чистого поля. Нужно понять, что у немцев много всего — и танков, и генералов, и вассалов, и автоматов, у них нет одного: русского мужества. 20 августа на Западном фронте боец Кандрашев уничтожил пять немецких танков. Среди крупных военных событий это прошло незамеченным, но над удачей Кандрашева стоит задуматься. Кандрашев отрыл круговой окоп возле толстой сосны и залег. Из леса один за другим выползли немецкие танки. Кандрашев рассказывает: «Что-то у меня в груди заколотило. Хотелось сосчитать сколько, но не стал считать. Жду...» Приблизился средний немецкий танк. Кандрашев пропустил его и кинул в хвост бутылку с горючим. Из люка, как обожженные крысы, стали выскакивать немцы. Они не успели опомниться: Кандрашев подстрелил их. К засаде подошел следующий легкий танк. Едва он миновал окоп, как Кандрашев гранатой распустил по швам гусеницу. Танк завертелся на месте, будто ему отдавили лапу. Немцы выбежали. Для каждого у Кандрашева нашлось по одной пуле. Третий танк. Кандрашев берет бронебойное ружье. Танк закорчился. Четвертый. Пятый. Один человек — и кладбище танков. Выстоять можно. Выстоять необходимо. Немцы хотят удушить нас, захватив Волгу. Волга в наших руках — артерия жизни. Волга в руках немцев станет веревкой на шее родины. Немцы хотят доконать нас, захватив нефть Кавказа. Они не могут остановить наши танки. Они не могут сбить наши самолеты. Они решили забрать нашу нефть. Бой идет за ключ к победе. Каждый шаг назад несет родимой земле горе и слезы. Немцы наступают, наглые и трусливые. Они лихо грабят захваченные города, и они истерически вопят под русским огнем. На немца, на презренного труса! — кричит Россия. Мы их ненавидим, и мы их презираем. Мы не растратили ненависть, не расплескали ее. Мы не потеряли нашего презрения. Нам трудно было отступать, и все же мы повторяем: трусы, трижды трусы эти проклятые захватчики. Друзья, покажите презренным немцам, что такое вечная Россия! 28 августа 1942 г. Сталинград Не первую неделю идет битва за Сталинград. Тяжелая битва. Немцы решили захватить город, перерезать Волгу, задушить Россию. На Сталинград брошены десятки немецких дивизий. Здесь беснуется Германия, в горящей степи, перед неукротимым городом, здесь эсэсовцы, пруссаки, баварцы, фельдфебели, танкисты, солдаты, привезенные из Франции, жандармы из Голландии, летчики из Египта, ветераны и новички. Здесь сулят Железные кресты и выдают деревянные. Кровью обливается сердце каждого, когда русские отдают город. Город — это дивный лес, нужны многие годы, чтобы его вырастить. В каждом городе — клубки человеческих жизней, заводы, сложные, как мозг, улицы с их приливами и отливами, большие площади, где творится воля народа, и маленькие уютные комнаты, где влюбленные обмениваются горячими клятвами. Каждый город — это мудрая книга, это государство, это огромная семья. Город нельзя сдать. Город нельзя бросить. Город не название, не кружок на карте, город — живое тело, близкий человек. Защитники Сталинграда, на вас с надеждой смотрит Россия. Помните — враг был у Москвы. Враг жег подмосковные дачи. Враг был силен, и враг торопился. Врага не пустили в Москву. Кто не пустил? Бойцы. Год тому назад враг подошел к Ленинграду. Он дышал, как разгоряченный зверь, и ленинградцы чувствовали на лице города огненное дыхание. Враг не вошел в Ленинград: врага не пустили. Тула — не Москва, не Ленинград, но Тула выстояла. Враг ее обошел, сжал. Тула удержалась. Защитники Сталинграда, вашим мужеством дышит страна. Враг близко, но враг не раз подходил к цели и не достигал ее. Немцы хорошо рассчитывают, но они часто прогадывают, они забывают в своих расчетах, что русский храбрец — это десять и это сто солдат, что каждый домишко может стать крепостью и что каждый час способен изменить положение. Сталинград — это Волга. Кто скажет, что значит Волга для России? Нет в Европе такой реки. Она прорезает Россию. Она прорезает сердце каждого русского. Народ сложил сотни песен о «Волге-матушке». Волгу он поет и Волгой живет. Над Волгой выросли шумные города, огромные заводы, и над Волгой, в душистых садах, глядя на таинственные огни пароходов, юноши говорили о свободе, о борьбе, о любви, о вдохновении. На верховьях Волги идут суровые бои с немцами. Река расскажет героям Сталинграда о героях, которые бьются за Ржев. Волга — это богатство, слава, гордость России. Неужели презренные немцы будут купать в ней своих лошадей, в Волге, в великой русской реке?.. В старой песне поется: Протянулася ты, степь, вплоть до Царицына. Уж и чем же ты, степь, изукрашена? Степь теперь изукрашена немецкими могилами, и немцы боятся оглянуться назад. «У нас своеобразная болезнь — страх пространства», — говорит пленный лейтенант. Позади них пепел. Перед ними зарево. Перед ними город, который не сдается. У немцев теперь много слов, которыми они будут пугать друг друга до смерти. К этим словам прибавилось еще одно: Сталинград. Немецкий солдат пишет матери: «Только человек с дьявольской фантазией может представить себе на родине, что мы переживаем. Нас осталось четверо в роте. Я спрашиваю себя: сколько немецких городов должны опустеть, чтобы мы наконец-то овладели Сталинградом?» Они уже опустели, все эти ненавистные Штральзунды и Шнейдемюли, но Сталинград немцы не взяли. Гитлер посылает в бой все новые и новые дивизии. Припадочный не остановится ни перед чем: «Еще солдат! Еще самолетов!» Когда ему говорят: «Сентябрь на дворе. Что будет с нами зимой?» — он отмахивается. Ему нужен Сталинград во что бы то ни стало. И немцы рвутся в город. Днем и ночью идут бои. Неслыханно тяжело защитникам Сталинграда, но они держатся. Кто забудет о тридцати трех? На них шли семьдесят немецких танков. Тридцать три не дрогнули. Они уничтожали танки пулями, гранатами, бутылками. Они уничтожили двадцать семь танков. Еще раз русское сердце оказалось крепче железа. Если чужестранец нам скажет, что только чудо может спасти Сталинград, мы ответим: разве не чудо подвиг тридцати трех? Враг еще не знает, на что способен русский человек, когда он защищает свою землю. Можно выбрать друга. Можно выбрать жену. Мать не выбирают. Мать одна. Ее любят, потому что она — мать. Под Сталинградом мы защищаем нашу мать, Россию. Мы защищаем нашу землю. Издавна народ звал «мать сыру землю» кормилицей и поилицей. Земля — это первая радость человека и это место вечного покоя. Землю поливают потом, слезами, кровью. Землю благоговейно целуют. Боец, под твоими ногами священная земля. Не выдай ее! Не пусти на нее немца. В старину, когда русский человек божился, ему могли не поверить, но стоило ему проглотить щепотку земли, как все знали: этот не обманет. Землей клялись. Землей мы клянемся, крохотной щепоткой и необъятной страной. За Сталинград, за Волгу, за русскую землю! 6 сентября 1942 г. 8 сентября 1942 года Швеция — одна из немногих стран Европы, оставшаяся нейтральной. Не наше дело сейчас говорить о том, кому и чему обязана Швеция этим нейтралитетом. Я не хочу сейчас говорить о том, как понимают те или иные шведы нейтралитет, что больше их занимает — земля, небо или вода. В конечном счете можно ревнивей относиться к небу, нежели к железным дорогам, проходящим по исконно шведской земле. Как Швейцария, Швеция окружена солдатами одной из воюющих стран. Однако в характере шведов — независимость, гордость. Шведы стараются понять смысл происходящей на Востоке трагедии. Я попытаюсь помочь моим читателям распознать некоторые причины русского сопротивления. Шведы хорошо знают Германию и не знают России. Все внешнее как бы говорит о близости к Швеции Германии — не только географической — исторической. Немецкий язык легко доступен шведу. Жителя Мальме не удивит архитектура Северной Германии. Студенты Упсалы понимают рассказы о жизни былого Гейдельберга. Романтика старой Германии, ее музыка, ее липы, ее сентиментальная и опрятная любовь еще живы в сознании среднего шведа. Ему и невдомек, что живое в его сознании давно умерло в гитлеровской Германии. С другой стороны, завоевания современной техники, больницы, школы, типографии Германии еще недавно рядовому шведу казались образцовыми. Он не успел задуматься над тем, что скрыто под лаком образцовой цивилизации. Россия для такого среднего шведа неизвестная и глубоко чуждая страна. Вспоминая учебник истории, он невольно добавляет — враждебная страна. Он забывает, что Карл XII был под Полтавой, но он помнит, что русские были в Питео. Русские города представляются ему огромными восточными деревнями, русская жизнь полуварварской. Он оскорблен предполагаемым отсутствием семьи и «распущенностью» русских. Если он не любит шведских коммунистов, он наивно думает, что Советская Россия — это в большом размере тот или иной шведский коммунист. Никогда он не поверит, что природа России сродни шведской природе, — ему кажется невозможной даже такая связь. Наконец, он возмущается «отсутствием свободы» в России, не замечая, что зачастую об этом говорят люди, искренне ненавидящие свободу, выученики Геббельса и кандидаты в Квислинги. Во всех этих суждениях поражает застылость, непонимание происшедших огромных сдвигов, отсутствие чувства исторических перемен. В то время как сами наци торжественно проклинают девятнадцатый век, в Швеции поклонники гитлеровской Германии любят ее именно за девятнадцатый век, за лирику и философию романтиков, за бидермайер, за Гейне, имя которого неизвестно молодым солдатам Гитлера, за некоторую пусть мещанскую, но все же человеческую филантропию, давно замененную аппаратом гестапо, за провинциальную мечтательность Карлсруэ, Дармштадта, Любека, давно аннулированную планами мирового господства, за универсальность научной мысли, давно перечеркнутую псевдонаучной расовой теорией. Неужели житель Мальме, попав в сегодняшний Штральзунд или Росток, не почувствует, что он попал в иной, незнакомый ему мир? Когда-то Германия была для России «Европой», Западом. Германия притягивала многих русских философов, музыкантов, поэтов — глубина Гете, благородные чувства Шиллера, философия Гегеля, романтическая ирония Гейне, музыка Моцарта, Бетховена, Вагнера, рабочее движение Германии, Бебель и Либкнехт — все это отразилось на развитии русской культуры. Но теперь русские в захваченных областях увидали иных немцев. Гете нет в армии Гитлера, его наследники, видимо, находятся повсюду, только не среди фашистов. Разрыв ясен каждому. Приходится пересмотреть некоторые определения культуры. Кто назовет гитлеровцев, захвативших огромную территорию России, культуртрегерами, не вложив в это слово иронии? Когда-то культурность народа определяли процентом грамотности и количеством мыла, употребляемого на голову населения. В Германии нет неграмотных. Большинство дневников немецких солдат, которые я читал, написаны без грубых грамматических ошибок. Однако содержание этих дневников противоречит самому пониманию слова «культура». Эти полные человеконенавистничества и невежества записи свидетельствуют об одичании их авторов. Стоило ли изобретать книгопечатание, чтобы заменить Эйнштейна Розенбергом и человечность рассуждениями гитлеровских ефрейторов, которые описывают убийства русских детей, добавляя: «Мы уничтожаем маленьких представителей страшного племени.»? Мыло? Да, Германия производила впечатление опрятной страны. Но, придя в русский дом, фашисты обращают его в уборную. Даже внешне они далеки от образца культурного человека. Очевидно, их цивилизованность была позолотой, тонкой пленкой на воскресшем идеале древнего германца, поклонявшегося Вотану. Мы ценим технический прогресс. Десять лет тому назад я описывал шведские поезда, архитектуру Стокгольма, квартиры рабочих Кируны: мы этого не отрицали, нет, мы к этому стремились. Немцы своим вторжением откинули нас далеко назад, они в один год уничтожили многое из того, что мы строили двадцать лет. Да и до войны Германия наци тормозила наше мирное строительство. Нам приходилось строить укрепления вместо городов, делать танки вместо материи или утвари. Уровень жизни широких народных масс сильно поднялся после революции. Выросли новые города, дома с комфортом, больницы, ясли. Страну изрезали новые дороги. Исчезли курные избы, безграмотность, знахари. Впервые крестьяне многих областей сменили лапти на ботинки, впервые женщина Якутии увидела вместо шамана акушера. Работа была трудной. Мы, бесспорно, делали немало ошибок: кто их не сделал бы, берясь за такое дело? История оставила нам много тяжелого, позади было крепостное право, разрыв между просвещенной аристократией и невежеством крестьянства, отсутствие бытового демократизма, безграмотность десятков миллионов, гражданская безответственность. Очевидно, куда легче негативный процесс — Германия наци это доказала. Мы шагали большими шагами. Ко времени нападения Германии мы начали ощущать первые результаты огромного труда, связанного с самопожертвованием и лишениями. То «отсутствие свободы», которым нас попрекают зачастую враги свободы, связано с преодолением косности, с болезнью роста, с остатками темноты. Мы не отрицали и не отрицаем свободы, как это делают апологеты фашизма. Мы просто еще многого не добились, до многого не дошли. Возможные ошибки вытекают из обширности творческого замысла, из трудности материала. Но век Просвещения, Декларация прав человека и гражданина, хартия вольностей, девятнадцатый век Европы для нас не то, что нужно похоронить, но то, что нужно очистить от скверны, творчески продлить и осуществить. Свободное начало живо в наших людях. Они смело критикуют недостатки нашей армии. Они хотят спасти все то подлинное, высокое, что имеется в природе нашего молодого государства. Разрыв с тем миром, который понятен и близок каждому среднему шведу, скорее декларирован нашими врагами, чем существует в нашем сознании. Я укажу хотя бы на привязанность к семье, которая с особенной силой сказалась теперь, когда русские семьи рассечены войной, истекают кровью. Мать, жена, ребенок — эти слова одушевляют наших солдат. Шведы помнят Гете, Бетховена. Но ведь не во имя Гете немцы захватили Европу, превратив ее в пустыню и в концлагерь! Шведам стоит задуматься над универсальностью, человечностью русской культуры. Толстой понятен на всех широтах. Чайковский и Мусоргский стали достоянием человечества. Наша современная культура — прямое продолжение русской дореволюционной культуры. Что ближе к культуре Запада — немецкие и финские орудия, которые уничтожают дворцы Ленинграда, или Седьмая симфония Шостаковича, написанная в этом осажденном городе? Я утверждаю, что Россия теперь защищает от наци свою культуру, которая по генезису и по стремлениям является европейской культурой. Мы защищаем эту культуру от новых иконоборцев, от людей, которые во имя расовой теории и жизненного пространства ополчились на культуру. Мы защищаем от солдат Гитлера не только Толстого и Мусоргского, но Гете и Бетховена. Конечно, национальное чувство с необычайной силой вспыхнуло в сердце каждого русского, когда он узнал, что русские для завоевателей «унтерменши». Пробуждение во всей остроте этого национального чувства не сузило, но расширило духовный мир каждого солдата. Он теперь твердо знает, что история началась не с ним. Комсомольцы восхищенно слушают рассказы о древних русских князьях, отстаивавших Русь от татар, и секретарь партийного комитета с восторгом смотрит на церковь пятнадцатого века, красу старого русского зодчества. Мы защищаем Россию, это теперь знают все. Против нас нет и не может быть русских. Попытка превратить завоевательную войну в «крестовый поход» закончилась фарсом. Теперь об этом говорят уже не бары, но только их глухие и неповоротливые лакеи — Квислинг, Дорио или господа из «Суоми социал-демократен». Однако расцвет национального чувства не вызвал национальной ограниченности. Наше государство было построено на действительном братстве народов, и это — одно из главных достижений нашей революции. Вот почему Ленинград теперь защищают наравне с русскими и украинцами казахи, калмыки, татары, узбеки, якуты, грузины, армяне, все народы нашей страны. Война — это серьезная проверка. Немцы много веков хозяйничали в Праге. Но разве чехи пойдут брать Ленинград? А казахи (их звали до революции киргизами) теперь отстаивают Ленинград. Мы с глубоким уважением относимся к культуре других стран. Если мы не понимаем той или иной стороны жизни того или иного государства, это происходит потому, что мы еще не научились все понимать, а не потому, что мы не хотим понимать чужое. Другое дело наши враги: они считают себя сверхлюдьми, а другие народы «неполноценными». Мы идем к другим народам с раскрытым сердцем и пытливым умом, наци идут к другим народам с пустыми чемоданами, виселицами и презрительной усмешкой. Мы в этой войне защищаем прогресс. Мы отнюдь не считали, что уже достигли идеала. Мы были не музеем, но стройкой. Враг несет нам реакцию, застой, невежество. Мы были юношами, мы не успели созреть. Гитлеровцы хотят нас объявить детьми и поставить над нами нацистских опекунов. Что несет нацистская опека? Феодальный строй без феодальной культуры, отказ от движения вперед, суеверия, рабскую иерархию, невежество, объявленное последним завоеванием «сверхчеловека». Мы, наконец, защищаем идею человека от тупой машины. Здесь нас должен понять каждый швед. Десять лет тому назад я писал после поездки по Швеции: «Приняв технику, Швеция восстала против ее обожествления. Слепота Далена, глаза маяков, которые сейчас спасают рыбацкую шхуну, не могут быть стерты: они меняют глаза рабочих... Шведы не предали ради комфорта идею человека, чрезмерность чувств, фантазию, природу, умение говорить «да» и «нет». Нам отвратительны дары цивилизации, построенной на пренебрежении к живому человеку, к его сложности, к его отклонениям от принятой нормы. Против этого восстала природа России. Таковы двигательные силы нашего сопротивления. Они позволяют нам переживать эти трудные дни. Германия с Европой в обозе навалилась на нас всеми своими танками, бомбардировщиками и вассальным мясом. На один Сталинград брошено тридцать дивизий, полторы тысячи самолетов. Того, что мы ждали весной и в начале лета, не случилось: второй фронт пока остается газетными словами. Мы сражаемся одни, но мы держимся, и мы должны удержаться. Нас не сломят ни потери, ни лишения. Когда защищаешь право на дыхание, на человеческий образ, смерть не страшна. В освобожденных под Ржевом деревнях я видел на женщинах деревяшки с номерами, бирки — такие вешают на коров. Их повесили на шею русских гитлеровцы: перенумеровали рабынь. Уж лучше висеть на виселице!.. Срывая с освобожденных эти бирки, мы сражаемся не только за себя, но и за другие народы, за Европу, за человечество. Это я должен был сказать нейтральным шведам. Сердце не государство, сердце не бывает нейтральным. Бить и бить! Вчера впервые, после недель летнего зноя, прошел над окрестностями Сталинграда небольшой дождь. Он как бы напомнил немцам о сроках. На дворе сентябрь. Среди немецких солдат имеются ветераны. Они знают, что такое зима. Гитлер торопится. Он кидает в бой новые дивизии. Он ищет развязки. Он беснуется, как прошлой осенью. Стал красным Терек от немецкой крови. Еще недавно цветущие окрестности Новороссийска превратились в немецкие кладбища. Окраины Сталинграда завалены немецкими трупами. Немцы рвутся к Волге, как в ноябре они рвались к Москве. Советский Сталинград — это угроза их флангу. Советский Сталинград охраняет Грозный, Закавказье, Баку. Советский Сталинград — это русский часовой на берегу русской реки. На Сталинград немцы бросили огромные силы. Кажется, еще не было такой битвы. Военный корреспондент «Дейче рундшау» пишет: «Переутомленные беспрерывными боями, немецкие дивизии натолкнулись на противника, решившего сопротивляться во что бы то ни стало. Русская артиллерия, и прежде причинявшая нам немало хлопот, является основным препятствием... Русские доходят до того, что взрывают себя в дзотах. Можно представить себе, каково нашим сражаться с таким противником. Крепость Сталинград защищена не только мощными сооружениями, но и тем русско-азиатским фанатизмом, с которым мы уже не раз сталкивались. Наши серые лица покрыты грязью, а под ней морщины — следы летних боев. Немцы сражаются до предела человеческих возможностей...» Сталинград — не крепость. Сталинград — город. Но каждый город, каждый дом становится крепостью, когда его защищают мужественные люди. Напрасно немецкий журналист говорит о «пределе человеческих возможностей». Немцы хотят взять Сталинград не храбростью, но числом. Они навалились на этот город всей массой — своей и вассальной. Это не люди, и нет у них «человеческих возможностей» — у них танки, самолеты, машины и рабы. Когда русские сражаются, нет предела их возможностям. Они держатся, когда могут, и они держатся, когда человек больше не может выдержать. Что их удерживает на клочке земли, какая волшебная сила? Глупый немец говорит о «русско-азиатском фанатизме». На человеческом языке это называется по-другому: любовью к родине, она одна у москвичей и сибиряков. Свыше двадцати танков шли на рубеж. Кучка гвардейцев ожидала врага. На берегу реки, среди мелкого кустарника прямо с ходу бойцы оборудовали оборону. Когда головной танк подошел на двести метров, раздался первый выстрел. Враг хотел во что бы то ни стало пройти. Гвардейцы перед боем, на берегу реки, когда только-только подымалось красное утреннее солнце, дали друг другу клятву: «Друзья, не пропустим». Бронебойщики били танки, другие — немецких автоматчиков. Среди гвардейцев были отец и сын: Григорий и Иван Завьяловы. Тяжело раненный Григорий Завьялов отдал свое ружье сыну и сказал: «Бей из моего! Отомсти за отца!» Атака была отбита. Одиннадцать танков были уничтожены. Бойцы, подымите ружья павших героев! Мстите за них! Отец говорит сыну: «За меня убей!» Родина говорит своим сыновьям, раненая наша родина: «Отомсти за меня! За меня убей!» 10 сентября 1942 г. 15 сентября 1942 года (Письмо чилийскому поэту Пабло Неруде) Дорогой Пабло Неруда! Мы встретились в обреченной Испании. Мы расстались в обреченном Париже. Мы многое потеряли. Расставаясь, мы говорили о верности: мы сохранили веру. Я хочу теперь сказать Вам, что на русской земле идет грозная битва: за нас, за вас, за Париж, за Америку, за нашу любимицу Испанию, за гуманизм, за искусство, за жизнь. Я хочу Вам сказать, что мы сражаемся одни против страшной силы, что все народы и все люди должны услышать бурю над Волгой и вступить в бой. Вы написали о страшном кровавом блюде Альмерии. Вы помните злосчастный день, когда немецкий корабль уничтожил мирный испанский город, убил рыбаков, женщин, детей. Тогда это было внове, мы негодовали. Теперь негодовать незачем. Теперь нужно одно: воевать. Альмерия для нас была трагедией. Для фашистов Альмерия была репетицией, примеркой, маневрами. Я обращаюсь к Вам, Пабло Неруда, прекрасный поэт далекой Америки. Я обращаюсь к Вашим и к моим друзьям, к писателям Мексики и Чили, Аргентины и Бразилии, Уругвая и Кубы, Венесуэлы и Эквадора. Я обращаюсь к интеллигенции Латинской Америки. Я хочу сказать, что мы отстаиваем на Кавказе Анды, что мы боремся в России не только за нашу свободу — за свободу мира, что от исхода этих битв зависит ваша судьба. Вы живы высокими традициями. Ваша культура не амальгама, но синтез. Для немецких расистов вы «помесь». Для нас вы носители большой, новой и самостоятельной цивилизации. Мы преклоняемся перед искусством древней Америки. Во всей Германии не сыщешь такого богатства, такого высокого искусства, как в одном из лесов Америки, где высятся реликвии инков или ацтеков. Вы взяли у бессмертной Испании самое прекрасное: ее культ человека, ее нежную суровость, ее скромную гордость, ее универсальность. Вы отдалены от окровавленной Европы океаном. Волны могут грозить, они могут и убаюкивать. Вас убаюкивают волны океана. Вас убаюкивают волны радио. Вы можете проснуться слишком поздно. Слишком поздно проснулась Испания — 18 июля 1936 года. Слишком поздно проснулся Париж — 14 июня 1940 года. Колыбельные песни иногда страшнее сирен, которые теперь наполняют ночи Европы. Одни вам говорят, что бой происходит за право России на советский строй, другие возражают, что бой идет за русскую землю, за русскую нефть. Может быть, некоторые из вас равнодушно просматривают телеграммы с чужими для вашего уха именами. У вас нет советского строя. У вас своя земля и своя нефть. Что вам эта война? Но бой идет не за наше право на советский строй. Вы знаете, Пабло Неруда, что во главе Франции стояли радикалы. Вы знаете, что Хираль и Асанья не были коммунистами. Вы знаете, что в Голландии была королева, а в Норвегии король. Бой идет не только за нашу нефть и нашу землю. Бой идет за нечто большее — за человека. Немецкая цивилизация — это машина. Немцы хотят всех обкорнать на свой лад. Это автоматы, дикари, оснащенные великолепной техникой. Они возомнили себя избранной расой. Они хотят подчинить себе мир. Народы иных культур — латинской, славянской или англосаксонской — должны стать рабами немцев. Люди должны стать рабами машин. Немцы отрицают Возрождение, гуманизм, французских энциклопедистов, девятнадцатый век. Зачем им Леонардо да Винчи с его сложностью? У них конструктор Мессершмитт. Зачем им Сервантес, Кеведо, Гонгора, Мачадо, Дарио, Лорка? У них философия Розенберга, песни штурмовиков и много танков. Недавно в селах близ Ржева, освобожденных от немцев, мы увидали на крестьянах деревянные бирки — такие бирки надевали прежде на скот. На бирках — название деревни и номер человека. Все русские в захваченных немцами областях обязаны носить такие бирки на шее. Фашисты хотят лишить человека даже имени: он становится номером. У них готовы бирки для всех. И для американцев. Вас не спасет океан. Вас может спасти одно: мужество. Проснитесь до тревоги, после тревоги вы уже не сможете проснуться! Сейчас на полях России идут суровые бои. Тем временем многие еще дремлют. Вы помните, Пабло Неруда, Париж за несколько месяцев до его гибели? Французы тогда шутили: «drole de guerre». Теперь французам не до смеха. Вы умнее нас на океан. Но фашисты умеют переплывать через моря. Если их не уничтожат теперь, они бросятся на Запад. Англия станет еще одной примеркой; за Англией последует Америка. Дорогой друг Пабло Неруда, Вы слышали запах коричневой смерти. Скажите Вашим друзьям, скажите Вашему народу, скажите всем народам Америки, что наступил двенадцатый час. Если Америка не пойдет походом на Германию, Германия пойдет походом на Америку. Я пишу эти строки в раненой и опечаленной России. Горе посетило нашу землю. Молчат матери, потерявшие сыновей, молчат жены, потерявшие мужей, молчат развалины древних городов Киева, Новгорода, Пскова. Молчат вытоптанные нивы. Молчат музы. Молчат дети. Вы слышите это молчание? Слово принадлежит оружию. Если вы не будете воевать в Европе, война придет в Америку, в ваши города, к вашим детям. Я тороплю мужественных солдат. Я с жалостью отворачиваюсь от беспечных. Сейчас еще можно победить и жить. Может быть, завтра нам останется одно — и нам и вам: победив, умереть! 17 сентября 1942 года На месте моих собратьев, английских и американских корреспондентов, находящихся в России, я передавал бы очень коротко: «Пора. Пора». Что можно к этому добавить? Посторонним наблюдателям можно было бы рассказать об эффектных атаках казаков, о городе, который вот уже месяц горит и не сгорает, о степных пейзажах, о смелых горцах, которые в ущельях караулят немецких пивоваров и колбасников. Обо всем этом когданибудь напишут тома. Сейчас об этом можно говорить только зрителям. Зрителей нет. Англия, Америка — это союзные армии. Им нужны не описания природы, а боевые донесения, что же им сказать, кроме одного: «Пора!»? За последние пять дней немцы бросили на Сталинград новые части. Я не хочу говорить о том, откуда эти солдаты прибыли. В 1938 году, когда мы говорили: «Мюнхен — катастрофа. Гитлер хочет забрать Европу по частям», — нам отвечали: «Это пропаганда». Теперь, когда я сообщаю, что под Сталинградом оказались солдаты, еще недавно отдыхавшие в Трувиле или в Остенде, мне говорят: «Это пропаганда». Нет, это не «пропаганда», это попросту немецкие дивизии. Сопротивление русских в сентябре стало исключительно ожесточенным. Сами немцы пишут о «фанатизме большевиков» в Сталинграде и на Кавказе. На северо-западной окраине Сталинграда немцы должны брать приступом каждый дом, каждую яму, каждую воронку. Контратаки русских к северу от Сталинграда продолжаются. Они подчеркивают шаткость положения немцев. Фон Бок это знает, он хочет выиграть во времени. Немецкие дивизии, переправившиеся на южный берег Терека, встретили отчаянное сопротивление. Немцев здесь сильно побили. Они пытались идти на Грозный. Они повернули на юг, к Орджоникидзе, но и здесь они встретили отпор. Немецкие части, пытавшиеся наступать через горы на Северную Осетию, на Сухуми, Туапсе, отказались от своего плана. Все они убраны с гор и присоединены к немецким армиям, действующим в районах Моздока и Новороссийска. На побережье положение без перемен. Заняв Новороссийск, немцы не двинулись дальше. Русские находятся в пригородах города — в соседней Станичке. На других фронтах русские сохраняют инициативу. Бои на юг от Ржева, происходившие в первой половине месяца, позволили русским улучшить позиции и нанести ущерб живой силе противника. Наступление на Синявино, юго-восточнее Шлиссельбурга, дало хорошие результаты. Взят опорный пункт врага Вороново. Таково положение на различных фронтах. Оно диктует мое заявление: «Пора!» Немцы торопятся. Это не означает, что торопиться должны только немцы. Черчилль сказал в своей речи: «Сегодня 8 сентября...» Неужели наши союзники возлагают свои надежды на одно: на погоду? Напомним: в прошлом году немцы начали свое наступление на Москву 3 октября. Напомним: Кавказ не Сибирь, там климат близкий к Ривьере. Не будем надеяться на глупость противника. Немцы испытали, что такое русская зима, и на этот раз Гитлер стал готовиться к зимней кампании в мае. За последние дни немцы раскидывают листовку: «Черчилль и Рузвельт вас обманули. Они не хотят и не могут вам помочь. Зачем вы сражаетесь за плутократов?» Наши бойцы с омерзением откидывают эти листовки: они знают, что они сражаются за Россию, за Родину. Но было бы лицемерным сказать, что наши союзники вызывают теперь только восторги. Офицеры и солдаты спрашивают: «Где же второй фронт? Чего они ждут? Будут они воевать или нет?» Весной я писал, что наша страна с недоумением видит пассивность союзников. После одной из моих статей был запрос в английском парламенте: один депутат запросил министра информации, достаточно ли информирован русский народ о помощи, оказываемой ему союзниками. С тех пор прошло четыре месяца. Англичане начали выпускать у нас газету на русском языке «Британский союзник». Я видел эту газету на фронте. Наши командиры смотрят на фотографии, представляющие очаровательные пейзажи Англии или учебные занятия томми, и спрашивают: «Чего они ждут?» Все у нас знают, что англичане или американцы доставили нам некоторое количество вооружения. Я был недавно на аэродроме, где летчикам вручали гвардейское знамя. Это были летчики, бомбившие Берлин и Будапешт. Они летают на русских самолетах. Но на аэродроме мы видели некоторое количество превосходных американских бомбардировщиков, которые тоже делают полезное дело. Они бомбят близкий немецкий тыл. Летчики мне говорили: «Мы ждем англичан над Берлином — ведь они назначили это свидание. Над Дюссельдорфом нам так же трудно с ними встретиться, как над Смоленском». Что это значит? Что наша армия ждет от союзников смелых боевых действий. Поставкой вооружения нельзя заменить второй фронт. Если у англичан мало судов, чтобы перевезти солдат через узенький пролив, откуда они возьмут суда, чтобы снабдить вооружением даже часть многомиллионной русской армии? Пятьдесят дивизий на побережье Атлантики сыграли бы большую роль в борьбе за Волгу и Кавказ, чем все поставки. Одно другому не мешает, но одно не заменяет другого. Вот почему, развернув газету «Британский союзник», русский лейтенант меня вчера спросил: «Хорошо, но это как загадочная картинка — где же британский союзник?» Пленные в один голос говорят, что зимой немцы создадут в России «восточный вал», а потом повернутся против Англии и Америки. Неужели Германии еще раз будет предоставлена инициатива? Неужели союзники не поймут, что теперь они еще могут наступать одновременно и совместно с русскими, что время работает против медлящих, что пора действовать? Русский Антей Немцы озадачены мужеством защитников Сталинграда. Они философствуют: «Почему русские не капитулируют?» Газета «Берлинер берзенцейтунг» («Биржевая берлинская газета») пишет 6 сентября: «Поведение противника в бою не определяется никакими правилами. Советская система, создавшая стахановца, теперь создает красноармейца, который ожесточенно дерется даже в безвыходном положении. На том же исступлении построена советская военная промышленность, беспрестанно выпускающая невероятное количество вооружения. Русские сопротивляются, когда сопротивляться нет смысла. Они производят впечатление лунатиков, для которых война протекает не на реальной земле, а в мире воображаемых понятий». Берлинские биржевики перемудрили. Каждый красноармеец знает, что война идет на земле, а не на бумаге. Война идет на нашей, русской, земле. Для немцев степь — это поле сражения, и только. Мы знаем, что эта степь пахнет полынью, для нас эта степь — родная. Для немцев Сталинград — крупный населенный пункт, стратегически важный центр. А в Сталинграде живут наши родные, наши друзья. Мы гордились его домами, школами, заводами. Мы его строили в радости и в муке, как мать рожает дитя. Для немцев Волга — водный рубеж. Нужно ли говорить о том, что для нас Волга? Немцы увидели ее и равнодушно сказали: «Ага, большая река», а русские пять веков звали Волгу «матушкой». Для немцев наши поля — «пространство». Для нас они — родина. Для немцев наши богатства — трофеи. Для нас они — наш пот, наша кровь, наша история. Для немцев русские женщины — рабыни. Для нас они — наши жены, наша любовь, наша жизнь. Немцы из «Биржевой газеты» удивляются: почему русские сражаются «в безвыходном положении?» Для русского нет безвыходного положения. Можно сравнивать равные величины. Можно сказать, что полк больше батальона, а батальон больше роты, можно взвесить различные снаряды, можно проверить толщину различной брони. Но нельзя сравнивать человеческое сердце с танком, человеческий мозг с минометом, человеческое мужество с бомбой. Сержант Иван Бобрик пробрался в подбитый немецкий танк, стоявший вблизи переднего края противника. Он просидел там с телефонным аппаратом тринадцать суток: он направлял наш огонь. В танке сержант нашел пулеметное гнездо. Пулемета не было. Ночью Иван Бобрик вылез из машины: он решил найти немецкий пулемет. Он его нашел, прочистил, смазал, набрал патронов. На четырнадцатый день немцы догадались, где засел русский наблюдатель. Они двинулись на танк. Сержант их встретил пулеметным огнем. Немцы начали обстреливать танк из орудий. Иван Бобрик выбрался из машины и дошел до наших. Ночью он сказал: «Пулемета жалко», пополз к танку и принес немецкий пулемет с патронами. Иван Бобрик четырнадцать дней был в «безвыходном положении», но у него было мужество, и он нашел выход. Радист Рувим Спринцон и три его товарища пять дней, без отдыха, без сна, без еды, окруженные врагами, направляли огонь нашей артиллерии. Когда немцы подошли вплотную к развалинам, где находилась рация, Рувим Спринцон спокойно передал: «Огонь на нас!» Казалось, выхода нет. Но немцы дрогнули под артиллерийским огнем. Рувим Спринцон и три его товарища выбежали с автоматами, начали уничтожать немцев. Самолет Бориса Голубева был сбит. Раненый летчик оказался в тылу противника. Четверо суток он брел к нашим. Он дошел. Его перевязали. Он попросил бумагу и написал дрожащей рукой: «Здравствуй, товарищ Сорокин. Пишет тот, кого вы потеряли 9-го числа. Задание выполнено. Машина сгорела. У меня перебита правая рука, обожжено лицо». Напускная храбрость декламирует. Но что возвышенней этих скромных слов: «Задание выполнено». Наши наступали, но огонь противника был настолько яростным, что пехота залегла. Тогда артиллерист старшина Толстопятов крикнул своим друзьям: «А ну-ка!..» Их было двенадцать. Они прошли к проволоке, пробили проход, прорвались в расположение немцев. Старший сержант Решетов ворвался в дзот и повернул пулемет против немцев. Так двенадцать смельчаков разгромили штаб батальона. За ними пошла пехота. Несколько наших разведчиков отправились за «языком». Заместитель политрука Куникбаев увидел трех немцев. Он посмотрел, кто из них командир. Двух солдат Куникбаев застрелил, а немца с петличками вытащил из дзота. Прибежали другие немцы. Куникбаев дрался ногами — руки у него были заняты. Он приволок немца, и немец, очухавшись, вытащил папиросы: «Битте... битте... пожалуйста...» Куникбаев папирос не взял, ответил: «То-то, знаем сами, что биты, и еще не так бить вас будем...» Это — будни боя, это то, о чем не пишут в сводках, это повседневное мужество наших бойцов. Могут ли понять берлинские биржевики, что такое русское сердце! Они в недоумении смотрят на дымящиеся развалины домов. Почему к этим развалинам не подходят бравые фрицы? Почему не развевается паучий флаг над Сталинградом? Но там — не только камни, там люди. И люди сражаются: это — русские люди. Любовь к родине разлилась, как река в половодье, затопила все. Уже нет отдельной судьбы человека. Есть только судьба родины. Жизнь бойца неразрывно связана с сотнями дружеских жизней, и все они — это жизнь России. Припадая к земле, русский Антей находит новые силы, и он встает, он идет на врага, Антея не сразить. Немцы дошли до Волги. Немцы хотят нас схватить за горло. Но для нас нет «безвыходного положения». У нас есть выход — один, но верный: перебить немцев. И мы их перебьем! 20 сентября 1942 г. Ожесточение Когда-то мы думали об осени как о времени мудрости и покоя. Мы увидели другую осень, все в ней — тревога. Беспокойной кажется яркая листва, золото и кровь лесов. Томит холодное блистательное солнце, а по ночам даже ракеты не способны скрыть мотовства рассыпанных звезд. Разор в природе, тоска, ожесточение. Разорена страна, едешь, и вместо сел — надписи на карте; не разобрать, где стояли избы. Издали Торжок или Старица похожи на город, но города нет, вместо домов обгоревшие фасады. В редких деревнях, где уцелели дома, пусто и неуютно. В одной деревне, освобожденной от немцев, остались памятники загадочной для нас цивилизации. Вокруг избы, где жили офицеры, посажены березки, а среди деревьев игрушечная виселица: на ней фрицы, забавляясь, вешали кошек — людей не было, людей немцы угнали. Судя по карте, здесь была деревня. Трудно в это поверить. Немецкие блиндажи. Воронки. Свист снарядов. Резкий ветер кружится на месте. Бойцы курят и однозвучно говорят: «Перелет... недолет...» У них красные глаза — сколько ночей длится эта битва? Когда на минуту воцаряется тишина, всем не по себе. Как загадочны среди этого пейзажа колхозница, девочка с жидкой косицей и белая собачонка! Ищут в земле — мешок картошки и самовар. Женщина сгибается от свиста, собачка распласталась на земле, а девочка спокойно рассказывает: «Здесь колодец был. Главный немец приказал из колодца блиндаж сделать; пугливый, гад, когда наши подошли, он выскочил и на велосипед, как был, в трусах, но его стукнули, а велосипед вон там — попорченный...» Ей жаль велосипеда. Я спрашиваю: «Ты откуда?» Она коротко отвечает: «Тася. Пионерка». С бугра виден военный городок. Два больших корпуса. Немецкие бомбардировщики пикируют на западе. Дым. Артиллерийская гроза растет. Перед Ржевом — маленький лесок. Немцы сегодня атакуют: танки, пехота. В блиндаже связист, пытаясь покрыть грохот, упрямо повторяет: «Долина... Долина... здесь Дунай...» Потом к телефону подходит полковник и кричит: «Положение восстановлено». Немцы пытались отрезать наши части, занимающие окраины города. Они бросили в бой две новые дивизии — 110-ю пехотную и 5-ю танковую. Вот пленные, они пробыли на этом фронте всего несколько часов. На опушке рощи трупы немцев и двадцать один подбитый танк. Это счет за второе октября. Генерал-полковник Модель хотел, видимо, отпраздновать годовщину похода на Москву, фейерверк влетел немцам в копейку. Огромное зарево: горит Ржев, вернее, то, что осталось от Ржева. Кварталы — условные понятия. Там, где были дома, — блиндажи, окопы. Я спросил пленного фельдфебеля: «Почему вы так держитесь за развалины небольшого города?» Он ответил: «Господи, бог ты мой, это только называется Ржев, а на самом деле это — ворота. Так дело может дойти и до Берлина...» Немцы держатся за Ржев как за предмостное укрепление. Они еще не отказались от планов наступления — на потерянный Зубцов. Для немцев Ржев связан с прошлогодней мечтой о Москве. Ржев для них также барьер — позади Вязьма, Смоленск, Белоруссия. Не смолкает суровая музыка боя. Труп немца. Неотправленное письмо обер-ефрейтора Роберта Клопфа своему брату: «Это нужно пережить самому, чтобы понять, что такое настоящая война. Здесь идет жесточайшая битва. Вопрос стоит — быть или не быть». Для ефрейтора вопрос решен: он лежит под кровавым огрызком ущербной луны. Будет решен вопрос и для проклятой Германии. Легко раненные не хотят уходить с поля боя. У них невидящие глаза, как будто их разбудили среди ночи и не дали очнуться. Они еще дышат грозным воздухом битвы. Один показывает на зарево и говорит: «Пойду туда...» Гвардии генерал-майор Чанчибадзе, горячий и неистовый, как лето Грузии, отдает приказ: «Мертвых похоронить. Раненых отправить в тыл. Остальные вперед». В темном блиндаже раздают ордена гвардейцам. У всех изможденные, но твердые, как бы из камня высеченные лица. Что сделали немцы с нашим народом? Были благодушные мечтатели, парни, делившиеся с пленными последней щепоткой махорки, были любители баяна и гуманисты, на всех языках Союза твердившие о братстве, был народ ржи и васильков, теплого дерева и ласки. Другой теперь народ. Закаменели лица, блестят при свете коптилки сухие глаза. Не прикрепив орденов к груди, гвардейцы спешат на юг: Ленин и звезда у них в сердце. А рядом под минами женщины копают картошку. Они тоже устали, замучились, но они упрямо повторяют: «Бить гада!.. Нужно будет, и мы пойдем...» Недалеко от Ржева я зашел ночью в избу, чтобы отогреться. Со мной в машине ехал американский журналист Стоу. Старая колхозница, услыхав чужую речь, всполошилась: «Батюшки, уж не хриц ли?» (она говорила «хриц» вместо «фриц»). Я объяснил, что это американец. Она рассказала тогда о своей судьбе: «Сына убили возле Воронежа. А дочку немцы загубили. Вот внучек остался. Из Ржева...» На койке спал мальчик, тревожно спал, что-то приговаривая во сне. Колхозница обратилась к американцу: «Не погляжу, что старая, сама пойду на хрица, боязно мне, а пойду. Вас-то мы заждались...» Стоу, видавший виды, побывавший на фронтах Испании и Китая, Норвегии и Греции, отвернулся: он не выдержал взгляда русской женщины. Донбасс, Дон, Кубань — каленым железом прижигал враг наше сердце. Может быть, немцы ждали стона, жалоб? Бойцы молчат. Они устали, намучились, многое претерпели, но враг не дождался вздоха. Родилось ожесточение, такое ожесточение, что на сухих губах трещины, что руки жадно сжимают оружие, что каждая граната, каждая пуля говорит за всех: «Убей! Убей! Убей!» Короткие рассказы. Связист Кузнецов, рабочий из Уфы, устанавливал связь через Волгу: «Течение быстрое, я камень взял, чтобы не отнесло, а на воде пузыри — фрицы строчат... Вышел, — холодно, а во мне все горит. Вдруг фриц «хальт» — с автоматом. Я его стукнул...» У колхозника Петра Колесникова в Горьковском крае жена, две дочки; он коротко говорит: «Провод клал. Фриц, другой. К черту, кувырнулись». Башкир Галиахпатов учился на агронома. Он только что прикончил четырех немцев. Он хотел возделывать родимую землю, он научился ее защищать. Когда на узбека Казбекова бросились немцы, он одного задушил. Боец Ештанов убил четырех фрицев — трех оружием, четвертого ударом головы. Минометчик, парень из Новосибирска, говорит: «Мы его так тряхнем, что он свою фрау забудет». А другие молчат. Чем сильнее ненависть, тем меньше у нее слов. Любовь тоже может дойти до немоты. Давно, среди голых Кастильских гор, я писал: Нет у верности другого языка, Кроме острого граненого штыка. Я думаю об этом, глядя на исступленное бледное лицо чкаловского сталевара Даниила Алексеевича Прыткова. Я просидел с ним вечер в блиндаже. Я мало узнал об его прошлом, но в моих ушах звучит: «Я заколол офицера отечественным штыком». Прытков ненавидит немцев, и он их презирает, у него к ним гадливость. Он контужен, плохо слышит, чересчур тихо он говорит подполковнику Самосенко: «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат. У меня немецких шестнадцать штук было — роздал. Противно мне из них стрелять». Он не хочет пить воду из немецкой фляги: «Потерплю. Противно...» Он говорит: «Вижу, тринадцать фрицев звездочки считают. Сидят в яме и курят. Я их из отечественного автомата... Один, здоровый, на меня прыгнул, я его отечественным прикладом...» Слово «отечественный» для него имеет особый смысл, он говорит не по словарю — по сердцу, и в его словах слышится большая отечественная ненависть. Рассказ Прыткова кажется фантастичным: полтора дня он ходил по ржевскому лесу и убивал немцев. Он снимал планшеты, кресты, брал оружие и шел дальше. Ему говорили: «Хватит. Иди назад». Он отвечал: «А наступать кто будет?» В нем огромное нетерпение — нетерпение России. Контуженый, он подносит часы к уху, качает головой: «Не слышу», потом добавляет: «Ничего, там услышу...» Что сделал Даниил Прытков? Можно разбить его эпопею на ряд изумительных эпизодов. Можно рассказать, как на Прыткова кинулись четыре немца. Он выхватил у немецкого офицера кинжал и прикончил его: «Этого не отечественным — немецким оружием». Он полз с гранатами и подавил четыре вражеских пулемета. Он пошел вперед и вышиб немцев из окраинного дома военного городка. Он сделал это по своей инициативе: в трехстах шагах от Прыткова был немецкий склад боеприпасов, его защищали автоматчики. Прытков не мог ждать («А наступать кто будет?») — и он овладел складом. У Прыткова на Урале старая мать, Евдокия Даниловна. Он говорит: «Трудно ей...» Ненависть не падает с неба, ненависть нужно выстрадать. Был у Прыткова друг, любимый человек, политрук Ведерников. «Убили, гады, моего комиссара», — срывается голос, рука тянется к автомату. Он пришел из леса — «держите», и лег спать, измученный, а старшина записывал: 5 Железных крестов, 1 медаль, 4 снайперских значка, 4 парабеллума, 1 автомат, 2 снайперских винтовки... Этот сын уральского казака, наверно, был когда-то обыкновенным мальчиком, учил таблицу умножения, играл в городки, вырос, научился мастерству, нравился девушкам, ходил в кино, жил, как миллионы юношей. Теперь его лицо стало вдохновенным, строгое и отрешенное. Он оглох от контузии, но он все время как будто прислушивается к музыке боя. Он торопится, говорит подполковнику Самосенко: «Пойду туда» — и показывает на Ржев. Напрасно добрый подполковник журит его: «Отдохни еще денек». Прытков не хочет: «А наступать кто будет?..» Прыткову кажется, что некому наступать. Но вот сейчас наши бойцы перешли в контратаку. Еще один квартал очищен от немцев. Не остановят бойцов ни мины, ни пули. Есть кому наступать — наступает Россия, и угрюмо смотрят бойцы на Волгу — они помнят про Сталинград. А Ржев все еще горит. Зарево пожара в утреннем свете кажется свечой, которую забыли погасить. Мы тебя благословляем, великое ожесточение второго года! 8 октября 1942 г. Немец Фридрих Шмидт был секретарем тайной полевой полиции 626-й группы при первой танковой армии германских вооруженных сил. Таково его звание. Секретарь вел дневник. Он начал его 22 февраля сего года, а закончил 5 мая. Дневник он вел в Буденновке, близ Мариуполя. Вот выдержки из дневника Фридриха Шмидта: «25 февраля. Я не ожидал, что сегодняшний день будет одним из самых напряженных дней моей жизни... Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденновку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00... Старик Савелий Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны... Уничтожен также четырехлетний ребенок любовницы Горавилина. Около 16.00 ко мне привели четырех восемнадцатилетних девушек, которые перешли по льду из Ейска... Нагайка сделала их более послушными. Все четверо студентки и красотки... В переполненных камерах кошмар... 26 февраля. События сегодняшнего дня превосходят все мною пережитое... Большой интерес вызвала красотка Тамара. Затем привели еще шесть парней и одну девушку. Не помогали никакие уговоры, никакие самые жестокие избиения нагайкой. Они вели себя чертовски! Девушка не проронила ни слезинки, она только скрежетала зубами... После беспощадного избиения моя рука перестала действовать... Я получил в наследство две бутылки коньяка, одну от лейтенанта Коха из штаба графа фон Ферстера, другую от румын. Я снова счастлив. Дует южный ветер, начинается оттепель. Первая рота полевой жандармерии в трех километрах севернее Буденновки поймала пять парней в возрасте семнадцати лет. Их привели ко мне... Началось избиение нагайкой. При этом я разбил рукоятку на мелкие куски. Мы избивали вдвоем... Однако они ни в чем не сознались... Ко мне привели двух красноармейцев... Их подвергли избиению. «Отделываю» сапожника из Буденновки, полагавшего, что он может себе позволить выпады против нашей армии. На правой руке у меня уже болят мускулы. Продолжается оттепель... 1 марта. Еще одно военное воскресенье... Получил содержание 105 марок 50 пфеннигов... Сегодня снова обедал у румын. Я замечательно пообедал... В 16.00 меня неожиданно пригласили на кофе к генералу фон Ферстеру... 2 марта. Мне не по себе. Внезапно у меня начался понос. Я вынужден лежать... 3 марта. Допрашивал лейтенанта Пономаренко, о котором мне доложили. Пономаренко был ранен 2 марта в голову, бежал в колхоз им. Розы Люксембург, там переоделся и скрывался. Семья, укрывшая Пономаренко, сначала лгала. Я, разумеется, избил их... Вечером снова ко мне привели пятерых из Ейска. Как обычно, это — подростки. Пользуясь своим уже оправдавшим себя упрощенным методом, я заставил их сознаться — я пустил, как всегда, в ход нагайку. Погода становится мягче. 4 марта. Прекрасная солнечная погода... Унтер-офицер Фойгт уже расстрелял сапожника Александра Якубенко. Его бросили в массовую могилу. У меня все время ужасно чешется тело. 6 марта. Я пожертвовал 40 марок в фонд «зимней помощи». 7 марта. Мы живем еще хорошо. Получаю масло, яйца, кур и молоко. Ем каждый день различные закуски... В 16.00 ко мне снова приводят четырех молоденьких партизан... 8 марта. Унтер-офицер Шпригвальд и фрау Рейдман вернулись из Мариуполя. Они привезли почту и письменный приказ Грошеку о расстреле... Сегодня я уже расстрелял шестерых... Мне сообщили, что из Веселого прибыла еще одна семнадцатилетняя. 9 марта. Как улыбается солнце, как сверкает снег, но даже золотое солнце не может меня развеселить. Сегодня трудный день. Я проснулся в три часа. Мне приснился страшный сон: это потому, что я должен сегодня укокошить тридцать захваченных подростков. Сегодня утром Мария мне приготовила аппетитный торт... В 10.00 ко мне снова привели двух девушек и шесть парней... Мне пришлось беспощадно избить их... Затем начались массовые расстрелы: вчера шестерых, сегодня тридцать три заблудших создания. Я не могу кушать. Горе, если они меня поймают. Я больше не могу себя чувствовать в безопасности в Буденновке. Бесспорно, что меня ненавидят. А я должен был так поступать. Если бы мои родные знали, какой трудный день я провел! Ров почти уже наполнен трупами. И как геройски умеет умирать эта большевистская молодежь! Что это такое — любовь к отечеству или коммунизм, проникший в их плоть и кровь? Некоторые из них, в особенности девушки, не проронили ни слезинки. Ведь это же доблесть. Им приказали раздеться догола (одежду нам надо продать)... Горе мне, если меня здесь поймают! 11 марта. Низшую расу можно воспитать только поркой. Рядом с моей квартирой я построил приличную уборную и повесил большую вывеску, что пользование уборной гражданским лицам воспрещается... Напротив моей спальни находится канцелярия бургомистра, куда утром приходят рабочие, занятые на земляных работах. Несмотря на объявления, они пользуются уборной. А как я их за это избиваю! Впредь я буду за это расстреливать. 13 марта. Вследствие чрезмерной работы я уже давно не писал домой. Собственно говоря, у меня и нет желания писать своим — они этого не заслужили... Затем я приказал избить русского, ему 57 лет, и его зятя за непочтительные выражения по адресу немцев. Затем я пошел к румынскому полковнику... 14 марта. Снова наступили сильные холода. У меня опять понос и боли в области сердца, я приказал позвать врача... Он поставил диагноз: расстройство желудка и невроз сердца... Сегодня я приказал расстрелять Людмилу Чуканову — 17 лет. Я должен убивать подростков, вероятно, поэтому у меня нервное состояние сердца. 17 марта. Моя первая работа с утра — приказал привезти на телеге из госпиталя пятого русского парашютиста и тут же перед массовой могилой расстрелял его... После этого я мирно прожил день. После обеда совершил прогулку. Земля подмерзла. 19 марта. Я слег. Приказал пригласить нашего военного врача. Он выслушал и нашел, что у меня сердце в порядке. Он констатировал душевную депрессию. Против запора он дал мне пилюли, а против зуда мазь... У нас хорошая свинья. Мы заказали колбасы. 21 марта. Такого страшного дня в Буденновке мы еще не переживали. Вечером появился русский бомбардировщик, он сбросил осветительные ракеты, а затем двенадцать бомб. Окна в рамах звенели. Можно себе представить, какое у меня было чувство, когда я, лежа в кровати, слышал гудение самолета и разрывы... 23 марта. Сегодня я допрашивал одну женщину, которая обокрала мою переводчицу, фрау Рейдман. Мы ее высекли по голому заду. Даже фрау Рейдман плакала при виде этого. Потом я гулял по деревне и зашел к нашему мяснику, который готовит мне колбасы... Затем я допросил двух парнишек, которые пытались пройти по льду к Ростову. Их расстреляли как шпионов. Затем ко мне привели еще одного паренька, который несколько дней тому назад пришел по льду из Ейска... Между тем мне приносят ливерную колбасу. На вкус неплохо. Я хотел высечь одну комсомолку... 27 марта. Ночь прошла спокойно... Я допрашиваю двух четырнадцатилетних мальчиков, которые бродили в окрестностях. Приказал избить одну женщину за то, что она не зарегистрировалась. 28 марта. Пошел в гости к полковнику арбейтсфюреру Вейнару. В 18.00 я приказал расстрелять мужчину и женщину, которые пытались пройти по льду... 1 апреля. Получил 108 марок в рублях — большая пачка денег. Валя снова массирует и купает меня... 10 апреля. Солнце печет. Когда утром Мария раскрывает окно, яркие лучи солнца освещают мою кровать. Теперь у меня вспух нос. Мария ищет на мне вшей. Лед прошел, и теперь нам угрожают только самолеты. Я снова подверг порке нескольких девушек и парней за то, что они пропустили регистрацию. Среди них дочь старосты. Неприятное чувство я испытываю, когда начинает темнеть, — я тогда думаю о бомбардировщиках. 11 апреля. Все рады моему приходу. Со мной обращаются, как с царем. Мы хорошо ужинаем и пьем водку... 12 апреля. Каждое утро я пью горячее молоко и кушаю омлет... Работы стало меньше... Мы теперь работаем только в местных масштабах. Наказания — или порка, или расстрел. Чаще всего я провожу порку по голым ягодицам. 16 апреля. Сегодня спокойный день. Разрешил только спор между старостой и начальником милиции, а потом избил трех мужчин и одну женщину, которые, несмотря на запрещение, пришли в Буденновку в поисках работы... Затем я избил еще одну бабу, военную, она призналась, что была санитаркой... От румын я получал несколько раз водку, папиросы и сахар. Я снова счастлив. Наконец-то Грошек дошел до того, чтобы представить меня к награждению крестом с мечами второго класса за военные заслуги, и я награжден. 17 апреля. Девушки (Мария, Анна, Вера) поют и играют возле моей кровати... Вечером пришли с новостью, пошел с переводчиком, чтобы выяснить дело на месте. Бабьи сплетни. Я высек двух девушек у меня на квартире по голым ягодицам... 18 апреля. Дождливый пасмурный день. Я вызвал много девушек, которые неодобрительно отзывались о тайной полевой полиции. Я их всех высек». Я заканчиваю выдержки из дневника секретаря тайной полевой полиции Фридриха Шмидта. С трудом я переписывал страшные строки. Кажется, во всей мировой литературе нет такого страшного и презренного злодея. Он расстреливает подростков, и он боится самолета. Он не может вечером уснуть от мысли, что прилетят бомбардировщики. Ему не напрасно дали крест с мечами за военные заслуги — ведь он отважно истязал русских девушек. Он даже храбро убил четырехлетнего ребенка. Поганый трус, который мучается от мысли: «А вдруг поймают?» От страха у него делаются чесотка и понос. Педантичный немец, он записывает, сколько яиц он съел, сколько девушек расстрелял и как у него перемежаются запор с поносом. Грязная тварь, он хочет гадить в уборной для высшей расы. Это блудодей и садист, который восторженно признается: «Высек много девушек». У него нет человеческих чувств. Он не любит своих родных. Он даже не нашел ни одного теплого слова для своей проклятой Германии. Он пишет с восторгом только о колбасе, палач и колбасник. Он жадно считает деньги, которые он получает за свою работу палача, считает марки и пфенниги, рубли и копейки. На одну минуту что-то озаряет этого бешеного скота: он видит, с каким героизмом переносят пытки русские юноши и русские девушки, и он в страхе спрашивает: «Что это?» Зверь, ослепленный светом человеческого превосходства! Дневник секретаря тайной полевой полиции — исключительно ценный документ. Правда, и прежде мы читали чудовищные приказы о расстрелах. Правда, и прежде в дневниках немецких солдат мы находили записи об убийствах и пытках. Но то были сухие справки. Здесь немец сам себя изобразил во весь рост. Здесь немец предстал пред миром таким, какой он есть. Я прошу иностранных журналистов передать дневник секретаря тайной полиции во все газеты свободолюбивых стран. Пусть узнают о работе Фридриха Шмидта англичане и американцы. Пусть узнают о ней граждане нейтральных стран. Немец-завоеватель, кавалер креста с мечами, ближайший сотрудник графа фон Ферстера должен обойти земной шар. Я прошу читателей, граждан нашей прекрасной, честной и чистой страны, внимательно прочитать записи немца. Пусть еще сильнее станет их ненависть к гнусным захватчикам. Эти строки не дадут уснуть ни одному советскому человеку. Он увидит перед собой палача с чесоткой, палача, который ломает рукоятку нагайки о нежное тело русской девушки, он увидит немца-колбасника, который торгует бельем расстрелянных, он увидит убийцу четырехлетнего ребенка. Рабочие, работницы, дайте больше снарядов, мин, пуль, бомб, больше самолетов, танков, орудий — миллионы немцев, таких же, как Фридрих Шмидт, рыщут по нашей земле, мучают и убивают наших близких. Я прошу читателей, командиров и бойцов нашей доблестной Красной Армии, прочитать дневник немца Фридриха Шмидта. Друзья-воины, помните, что перед вами Фридрих Шмидт. Ни слова больше, только — оружьем, только — насмерть. Прочитав о замученных в Буденновке братьях и сестрах, поклянемся: они не уйдут живыми — ни один, ни один. 11 октября 1942 г. Высокое дело Я получил письмо от старшего сержанта Тихона Ивановича Тришкина: «Я работал слесарем на Подольском заводе. Был счастлив. Во время войны с Финляндией пошел добровольцем на фронт. По возвращении женился и радовался жизни. Но вот напали на нас проклятые немцы. Младший братишка Коля жил со мной. Коля пошел на фронт. Я ему сказал на прощание одно: «Люби народ и люби родину». Он, наверно, погиб, от него нет слуха. Меня завод не пускал на войну. Но вот подошли к Москве немцы. Я первым пошел в рабочий полк. Люба была беременна. Она заплакала. Я ей сказал: «Люблю тебя, моя Люба, но еще больше люблю родину и Сталина». Мы, рабочие-подольчане, сражались, как должны сражаться русские люди. Многие мои товарищи погибли, но мы шли вперед и освобождали родную землю от гада. Моя жена Люба писала мне: «Тиша, я родила и очень крепко болела и чуть не умерла на квартире. Ко мне никто из завкома не пришел, чтобы помочь». Я ей дал ответ: «Люба, я, пока жив, буду уничтожать немцев, буду до последней капли крови драться за родину. Люба, а ты кого-нибудь попроси, чтобы сходили в завком, оказали помощь и тебе и ребенку». Вот жена мне пишет: «Мне и дочке Тамаре не дают карточек. Я пошла к Сапожкову, а он не хочет даже разговаривать. Я ему говорю, что у меня муж проливает кровь за родину, а ты не хочешь дать ребенку карточку. Тиша, почему у людей каменное сердце?» Я ей ответил: «Люба, потерпи. Я тебе помогу». Я написал рапорт комиссару нашего полка. Комиссар написал справку. Но Сапожков даже не стал читать, говорит: «Здесь я хозяин, а не они». Мы здесь думаем об одном, как бы разбить проклятого немца, а вот сидит в тылу такой Сапожков и ничего этого не чувствует...» Чувство любви к родине и ненависти к врагу воодушевляет людей советского тыла. «Смерть немцам», — повторяют рабочие Урала, подавая фронту оружие. «Смерть немцам», — говорят колхозницы Сибири, подавая бойцам хлеб. Дни и ночи девушки Челябинска стоят на боевом посту, и, читая о немцах, раздавленных нашими танками, они вправе сказать: «Мы приложили к этому делу наши руки». Однако есть в нашем тылу люди, которые еще ничего не поняли. Они защищены от тревоги, от любви, от гнева непроницаемой шкурой себялюбия. Огонь, которым объята наша страна, не выгнал этих чиновных барсуков из норы. Любовью окружают люди нашей страны семьи бойцов и командиров. Я знаю узбекских крестьян, которые просили, как о высшем счастье, о праве выходить больных детей Ленинграда. Я знаю куйбышевских рабочих, которые уступали свои койки женам и детям бойцов. Жена защитника Сталинграда, дочь танкиста, мать сапера — что может быть выше этих слов? Но вот старший сержант Тришкин пишет о своей обиде. Но вот в одном городе чиновники не хотят помочь эвакуированным семьям бойцов, в другом — жилищный отдел — это какой-то неприступный дот, в третьем — секретарь горсовета не думает о детях фронтовиков. Есть у нас еще слепые и глухие. Эти знают одно: номера исходящих и завитушку своей чиновной подписи. Пора им напомнить, что кровь фронтовика тяжелее канцелярских чернил. Миллионы и миллионы советских людей в тылу горят одним желанием: облегчить, украсить жизнь жен, родителей, детей фронтовиков. Поддержать мать командира, помочь жене бойца — это высокое и благородное дело. Это значит подать патроны старшему сержанту Тихону Ивановичу Тришкину. Это значит помочь Красной Армии освободить родину. 16 октября 1942 г. Казахи Один фриц мне сказал: «Против нас были страшные солдаты — их не мог остановить никакой огонь, они бежали прямо на нас. Потом мне сказали, что это — казахи. Я не знал прежде, что существует такой народ...» Фрицы многого не знали. Им говорили, что Россия — большая страна, но им не говорили, что в этой большой стране живут большие люди. В степях Востока, привыкшие к нестерпимому зною и к суровому холоду, издавна жили отважные люди. Акыны пели старины о героях Казахстана, о славных батырах. Нет ничего для батыра дороже чести. Против семи тысяч врагов пошел Ер-Таргын, пошел с шестиаршинным мечом, восклицая: «Только честь мне дорога!» Разве не реял образ Таргына над двадцатью восемью героями, защищавшими Москву? Один из панфиловцев, девятнадцатилетний Султан Ходжиков, пишет своей любимой в Алма-Ату: «Нет, не отдам тебя, моя любовь, Эсфир, на поругание немцу! Умру, но не отойду. Я отправил на тот свет десяток бесчестных и с ними их полковника. Это мое признание тебе в любви, Эсфир. Твой Султан». Одиннадцать немцев, а среди них полковник, — какая девушка не обрадуется такому признанию? Двадцать пять лет тому назад Амангельды, батыр-большевик, сражался за счастье казахского народа. Амангельды говорил: «Зайцу стыдно встретиться с трусливым человеком». Когда Амангельды повели на расстрел, он плюнул в лицо палачу, а потом обнял своего друга, русского матроса. Ожил после Октябрьской революции Казахстан, расцвели его сады, восколосились поля. Казахам есть что защищать. Гвардеец Урамалиев девять лет был председателем цветущего колхоза «Таш пашат». Недавно он встал в ряды бойцов. За три недели он застрелил двадцать четыре немца. Он говорит: «Это им только задаток, а платеж впереди». Казах Амирбек Ильясов, тяжело раненный, нашел в себе силы, чтобы поджечь немецкий танк бутылкой с горючим. Маленький казах с большим сердцем! Да, фрицы теперь узнали, что такое казахи. Двадцать девять немцев убил казах Увалиев. Двадцать девять раз кричали «ура» бойцы. Два казаха, пулеметчики Истаев и Балапанов, отрезали немецкую пехоту от танков. Они подпустили немцев на полтораста метров, а потом начали работать. Трупы немцев покрыли дорогу, и Балапанов сказал Истаеву: «Правду говорят, что труп врага хорошо пахнет». Боец Торунсабаев на берегах омраченного Дона защищает родной Казахстан. Был тяжелый день: наши пошли в атаку, чтобы занять новый рубеж, но немецкая пуля сразила командира. Настала минута замешательства. Тогда Торунсабаев выбежал вперед и крикнул: «За родину!» Потом он повторил эти слова по-казахски: «Отан ушин!» Он повел взвод на немцев. Враг дрогнул, а Торунсабаев, когда кончился бой, просто сказал: «Мое дело маленькое — бить немца. А мы все вместе — большая сила». Казах Ирисов повел бойцов. Они блокировали четыре вражеских дзота. Ирисов, раненый, вынес с поля боя сраженного пулей командира. «Иди в санчасть», — сказали Ирисову. Он ответил: «Нет. Иду воевать». Когда Ошим Коскабаев уезжал на фронт, его провожал весь кишлак. Отец Ошима, бородатый казах, говорил: «Помни, Ошим, какая у нас земля. Добрая земля, всего много — пшеница, хлопок, арбузы. Это, Ошим, твоя земля. Смотри, не отдай ее немцу». Ошим стал пулеметчиком. Был трудный день, немцы пошли в контратаку. Мин больше нет. Ошим крикнул: «Бей немца!» — и побежал навстречу врагам с винтовкой в руке. За ним ринулись товарищи. Штыком пырнул Ошим немецкого офицера. Четыре раза в тот день ходил Ошим врукопашную. Он переколол много немцев. Ошима ранило, товарищи говорили: «Коскабаев, надо идти в госпиталь». Ошим отвечал: «Не надо в госпиталь. Надо бить немца». И он остался в строю. Так воюют джигиты! Защитник Ленинграда казах Дяган Коквалин шел в атаку. Осколком снаряда разбило винтовку. Дяган не смутился: он пошел на врага с гранатами. Казахи привыкли носиться на коне по степи, но, если нужно, они ползут, они бегут, они карабкаются на горы, они вязнут в болотах: ничто их не остановит. Верность проверяют огнем. Сгорает на огне солома и закаляется на огне сталь. Жалка «Новая Европа» Гитлера — каторга, где один раб ненавидит другого, где венгр душит румына и где пруссак измывается над швабом. Мы раздуем огонь. От их верности не останется даже слов. Когда им придется отвечать за содеянное, немец зарежет немца. Трижды сильной стала на огне войны наша родина, Советский Союз, Россия. Казахи сражаются рядом с русскими. Мы вместе горюем, вместе деремся, вместе будем радоваться первому утру победы. 18 октября 1942 г. Узбеки Странно видеть этих смуглых юношей, с лицами, обожженными солнцем юга, среди болот и лесов нашего сурового Севера. Но ласково говорят узбеки: «Наша земля». Они сражаются за древний русский город Ржев, и для них это — родной город. Лицо узбека кажется совершенным, как бы отточенным резцом безупречного ваятеля. Два узбека ведут пленного фрица. У немца маленькая квадратная голова, глаза, как слизь, лицо золотушного борова. А рядом два красавца. Невольно вспоминаешь цветистые рассуждения создателей расовой теории о «красоте нордического племени». Я видел русскую деревню возле Волги, освобожденную узбеками. В Ферганской долине жили мирные люди. Они любили труд, дружескую беседу, звездное небо. Они не бряцали оружием. Но вот настал грозный час, и узбеки смело пошли в бой. Рядом с другими народами нашей родины они защищают жизнь, дыхание, хлеб, мечту, свободу. «Сердце льва — сердце узбека», — сказал народный поэт Ислам Шаир. Сердце льва у бойца Ураима Хакимова. Он ехал на мотоцикле. Его остановил командир: «Доставьте меня вот в тот лес...» Они помчались дальше. Вдруг Ураим Хакимов заметил: «Фрицы!» — и он дал по врагу пулеметную очередь. Тогда командир схватил Ураима Хакимова: это был переодетый немец. Но узбек не оробел, он совладал с фрицем и доставил его в штаб. На груди Ураима Хакимова орден Красного Знамени и письмо от любимой девушки. Ее зовут Угулджан. Она пишет: «Горжусь тобой, горжусь, жду и буду ждать». Прекрасны женщины солнечного Узбекистана. Вот идет по дороге Угулджан. У нее глаза газели, тонкий стан, а в ее руке кувшин с ледяной водой. На Волге храбрые сыновья Узбекистана защищают своих любимых. Прекрасны имена женщин далекого края: Ханина, Халима, Лайля, Гюльнар, Саодат. За их честь сражаются воины-узбеки. Среди защитников Ленинграда много узбеков. В боях прославился лейтенант Молкодулов. Его взвод перебил двести фрицев. Молкодулов говорит: «У меня теперь одно желание — убить немца». Боец Таштамиров смело сражается за нашу северную столицу. Он говорит: «Не отдадим Ленинград проклятым немцам. Мы, узбеки, — друзья русских. Наша дружба тверда, как скалы моего родного Памира». Почетное оружие вручили панфиловцы узбеку Мамадали Мадаминову: он истребил восемьдесят четыре немца. Благоговейно он взял в руки винтовку и сказал друзьям: «Клянусь над святыми могилами, что каждая моя пуля дойдет до немца». Старики и дети в цветущем Узбекистане знают: если немец не грабит их кишлаки, это потому, что далеко на западе русские и украинцы, казахи и татары отражают атаки злого врага. А русские женщины в Москве скажут спасибо Мамадали Мадаминову: восемьдесят четыре убийцы гниют в земле, не смогут они больше убивать русских детей. Далеко на севере против лахтарей дерутся два закадычных друга: командир снайперского расчета Ахад Ахмедов и наводчик Анатолий Асосков. Ахад Ахмедов — узбек, преподаватель физико-математических наук. Анатолий Асосков — москвич, рабочий. Прямой наводкой громят друзья финские дзоты. Что знал до войны москвич Асосков об Узбекистане? Теперь он знает, что сердце узбека — это сердце льва. Зелена Фергана, зелена, как рай. Соком радости наливаются тяжелые гроздья. Сказочное богатство сулит снег хлопковых полей. Край жизни, горячее солнце и студеная вода, круглые дыни, яблоки, овцы — как облака. Все там создано для счастья. Нет, не видать презренным фрицам садов Ташкента! Узбеки идут в атаку с криком: «Ватан учун!» — «За родину!» А родина у нас одна — от Карпат до Ферганы. Не мачеха она, а родная мать. Когда молодой Куранбай Хажмуратов уходил на войну, мать ему сказала: «Не робей, Куранбай. Не дай нас в обиду». Это говорила старая узбечка — и это говорила родина, мать, Россия. 20 октября 1942 г. Евреи Немцы пытали еврейских девушек, закапывали в землю старых евреев. Гитлер думал сделать из евреев мишень. Евреи показали ему, что мишень стреляет. Евреи были учеными и рабочими, музыкантами и грузчиками, врачами и колхозниками. Евреи стали солдатами. Они никому не передоверят своего права на месть. Фальковичу шел пятый десяток. Он был филологом, провел жизнь у письменного стола. На таких немцы облизываются: поймать и повесить. Не тут-то было. Фалькович пошел добровольцем на фронт. Отрезанный от своей части, он набрал восемнадцать бойцов. Они встретили роту немцев. Фалькович скомандовал: «В бой!» Восемнадцать смельчаков взяли в плен тридцать пять фрицев. Филолог своими руками убил восемь немцев. Год тому назад немцы шли на Москву. Хаим Дыскин — сын крымских колхозников. Он учился в литературном институте. Когда началась война, Дыскину было семнадцать лет. Он пошел на фронт добровольцем. У Можайска он увидел немецкие танки. Артиллерист Дыскин прямой наводкой разбил головной танк. Немцы выбежали из машины. Дыскин сам себе скомандовал: «Огонь по фашистам!» Раненый, он остался у орудия. Он был вторично ранен. Истекая кровью, он продолжал один отбивать атаку. Четырнадцать ран на теле, золотая звезда на груди героя, пять подбитых немецких танков — вот история семнадцатилетнего Хаима. Может быть, немцы думали, что евреи не ходят на лыжах? Лейзер Паперник зимой в селе Хлуднево истребил несколько десятков немцев. Тяжело раненный, он упал на снег. Немцы подбежали. Тогда Паперник приподнялся, и в немцев полетели гранаты. Полумертвый, он еще сражался против сотни немцев. Последней гранатой он взорвал себя. Может быть, немцы думали, что евреи не моряки? Герой Советского Союза капитан подводной лодки «Малютка» Израиль Фисанович показал фрицам, как еврей топит арийских бандитов. Немцы скинули на подводную лодку триста двадцать девять бомб, но лодка вернулась на свою базу. Она потопила четыре немецких транспорта. Рыбы радовались. Но вряд ли радовались породистые немецкие адмиралы. Кто в Ленинграде не знает о подвиге радиста Рувима Спринцона? Он передал в эфир: «Огонь по мне!» Три дня держались четыре радиста, отрезанные от наших: еврей, русские, украинец. Рувим Спринцон совершал вылазки, бил из автомата врагов. Немцы узнали: одно дело терзать в Гомеле беззащитных старух, другое — столкнуться в поле с Рувимом Спринцоном. Под Ленинградом Лев Шпайер сжег немецкий танк, уничтожил десяток автоматчиков. Немцы думали, что их священное право вспарывать животы безоружных еврейских женщин. Лев Шпайер проткнул русским штыком ненасытное брюхо трех грабителей. Шпайер погиб в бою. Бойцы написали письмо его родителям: «Дорогие и любимые родители Льва Шпайера! Ваш сын был героем нашего фронта. Он знал, что за его спиной гордость русского народа — Ленинград. Мы вспомним немцам Леву, нашего командирагероя. Мы за него отомстим». У Сталинграда немецкие танки пошли в атаку. В окопе сидел Давид Кац. Он бросил в головной танк бутылку с горючим. Танк вспыхнул. Второй танк хотел повернуть. Но Кац крикнул: «Бросьте эти шутки!» — и кинул гранату под гусеницы. Танк остановился, но пулемет еще строчил по нашим. Тогда Кац заткнул дуло пулемета штыком. Раненый, он продолжал сражаться — ведь он защищал Сталинград. Только после вторичного ранения Давид Кац позволил отвести его на медпункт. Как здесь не вспомнить старую легенду о великане Голиафе и о маленьком Давиде с пращой? Когда-то евреи мечтали об обетованной земле. Теперь у еврея есть обетованная земля: передний край. Там он может отомстить немцам за женщин, за стариков, за детей. Велика любовь евреев к России: это любовь к духу и к плоти, к высоким идеям и к родным городам, к стране, которая стала мессией, и к земле, в которой похоронены деды. «За родину!» — кричал московский рабочий Лейзер Паперник, бросая в немцев гранаты. С этими словами он умер, верный сын России. 1 ноября 1942 г. Кавказ Кавказ — это слово звучит, как волшебство. С древнейших времен люди, завороженные, смотрели на горы Кавказа. На Арарате, по преданию, остановился ковчег: здесь заново началась жизнь. К суровой вершине Кавказа был прикован первый революционер — Прометей, вырвавший из рук небожителей огонь. Горный воздух — это трудный воздух: он слишком чист для непривычных легких. Кавказ был заповедником свободных сердец. Край вина, которое горячит, и край студеной горной воды. За свободу здесь отдавали жизнь. О свободе писал прозрачные стихи гуманист древности Шота Руставели. О свободе пели песни, сухие и горькие, женщины Армении. Свободу защищали бойницы сванов, и дагестанский кинжал не держала рука раба. Степь протяжна, как эпическая поэма, есть в степи — разбег, разгон. Лес загадочен, как жизнь. Горы — это большие и неудержимые страсти. Кавказ — это прежде всего горы. Это изумление человека, который видит, что облака пасутся под ним, как отара овец. Это мгновенный переход от зноя к стуже, от духоты долины к ветрам перевала. Человек в горах один на один с миром. Он бесстрашен. Его караулят тьма и враг. Он может позвать, он знает, что ему не изменят ни друг, ни эхо. С вершины он видит петли дороги и синий дымок аула. Ему мерещится: это жизнь. Он мудр с отрочества, и в старости он легко седлает коня. В культуре древней Грузии нас поражает сочетание цветистости и суровости, фантазии и простоты, нежности и мужества. На тончайших миниатюрах мы видим жизнь, подобную заколдованному саду, и строки старых поэтов сродни фонтану. Но этот сад защищали бесстрашные люди, и девушки умели слушать не только журчание фонтана, а и тревожный зов гордого потока. Любовь русской поэзии к Кавказу — это любовь к свободе. Среди скал и людей Кавказа первые русские романтики учились неистовству. К Кавказу припадали, как к ключу вдохновения, Пушкин и Лермонтов, Маяковский, Пастернак, Тихонов. Кавказ был для них не декорацией, не пейзажем, но школой отваги и непримиримости. Нас потрясает на Кавказе простота нравов, гостеприимство и культ дома, ласковость и в то же время суровая догма чести, необычайный демократизм и уважение к старшим. Когда молодые русские поэты впервые пришли в саклю Сулеймана Стальского, старый ашуг их принял, как житель далекого края столичных гостей и как Данте — учеников. В Тбилиси, в саду над Курой, я слышал, как академик и два водовоза до ночи толковали о жизни, а перед ними светляками роились огни дивного города. Я не забуду гортанного голоса старого и вечно юного Аветика Исаакяна, который читал: «И ты — голубая хрустальная святость большой путеводной звезды». Звезда народа — ее видели в годы порабощения и горя, звезда вела к свободе. Не случайна связь народов Кавказа с русским народом: любовь к свободе, жажда правды, общая судьба связали их навеки. Нет кавказца, который не считал бы Пушкина своим, и нет русского, который без волнения слушал бы сказания и песни Кавказа. Вся Россия гордится Кавказом — как высотами культуры и как выражением своих сокровенных чувств. Далеко от хрустальных вод Севана до Москвы, но Армения знает, что свобода Москвы — это свобода армян. 7 ноября прошлого года на Красной площади был парад. Его принимал великий полководец. Мимо Сталина проехал танк Михаила Багдасаряна. Несколько дней спустя этот танк столкнулся с немецкими танками. Михаил Багдасарян очистил от немцев русское село. С отрогов Алагеза пришли два брата, Арам и Гурген Берсегян. Они пришли в степь, к Дону. Тридцать три немецких танка двигались на хутор. Арам и Гурген кидали в танки бутылки. Герои погибли, но танки не прошли. В лесах Карелии воевал и погиб отважный лейтенант Саркис Казарян. Москву защищал артиллерист генерал Леселидзе. В боях за Севастополь отличился Михаил Гахокидзе. Он кидал в немцев гранаты. Не стало гранат — стрелял. Кончились патроны — начал колоть немцев штыком. Под стонами древнего русского города Ржева грузин Чанчибадзе отдал приказ: «Мертвых похоронить. Живые вперед!» Поэт Азербайджана писал: «О братья, будем в этот час несокрушимее скалы!» Азербайджанец Гусейн Алиев один вступил в бой с несколькими самолетами врага. Семнадцать ран было на теле Алиева, но его сердце было несокрушимее скалы. Он сбил врагов и победил. На далеком Севере бьет немцев снайпер лезгин Алиев. В Смоленщине яростно сражается осетин Мамиев. Свыше сотни немцев истребил у Мурманска ингуш Аюп Манкиев. Кавказ умеет любить, он умеет и ненавидеть. Идут жестокие бои. Гитлер, обломав зубы о развалины Сталинграда, хочет отыграться. Он захватил Нальчик. Он грозит Владикавказу и Грозному. Он видит во сне Баку и вожделенное Закавказье. За Кавказ теперь сражаются русские и украинцы, белорусы и узбеки. За свою гордость — за Кавказ — сражается вся Россия. Немцы уже залили кровью аулы Кабарды. Они уже терзают женщин в селах Осетии. Они осквернили честь сакли. Они оскорбили народы Кавказа. Что для немцев Кавказ? Добыча. Нефть. Вольфрам. Дадим ли мы поганым пивоварам взобраться на Казбек? Позволим ли мы фрицам пировать в садах Кахетии? Нет, не стерпит этого наше сердце! Мы должны остановить немцев. Мы должны прогнать их прочь. Нет ничего гнуснее, чем немец на Кавказе: рыжий, с квадратной головой, с пивным животом, с рыбьими глазами. Блудливый фриц, он оскверняет девушек, чистых, как горный снег. Немец-автомат Фридрих Шмидт пришел, чтобы повесить бирки на шеи горцев, чтобы обратить в арестантские роты колыбель свободы. Мы остановили год тому назад немцев у порога Москвы. Мы не пустили их в Ленинград. Когда немцы проникли в Сталинград, гнев и возмущение вдохнули новую силу в сердца защитников города, и немцев остановили — на улицах, среди развалин. За Москву умирали дети Армении и Грузии, Азербайджана и Дагестана. Неужели мы не остановим немцев на Кавказе? Для храброго нет ничего невозможного. Аграма Петросьяна немцы взяли хитростью — переодевшись красноармейцами. Немцы его пытали, вырезали на щеках звезды, выдергивали волосы. Петросьян молчал. Ему сказали: «Рой себе могилу». Тогда Петросьян лопатой ударил немца. Он схватил гранаты и бросил их в палачей. Один немецкий офицер ранил Петросьяна в руку и в голову. Петросьян кинулся на офицера и задушил его. Он взял бутылку с горючим и пополз к своим. По дороге он взорвал склад боеприпасов и был в третий раз ранен. Но он дополз. Его поддерживала такая ненависть к врагу, такая любовь к отчизне, что он не мог умереть, и он не умер. Защитники Кавказа, на вас смотрит вся страна. Вспомните ноябрь 1941-го. Тогда немцы были сильнее. Тогда некоторым казалось: не быть Москве, не быть России. Но защитники Москвы сражались, как Аграм Петросьян. Мы все в долгу перед Кавказом. Настали дни, когда Кавказ говорит: «Защитите». Не горы должны встать перед немцами — люди. И люди не отступят. Люди станут горами. Шумит поток. Слушай — он говорит: не отдадим! Дождь звенит: не отдадим! Ветер всю ночь шумит: не отдадим! И эхо отвечает: не отдадим! Это не эхо — это Россия: не отдадим Кавказа! 5 ноября 1942 г. Свет в блиндаже Когда в июньское утро первые выстрелы вспугнули жаворонков, они прозвучали как диссонанс. Все вокруг не соответствовало этим звукам: и мирные села, и медленно дозревавшие колосья, и детвора на улицах пограничных городов, и сердце человека, еще продолжавшее мирно биться. Как изменилась наша страна! Стоят, яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота последних листьев сродни войне. А многие деревья обломаны осколками мин. Железо выело воронки. Вместо деревни — трубы. Да и лица не те, кажется, что война их заново вылепила. Была в них мягкость, как в русском пейзаже, который так легко воспеть и так трудно изобразить, — бескрайный, лиричный, едва очерченный. Такими были и люди. Теперь лица высечены из камня. В глазах суровость, уверенность. Обветренные, обгоревшие, обстрелянные солдаты. Иногда вечером, когда первые зеленые ракеты прорезают небо, когда замолкает дневная канонада и еще не вступает в свои права ночная, фронтовик смутно припоминает прошлое. На минуту ему кажется, что где-то в тылу продолжается жизнь, которая была его жизнью. Он видит залитую огнями Москву. В окнах под лампами люди ужинают, смеются, читают увлекательные романы, дети готовят уроки, девушки прихорашиваются — сегодня ведь танцы... Уж не фейерверк ли в Парке культуры? И сразу фронтовик вспоминает: война! Она и в Москве: черны улицы, как ослепшие глаза — окна домов... Девушки на лесных заготовках. Музыканты стали саперами или минометчиками. Дети на Урале. Прожектор впивается в черное небо. Если ты, как в сказке, пролетишь над страной, ты повсюду увидишь войну. Ты увидишь сожженные немцами города. Ты увидишь заводы в бараках, заводы, которые перешагнули тысячи километров. Ты увидишь девушек, изучавших литературу или игравших на пианино, которые с ожесточением отливают снаряды. Загляни в глаза одной, в полутемном холодном цеху, и ты увидишь в этих глазах нечто родное: она тоже на войне. Ты увидишь женщин Ленинграда в Узбекистане. Ты увидишь детей Полтавщины в Сибири. Ты услышишь, как старая мать вздыхает: «Два месяца нет писем...» Ты услышишь, как трехлетний малыш упрямо трет кулачком сонные глаза и спрашивает: «Где папа?..» Ты увидишь много горя и много упорства. Воюет не только фронт, воюет вся страна. Она отрывает от сна кусочек ночи, она отрывает от рта кусок хлеба, она не веселится и не благоденствует, она живет, сжав зубы, как ты в блиндаже, покрывшись ночью, впившись в землю. Как ты, она воюет. Мы очень много потеряли, и нет человека, который не думал бы о наших потерях. Большое горе всегда стыдливо. Молодая женщина, которая в былое время жаловалась на мелкие неурядицы, теперь молчит. Молча она перевязывает раненых. Бойцы, за которыми она ухаживала, знают одно: ее не нужно спрашивать про мужа. Мы потеряли много прекрасных людей, самоотверженных, умных и честных. Эти потери горше всего: их не возместить. Мы отстроим разрушенные города, они будут лучше прежних. Но невозвратима потеря вдохновенного юноши, который еще ничего не построил — ни дома, ни своего гнезда, но который, кажется, мог бы построить целый город. Мы потеряли изумительные плотины, заводы, в которые вложили душу. Мы потеряли древности Новгорода. Эти реликвии России, эти камни, как бы теплые от любви поколений, простояли века. Их щадило время. Их разрушили кощунственные руки немцев. Мы нелегко создавали жизнь. Зачастую нам не хватало ни умения, ни времени. Но эта шершавая, необтесанная жизнь была нашей. Она напоминала черновик прекрасной поэмы, весь испещренный помарками. У нас путалось в ногах темное прошлое. Нас часто знобило — от самоупоения до самоуничижения. Мы были первыми разведчиками человечества, мы пробивали путь, мы шли дремучим лесом. Когда мы строили ясли, с запада доносились дурные вести: там изготовляли те бомбардировщики, которые в одну ночь убивают сотни детей. Звериное дыхание Германии доходило до нас, и мы говорили женам: «Проходишь зиму в старом платье», — мы должны были делать истребители. Мы знали, что детям нужны игрушки, как птице крылья. Но разве могут дети играть, когда на земле живут гитлеровцы? Мы делали мало игрушек, мы делали танки. За десять лет до войны проклятая Германия вмешалась в нашу жизнь. И все же мы строили города, школы, дома отдыха, театры. В муках рожает женщина. Медленно растет плодовое дерево. Четверть века для человека — это полжизни. Четверть века для истории — это короткий час. Накануне войны мы увидели в наших садах первые плоды. Тогда на нас напали немцы. В один час эсэсовцы уничтожали дома, поселки, города, которые мы строили годы, отказывая себе во всем ради будущего, как мать отказывает себе во всем ради ребенка. Мы знаем, сколько мы потеряли. Это знают и немцы: они увидели наших бойцов, воодушевленных такой ненавистью, таким гневом, что перед ними отступали танки. Мы часто думаем о наших потерях. Мы можем теперь сказать о том, что мы приобрели на этой войне. Мать не замечает, как растет ребенок. Вот он вырос, а для матери он мальчуган. Несказанно вырос наш народ за шестнадцать месяцев. Не узнать порой молодого друга, вернувшегося с фронта. Не узнать и народа: другой народ. Говорили, что думать нужно в тишине и покое. Казалось, что юноши растут в торжественных аудиториях, в книгохранилищах или в студенческих комнатушках над горой рукописей. Непохожи темные блиндажи на университет. Шумно на фронте, шумно и неспокойно. Но кто сейчас расскажет о том, как люди думают на переднем крае? Они думают напряженно, настойчиво, лихорадочно. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают о том, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители. Чудодейственно, как лес в сказке, растут люди на войне. Они живут рядом со смертью, они знакомы с ней, как с соседкой, и они стали мудрыми. Они преодолели страх, а это приподымает человека, придает ему уверенность, внутреннее веселье, силу. Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок, все доведено до конца — великое и презренное, черное и белое. Война — большое испытание и для народов, и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено. В основу нашей жизни четверть века тому назад мы положили слово «товарищ». Это слово ко многому обязывает. Легко его сказать, трудно за него ответить. В понятии «гражданин» есть точность и сухость, это — арифметическая справка о сумме прав и обязанностей. Слово «товарищ» требует душевного горения. Впервые для миллионов и миллионов оно раскрылось во всей глубине на фронте. Оно стало конкретным, теплым, вязким, как кровь. На войне мы увидели до конца силу человеческой дружбы. Сколько подвигов родило это замечательное чувство! Рядом с тобой, в одной батарее, в одном взводе — дорогой друг. Если его ранят, ты его оторвешь от смерти. Если его убьют, ты не забудешь его и не простишь врагу. До войны другом легко называли, но друга и легко забывали. Не то после боев. Говорили прежде: «Съесть вместе пуд соли». Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде? С какой радостью боец возвращается в свою часть: он вернулся домой. Он расспрашивает о каждом товарище, о каждом друге. Дружба народов была нашим государственным принципом, она стала чувством каждого отдельного человека. В одной роте и русские, и казахи, и украинцы, и белорусы, и грузины. Мы увидели, что, говоря на разных языках, мы одно чувствуем, про одно думаем. С волнением слушают сибиряки чудесные украинские песни, и рассказ о белых ночах Архангельска доходит до сердца черноглазого сына Армении. Мы были объединены сначала историей, потом высоким началом равенства. Теперь мы объединены ночами в окопах, и нет цемента крепче. Что легко дается, то не ценится. Только теперь наша привязанность к родине стала плотной, тяжелой, неодолимой. Ради родины люди жертвуют самым дорогим. Они и прежде были патриотами, но теперь они задумались над своими чувствами, и эти чувства стали глубже. Прежде они искали внешнего объяснения для своей любви. К чужеземному они порой относились то с необоснованным пренебрежением, то со столь же необоснованным преклонением. Теперь они знают, что родину любишь не за то или за это, а за то, что она — родина. Так скромное деревцо становится более прекрасным, нежели все рощи эдема. Можно видеть свои недостатки: от этого родину не разлюбишь, от этого только захочешь исправиться, возвысить себя и страну. На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами кремля в Новгороде? Мы увидели, что наше молодое государство строилось не на пустом месте. Стойкость Ленинграда нас восхищает, его страдания требуют мести. Мы увидели дело Петра, построившего дивный город. Мы поняли, что без Петра не было бы Пушкина и что без Петербурга не было бы путиловцев, которые в темную осеннюю ночь открыли путь к новой эре. Столкнувшись с варварством фашизма, мы почувствовали все то ценное и большое, что было добыто народами России четверть века тому назад. У нас сын пастуха читал Гегеля. Как он должен смотреть на немецкого «философа», который превратил философию в справочник по скотоводству? С каким омерзением мы слушаем рассказы немецких пленных, этих кретинов, которые нам рассказывают, что у них «социализм» и что они приспособили для работы вместо лошадей поляков или французов! Ненависть может слепить. Наша ненависть — это прозрение, она помогла народу созреть, вырасти. Мы были гуманистами, ими мы и остались. Мы не потеряли нашей веры в человека. Мы только узнали, что есть подделка под людей, что гитлеровец — это эрзац человека. Было время, когда мы жалели немцев, даже посылали хлеб голодным обитателям Рура — в трудные для нас годы. Многие из нас не учитывали ни исторических традиций Германии, ни психологии немцев. Мы создали образ немца по своему подобию, и, когда немцы напали на нас, наш добрый народ все еще верил, что фашисты гонят немцев, что обманутый немец скоро крикнет: «Гитлер капут». Мы действительно слышим эти слова — их говорят пленные, когда они превращаются в жалких подхалимов. Но мы знаем, что это не обманутые, а обманщики. Война взрастила в нас не только ненависть к немцам, но и презрение. Этим чувством мы можем гордиться, ведь немцы одержали немало побед, они проникли в глубь нашей страны, и все же мы их глубоко, искренно, страстно презираем. В этом сказалась душевная зрелость нашего народа. Мы вовсе ее склонны пренебрегать военной техникой или стратегией Германии. Мы можем учиться у немцев воевать. Но мы не станем учиться у них жить. Для нас они — двуногие звери, в совершенстве овладевшие военной техникой. Мы ценили героизм испанского народа, но многим из нас трудно было понять, что полуграмотный испанский крестьянин культурнее берлинского профессора. Теперь это поняли все. Мы увидели немцев, которые ведут дневники, у которых дома пишущие машинки и патефоны, которые по внешнему виду напоминают цивилизованных европейцев и которые оскорбили бы нравственное чувство любого обитателя Сандвичевых островов. Бойцы их разжаловали в «фрицев», этим сказано все — не люди, а фрицы. Нас не обманут больше внешние признаки культуры. Мы теперь знаем, что важно не только количество и внешнее качество печатных изданий, но и содержание печатаемого, что города Германии с чистыми улицами, с хорошо оборудованными больницами, с просторными школами являются заповедниками грубого и отвратительного варварства. Конечно, мы не отрицаем значения материальной культуры, но мы теперь увидели, что без духовного богатства такая культура быстро вырождается в одичание. Зрелость каждого фронтовика сделала нас сильными. Мы потеряли большие пространства. Второе лето принесло нам много горя. И все же можем сказать, что теперь мы сильнее, чем 22 июня 1941 года, — сильнее сознанием, разумом, сердцем. Когда мы пели «Если завтра война», мы многого не понимали. Мы очистились от беспечности, от самообольщения, от косности. Мы еще не добились победы, но мы созрели для нее. Мы порой думаем, как трудно будет залечить раны, отстроить разрушенные города, наладить мирную жизнь. Это мысли о потерянном. Вспомним о приобретенном и скажем себе, что человек, который вернется с фронта, стоит десяти довоенных. По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину, внутреннюю свободу. Прекрасно будет первое утро после победы. Мы узнаем, что мать спокойно спала. Письмоносец снова станет деталью жизни. Жена обнимет героя. Замолкнут сирены. Вечером вспыхнут яркие фонари и на улице Горького, и на Невском. Наш флаг взовьется над многострадальным Киевом. Может быть, в тот день будет идти дождь или падать снег, но мы увидим солнце и синее небо. Россия, первая остановившая немцев, с высоко поднятой головой, сильная, но мирная, гордая, но не спесивая, снимет с плеча винтовку и скажет: «Теперь — жить». 10 ноября 1942 г. Значение России Для человеческой жизни двадцать пять лет — немалый срок. Путиловцы, в осеннюю ночь проходившие по улицам встревоженного Петрограда, стали седоволосыми. На фронте сражаются сверстники Октября. Но для истории двадцать пять лет — короткая минута. Медленно отстаивается вино цивилизации. Столетия отделяют Праксителя от глыбы камня с едва намеченным образом и Рафаэля — от детских каракулей в катакомбах Рима. Настанет пора, и река времени, которая сейчас бурлит, подобная горному потоку, отразит на своей зеркальной поверхности классические сцены счастья. Мы не можем разглядеть дворцы и статуи будущего. Но мы можем уже теперь взглянуть глазами потомков на основные черты нашего века. Мы можем уже теперь сказать, что грядущий историк начнет описание Великой Октябрьской революции с утверждения, что она спасла Россию и позволила ей осуществить свою историческую миссию. В 1917 году Россия была обескровлена. Невежество и бесчестность правителей довели народ до отчаяния. Октябрь вдохнул веру в Россию. Революция помогла народу отразить покушение чужеземцев на единство и независимость нашей страны. Не победи четверть века тому назад революция, не было бы России: ее расклевали бы. Может быть, матросы «Авроры» и не думали об исторической судьбе государства. Они начинали летопись. Это была первая страница, но не первого тома. Теперь мы можем сказать, что моряки Балтфлота и рабочие Петрограда продолжали великое дело строителей и собирателей Руси. В огне испытаний проверяется крепость и сердца человека, и державы. Мужественно сражаются за Ленинград грузины, армяне, азербайджанцы, на берегу Терека украинцы самоотверженно защищают Кавказ. Под ударами солдат Брусилова расползлась АвстроВенгрия. Гитлер надеялся, что Советское государство распадется под натиском немецких танков. Но дружная семья в беде становится еще дружней. Против нас сражаются представители десяти наций. Что объединяет их, кроме дубинки прусского фельдфебеля? «Новый порядок» Гитлера — это арестантские роты, где десять народов сближает одно: кандалы. Наше государство, столь разноплеменное, едино: это волшебство подлинной гармонии. Так Октябрьская революция дважды спасла Россию: в 1917 и в 1941 годах. Если бы не было Октября, не было бы рабочих, способных на пустыре в одну неделю поставить завод, не было бы узбеков, которые у Ржева бьют немцев, не было бы защитников Сталинграда. В жизни человека бывают события, которые помогают ему проявить свои душевные качества — талант, щедрость сердца, отвагу. Тогда окружающие видят, что он не зря рос, учился, мечтал. Октябрьская революция — утверждение сущности России, выражение глубочайших, различных и, казалось бы, несовместимых чаяний народа. Славянофилы видели миссию России в ее противопоставлении Западу, в культе самобытности, в традициях старой, допетровской Руси. Западникам миссия России представлялась в тесном сотрудничестве с передовыми умами Европы, в продолжении дела Петра, в приобщении страны к материальному и духовному прогрессу. Пушкин понимал пафос петербургского гранита. Мусоргский напряженно прислушивался к строю народной мелодии. Одни восторгались былинами, другие — одами вольности. Делили историю, и люди, восхищенные великодержавностью России, не понимали роли Разина. Делили даже города: любовь к Петербургу как бы исключала любовь к Москве. Октябрьская революция показала внутреннее единство России. Мы теперь знаем, что привязанность к прошлому не исключает любви к прогрессу. На груди у коммуниста изображение Александра Невского. Советский Союз — страна передовых идей, первый эшелон человечества с любовью лелеет свои особенности. Советская Россия неразрывно связана с демократиями Запада, и Советская Россия стала оплотом славянских народов, терзаемых неметчиной. Кремль — это слово приобрело новое значение, но красные звезды над Кремлем не мешают нам любоваться изумительными памятниками русского зодчества. Мы восторгаемся и героями двенадцатого года, отстоявшими Россию от французских штыков, и декабристами, которые принесли в Россию идеи революционной Франции. В Октябрьской революции нашли свое выражение традиции России. Это было многим не ясно четверть века тому назад. Теперь это понятно всем, и теперь невозможно отделить судьбу Октябрьской революции от судьбы России. Идеей русской истории был народ. Как крестьянин избу, русский народ сколотил величайшую державу. Народ отстаивал Россию от недругов, народ был Мининым и партизанами. Народ, в лице Ломоносова, создал первый университет. Герцен в изгнании утешал себя мыслью о русском народе. Вспоминая немецкую поговорку: «Есть в Пруссии король», Герцен говорил: «У меня есть в России народ». До 1812 года Европа плохо знала Россию. Они встретились впервые на Бородинском поле, и Европу поразила душевная сила русского народа. Европейцы почувствовали, какое сердце бьется под грубой овчиной. У старой крестьянки, как у дивной музы, искал вдохновения Пушкин. Народ защищал Севастополь, и народ на Малаховом кургане позволил молодому офицеру стать автором «Войны и мира». Народ был содержанием всей жизни России. После Октября народ нашел форму: он стал самой Россией. Основное свойство русского народа — гуманизм, от древних подвижников до нигилистов, от апокрифа хождения по мукам до Толстого, Чехова и Горького, от Великого Новгорода до защитников Ленинграда. Октябрьская революция выдвинула вперед обыкновенного человека. Мы не склонны самообольщаться, мы знаем, сколько у нас пережитков прошлого — равнодушия и бездушия. Но впервые в основу государства положены не только арифметические права и обязанности гражданина, а высокий принцип товарищества. Если Красная Армия отбросила немцев от Москвы, если мир потрясен эпопеей Сталинграда, дело не в материальной части, а в душевной силе бойца. Человек оправдал оказанное ему доверие. Русский народ издавна почитал труд, благоговейно относился к страде и даже героизм солдата называл воинскими трудами. Государство, построенное на возвеличении труда, — это тот Китеж, который искал народ. Мы не враги машин, но мы и не рабы машин. Машина для нас вещь, созданная умом и руками человека. Стремясь облегчить труд, мы не хотим освободиться от труда, для нас это все равно что освободиться от жизни. Труд для нас не проклятие, а творчество. В песнях, в сказках русский народ презирал как безделье, так и суррогат работы — торгашество или витийство, и мы вправе сказать, что Октябрь родился не только как результат индустриального роста России, но и как осуществление вековой мечты русского народа. О правде тосковал народ, о правде строгой и человечной, не только о справедливости с весами в руках, но и о той правде, что не взвешивает, не отмеривает. Задолго до Октября мир почувствовал значение России. О нем говорили и великие русские писатели, и самоотверженные русские революционеры. В Октябре истерзанная, голодная, нищая Россия показала миру свое душевное богатство. Одно слово теперь повторяют люди в пяти частях света: «Сталинград». Необычайное мужество защитников этого города выходит из рамок военной науки. Оно напоминает миру об историческом событии, имевшем место четверть века тому назад. Сталинград — это не доты и не орудия, это — люди, выросшие в Советской республике. Есть справедливость в том, что название этого города говорит о человеке, который провел молодое государство через штормы по морю, испещренному рифами. Октябрь, родившись в громе орудий, провозгласил братство. Но миролюбие не означает слабости. Когда в Европе появилось зло, именуемое фашизмом, когда это зло слилось с разбойными традициями рейха и овладело совершенной техникой Германии, Россия, верная себе, выступила против зла. Мир знает, что, когда другие еще надеялись откупиться и отмолчаться, Советский Союз бескорыстно помог далекому испанскому народу. Мы защищали тогда право испанского народа жить по-своему, не подчиняясь тирании Гитлера. Теперь свыше пятисот дней, в тяжелых боях, мы защищаем нашу землю и нашу независимость. Тем самым мы отстаиваем свободу всего мира, и, затаив дыхание, следят за подвигами Красной Армии французы и сербы, чехи и норвежцы. Наше мужество позволило нашим друзьям спокойно подготовить военные операции. Победа англичан в Египте была бы невозможна без подвигов гвардейцев генерала Родимцева, и успехи американцев в Алжире тесно связаны с потерями германскоитальянских войск в России. Один англичанин справедливо сказал, что, если бы не было Советской России, не было бы теперь Англии. Наша страна стала сердцем боевого союза трех великих государств. На Сталинграде свободолюбивые народы учатся не только стойкости, но и непримиримости. Священный пламень ненависти к поработителям не погасает в груди России, и этот пламень теперь зажигает сердца наших далеких друзей. Посягнув на Россию, немцы посягнули не только на мощную державу, они посягнули на нечто большее: на то значение, которое отметило нашу родину среди других больших и малых государств. Когда-то, обращаясь к противникам России, Тютчев говорил: О край родной! Такого ополченья Мир не видал с первоначальных дней... Велико, знать, о Русь, твое значенье! Мужайся, стой, крепись и одолей. Мы одолеем. 12 ноября 1942 г. Наступление продолжается Каждый вечер, когда радио передает «В последний час», мы как бы слышим смутный гул шагов. Это идет Красная Армия. Это идет История. Еще месяц тому назад Гитлер заявил: «Сталинград будет взят». Немцы удивлялись скромности бесноватого фюрера: он не обещал им ни Баку, ни мира. Он обещал всегонавсего Сталинград. Берлинские олухи не сомневались, что Сталинград у фюрера в кармане. Что они теперь думают? Берлин передает: «Германское командование сохраняет полное спокойствие». Легко понять удивление фрицев: почему фюрер вдруг объявил во всеуслышание, что он «спокоен»? Наиболее догадливые говорят: «Если фюрер кричит, что он спокоен, значит, начался солидный зимний драл. Фюрер всегда говорит о своем спокойствии, когда его отпаивают валерьянкой». Мы знали, что мы не отдадим Сталинграда. И мы не отдали Сталинграда. Гвардейцы генерала Родимцева удостоились высшего счастья: они видят начало расплаты. Немцы три месяца терзали героический город. Они бросили на него свои отборные дивизии. Они бросили на него свои самолеты. Они кричали: «Мы почти взяли Сталинград». И вот мы присутствуем при первом явлении исторической справедливости: Сталинград выстоял. Сталинград отвечает. Еще недавно мир глядел на защитников Сталинграда с восхищением и с недоумением; люди спрашивали себя: уж не бесцельная ли это отвага? Но стойкость защитников города была первым камнем победы. Почему немцев гонят на Дону и в калмыцкой степи? Почему наши наступающие армии прошли полтораста километров? Потому что герои Сталинграда отчаянно защищали каждый метр земли. Немцы говорили, что они окружили защитников города. Герои Сталинграда держались. Они держались, когда переправы на Волге находились под непрерывным огнем врага. Они держались, когда, казалось, нельзя было удержаться. Они выстояли победу. Кто теперь окружен? Прошлой осенью немцы глядели на Москву в бинокли. Эти бинокли они побросали, удирая. В этом году биноклей не было: немцы находились в нескольких сотнях шагов от цели. Немцы «почти взяли» Сталинград. Они его не взяли и не могли взять: это «почти» было стеной из человеческих грудей, и стена не дрогнула. Мы знаем, что немцы глубоко врезались в нашу страну. Другой народ не выдержал бы такого испытания. Но Россия — это Россия. Ее не берут. Немцы были близко от победы, близко и бесконечно далеко: между ними и победой было русское мужество. Пятьсот шагов в Сталинграде многое решили. Эти пятьсот шагов — наша стойкость. Мы вторично выдержали. И теперь мы наступаем. Может быть, потерять Ростов и Кубань было еще горше, чем потерять Орел, Калугу и Калинин. Но немцы заплатят теперь дороже, чем прошлой зимой. Об этом говорит смутный гул шагов: наступление продолжается. Под Москвой Гитлер вопил: «Красная Армия уничтожена». Этот припадочный ефрейтор столько говорил о конце России, что сам поверил в свою ложь. Он очнулся в декабре. В этом году неисправимый кликуша кричал: «Военная мощь России сломлена». Пробуждение началось уже в ноябре. Слов нет, далеко от Берлина до Калача. Они долго шли. Куда они пришли? Одни — в лагеря для пленных, другие — в могилу. 24 ноября военный корреспондент «Берлинер берзенцейтунг», подчеркивая «всемирное значение битвы за Сталинград», писал: «Русские так упорно обороняли город потому, что желали сохранить предмостное укрепление для зимних атак. Они хотели клещеобразным ударом сжать нашу сталинградскую группировку». Немецкий журналист писал об этом, как о древней истории: он ведь наслушался непогрешимого фюрера; и он был убежден, что угроза русского наступления миновала. Что теперь думает этот жизнерадостный фриц? Скорей всего, он занят не стратегией, а планами своего отъезда или отлета. Немцы подавлены нашим наступлением. Они говорят друг другу: «Зима началась». Один фриц пишет: «Как только ударят морозы, ударят русские». Этот фриц оптимист: морозы еще не ударили, а русские уже ударили, и хорошо ударили. Это только начало. Снова великое слово «вперед» облетает бойцов. Снова плетутся зимние фрицы по мокрому снегу. Прошлой зимой немцы отдыхали в Ливии. Теперь у немцев не будет ни одного спокойного места. Теперь у немцев не будет ни одного спокойного дня. Берлин сегодня передает по радио (привожу дословно запись): «Германская армия в нынешнем году знакома с зимними условиями войны в России и готова к ним. Пройдет зима, опять защебечут птицы, зазеленеет молодая трава, зажурчат ручейки, и германская армия сурово двинется в атаку». Рано берлинская птичка зачирикала — теперь только конец ноября. Слов нет, весной трава зазеленеет. Но зазеленеет она на немецких могилах. Ручейков фрицы не услышат. Перед смертью их уши заполнят музыка боя и далекое глухое «ура». Вперед! — повторяют бойцы. Страна, гордая Красной Армией, считает трофеи. Солдатам не до счета: солдаты наступают. 17 ноября 1942 г. Ответ Франции Мир не слышал голоса Франции: немцы зажали ей рот. Они сожгли французские города. Они вытоптали французские виноградники. Они ограбили французские музеи. Мир спрашивал: что думает Франция? Но у французов не было оружия, а немецкие тюремщики зорко сторожили ворота порабощенной страны. Сегодня ночью Франция сказала свое слово: взрывы в Тулоне потрясли мир. Что оставалось у Франции? Только флот. Еще недавно военные корабли были славой и гордостью Франции. Когда настали черные дни позора, эти корабли остались как последнее утешение. Они стояли грозные и бессильные: они тоже были узниками, их стерегли немцы. Почему немцы, захватив Францию, оставили незанятым один Тулон? Они боялись неподвижных, скованных кораблей: в них жила душа побежденной, но непобедимой Франции. Немцы хотели взять корабли живыми. Обманом они взяли французскую армию. Обманом они надеялись взять и французский флот. Они уговаривали моряков. Они позволили французскому флагу развеваться над Тулоном. Они ждали, что корабли им отдадутся. Но корабли — это была Франция: все, что оставалось от французской земли и от французской свободы. Немцы напали исподтишка. Ночью они ворвались в Тулон. Бомбардировщики повисли над гаванью, ракетами освещая корабли. Автоматчики взбирались в окна домов. К докам неслись немецкие танки. Боясь защитников кораблей, немцы сразу начали бомбить береговые батареи. Тогда раздался оглушительный взрыв: команда линкора «Страсбург» первая взорвала корабль, лучший корабль французского флота. Страсбург — это имя говорит о горе и гордости Франции. Полтораста лет тому назад в Страсбурге юный офицер республиканской армии написал бессмертную «Марсельезу». Теперь Страсбург «присоединен» к Германии. Город бесстрашного Клебера стал германским острогом. Сегодня ночью немцы захотели завладеть и другим «Страсбургом» — кораблем. На мостике стоял командир, он погиб вместе с кораблем. Это было сигналом. Один за другим опускались в черные воды ночи линкоры, крейсеры, эсминцы. Франция в 1940 году, обманутая и преданная, показала миру свою неукротимую душу. Некоторые корабли пытались выйти из порта, чтобы примкнуть к союзникам. Они вели бой с бомбардировщиками. Они взрывались на минах. Но ни один корабль не сдался. Ни один. Сегодня ночью затонули не только французские корабли. Сегодня ночью затонула идея «Новой Европы» Гитлера. Два года немцы говорили миру о своем сотрудничестве с Виши. Два года они уверяли, что помирились с французским народом. Они повторяли: «Франция с нами». Франция ответила: лучше на дно моря, чем к Гитлеру, лучше смерть, чем бесчестье! Матросы взорвали линкор «Дюнкерк». В 1940 году у города Дюнкерк Франция пережила беспримерную трагедию. Сегодня ночью корабль «Дюнкерк» одержал над немцами подлинную победу: он погиб на боевом посту. Народы, которые сражаются за свободу, услышали последний салют тонущих кораблей. Сегодня ночью вся Франция вступила в боевые ряды союзников. Взрывы в Тулоне услышат солдаты генерала де Голля, и они поклянутся отомстить немцам за мертвые корабли. Взрывы в Тулоне услышат союзники, и, потрясенные величием Франции, они ответят на гибель французского флота новыми победами. Взрывы в Тулоне дойдут до героев Сталинграда, которые уничтожают палачей Франции, и герои Сталинграда в дыму боя воскликнут: «Слава морякам Тулона! Слава свободе! Смерть немцам!» 28 ноября 1942 г. 29 декабря 1942 года Минувший год был для России трудным годом. Летом Гитлер решил бросить все на зеленое сукно. Когда я писал в августе, что немцы обнажили побережье Атлантики и кинули все боеспособные дивизии на нас, это могло показаться сетованиями или уговорами. Теперь я говорю об этом как о прошлом. Мы увидали на наших полях мобилизованных «незаменимых» специалистов, мы увидали седоволосых солдат кайзера и немецких мальчишек, мы увидали даже солдат «с двадцатью пятью процентами неарийской крови» — в погоне за пушечным мясом Гитлер забыл о «чистоте расы». Мы увидали финнов на Черном море, румын на Кавказе, венгров на Дону. Мы увидали берсальеров, которые завоевывали на Дону Ниццу и Корсику. Мы увидали французские танки, голландские самолеты, чешские орудия, бельгийские винтовки. Удар был тяжелым. Мы сражались тогда одни. Мы выстояли. Ноябрь переменил климат мира. Весна человечества в этом году пришлась на глубокую осень. Удар под Сталинградом показал Гитлеру, что нельзя принимать свои желания за действительность. Россия оказалась достаточно сильной, чтобы перейти от обороны к наступлению. На гитлеровскую Германию и ее союзников посыпались один удар за другим. «Непобедимый» Роммель обогнал даже резвых итальянцев. Неожиданно для Гитлера Америка оказалась в Африке. От Туниса рукой подать до Сицилии, а «четырехтонки» англичан благотворно отразились на умственных способностях итальянцев. Крысы различных стран увидели, что фашистский корабль дал течь. Германия приуныла. «Дас шварце кор» меланхолично отмечает, что «мечту о мире пришлось положить в шкаф и обильно посыпать нафталином». Мы видим этот шкаф старой воровки. Там бутылки от давно распитого французского шампанского, несколько античных ваз, украденных в Греции, несколько крестьянских кофт, украденных в России, полинявшие знамена Нарвика и Фермопил и мечты, мечты о немецкой победе. Вряд ли потребовался нафталин: эти мечты уже засыпаны жесткой русской землей. Невесело встретит Новый год разбойная страна. Конечно, на ее тарелках еще последние крохи ограбленной Европы. Конечно, далеко от Туниса до Мюнхена и от Великих Лук до Берлина. Но немцы понимают, что подходит расплата... У репродукторов Германия слушает смутный гул. Это идет Красная Армия. Это идет суд. У нас свидетели — каждый дом, каждое дерево, каждый камень. Наш закон в сердце, он прост и суров: смерть убийцам! Наш приговор мы пишем черным по белому — кровью фашистов по русскому снегу. Еще недавно я читал в берлинской газете: «Клещи, охват, окружения — чисто немецкие понятия». Вспоминают ли теперь гитлеровские офицеры эти хвастливые фразы? Им пришлось ознакомиться с «чисто немецкими понятиями» на своей шкуре. Германию начинает знобить. Еще три месяца тому назад баварские пивовары и прусские свиноводы говорили в один голос, что им необходимо «жизненное пространство». Солдаты деловито спрашивали, далеко ли до Баку, а молодые эсэсовцы высокомерно заявляли, что они торопятся в Индию. Теперь они уверяют, будто в Нальчике или в Бизерте защищают свой дом. Газета «Мюнхенер нейесте нахрихтен» пробует успокоить читателей: «Длинные зимние ночи всегда отрицательно действовали на уверенность немцев... Немцы видят привидения там, где они наталкиваются на трудности. Тяжело переносить неизвестность, в которой мы уже живем два месяца». Как не усмехнуться, читая эти признания? Ночи скоро станут короче, но вряд ли возрастет уверенность немцев. Русская поговорка говорит: «Год кончается, зима начинается». По правде сказать, зимы еще не было. Зима впереди. Но дело не в морозах, а в наступательной силе Красной Армии. Мы вышли на дорогу победы, и мы с нее не свернем. Напрасно немецкий журналист говорит о «неизвестности». Три года исход войны мог казаться немецким бюргерам неясным. Теперь все «известно» даже старым берлинским таксам. Газета пишет о страхе перед привидениями. Как иллюстрация — письмо одной немки из Бад Эмса своему мужу. Немка рассказывает, что в Эмсе был убит французвоеннопленный. Этот мертвый француз, по словам немки, убил некую фрау Грессер и продолжает ночами нападать на прохожих. Они уже впадают в мистицизм. Им мерещатся привидения. В ночь под Новый год Германия услышит шаги. Кто идет? Заложники Нанта и Парижа, евреи Польши, дети, погребенные в керченском рве, повешенные Волоколамска, зарытые живыми в землю витебчане, старики, убитые в Лидице, миллионы замученных и растерзанных. Они уже не оставят ночей Германии. Мертвые, они приведут за собой живых. Стоит зашататься армии Гитлера, и рабы всех стран, привезенные в Германию, будут судить рабовладельцев на площадях немецких городов. Кто тогда вступится за палачей? Мы помним письмо немки, которая просила прислать ей из России детские вещи, не стесняясь, если они запачканы кровью: «кровь можно отмыть». Кажется, ведьмы Брокена и те, увидев эту гиену, воскликнут: «Горе вам, фашистским ведьмам!» Настает Новый год. Мы не преуменьшаем трудностей. Мы не надеемся переубедить захватчиков: они глухи к человеческому слову. Мы надеемся их победить. Каждый день мы слышим торжественные слова: «Наступление продолжается». Немцы под Сталинградом напрасно ждут манны небесной. Их не спасут ни транспортные самолеты, ни ложь Геббельса. Попытка Гитлера прорваться от Котельникова на выручку своих кончилась поспешным отступлением. Теперь Гитлер должен думать о спасении тех дивизий, которые были посланы на выручку окруженных. Быстрое продвижение частей Красной Армии на юго-восток от Миллерова — вторая петля. Мы знаем, что немцы будут упорно обороняться, но одно дело мать, которая защищает своих детей, другое — вор, который не хочет расстаться с поживой. Мы входим в Новый год обстрелянные. Сурово глядят наши юноши. Они догнали в горькой мудрости стариков. Мы готовы к тяжелым боям, к еще большим лишениям, к горю, которое как густой туман окутало Европу. Мы думали жить иначе. В жизнь века вмешалась Германия наци. Черна Европа. Оскудели ее поля. Она перешла от полетов в стратосферу к жизни в бомбоубежищах. Историк назовет эти годы великим затмением. Я ненавижу гитлеровцев не только за то, что они низко и подло убивают людей. Я их ненавижу за то, что мы должны их убивать, бить, колоть, за то, что из всех слов, которыми богат человек, они оставили нам одно: «убий». Они ожесточили самых кротких. Они уничтожили все запахи земли, кроме запаха крови и перегоревшего бензина. Они стерли все цвета, кроме защитного. Они обесценили жизнь, и мы теперь сражаемся за самое простое: за дыхание. «С Новым годом, с новым счастьем», — говорили в ночь под Новый год люди разных стран. Повторим эти слова. Мало личного счастья сулит Новый год людям. Но мы хотим, чтобы он стал действительно новым, чтобы из предвоенных сумерек с их страхом и с их томительным ожиданием катастрофы, чтобы из ночи войны мы вырвались к утреннему розовому счастью. Тихо шевелятся губы женщин: их мужья, их любимые далеко. Молчат вдовы. В блиндажах, при тусклом свете коптилки, солдаты, на минуту размечтавшись, вспоминают свечи елок, ярко освещенные улицы, глупые и прекрасные сны мирных лет. Но вот они снова поглощены одним: наутро нужно взять узел сопротивления. Мерцают глаза, отражая огонек коптилки, и мне кажется, что в черной Европе это — единственный свет, маяк угнетенным, факел в иззябшей руке свободы. С Новым годом! Мне хочется это сказать нашим друзьям, моим друзьям — англичанам. Прошлый год для вас был передышкой. Теперь вы готовы к жестоким боям. Нужно спасти жизнь. Нужно спасти нашу старую Европу. Нужно спасти душу века — она мерцает, как огонек в землянке. Новый год может стать годом победы. Это не билет на лотерее. Это дело мужества и воли. Нашей и вашей. Тогда победа придет — не мраморная богиня, нет, наша сестра, в грязи, в крови. Она протянет свои окоченевшие руки к бледному