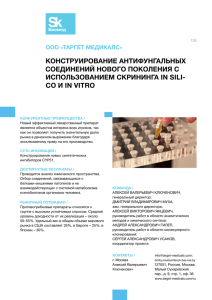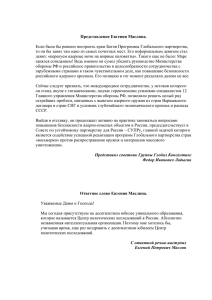Часть первая - Карнаухов Степан Васильевич
advertisement
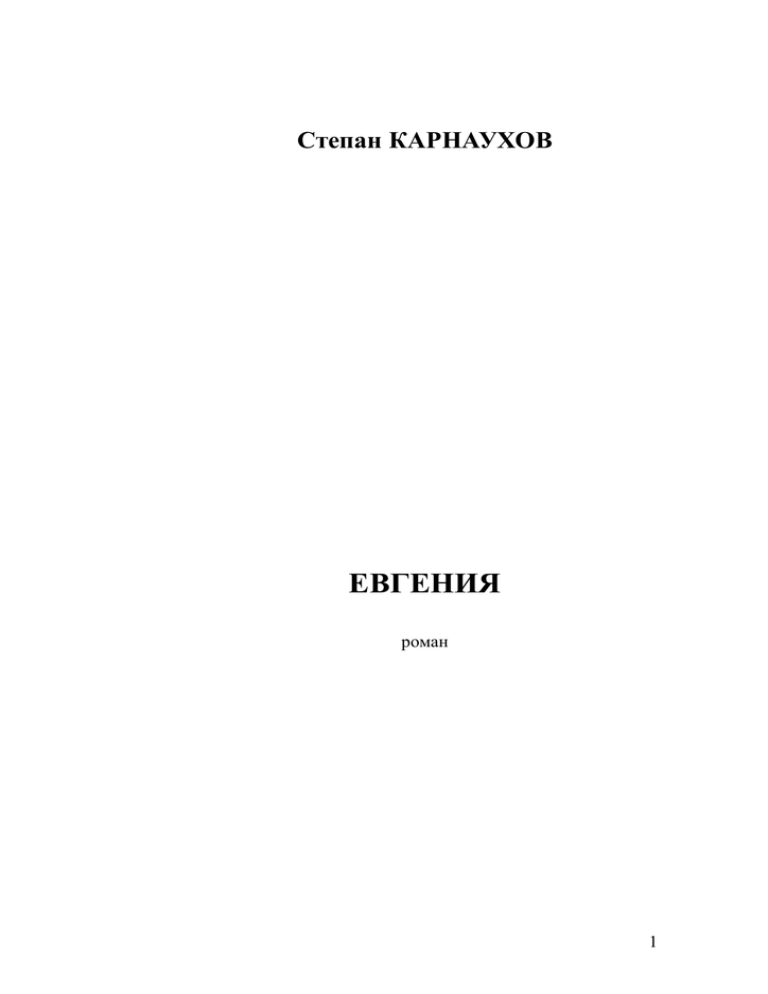
Степан КАРНАУХОВ ЕВГЕНИЯ роман 1 ПРОЛОГ День был редкостный для весенней Москвы - яркое солнце, наконец-то, вырвавшееся на безоблачное сине-голубое небо, оповещало, что приход весны неизбежен, скоро растает слежавшийся почерневший снег и обнажит знаменитые московские бульвары и скверы, заиграют солнечные зайчики на стеклах окон, очищенных от зимнего налета пыли и копоти, отражая омытые первыми дождями дома, мокрый асфальт и пробивающиеся на волю из почек молодые сочные листочки тополей и лип. По набережной Москвы-реки неспешно и весело шли офицеры, они были молоды, красивы и очень уверены в себе. Заразительная молодость, не растраченная энергия и бьющая из них невероятная жажда жизни, вызывали у торопящихся встречных и обгоняющих москвичей доброе, а у некоторых завистливое любопытство. Девушки притормаживали ход, их фигуры становились еще стройнее, походка грациознее, на лицах вспыхивали кокетливые, зовущие улыбки. Совсем недавно, каких-то лет семь-восемь назад, эти офицеры жили одним единственным стремлением - быстрее одолеть сильного, жестокого врага, и, наперекор всему, остаться живыми, продолжить служение многострадальной Родине, еще выше поднять ее славу и величие, продлить победоносное шествие тех, кто воевал с ними и положил молодые жизни на суровом и победоносном пути от Москвы до Берлина. Родина нуждалась в их служении и обережении и ради своего будущего на воинской службе они прибыли в военную Академию, в Москву, «с своими самоварами или чемоданами», то есть с молодыми женами, счастливыми или надеявшимся стать таковыми. Сияющий, просветленный день со слабым ласковым ветром удерживал офицеров на улыбающейся улице, к этой солнечной радости они вырвались из тесных и душных комнатушек. Их оживленный разговор с веселыми шутками, свежими анекдотами, не обидными подковырками незаметно, но настойчиво переходил на серьезный лад, на темы, волновавшие не только их. — У меня такое ощущение, что передышка, выпавшая после Победы, завершается… Это говорил молодой полковник Воронов Павел Дмитриевич, прибывший в Академию из оккупированной Германии, где оставался артиллерийский полк, которым он командовал, плотно сбитый, с массивной головой, с умными и волевыми глазами, он, казалось, вглядывался куда-то далеко вперед, возможно, в неведомое, но влекущее будущее. — Тут и раздумывать нет смысла, все и без того как на ладони. Для чего сколотили НАТО? Это же не ансамбль песни и пляски, - ни то соглашался, ни то сомневался капитан Виктор Беседин. Он выше всех ростом, но спокойнее других, больше своих приятелей напоминал кадрового офицера старой русской армии - тщательно разделенные пробором волосы, подтянутая, строго выпрямленная фигура, красивые голубые 2 глаза, что придавало молодому офицеру, выходцу из курской деревни, благородство и некую аристократичность. — Пусть что угодно сколачивают,— пробасил майор Дмитрий Никитович Ващенко, самый внушительный в этой компании, типично русский мужик с крупным носом, мощными скулами, широкой грудью, с русской удалью, размашистой душой,— они же не слепые, видели, как мы с Гитлером разделались. Пусть попробует, кто сунуться! Нас же обучают не в бабки играть… — Шапками закидаем?!— с едкой иронией продолжил сказанное Ващенко ироничный подполковник Гринский. Он прибыл в Академию из какого-то высокого штаба, в войну выезжал на фронт лишь для выполнения разовых поручений, после нескольких удачных командировок в штаб того или иного фронта возвращался, чтобы получить очередную награду и внеочередное повышение в звании,— современная обстановка в мире куда сложнее, нежели нам представляется. Его попутчики ожидали, что еще скажет Борис Исаакович, в его осведомленности, удивлявшей их, убеждались неоднократно. — Наша Победа,— Борис Исаакович сделал упор на слове наша,— бывших союзников ни столько удивила, но еще больше насторожила, особенно их беспокоит, что мы не сделали никаких выводов и продолжаем действовать, как и до войны. — А что у нас до войны было неугодного хитроумным бывшим союзникам?— с вызовом спросил Воронов. — Как что? Сохраняем везде колхозы, ни в городе, ни в деревне не допускаем, хотя бы в малых размерах, частное предпринимательство… — Ишь, чего захотели!— резко перебил Ващенко,— их капиталистов еще у нас не хватало… — Они надеялись,— подполковник Гринский не обращал внимания на слова Ващенко,— что будет разрешено участие их капитала в восстановлении разрушенного народного хозяйства, и, вообще, теснее станем сотрудничать в экономической области. — А мы, к их неудовольствию, без «плана Маршалла» и другой капиталистической кабалы неплохо обходимся,— заметил Воронов,— устояли против атомного шантажа, а промышленное производство уже превзошло довоенный уровень. — Их, безусловно, беспокоит возобновление репрессий,— понизив голос, с некоторым высокомерием, поучающим тоном продолжал говорить Гринский. — О каких репрессиях ты толкуешь?— спросил Беседин. — Весь еврейский антифашистский комитет забрали,— грустно отвечал Гринский,— теперь вот «дело врачей»… — О комитете ничего не слышал, а по врачам было опубликовано,— задумчиво говорил Беседин,— за такие дела нигде и никого не милуют. — Чего еще добиваются бывшие союзнички?— снова со злостью спрашивал Ващенко… 3 — Они настаивают на свободном обмене информацией, на прекращении глушения радиопередач «Голоса Америки», радио «Свободная Европа» … — А ключ от квартиры, где деньги лежат, им не нужен?— задал знаменитый вопрос Воронов. Гринский ответить не успел. — Паша! Твоя благоверная к тебе на крыльях летит!— воскликнул Ващенко. Навстречу быстрой, почти летящей походкой приближалась Женя, жена Воронова, она действительно в легком, просвечивающем платье с широким развевающимся подолом, с веселой и доброй улыбкой, с светящимися под красиво изогнутыми бровями глазами, напоминала чудесную птицу, летящую к ним, Павел, как неукротимый изюбрь, ринулся к ней. — Мы договаривались в «Ленинку» зайти,— напоминала Евгения мужу, здороваясь с его приятелями,— сделать выписки из старинных фолиантов... — Слушаюсь, товарищ командующий,— весело и лихо откозырял Воронов,— ну пока, до завтра!— он протянул руку приятелям. Каждый пошел своей дорогой в неведомое пока, но предназначенное для них будущее. Какими путями-дорогами они к нему двигались, как, в конце концов, все обернулось и пойдет рассказ. 4 КНИГА ПЕРВАЯ Часть первая 1 В конце августа, кода лето уже на спаде, прохладнее ночи и суше утренние росы, в сибирской деревне перепадает совсем короткая передышка. Выкошены перелески, перебрались с выводками подальше вглубь березняков и осинников куропатки. На ощетинившихся стерней лугах возвышаются начинающие уже чернеть от предосенних дождей зароды нынешнего сена. Засеребрилась на полях озимая рожь, на широких массивах желтизной выделяется лоскутки поспевающей пшеницы. Спадают белые и синие цветы с ботвы картофеля. — Сушь установилась, это хорошо для ржи — быстрее доходит, — замечает Екатерина Егоровна. В обиходе она просто Катя, ей еще и до тридцатой весны не один год доживать, «Катюха» — чаще зовут ее домашние, и муж Иван также кличет. Но сегодня задумалась, рассуждает совершенно всерьез, потому и хочется обращаться к ней степенно, уважительно — Екатерина Егоровна. Иван Александрович Муратов, председатель одной из первых в этих краях артели «Красный Октябрь», Катин муж, крестьянин с трехклассным, и то с натяжкой, образованием, понятия не имел, что такое психологическая разрядка. Не рассуждая о всяких заумных материях, счел само собой разумеющимся дать мужикам и бабам не просто передохнуть, а встряхнуться в короткий промежуток между сенокосом и страдой, сбросить груз успешно исполненных работ, смыть крепкий пот от веселой, пожалуй, самой веселой и тяжко-радостной из всех полевых работ. Сенокос — трудовое раздолье для удалых и сильных, не объявляемое, не расписываемое какими-либо правилами крестьянское состязание: кто шире и быстрее пройдет длинный прокос. После обеда сенокосщики забираются в прохладный шалаш, передохнуть пока не спадет полуденная жара. Не ложатся лишь мастера отбивать косы-литовки, ритмичный перезвон разносится от дробных ударов молоточка по косе, прижатой к маленькой походной наковальне. Оттянет мастер лезвие косы, воткнет острие черня в землю, приспособит насаженную косу под мышкой, ухватится левой рукой -- в правой у него шершавый наждачный брусок с рукояткой — и жиг-жиг, жиг-жиг по оттянутому лезвию! Пройдет ранехонько, по росе, до восхода солнца косарь первый прокос — коса легко сбривает травинку: до того востра, приемиста. По пальцам одной руки можно пересчитать особо уважаемых на сенокосе людей — метальщиков зародов. Сноровистый метальщик как бы играючи подцепит на трехрогие деревянные вилы весьма и весьма увесистый навильник сена, не раструсит его и так ловко подает — мечет — на завершаемый зарод, что вершильщику остается лишь чуток подправить заброшенный к нему навильник и 5 для порядка, ровности прихлопнуть его. И косарь и метальщик — выдастся свободная минутка — залюбуются красивой, слаженной и веселой бабьей работой. Они подгребают валки высохшего сена, наваливают его на волокуши. А какое раздолье на покосе детишкам! Те, что постарше, управляются с конными граблями, а те, которые поменьше — иным из них по пять-шесть лет — лихачат на лошадях, запряженных в волокуши, стремятся обогнать друг друга и так подскочить к зароду, что метальщику не потребуется лишних движений, остается лишь подхватить сено и подать на зарод. После многодневной напряженности тело тяжелеет от накопившейся усталости. А сколько опасений — как бы под дождем или под солнцем не сгубить заготовленное и не оставить скотину на зиму без кормов, а себя не подставить под недобрые страдания бескормицы. Оттого мужикам и бабам особенно приятно широко, с русским размахом и удалью встряхнуться, подготовить души и тела к следующему испытанию — к осенней страде, никогда в этих местах не бывающей простой и беззаботной. — Гуляй, председатель, да не загуливайся, — предупреждает Екатерина Егоровна мужа, — опаска есть: как бы после такой суши дожди не зарядили, осень тебе не лето. Перед малюсеньким зеркальцем вертится Катюха. Нет, это не занудная председательша, а веселенькая, бойкая, приманчивая деваха, смотри, как вырядилась — платье новенькое, цветастое натянула, с короткими рукавами и так обтягивает ее, что и раздевать не надо — все на виду - ноженьки в ботиночки втиснула, тоже новые, ненадеванные, не разношенные. Веселятся, поют и пляшут мужики и бабы, радуются, не терзают души раздумьями об ожидающих радостях или напастях. Веселись, душа крестьянская, радуйся содеянному и не бойся ни дождя, ни холода, да не будет впереди невзгод и голода! Иван Александрович по такому случаю разрешил пару баранчиков освежевать, выделил муки, масла, остальное — свежепосоленные огурчики, редьку под сметаной, стрельчатый зеленый лучок, только что накаченный мед, нынешним летом заготовленное варенье -- понатащили бабы со своих огородов, подполий и погребов. Бурятка Наталья Оширова, соседка Муратовых, колдует над саламатом, люд в деревне смешанный — русские и буряты — потому и закуска самая разная, русские бабы понатащили салаты и пироги, жареную курятину и отварную картошку, соленые грузди и рыжики, бурятки тоже постарались не ударить в грязь лицом, приготовили отварную баранину, кровяную колбасу и, конечно, саламат — заваренную в сливках муку, горячий саламат по-особому ароматный, необыкновенно вкусен и сытен. Разрешил Иван и выпить, правда, мужики меж собой беззлобно роптали, какая, мол, это выпивка — бабье красное вино. Вслух свой ропот не проявляли, в те времена крепкая до упаду выпивка за доблесть не признавалась. 6 — Жмот ты, Александрович, пожалел на казенную-то потратиться, — с подковыркой ворчит Егор Соболев, бригадир, особо уважаемый председателем, потому и в словах смелый. — Обошлись бы и без казенной, дозволил бы самогончика нагнали, да куда там, сельсовет запрещает. Вот и лакай эту кислятину, — это другой Соболев разглагольствует, Иннокентий, которого дня отличия от других Соболевых часто Ильинским прозывают, по имени дяди его, старшего в роду. — Ничего, мужики, обойдетесь и этим, голова с похмелья болеть не будет, — также полушутя огрызается Иван Александрович. Бабам красное вино, видно, на пользу пошло: раскраснелись, осмелели, у мужиков зачин-запевку перехватывают. Признанная певунья Агафья Ильинична, жена Екатерининого брата Василия, не обращая внимания на разговоры, чоканья стаканами, грудным — «нутряным» — голосом начинает выводить: Живет моя отрада в высоком терему, В высокий этот терем нет ходу никому... Песня, как пролитая вода, растекается по застолью, проникает в сердца и души. Бабы поют, мечтательно склонив затуманенные головы, грустно и дерзко выдыхают: Была бы только ночка, да ночка потемней... Не поет одна Авдотья Карповна Станкевич, сидит тихая, как бы придавленная, не сладко ей. Допекают мысли о доченьке, о Женьке, девка в возраст вошла, природа свое берет, нет в ней удержу и терпенья. А какая певунья Авдотья! На что Агафью не перепеть, а Авдотья и ей не уступит. Поют мужики и бабы, в протяжных, сладко-грустных песнях жизнь простую и таинственную друг другу поведывают, души раскрывают, мечты поверяют. Выводят песню за песней, задумчивые сменяются озорными, старинные — новыми. И как роковое предчувствие тяжко и высоко подымаются голоса: Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело... Попели, еще по рюмочке выпили. Резким перебором рванула гармошка. Иван Александрович крепкий, плечистый, встал из-за стола, тряхнул большой головой — взлетели редеющие кудри, ногой притопнул, зовуще взглянул на жену свою Екатерину. И пошла она по кругу, лишь мелькали ладные ноги, обутые в ботиночки с высокой шнуровочкой, плясала самозабвенно, лукаво и призывно оглядывалась на своего Ивана, словно что-то особенное говорила ему, да вот засмотрелась, запнулась, чуть не упала, отломился высокий каблучок у ботиночек, в первый раз надеванных... Бездумно смеется Иван, вслед смеется Екатерина, но едва удерживается, как бы ни разрыдаться прямо на людях — ботиночки-то 7 совсем новенькие. Жалко, ох как жалко ботиночки, да и пляску свою неоконченную... 2 Ивана Александровича окружили парни, совсем молоденькие, парнишки еще. Просят лошадь. — Дядя Ваня! Дай коня съездить в Егорьевский, — сходу берет быка за рога Костя Станкевич. Говорит резко и напористо, дерзко и остро вонзая в председателя глаза, глянцево черные с ярким зрачком. Его подпирают узенькими плечами с полдюжины таких же нахрапистых мальчишек, правда, чуть уступающие Косте в дерзости при общении с председателем колхоза. Иван Александрович Муратов мужик не из пугливых, его нахрапом не одолеть, он твердо стоит на земле, хозяйственный и основательный, с ответом не спешит, лукавым, с притаенной улыбкой, взглядом сбивает с Кости спесь. Конечно, в его воле дать или не дать коня, в хозяйстве лошадь не сопливый верблюд и не покорный ишак, с мужиками на равных, а иногда и более значимая, тянет самые тяжкие заботы по хозяйству, в посевную и на покосе кони так измотались, что у многих только кожа да кости, некоторые едва стоят на голенастых ногах. Мужики и бабы за весну и лето тоже накопили немалую усталость, для того и придуманы эти откоски, рассчитывал разумный председатель, пока люди вольют в себя живительного хмельного, пока отваляются на мягких и сладких постелях, кони за этот короткий передых тоже отстоятся, отъедятся на аппетитно хрустящем овсе да на свежей кошенине, так жалко отрывать их от отдыха, выводить из сытного стойла, будто на него самого хотят хомут надеть. Но и не дать парням коня нельзя, не один раз еще придется поклониться этим ребятишкам, на жатве ведь всякое бывает, погода иной раз все благие намерения и продуманные планы переломает. Осенние дожди иной год, словно злобные вредители, так зачастят, что каждый колосок вырывать от непогоды приходится и умом, и горбом, а то и зубами, в такое время в деревне каждый работник на счету и на вес золота, молодые, спорые, как вот эти парнишки, первая подмога председателю. К парням присоединяются холостяки постарше. — Председатель, надо дать, — как бы со стороны поддерживает подошедший Иван Филиппов, он посолиднее Кости, говорит твердо и уверенно и это больше на требование похоже. Егорьевским участком называли большую деревню, неподалеку отсюда, километров за двенадцать, там жили украинцы, переселенцы времен еще давнишних, прошлого столетия. Местные парни почти никогда не женились на своих, брали в жены из других деревень, а то и городских, видимо, инстинкт продолжения рода заставлял искать вторую половину за пределами своей заимки, 8 здесь уже давно все семьи кровью перемешаны. Екатерина у Ивана Александровича тоже привозная, из Чубаревки сосватал ее молодой тогда председатель сельсовета, понравилось женушке здешнее местожительство, и она брата Василия переманила с семьей, с певуньей Агафьей, да и младшенький брат Мишутка больше здесь живет, похоже, навсегда тут и останется. Мишутка тоже среди парней, собравшихся в Егорьевский, Костя Станкевич, видать, сманил его. Костя — красивый парень с черными блестящими глазами и с еще более черной, курчавящейся шевелюрой, отрада, надежда и зависть местных девчат и гроза для молодых мужей. Напирает на председателя и Ванька Филиппов, этих Филипповых в деревушке не одна семья и отличают их прозвищами — этот Лупановский, а другой Филиппов, тоже Иван, из Лабодинских, он уже в возрасте, ровесник Екатерины, но холостякующий до сих пор. Может, и отказал бы Иван Александрович парням, не дал бы лошади, но увидел этого Ваньку Лабодинского — чуть не обрадовался, уносит черт негодного. Ванька-то в соперниках у него, сманивал Екатерину за себя, перехватил ее Иван Александрович — судьба что ли, но Ванька Лабодинский, по всем признакам, из сердца ее не выбросил, по недоброму на него косится, на Екатерину, как завороженный глядит. Раздумывает председатель - ребята молодые, еще непутевые, не загнали бы, не попортили коня. Строг председатель да отходчив: порядок дела не портит, от порядка не нищают, но хозяин добр и люди отзывчивые. День-то, какой! Все веселятся, радуются — зачем же отказом праздник портить! И ребята хорошие, работящие, на сенокосе не филонили, а впереди — страда. Дал бы им коня Иван Александрович в любом случае, но увидел Ваньку этого Лабодинского, и согласие само из него вылетело: — Запрягайте Карьку, только не загоните и потного не поите, да покормите, возьмите с собой литовку, накосите травы или отавы. ...Не чуяли под собой ног муратовские парни, получив председательское разрешение, рубахи и пиджаки парусом надувались, когда бежали на конный двор. Красавец Карька, председательский выездной, тоже радовался, довольный мотал головой, послушно подставлялся под хомут, точно, как требовалось, встал в оглобли: только поднимай резную дугу, да затягивай потуже сыромятную супонь. Загремел сначала, а потом затих ходок, постепенно отдалялись возбужденные голоса парней. Гулянка, между тем, продолжалась, после плясок разгорелись игры — неуемные, азартные, хороводы шумные. Потом снова уселись за столы, снова выпили, закусили, опять попели и так до самой полуночи. Ночь августовская прохладная, в летних платьицах бабам и девкам зябко, только в играх и плясках согреешься. А уходить так не хочется! Развели костер, подбрасывают в него чурки, ветки, искры от костра разлетаются, а чуть отойдешь — тьма кромешная, ничего и никого не видно. Кто-то крадучись, чужого догляда боясь, укрылся во 9 тьме, невидимый там целует свою или чужую, не разобрать. Только совсем пожилые, вроде Агафьи Ильиничны, по-колдуньи все видящей, кругом успевают узреть, за всеми углядеть: кто за кем подался в темь не просветную, честное или грешное счастье искать, вычисляют, где свадьбе быть, а где скандалу громкому, злой разлуке или прощению примирительному. 3 При выезде с конного двора на ходок ловко впрыгнула Женька Станкевич. Ванька Лабодинский хотел ее сбросить, да где такую заполошную сбросишь, только возни больше, да задержка из-за окаянной, пусть едет, не задавит, коня не надсадит. Под удалое гиканье парней Карька ходкой иноходью переставлял крепкие и стройные ноги, в одно мгновение вынес за деревенскую поскотину. Дорога пролегала словно по волнам застывшего океана: невысокие продольные холмы, их называли здесь буграми, чередовались с долинами, поздешнему — падями. На бугор ребята, подгоняя Карьку, с шумом и гиком взбегали, на самом перевале весело запрыгивали на ходок и стремглав «падали» на дно очередной пади, правда не забывая, что ходок может раскатиться до чрезмерного предела, накатиться на гладкий зад Карьки, сбить его с темпа, а там и с ног. Неминуема беда: переломанные ноги коня, разбитый ходок, и у ребят косточки потом пересчитывай, но ребята — народ деревенский — не впервой через бугры и пади мчаться, знают меру и, торопясь к девчатам, возможно, к будущим своим суженым, за дорогой и конем следят зорко. Точнее следит один разудалый Костя Станкевич, остальные без всяких опасений и разговоров доверяют его умению, Костя судорожно не цепляется обеими руками за вожжи, а лихо держит их в одной руке и незаметно, лишь одними крепкими пальцами пошевеливает. Карька — конь чуткий, незаметные шевеления Костиных пальцев отлично понимает и где сбавляет ход, а где приторапливается, уверенно ставит ноги в протоптанную середину полевой, по-местному польской, дороги, колеса ровно катятся по земляным желобам, выдавленным сотнями, а может и тысячами колес, прокатившихся от Муратовки до Егорьевского участка. — Мишка, не забоишься сегодня подойти к Кланьке Вязьминой? — старается перекричать Костя стук колес и дребезг ходка. Мишутка самый младший в компании и потому подначки начинаются с него. — А чо мне бояться? — Мишутка старается выглядеть храбрым, хотя в душе боится, как бы опять не сробеть, надо непременно осмелиться подойти к гордой, на его взгляд, недотроге. Но не к Кланьке, а к этой, что рядом жмется горячим телом, к Женьке Станкевич, да, это тайна, пока для всех, и для ребят, и для Женьки. Только сестричка Катюха догадывается, но помалкивает. — Мишка-то что! — ввязывается в разговор Ванька, тот, что Лупановский, — вот Лабода опять простоит, как истукан; только девок дундук угрюмый пугает. 10 Иван, что Лабодинский, сверху вниз глядит на неказистого тезку, презрительно кривит губы — что, мол, вы в этих делах понимаете? Похоже, все-таки понимают, Костя Станкевич без всяких хитрых подходов, заходов задевает за больное: — Он от председателевой Катерины отхлынуть не может. Как бы в темном закоулке председатель ему на черепок не наступил. Иван Лабодинский продолжает улыбаться, улыбка у него горькая, досадливая. И Мишутка обижен словами Кости — сестру любил безоглядно, никому и нигде об этом не говорил, но из-за нее сюда, в Муратовку, от отца с матерью из Чубаревки сбежал. Иван Александрович тоже Мишке глянется, не крикун, грязного слова отроду на людях не бросит, Екатерину так жалеет, как, дай бог, кто-нибудь у них в Чубаревке или здесь в Муратовке жен своих жалел. С подначками веселыми, с подковырками беззлобными не заметили, как добрались до Егорьевского. В колке, меж берез – росли они здесь с далеких времен — табунились Егорьевские парни и девчата. Еще при спуске в Егорьевскую падь ребята услышали разливчатые мелодии гармошки, а вскоре заливистые девичьи голоса и басовитые всполохи хохота. Разудалая вечерка на этот раз разгулялась в колке, окаймлявшем гладкое зеркало пруда, к берегам которого с трех сторон примыкали разномастные дома, домики и домишки, хотя Егорьевский совхоз по гектарам пашни и других угодий, по общему достатку превосходил «Красный Октябрь», внешним видом строений и плотницким мастерством не слишком выделялся перед соседними деревнями. Зато огороды, распаханные по склону вплоть до черневшего на вершине бугра соснового леса, занимали площади никем, похоже, немереные и добрые урожаи картофеля и овощей заметно пополняли колхозный трудодень и порождали завистливые разговоры в соседних деревнях и заимках. В колке гремели вечерки в летнее время, в нем меньше чувствовалась духота, оставшаяся от знойного дня, блестевший пруд и всплески выпрыгивающей рыбы придавали своеобразное, похожее на сказочное, очарование, а звуки песен, переборы гармошки, редкие вечерние вскрики птиц таинственным и звучным эхом усиливали прелесть этого места и самой вечерки. В прохладное время и зимой, конечно, в колк молодых егорьевцев и их гостей не тянуло, но вечерки регулярно продолжались и заманивали в просторную горницу пустовавшего дома бабки Пелагеи Загвоздиной, коротавшей не лучшее для поживших костей время года в городских квартирах расплодившихся потомков. Когда погода позволяла молодежь веселилась в давно уже строящейся школе, неторопливость колхозного руководства и строителей оборачивалась в данном случае не худшим образом. Гостей из Муратовки встретили шумными возгласами, гармонист на всю ширину и мощь растянул меха, девчата задорно пропели частушки, а парни приветствовали чувствительными похлопываниями по плечам и крепкими рукопожатиями. Девчатам мужское пополнение особенно по душе, чем черт не шутит, может, карий жеребчик привез и того, кто в неясных, но частых грезах, представлялся не одной из них предназначенным судьбой для нее. Вон, какой 11 чернявый и завлекательный соскочил с ходка, ловко забросил вожжи на спину коня и с ходу бросился в пляску за веселыми девчатами, часто затопал ногами в хромовых сапогах, а руки, как заведенные, молниями мелькали от широкой груди до крепких колен. А потом начал выкидывать перед Веркой Семеновой такие замысловатые коленца, что ее подружки чуть не расстроились от зависти, да некогда им расстраиваться, другие муратовцы тоже заскакали вокруг ярко пылавшего костра, придававшего необыкновенное выражение их разгоряченным лицам. Мишутка Чубарев не поддался общему веселью, робко подсел к Женьке Станкевич, превозмог себя и даже затеял с ней разговор - не бойкий, если слушать со стороны, но Мишке запомнившийся навсегда — первый раз в жизни не просто разговаривал с девчонкой, а вкладывал в каждое слово, в интонацию, во взгляд и жест особый смысл. - А ты чего сидишь? - робко спросил он, - не хуже ведь других пляшешь… - Надо мне это,- не поворачивая к нему головы, фыркнула Женька. - Я тоже не пойду в круг, - вроде бы равнодушно согласился Мишутка,- скачут как козлы. Он считал, что с пляской у него хуже других и потому стеснялся показывать себя неумехой, Женькин же ответ его обрадовал – останется здесь на бревнах, не убежит в хороводный круг. В подобном духе о продолжал перебрасываться с нею словами, не замечая ее интерес не к нему, а ему так и осталось неизвестным., доходили ли его слова до Женьки, слушала или нет — ему не понять. Ей хотелось бы пошуметь здесь, поплясать, потолкаться, сбросить тоску непонятную, да боится. Костя, брат, так может одернуть — век не забудешь. Иван Лабодинский, конечно, больше с Егорьевскими ребятами разговоры вел, отвлечь, может, на себя, их хотел. Немного понадобилось времени, чтобы понять – не только дружбу и веселье привезли сюда муратовские, очень уж раздражительным для них становился Костя Станкевич, с его приездом поблекли в глазах землячек Егорьевские парни, слишком часто оборачивались они в Костину сторону, завистливо и не без зла вздыхали; видели — Костя вызывал на «голубца» или «сербиянку» одну за другой. Каждая мечтала оказаться на месте избранной, уж очень пригож заводной муратовский паренек. Того и гляди, до драки дойдет — это бывало частенько — да не зря Иван Лабодинский, он степеннее и рассудительнее других, так старался, отводить своими байками Егорьевскую грозу от Муратовских ребят. На Женьку местные девчата тоже косо смотрели: пигалица, а парни ихние то и дело на нее оборачиваются, глаза пялят. Филька Попов, здоровяк Егорьевский, уже попер на Костю, запыхавшегося после пляски. Отошли в сторону, бугай Егорьевский и стройный, верткий Муратовский шалопут. — Ты, чо?! — по-бычьи промычал Филька. 12 — А ты, чо?! — в тон ему, но с писклявой издевкой отвечает Костя. Костя не из боязливых, стычки с ребятами ему чуть ли не с пеленок привычны, битый не раз домой приходил. Филька видом покрепче его, но Костя знает: сразу не даст себя с ног сшибить, умеет, когда увернуться, а когда неожиданно влепит самое незащищенное болезненное место, да в такое, что у незадачливого, воловатого соперника глаза на лоб выкатываются. — Я не чо, но ты, того!.. — угрожающе мычит Филька и правым плечом вздергивает, как бы толкнуть хочет. — Ты, меня не того, а то... — огрызается Костя. Ему нет охоты тянуть время с этим бугаем, двинуть бы его разок, чтоб отстал, Костя дернул плечом, пододвинулся к противнику. Вот-вот сцепятся, тут меж ними решительно втиснулся Ванька Лабодинский. — Костя, сходи посмотри коня! — твердо приказывает Ванька, — как бы не запутался в кустах, да ходок не поломал. Давно звезды рассыпались по черному небу, прохлада зябко передергивала плечи парней и девок, а вечерка продолжалась задорно и весело. Но не напрасно Иван Лабодинский взрослее других: из темноты загремел ходок, раздался храп застоявшегося и уже вздрагивавшего от ночной свежести Карьки — почти насильно усадил неуемную ватагу. Прощально загремел подразбитый ходок, заныли сердечки у разнесчастных, так скоро покинутых девчат. Правда, дело молодое, умолк стук ходка, не долго печалились девичьи сердца, расхрабрились после отъезда соперников Егорьевские парни и вечерка, не сбавляя темпа и страстей, тянулась до поры, когда начала сереть мгла, многим девчатам настала пора бежать к коровенкам. Успеть бы подоить до пастушечьего рожка, потом ненадолго уснуть, если отцы будут в духе, простят молодую беспечность, вспомнят себя такими же и не придумают какое-либо заделье, дабы проучить их за безоглядную ночку. С бугра в падь, из пади на бугор тянет ходок многотрудный Карька. — Ребята, коня-то не покормили, попадет от председателя, — наконец-то вспомнил Костя. — Совсем с этими девками закрутились, коню даже газету читать не дали, — заворчал неизвестно на кого Иван Лабодинский, управлявшийся с вожжами, — давайте подъедем к пашне, накосим зеленки. В этом колхозе над нерадивыми хозяевами, если скотина без кормов оставалась, подшучивали - дай, дескать, ей газету почитать вместо сена. В стороне, отблескивая при мерцании звезд, выделялось в темноте хлебное поле. Костя засветил спичкой: — Нет, это ярица, уже почти поспела, не годится, жесткая, не будет конь есть. 13 Костя кинул в сторону спичку, Иван понукнул коня, направив к другому полю. Там колосился овес, он стоял зеленым, метелка еще не налилась, Иван несколькими размашистыми, мощными взмахами навалил почти полкопны. — Складывайте на ходок, в Марьиной пади покормим, — командовал он. Так и сделали. Бугры, пади и перелески скрыли от парней беду, которую себе только что устроили: не погасла спичка, обжигавшая пальцы Косте, упала на сухую, пожухлую от установившейся суши травушку, подпалила ее, сначала медленно и не заметно, а потом все ярче и злее побежал разрастающий огонек от нее по сухой ярице, передался траве, подобрался к подоспевшим стеблям, от стебля к стеблю, сухому, ломкому, склоненному к земле тяжестью налившегося колоса. Как обреченные подставляли остистые колоски, посеревшие головки под пожирающее пламя беспощадного огня. А Женька Станкевич, протиснувшись в середину ходка, пригрелась возле ребячьих спин и до нее глухо доходили ребячьи разговоры, подначки и ничуть не волновали поиски корма для Карьки, покорно выполнявшего свой лошадиный долг. 4 У Станкевичей когда-то была большая семья: четыре парня и одна девка, и все одинаково красивые и одинаково шубутные, вечно Авдотья Карповна, их мать, ходила от дома к дому, за парней драчливых оправдывалась: кому-то новую рубаху в драке порвали, кому-то стекла оконные мячом выбили — любили в лапту поиграть — а то и стащат какую-нибудь мелочь, это грех в деревне самый тяжкий, да тащили не от нужды, хотя при такой ораве нужда всегда в доме, больше из озорства, удали. Парни выросли, своего ума набрались и разъехались по городам — узка и коротка им деревенская улица. Один Костя продолжал семейные традиции, а у матери забот не меньше, чем когда все пятеро шубутных жили дома. И девка, красавица Евгения, не одни радости приносила. Отец, муж Авдотьи Карповны, тихий и вроде сонный Алеха, но видный и на лицо и на фигуру мужик, не давал дунуть на нее, не то, что накричать или приструнить — любил до помрачения, бывало только в дом заявится, сразу доченьку ненаглядную на руки и начнет с ней гугукаться, причмокивать, подкидывать, песенки напевать, слова порой из мужика не вытянешь, а с малюткой мог часами щебетать, напевать. Подросла, бегать по заимке стала, для Алехи одно беспокойство — не дай бог, не обидели бы, куда бы сама не залезла, любой синяк, любая ее слезинка для него невыносимое страдание. Так и избаловал — росла капризной, своенравной, знала, в доме отказа ни в чем не будет, и на улице при таких братьях никто перечить не посмеет. Шестнадцати годов ей не исполнилось, а красу свою, власть над людьми познала, деревенские парни на нее даже заглядываться боялись — не надеялись, 14 что писаная расписанная, неприступная и своенравная удостоит чести, к себе подпустит. А она на парней сверху глядела, никого не выделяла, какого-то особенного ждала, выискивала, да найти, похоже, не смогла. ...Костя только-только успел заснуть, когда перепуганная Авдотья Карповна впустила ранних незванно-нежданных гостей. Для хлопотливой и шумливой Авдотьи Карповны — сыновья-то, видать, в нее пошли — Костя и свет в окошечке, и вечный страх, ожидание беды.. Что же опять натворил? — встрепенулось материнское сердце, когда в тесную кухню ввалились милиционер и еще двое незнакомых и с ними колхозный председатель. Следом Екатерина Муратова со страшно испуганным лицом и с заплаканными глазами. Растолкали Костю, сон его был крепок и спокоен, сразу не понял, в чем дело. И понять невозможно: толкают, тащат, не говорят, куда и зачем, лишь приговаривают: «сам знаешь... там разберутся»... Натянул сапоги хромовые, по праздникам их носил, вчерашнюю, тоже праздничную рубаху, поверх набросил старый латаный пиджачишко и пошел Костя в окружении неизвестных ему мужиков. Авдотья Карповна плачет, причитает, горбушку хлеба в карман сует, семенит на коротких, болящих ноженьках, то к милиционеру, то к Ивану Александровичу, председателю — свой-таки, пояснит, поможет — а те стыдливо отворачиваются, одно только талдычат: «там разберутся». Екатерина дальше за мужиками пойти не смогла, услыхала пастушечий рожок, всплеснула руками: корова-то еще не подоена!, — бегом домой, боялась ребятню без молока оставить, да и не попортить бы корову: молодая, первотелок, доить надо вовремя. Как не торопилась, но дело свое привычно с прилежанием и терпением крестьянским исполнила - додоила до конца - и, не напоив парным молоком теленка, жалобно мычавшего в загородке, бегом погнала Зорьку за поскотину догонять стадо. Пока доила, догоняла пастуха, розовый рассвет прогнало яркое солнце. Подбегая назад к дому — шагом ходить не умела, всегда торопилась, полубегом — увидела, приезжие идут к ним, перешла на полный бег и в ограде оказалась вместе с ними. — Где Мишутка? — спросил Иван Александрович. Чуть не задохнулась Екатерина, как же забыла: с парнями ездил в Егорьевское и ее младшенький братик. Не ответила по-человечески, а промычала невнятно, не видела, мол, наверное, у брата Василия — Мишутка жил без постоянного пристанища и ночевал то у брата, то у сестры. У брата Мишутку никто не видел. Милиционер, которому, видимо, надоело ходить по домам, поднимать не выспавшихся парней, будоражить семьи, со злобой, как бы выплюнул: — Сбежал, гад... Тут маленькая, лет пяти-шести, Танька, не самая еще меньшая из Василевых дочерей, пропищала: — А он всегда на сеновале спит... 15 На сеновале разметался во сне Мишутка, так бедняга измаялся за день и за ночь, что раздеться, улечься по-людски сил не оставалось, как брякнулся на сено, так и уснул. Долго понять не мог, зачем понадобился этим людям: милиционеру, вдруг напустившемуся на него, двум незнакомым мужикам, угрюмо ожидавшим, когда он все-таки сообразит, с ним не шутками-прибаутками занимаются. Не понимал, зачем понадобился сестре Екатерине, жалобно взиравшей на него глазами, полными слез, Ивану Александровичу, председателю колхозному, виновато отводившему лицо в сторону. Так и не понявшего до конца, куда и зачем в такую рань волокут, доставили Мишку в амбар на конном дворе, где под замком уже томились испугом и недоумением пятеро его приятелей. На конном дворе толпился весь деревенский люд - бабы плакали, мужики кучковались и не могли взять в толк случившееся, малышня носилась от кучки к кучке, беспечная, взбудораженная необычностью, любопытством и непонятностью — от чего так всполошилась деревня, взрослые? В колхозной конторе в это время шел тяжелый и опасный разговор, председатель упорно допытывался, из-за чего же все-таки приключилась подобная суматоха, почему забирают парней? Один из приехавших, оказавшийся работником ГПУ, резко, зло, удивляясь непонятливости председателя, доказывал: — Налицо кулацкая вылазка, посягательство на колхозное имущество, поджог созревшего хлеба, подрыв коллективизации! Иван Александрович аж вспотел, убеждая: — Тут какое-то недоразумение - ребята работящие и никакие не кулаки, а так себе, до середняков едва вытягивают... А Костя Станкевич — единственный оставшийся у стариков сын, шубутной, правда, хулиганистый, но тоже никакой не кулак. Гэпэушник снова и снова толковал о кулацкой вылазке, а потом — видимо, допек председатель — недвусмысленно пригрозил: — Ты, Муратов, опасное благодушие проявляешь или еще хуже — укрываешь вражеское отребье. Эти кулацкие выродки, пакостят, где только могут, а ты мерихлюндии разводишь. Смотри, защитник, как бы не доигрался! Иван Александрович в полной растерянности от крутого оборота пустяшного, на его взгляд, дела, ннкакие они не «кулацкие выродки», это же абсолютно ясно. Умом же своим — не зря партизанил, в активистах ходил, в сельсовете председательствовал, колхоз первым в своей волости организовал и теперь им заправлял — все отчетливее понимал, в какую опасную историю влипли беззаботные парни. В стране, где долго и беспощадно бушевала гражданская война, где совсем недавно сын шел на отца, а брат на брата, где еще не покончено с бандитизмом, многим — кому по привычке, кому из страха, а кому из перестраховки — на каждом шагу виделись зло, вредительство, стремление подорвать новую власть. Знал, как иные выслуживались на «разоблачениях», «бдительности», «принципиальности». Сам, не злой по природе человек, он порой тоже подозрителен, чрезмерно осторожен, был таким, пока касалось 16 посторонних, незнакомых, а тут задело близких, каждого из которых знал с пеленок, каждого видел насквозь и чья-либо подозрительность в отношении их, тем более обвинение в «кулацкой вылазке», представлялась нелепым недоразумением. Нелепым, но опасным. Как выкрутиться из этой неожиданной и негаданной беды? Парней связанными увезли на телегах в город. Много кабинетов и начальников обошел Иван Александрович, изо всех сил старался выручить парней: доказывал, упрашивал, умолял. Натыкался на непробиваемую стену, потом убедился — об нее можно разбиться, но пробить, добиться справедливости невозможно. Просил помочь своего партизанского командира Середкина, он в городе военкоматом заправлял, тот наотрез отказался и ему посоветовал отступиться от «безнадежного дела». Время такое, доказывал Середкин, мягкотелость опасна, работает на врага, он еще не добит, затаился и ждет случая навредить нашей власти. — У тебя, Иван, не хватает политической зрелости. Вояка ты отличный, а политик из тебя никудышный. У судейских бюрократизмом не пахло, следствие, которое формализмом, юридическими тонкостями еще не отяготилось, производилось решительно, двух недель не прошло, как состоялся суд. Всем ребятам, кроме Кости Станкевича, мера наказания вынесена одна — высшая. Про Костю в приговоре, скором и окончательном, сказано: не меньше других виновен, заслуживает той же высшей меры, но, учитывая бедняцкое соцпроисхождение и такое же соцположение, наказание ему ограничивается десятью годами лишения свободы. Потом всем выпала милость — вместо мгновенной и высшей кары вышла замена на десять лет тяжкой и беспросветной жизни. Мишутка Чубарев в приговоре выглядел, чуть ли не самым закоренелым «кулацким выродком» и прихвостнем, да еще «пытался уйти от ответа, скрыться, был обнаружен на сеновале». Юность не начатая, любовь зарождавшаяся, Женька, мечта невысказанная, вмиг были похоронены приговором суровым и беспощадным. 5 Бежит безостановочно времечко, взрослеет Женька Станкевич, набирается сноровки, ума-разума, все больше начинает понимать, какая не простая штука жизнь, прилаживается к ней. Отлепилась от родного гнездышка, бросила суматошная ни за что, ни про что отцовскую ласку, материнскую заботу, братскую защиту, занесло черт знает куда. Надеяться не на кого — сама себе и любовь, и ласка, и защита, и надежда. Сколько уже прошло времени, а не забудет, как в бездумной заполошности удрала из дому. 17 В один не лучший для отца и матери день, вскоре после ареста братца Кости, собрала Женька небогатые пожитки в узел и пошла, куда глаза глядят, искать свою судьбу-счастье. Ни уговоры и даже угрозы никогда ей не перечившего отца, ни укоры, ни слезы шумной матери не отвратили от затеянного — как сказала, так и сделала — узелок под мышку и как будто не было в семье капризули и радости, красавицы Женьки. Тогда, после тяжких проводов несчастных парней, не пошла Женька домой, увела ее к себе Екатерина, вместе поплакали, и тут Катя сквозь слезы промолвила: — Мишутка-то наш готов был на тебя молиться. Что с ними будет? — и снова залилась слезами. — Как тебе теперь здесь жить? Вот это, возможно, и было последним толчком, сорвавшим ее с родного места. «Сорвалась я, Катя, а куда податься, толком и не знаю», прорывалось иногда в ее сознании. Ей повезло — не таскали, не терзали вместе с парнями. Трудно сказать, отчего она не разделила их горькую долю, в деле она фигурировала, но лишь как девочка, которая случайно ехала с парнями, но всю дорогу спала и не ведала о случившемся. Даже свидетелем не выставили, сочли малолетней. Как хорошо бы снова оказаться среди своих. Ни один раз намеревалась: манатки в охапку и покатила бы назад, до дому, однако, характер не позволяет, не из тех, кто с повинной, как блудный сын, возвращается. Так и живет одна «в краю далеком», с тоскою вспоминает родных, заимку сибирскую, бегство свое беспутное, дороги, на ее долю выпавшие. От их деревни — Муратовки — до ближайшего городка, Евгения тогда добиралась на своих двоих. Такой способ передвижения ей не в новинку, пешим порядком ходила в поселок не один раз, двадцать километров для деревенских не расстояние. Ходьба постепенно успокаивала, неизвестно откуда и почему вдруг возникшая злость незаметно проходила, исчезало непримиримое возбуждение, которое заполонило ее, когда вдруг, а на самом деле не совсем вдруг, объявила об уходе из дому. Чем дальше удалялась от дома, тем яснее и укоризнее звучали в ее ушах заклинающие призывы рыдающей матери: — Куда ты рвешься, беспутная, где тебя ждут, кто тебе палаты каменные, пироги пышные приготовил? Намаешься и сгинешь где-нибудь под забором?! Ее преследовал сумрачный взгляд отца с безмолвным, но суровым и более страшным осуждением, чем сердитые материны выкрики. Куда, зачем подалась из дому? — до конца не осознавала, цели твердой, определенной не имела, но жила в ней не дающая покоя мечта, страсть добраться до большого города, лучше всего до Москвы. Слышала — есть такой город, чуть ли не самый главный на земле, большой, необычный, из деревенских в нем бывали Иван Александрович да те мужики, которые с германской войны живыми возвратились. По их отрывочным, чаще сумбурным рассказам ей представлялось, что в Москве люди живут весело, интересно и безбедно, а не как в их деревне 18 про каждого все и навсегда известно, жизнь течет по веками и на века проложенной колее. Арест брата лишь обострил влечение искать судьбу на стороне, подтолкнул к побегу. На грязном вокзале, в неопрятной толпе шныряли подозрительно юркие типы. Ее охватило первое сомнение: не глупость ли спорола, не повернуть ли назад, домой? Но останавливали презрительные насмешки, от которых не удержались бы домашние, соседи, все деревенские. Кое-как разобралась в расписании поездов, идущих на Москву, а ходило их совсем немного, останавливалось на этой станции еще меньше. Не постеснялась расспрашивать незнакомых людей — докуда можно доехать за три рубля, остальную мелочь решила приберечь на всякий случай. Трешка — деньги не великие, не то что до Москвы не доедешь, но и дальше сибирского центра не выберешься. Билет до какой-то станции все-таки надо приобретать — лишь бы пробраться в поезд, а там, самоуверенно думала, видно будет. Не могла впоследствии без содрогания вспоминать длинную дорогу: как только не исхитрялась, лишь бы не выгнали из вагона. Поезд стал для нее на эти дни пристанищем, оторваться от него боялась куда больше, чем уйти из родного дома. Пряталась за перегородками над верхними полками, залезала под нижние сидения, мерзла в тамбурах. Как не мучилась, но добралась до Ярославля, доехать до Москвы терпения не хватило, и не знала в точности далеко ли еще до нее. В Ярославле повезло: на вокзале попалось на глаза объявление — на ткацкую фабрику требуются рабочие и ученики. Почти целый день добиралась до фабрики, шла пешком, расспрашивая встречных, на трамвае ехать побоялась, видела его первый раз в жизни. Да и вдруг проезд дорогой, а у нее в кармане — вошь на аркане. На фабрике с работниками туго, ее без лишнего промедления оформили ученицей ткачихи и дали койку в общежитии, слава богу, аванс тотчас же выписали, видать, не она первая в таком положении. В большой комнате и не сосчитать — сколько наставлено металлических коек, возле каждой деревянная тумбочка. Койка и тумбочка, собственно, единственные личные территория и мебель, остальное обезличенное, общее: и табуретки, и единственный стул, и вешалка, и умывальник, даже одежда и та общая, никто, особенно молодые девчата, не стеснялись надевать чужую кофточку или юбку, отправляясь на свидание или в клуб. Фабрика старинная, в далекие петровские времена построенная, в цехах темно, пыльно, шум такой, что поначалу Евгения долго не выдерживала, выбегала на улицу, уши и голова требовали передыха. К шуму вскоре попривыкла, но пристигло другое - начали слезиться глаза, из носу текло, тело чесалось так, что места не находила. Сначала не придавала значения, считала простудой, ее схватить здесь нетрудно, но недомогания не проходили. Заметили ткачихи, соседки — обеспокоились, заставили обратиться к доктору. Долго ощупывал, 19 выслушивал старый фельдшер Василий Иванович, подробно расспрашивал, даже о матери с отцом выведывал — не болели ли они чем. Сколько помнила себя Евгения, больными родителей не видывала, ни разу мать не оторвалась от дел, бесконечных и нелегких. В конце осмотра доктор, причмокивая и вздыхая, объявил: — Нежная ты больно девица. Зря из своей деревни подалась в город, твой организм к свежему воздуху приучен, а не к этой пылище и духотище. Он долго говорил о режиме, диете, произносил незнакомые и от того пугающие непонятные простым смертным — не медикам — слова. Таинственные слова больше, чем само недомогание убедили, что надо с фабричной работы уходить, иначе плохо кончится. Навстречу молодой работнице пошло начальство и пристроило уборщицей в конторе. Работа, что называется, и пыльна и не денежна, едва на скудное пропитание да оплату койки в общежитии хватало. Прав оказался в диагнозе старый фельдшер: избавление от пыли и духоты восстановило молодые силы, теперь их доставало не только на дневные операции с веником и тряпками, решилась учиться в вечерней школе, благо такая оказалась при фабрике. Еще в деревне Женя уверовала в великую до волшебства силу учености. Все грамотные у них на заимке пристроились к легкой, не полевой работе, в конторе, а вот у Кати Чубаревой Иван Александрович даже в председатели попал. Для Женьки и церковно-приходская школа верх премудрости и грамоты. В ее натуре, ищущей и любознательной, ко всему прочему оказалась заложенной настырная тяга к учению, без чьих-либо разъяснений и поучений, крестьянским нутром уверовала: к природной пригожести грамота, разнообразные знания нелишнее добавление. Пробудилась непреодолимая страсть к чтению - все газеты в красном уголке прочитывала, не пропускала ни строчки. С книгами и засыпала, давая повод девчатам подтрунивать. Любка Перцева, что-то вроде старосты комнаты, прямотаки издевалась: - Читай, дуреха, дочитаешься. Что ты там вычитаешь? Что где-то в Германии или в Испании меж собой дерутся, а кто-то рекорды ставит? Тебе-то до этого, какое дело? Парням от девчат не грамота требуется, им другое подавай! При твоей-то красоте разве в книжках счастье? 6 Вскоре случилась новая перемена в Евгеньиной судьбе. В густонаселенной комнате тихо, но достаточно приметно проживала пожилая, аккуратненькая женщина — Прасковья Степановна. Пожилой Прасковья Степановна выглядела для молоденьких девчат, на самом деле ей за сорок только перевалило. Она всегда по-доброму, как самой близкой, улыбалась Женьке, а, может, лишь казалось, что только ей предназначалась теплая Прасковьина приветливость, она и других девчат привечала, общежитские к ней льнули, к первой обращались, когда с де20 вушкой что-нибудь худое приключалось, или, а это чаще бывало, требовалось перехватить трешку-пятерку до получки. В многолюдной комнате трудно оставаться с кем-либо наедине, однажды всетаки случай выпал, Прасковья Степановна и Евгения остались вдвоем. Женька, по обыкновению, уткнулась в очередную книжку, поджав ноги на узкой кровати. — Ты, книгу-то на чуток отложи. Женька не заметила, как Прасковья Степановна подошла к ее койке, они размещались в противоположных концах комнаты. От неожиданности даже вздрогнула, положила книгу кверху корочками на подушку: готова, мол, слушать. — Смотрю на тебя, девонька, — ворковала Прасковья Степановна, — маешься тут сердечная, не по твоей натуре фабричная жизнь, другая судьба тебе прописана, вишь, книгу за книгой, как семечку за семечкой проглатываешь, большой учености, а там и счастья-удачи достичь можешь. При мытье же полов в таком скопище из тебя ничего путного не произойдет, привыкнут люди лишь уборщицей тебя признавать, сама не заметишь, как в каждодневное жизневращение с грязным ведром и тряпкой втянешься, ни о чем другом и не вспомнишь, закончатся твои мечтания на мокрой этой тряпке и на грязном ведре, — Прасковья Степановна грустно вздохнула, будто не о Женьке, о самой себе речь вела. — Молодая ты, приглядистая красавица, натура-то человечья рано или поздно свое возьмет, приглянешься какому-нибудь здешнему охламону, забросишь ради него книжки, мечтанья розовые, кинешься за ним, а какой он, одному богу известно, настоящему, стоящему человеку здесь трудно объявиться, к общежитским девчатам, сама знаешь, парни без уважения, кой-какие наши товарки доступностью да безотказностью недобрую славушку по городу разносят. Женька напряженно вслушивалась в журчащие, как нешустрый весенний ручеек, слова, соображая, к чему клонит Прасковья Степановна. — Вот что хочу тебе посоветовать, убегай отсюдова, пока не поздно, пока не сбили тебя подруженьки с ума-разума. Женька удивленно подняла красивые ресницы: – Ты глаза-то не выпучивай, плохого тебе не желаю, задумайся. Лучше пристройся куда-нибудь к хорошему дому, где чисто, аккуратно и люди добрые. Глаза Женьки еще шире раскрылись. – Где же это я устроюсь, ведь никого здесь не знаю? – Ты здесь и не устраивайся, — с продуманной определенностью заявила Прасковья Степановна, — дам адресок к хорошим людям, они до революции здесь проживали, я у них в прислугах состояла. В гражданскую, после мятежа Ярославского, небось, о нем прослышала, отсюда перебрались за Тулу, в К., и там теперича проживают. Недавно их зять сюда понаведывался, говорит, хорошо — Чумские их зовут — на новом месте обустроились, только вот подходящей 21 прислуги заиметь не могут, все какие-то непутевые или неряхи попадаются. Роза Львовна, хозяйка, обходительная, хотя спуску не даст, если нечистое обнаружит, пылинки не потерпит. Я о тебе порассказала и пообещала с тобой вот так перетолковать. К тебе, девонька, давно приглядываюсь. — Да как же к чужим людям идти, ведь я только что от своих сбежала? — с горечью проговорила Женька, — да и как себя содержать, что делать у городских не знаю. — Об этом не беспокойся, с чужими-то, бывает, легче жить, чем с родными. Роза Львовна женщина аккуратная, сама все умеет делать и тебя приучит. Ты иногда людей сторонишься, резкая, независимой хочешь быть, но старательная, непорченая, к плохим словам не приучена, видимо, родители строгие были. Тебе у Чумских хорошо будет. Домашнюю работу вовек не переделаешь, но и на свои книжки время выкроишь, — Прасковья Степановна кивнула на подушку с перевернутой книжкой. — А как со школой? — испуганно спросила Женька. - Школа, поди, и там имеется, ты только с Розой Львовной договор заключать будешь, а теперь все договора заключают, союз домработниц особый образован, так в договоре обговори позволенье в школу ходить. Думаю, Роза Львовна согласится. На нее одну надо полагаться, остальные под ней ходят, никому спуску не дает, — Прасковья Степановна аж языком прищелкнула, с таким удовольствием вспоминала о бывшей хозяйке. 7 Так и сложилось в Евгеньиной судьбе, что очутилась в незнакомом городе, у незнакомых людей и занялась непривычным делом, если делом можно назвать службу в чужом доме. Хозяйка, Роза Львовна Чумская, как и рассказывала Прасковья Степановна, женщина аккуратная, уютная, она бесшумно, мягко, как кошечка, носила полнеющее, со следами былой изящности тело по комнатам с устланными повсюду ворсистыми коврами, и все время при деле: протирала, мыла, переставляла, как у кошечки у нее и характер - мягкая, покладистая, но до поры до времени, окажись, что не по ней, тотчас выпустит из мягких лапок острые коготки, гнев ее шумный, не сдержанный, не дай бог под него подвернуться. Особенно доставалось мужу Константину Леонтьевичу, потомственному, как он говорил, часовому мастеру. Евгении нравилось наблюдать, как он работал с лупой в правом глазу, пинцетиками, отверточками, колупался в невидимом обыкновенному глазу механизме маленьких часов. Наполненная восхищением Евгения, как от колдовства таинственного, млела. Константин Леонтьевич на маленьком станочке вытачивал почти невидимые втулочки, стерженьки, болтики, работал то напевая, то разговаривая, чаще с самим собой. Евгения чувствовала, Константину Леонтьевичу нравилось ее удивление,.душе его не чуждо актерство, 22 Евгения представляла публику, перед которой он выказывал таланты и мастерство. Несмолкаемые разговоры Констатина Леонтьевича редко относились к выполняемой в данный момент работе, чаще высказывался насчет властей, больших и малых, близких и дальних, склонял на всякие лады зятя Еську — Иосифа Ефимовича - занимавшего заметный пост в неведомых Евгении «органах», ворчал на дочь Сару, жену Еськи, брюзжал на Анатолия, младшего сына, унаследовавшего отцовскую тягу к часовому делу. Меньше всех в его рассуждениях фигурировала Роза Львовна, если хотел прокатиться по ее адресу, с суетливой боязливостью оглядывался: нет ли поблизости и, лишь убедившись, что крамольные речи не дойдут до ушей жены, полушепотом произносил хорошо отточенную колкость. Чаще хозяин ударялся в воспоминания: — Вы не представляете, Женя, какое дело я содержал в Ярославле. Вам и теперь скажут, какой мастер Чумский, какая известная у него фирма — лучшие мастера, на всю Россию славились. Все хотели, чтобы их часы смотрели только у Чумского! Но пришли эти краснозадые большевики, — тут он оглянулся, так же, как перед высказыванием о Розе Львовне — пришли эти большевики и давай все крушить, ломать, им, видишь ли, Костя Чумский помешал, хотели все описать, конфисковать, самого заслать, куда Макар телят не гонял. Спасибо, Еська предупредил, он тогда за Саркой бегал, едва успели свернуть дело, унесли ноги сюда, подальше от Ярославля. Вы думаете так просто новое дело завести? Думаете, дом тяжело приобрести, мастерскую открыть? Нет, Женечка, это дело плевое, были бы деньги, а деньги у Чумского водились. Главное в моем деле, Женя, клиента приобрести, для этого ой, сколько времени надо! Пока у человека часы сломаются, пока у пятерых мастеров их до конца не доломают, пока, наконец, не наткнулся на Константина Чумского — ох, сколько времени пройдет! Конечно, заботы о клиентах нет, если все при часах. А много вы, Женя, видите людей при часах? У вас, Женя, часы есть? У ваших знакомых они есть? То-то. Часы теперь одни на десять человек, а то и на двадцать, да чего там — больше! На пятьдесят человек - одни! Вот попробуй тут и процветай! — Константин Леонтьевич многозначительно вытянул мясистые губы и тряхнул головой. Евгения слушала внимательно и удивлялась — особых бедствий в этой семье не замечала, по ее понятиям Чумские жили богато. Со временем она стала понимать, не за счет одних часов процветает мастер Чумский, иногда в доме появлялись непонятные личности, они двигались бесшумно, говорили совсем тихо, украдкой вынимали маленькие коробочки или узелки и долго шептались с хозяином. Много позднее Евгения догадалась: мастер занимался разными «камушками», до этого о них знала лишь понаслышке, по книгам, где описывалось, как из-за бриллиантов страдали красивые женщины и гибли смелые мужчины. Книг у Чумских обнаружила немного, довольно быстро прочитала, не пропуская ни одной: и французские романы, и однотомник Пушкина, и брошюрки 23 с докладами Сталина. Одну старинную книгу, приметила, хозяйка убирала подальше, однажды Евгения добралась до тайника и прочла название «Женщина». Конечно, любопытство разыгралось и, когда Роза Львовна уходила надолго, Евгения отыскивала таинственную книгу и успевала прочитать несколько страниц. Многое для нее открывалось внове - описания особенностей женского организма, физиологии женщины и, конечно, о всех сторонах детородной функции. К приходу хозяйки запретная, по мнению Розы Львовны, книга возвращалась на укромное прежнее место до очередного случая. Жизнь текла внешне гладко. Однако обыденные вещи ставили Евгению порой в тупик. Самое простое, привычное, обыкновенное для любого члена семьи Чумских дело превращалось для нее в предмет раздумий и нешуточных сомнений. Сложно ли нарезать и подать на стол хлеб? Сколько раз в материнском доме брала краюху, прижимала ее к животу, широким ножом нарезала от нее объемистые пористые и пахучие ломти, совала братьям, отцу и матери в руки. А тут — нет, так не принято. Она до дрожи в руках боялась, что не сумеет нарезать белую сайку тонюсенькими, почти прозрачными ломтиками-пластинками, как это делала Роза Львовна, уложить в глубокую специальную тарелку-хлебницу аккуратной, красиво выложенной стопкой, а не бесформенной кучей. А разлить суп разве проще? Сначала перелей в супницу, — наливать прямо из кастрюли и думать не смей! — потом каждому в отдельную тарелку на подтарельнице. Как просто, не хлопотно было дома: большую деревянную чашку ставь на стол и хлебай из нее каждый своей ложкой! Со временем не только привыкла к непривычной для нее обыденности, но и стала признавать определенную разумность и житейское удобство быта у Чумских. Капризная, своенравная Женька постепенно превращалась в покорную обычаям, строгим ритуалам и церемониям. Самый интересный для Евгении в этом доме, конечно, Толик, хозяйский сын, ее ровесник. Возрастное равенство определило, в какой-то мере, характер их отношений, Анатолия увидала тотчас же, как только оказалась в доме Чумских. Роза Львовна принимала соискательницу в домработницы на кухне, здесь все блестело - покрашенная масляной краской стена, покрытый блестящим лаком пол, красочные эмалированные кастрюли, разные поварешки, дуршлаги, другие непонятные для чего приспособления. Русская печь с плитой тоже блестела от яркой и, видимо, регулярно промываемой плитки, красивым рисунком выложенной, такого блеска, броского сияния чистоты неробкая Женя почти до панического ужаса испугалась. В Женькином доме кухня, или как у них называли — куть - самое тесное, вечно заставленное и изрядно захламленное помещение. Женя, ошеломленная блеском кухни, не сразу заметила Анатолия, а тот, не без насмешливого любопытства, рассматривал неотесанную деревенщину, как про себя определил Женю. Увидев, что мать перешла к деловому обсуждению, Анатолий поспешил удалиться. — Спасибо, мамочка, за обед, я сбегаю к Дягилевым, — он чмокнул мать в щеку и совсем по-мальчишески выбежал из кухни. 24 Женя все примечала - искрившуюся чистотой посуду, манеры хозяйки, и эти «мамочка», «спасибо», у них в доме дети никогда такого не говорили матери, отношения были строже. Спать Жене отвели здесь же на кухне, в нише, там стояла небольшая металлическая, с никелированными полукружьями кровать, покрытая серым байковым одеялом. Место, как поняла Женя, унаследовала от предыдущих домработниц. Анатолий своим суточным ритмом не всегда вписывался в отлаженную жизнь Чумских. Роза Львовна и Константин Леонтьевич вставали рано, не позже шести часов утра, к этому времени Женя готовила завтрак. Потом Константин Леонтьевич шел к малюсеньким молоточкам, отверточкам, станочкам в мастерской — под нее в доме отведена была большая светлая комната с отдельным входом с улицы. Толик поднимался позже всех, поднять раньше не могла даже властная Роза Львовна, долго валялся в постели, почти полчаса торчал в ванной и часам к одиннадцати выходил завтракать. Похоже, Роза Львовна и предыдущие домработницы немало баловали дитятко. Он попробовал капризничать и перед Женей, но увидел в ответ такой взгляд, что сразу осекся, при всей избалованности, уступал, если чувствовал сопротивление своим требованиям. Домработницу, вскоре убедился он, трудно считать неотесанной деревенщиной, напротив, в ней чувствовалось что-то необыкновенное и привлекательное. После завтрака Роза Львовна принималась за неиссякаемые домашние дела. Задумает переставить диван в большой комнате, зовет Женю, обе корячатся, передвигают на новое место, Константина Леонтьевича отрывать от работы не принято. С разных сторон хозяйка оценит, подперев рукой щеку и прищурив глаза, удалась ли перестановка и снова командует: — Нет, здесь хуже выглядит, давай вон туда передвинем, — и опять надрываются с тяжелым диваном и так до тех пор, пока Роза Львовна не возвестит: — Вот теперь на месте. Смотри, Женя, как он у этой стенки смотрится, будто специально для него место отведено. Женя присматривалась и убеждалась действительно, на этом месте дивану стоять лучше. Хотела или не хотела Роза Львовна, но перестановками, передвижками, перевешиваниями штор, гардин и других тряпок приучала Женю искать и находить красоту в самых обыденных вещах, создавать уют. Немного освоившись, Женя не без робости обратилась к Розе Львовне с просьбой: она училась в вечерней школе при фабрике и хотела бы продолжить учебу. Нельзя сказать, чтобы Роза Львовна обрадовалась не слишком уместному желанию домработницы повысить образовательный уровень, но умная женщина чувствовала дух времени и воспрепятствовать тяге к свету не решилась. Найти домработницу становилось все труднее, а нынешняя все более устраивала безотказностью и чистоплотностью, а эти качества в домработницах хозяйка ценила превыше всего. 25 Женя, как выражаются простые люди, входила в возраст, менялась внешне, становилась привлекательней. Перемены совершались и внутри ее, конечно, не без влияния всего, что ее теперь окружало: постоянное общение с Розой Львовной и другими Чумскими. Былая порывистость, резкость, непредсказуемые «закидоны» смягчились, она училась управлять своими чувствами, как не трудно эта наука ей давалась. Деревенская хитринка помогала перетерпеть излишнюю порой придирчивость Розы Львовны, притереться к обычаям и порядкам в доме. ...Если чему-то предстоит случиться, то обстоятельства и, как сказали бы иные философы, причина и следствие обязательно сойдутся в данной конкретной точке, в данный момент. Словом, случайность действительно выступает как закономерность. А проще: чему быть, того не миновать. Поэтому неожидаемое приглашение Розы Львовны и Константина Леонтьевича в гости, при всей его случайности во внешнем проявлении, обернулось подлинной закономерностью для некоторых жильцов этого дома. Поход в гости, заурядный когда-то способ общения, в последние годы превратился для Чумских в исключительное, даже выдающееся событие, не так часто они выбирались из дому, нынешней крепости, постоянного пристанища. Константин Леонтьевич, давно невольный домосед, не стремился лишний раз отлучаться из мастерской, да и куда, к кому пойдешь, если ветры обновления, иногда достигавшие ураганной силы, разметали по белу свету прежних друзей, а новых заводить, не без оснований, боялся. Роза Львовна, не такая чинная и домашняя в прежние годы, теперь, как хлопотливая птичка, все время обустраивала, обихаживала домашнее гнездышко, осторожно сходилась с новыми людьми. Жизнь без прислуги вынуждала ходить на базар, по магазинам, пока, слава богу, не подвернулась Женя. Вечера старики (хотя старики лишь по понятиям Жени) коротали однообразно, Роза Львовна разбирала, в силу своей страсти, очередной ящик в комоде, перекладывая бесчисленные простыни, наволочки, платки, отрезы мануфактуры и другую накопленную ее бережливостью и аккуратностью рухлядь, Константин Леонтьевич брал в руки газеты, растягивался на диване и перемежал чтение с дремотой, иногда, очень редко, вечерами куда-то исчезал и возвращался поздней ночью. Об этих странствиях никому, в том числе Розе Львовне, не рассказывал. Если же Чумские выбирались к дочери или вдруг собрались сходить в клуб — это становилось событием, нарушавшим заведенные порядки и традиции. А тут приглашение в гости, да еще в Тулу, к родственнику, на какой-то юбилей! Придется ехать с ночевкой, за день не обернуться. Роза Львовна с вечера начала перебирать платья, юбки, кофточки, откладывая, что наденет в дорогу, а что возьмет с собой, она не из тех, кто не следит за собой — им все едино, что в дорогу, что за стол в одном и том же платье, с одной неизменной прической. С утра прикидывала, примеривала, то и дело, дергая Женю: — Женя, взгляни, пожалуйста, в этом платье выйти к столу, не лучше? 26 Женя подобного богатства, разнообразия нарядов отродясь не видывала, где уж деревенским бабам и девкам столько платьев, юбок, жакетов иметь, и, по правде говоря, зачем, для чего, куда их надевать? Друг перед другом и там не прочь похвалиться, пофасонить, но накопить подобную кучу тряпья?! А Роза Львовна к тому же вздыхает: — Ох, сколько у меня прежде было платьев, сарафанов, блузок, юбок! Одно шифоновое платье даже в Москве заказывала знаменитой модистке на Кузнецком мосту, юбки в сундук не вмещались. Это только верхние, нижние нынче из обихода выходят... Молодые, сама знаешь, как теперь одеваются! – презрительно замечала она. «Прежде» в устах Розы Львовны, как, впрочем и Константина Леонтьевича, означало «до революции», в Ярославле, откуда так стремительно пришлось удирать. О прежнем, дореволюционном житье и Роза Львовна, и Константин Леонтьевич вспоминали довольно часто, поначалу с опаской вглядываясь в Евгению, но вскоре убедились — она не из болтливых, доносить не побежит. До не принятой ими революции, по их рассказам, выходило: они жили в приличном достатке, их дело, дело часового мастера Чумского, процветало. В часовой мастерской, там, в Ярославле, служили наемные работники. Константин Леонтьевич содержал магазин не то часовой, не то ювелирный и под его началом ходили приказчики. В прислугах у Чумских состояла не одна Прасковья Степановна, содержали кухарку, кучера и еще разный люд, обслуживающий дом, мастерскую, магазин. Нынешняя жизнь — при советской власти — не по нутру, высказывались об этом осторожно, никогда, по крайней мере, при Жене, ничего плохого не говорилось ни о городских властях, ни о всесоюзных вождях, только изредка при чтении газет Константин Леонтьевич не без ехидного удовлетворения восклицал: — Вот, вот дожили!.. До чего довели!.. А что еще можно ожидать?! Евгении приятно помогать хозяйке при сборах, больше, чем сама Роза Львовна, радовалась каждой примеряемой вещи, и воображала: в модном платье проходит по своей деревне, и ей завидуют деревенские подружки. Пожалуй, не узнали бы теперешнюю Евгению, она одевается по-новому, по-городскому, изменились у нее внешность, походка, привычки, Роза Львовна из одежды, вышедшей из моды или не налазившей на полнеющую фигуру, кое-что дарила домработнице, предварительно ушив или обрезав лишнее. Наконец, часам к четырем с прикидками, примерками, утюжкой и укладкой покончили и Чумские покинули дом. Роза Львовна в который раз втолковывала, чем и как кормить оставленного на Женином попечении Толика, сегодня он на вечеринке, возвратится поздно. Женя после отъезда хозяев с особенным настроением и обостренными чувствами, обошла все комнаты. Без хозяев квартира выглядела совсем иначе: словно заново увидела ковры, комоды, гардеробы, статуэтки и картины, мелькнула дерзкая мысль, что сделала бы, если вдруг стала бы хозяйкой этого добра? И 27 грустно рассмеялась такой нелепице — далеко, ох, как далеко домработнице до настоящей хозяйки, но не стоит загадывать — жизнь-то вон, какая вертлявая, глядь и к ней обернется передом. Женя и Толик изо дня в день на виду друг у друга и постепенно привыкали общаться по-домашнему, почти по-семейному. Толик иногда заигрывал и не один раз, вроде бы в шутку, невинно, мимоходом, играючи старался коснуться губами ее щеки. Женя всерьез не воспринимала заигрывания, принимала за невинные дурачества, не останавливала приятную игру и сама позволяла кое-какие вольности: легонько шлепала по лопаткам, подсмеивалась над его робкими и невинными домогательствами, а иногда выталкивала из кухни, когда становился чересчур надоедливым. Женя не задумывалась, нравится он или нет, просто приятно было, когда Анатолий появлялся в доме, шутил, смеялся, дурачился. И все же, иногда ловила себя на несуразной мысли - в неосязаемом сегодня, в довольно туманном будущем, отчего-то часто ставит себя рядом с Толиком. Евгения прибрала разбросанные Розой Львовной вещи, аккуратно, как хозяйка, растолкала их по сундукам, комодам, но подметать мусор, естественный при подобных сборах, не стала, хозяйка не велела в этот день браться за веник: дурная примета, нельзя заметать след уехавших, могут не вернуться назад. От нечего делать — сегодня не надо готовить и накрывать ужин — прилегла на застланную байковым одеялом постель, взяла томик повестей Тургенева, почитала недолго, сморил сон. Анатолий вернулся ближе к полуночи. Женя всегда спала чутко и звонок услышала тотчас же. Настроение у Анатолия самое радужное, от него пахло вином - от души повеселился в интересной компании, домой на этот раз спешить не надо, ворчать на задержку некому. Возбужденность, раскованность, игривость Анатолия, передались Жене, оба от души смеялись над рассказом о вечеринке и ее участниках. Женю не обеспокоило, не насторожило, она просто не придавала значения нарастающей шаловливости его рук, вроде бы нечаянной, поначалу неназойливо они касались ее груди, бедер. Дальше — больше: Анатолий становился смелее и настойчивее, его прикосновения как-то незаметно перешли в объятия, нечаянное, шаловливое касание губ завершилось страстными поцелуями. Женя, не задумываясь о происходящем, поддавалась настроению Толика... Шаловливая ребячья игра, независимо от их намерений, к ночи переросла в любовную, в неуправляемую страсть. Женя испытывала наслаждение, которое ей даже не снилось, и она им с жадностью упивалась. Словом, их отношения развивались так, как и должны развиваться, когда двое до предела наполненных неистраченной энергией, молодых, но уже созревших людей остаются наедине. Неизбежное свершается само собой, вопреки их воли и требований рассудка. Им не было тесно на узкой кровати в кухонном закутке, и быстро наступившим утром Жене не надо было прогонять Анатолия. Начавшийся 28 короткий день продолжил необыкновенную, запомнившуюся ночь, такую насыщенную ранее не испытанными ощущениями и такую короткую. Роза Львовна и Константин Леонтьевич возвратились из гостей усталые и возбужденные, впечатления распирали их, встречи с друзьями из не столь далекого прошлого, новые знакомства всколыхнули в памяти былое время, — они были молоды и счастливы, полны веры в себя и надежд на будущее. Не умолкая, выплескивали гостевые впечатления, даже Константин Леонтьевич успевал вставить в тараторенье жены свои мнения и наблюдения, более обстоятельно, чем обычно, рассказывал об услышанном, довелось встретиться и с московскими гостями, узнать о настроениях и обстановке в определенных кругах. — Как все переменилось! — восклицала Роза Львовна, рассказывая о прежних знакомых. Она подробно расписывала наряды гостей, толковала о причудах нынешней моды, горячо одобряла одних, язвительно высмеивала других. Молодежь заражалась возбужденностью старших, а точнее обе возбужденности слились воедино и все четверо были непринужденны, веселы, откровенно радостны и самому дотошному психологу не удалось бы уловить, как различны истинные мотивы, причины возбужденного сегодняшнего состояния старших и младших в доме Чумских. Со следующего утра потекли обычные будни, обычные для всех, только не для Жени, новое, до конца неосознанное, но до краев наполнявшее ее душу, меняло и внешний облик. Соответственно новому состоянию души, она светилась притаенной радостью, которой не могла управлять, да и не всегда пыталась это делать, просто-напросто не знала и не ощущала необходимости заглушать свои чувства. Для нее теперь день существовал лишь как время ожидания ночи, и поздно заполночь на узкой и уже не девичьей постели, напряженно прислушивалась и ждала, чтобы в доме быстрее все затихло, чутко и радостно улавливала крадущиеся шаги Анатолия. Встречи, приглушенно-опасливые, до обидного короткие становились для юной пары всякий раз значительным событием, хотя и беспокойным, даже в моменты наивысшего возбуждения их настораживали малейших звук, доносившийся из спальни старших Чумских, они вздрагивали и замирали, и вновь продолжали возню, перешептывания, лишь убедившись: на этот раз им ничто и никто не помешает. Первые дни Женя ни о чем не задумывалась, потом наваливались сначала короткие и робкие, затем более длительные раздумья. Она не чувствовала какихлибо угрызений совести или сомнений в свершившемся, нисколько не раскаивалась, что избранником стал Анатолий, постоянное общение, простота предыдущих отношений сотворили свое дело, она привыкала к нему и никого другого на его месте не видела, если бы ее спросили - любит ли его, удивил бы сам вопрос - почему его не любить? Красивый, добрый, бесхитростный, ее любит 29 — в этом была уверена, первый ее мужчина со всех сторон устраивал молодую женщину и не вызывал раскаяния или чего-нибудь в этом роде. Женя старалась представить, как к ее новым отношениям с Анатолием отнеслись бы родители, родственники и остальные заимские. Мать наверняка не осудила бы, она понимающая и простила бы доченьку, но вот отец... Как наяву, ощущала укоряющий взгляд, тяжкую боль за нее и чувствовала: как бы отец не любил ее, не простил бы отступления от вековых устоев, традиций, при тихой безропотности он крепок в своих убеждениях. А другие? Женя не без иронии представила, какие пошли бы пересуды, узнай на заимке, как не сватанная и не венчанная стала женщиной. Может, только Катя Муратова поняла бы и простила, она хотя и старше, но самая близкая ей, вспомнилось, как бегала к Муратовым, посвящала Екатерину в девичьи грезы и заботы. Забавным помнился и брат Екатерины - Мишутка, терявшийся при встречах с нею, его взгляд не то удивленный, не то восхищенный. Она резко отгоняла раздумья с горчинкой - дело сделано, будь так, как будет, отступать некуда, если бы и было куда, она этого не сделала бы, и даже не подумала бы о самоосуждении. Прошло немного времени и Роза Львовна, наблюдательная и опытная, сначала почувствовала, а потом и заметила перемены в характере, настроениях и внешности домработницы, походка, движения, жесты у Жени становились мягкими, осторожными, она часто замыкалась в себе, не слышала обращений к ней. А когда появились первые пигментные пятнышки на лбу, на переносице, многоопытная Роза Львовна без труда сообразила что к чему. Сообразить-то сообразила, но требовались действия, какие — она сразу и не могла представить. Не было нужды расследовать, от чьих усилий наступили перемены в Жене. Все-таки проанализировала ее поведение: почти все время находится в доме, длительных отлучек за ней не водится, из вечерней школы возвращается в одно и то же время. В свете такого анализа по иному осветились некоторые эпизоды, однажды ночью Анатолий встретился в коридоре и в ответ на ее недоумение объяснил: ходил на кухню, захотелось пить, припомнила, как не однажды чудилось — кто-то крадется в сторону кухни. Малейшие сомнения, что Женины изменения порождены в ее, Розы Львовны, доме, исчезли. Можно нашуметь, изгнать Женю из дому, но Роза Львовна женщина разумная и практичная, привыкла к Жене, относилась к ней почти по-родственному — безотказность, сноровистость, понятливость Жени ублажали хозяйку. Не напрасно Роза Львовна пережила революцию и гражданскую войну, переезд, похожий на бегство, из Ярославля, хотя нерегулярно, но заглядывала в газеты и радио-тарелка в доме редко выключалась. Понимала, теперь власть и общество, окружающие будут на стороне Жени, защитят ее, а вот Розе Львовне, ее семье, если возникнет скандал, не пришлось бы снова укладывать вещички и искать убежища, приюта в другом месте. 30 Как ни приниженно ставила Роза Львовна, по обычаю всех властных жен, житейский опыт и мудрость Константина Леонтьевича, все же решила обсудить внезапно обрушившуюся беду не беду. К ее удивлению, Константин Леонтьевич, оказывается, давно все заметил, обдумал и даже имел готовое по этому поводу решение, причем решение такое радикальное, какое Роза Львовна даже и допустить в свои мысли боялась. : — Пусть женится, другого выхода нет, — объявил Константин Леонтьевич. — Как женится!? — вспылила Роза Львовна, — ты в своем уме, он еще мальчишка?! Она всплеснула руками, хотела вскочить, но для этого стала достаточно тяжелой. — Раз такое сумел сотворить, то уже не мальчишка, — с лукавой улыбкой Константин Леонтьевич взглянул на жену. Напоминание, что к восемнадцати годам вот от этого теперь лысого, сутулого мужчины она родила Сару, не убедило, не укротило духа противоречия, яростно взыгравшего в ней. — Ты подумал, кто она такая? Откуда-то из проклятой богом и людьми Сибири, без роду и племени, голь перекатная, без приданого! — Это не имеет значения, теперь, чем беднее, тем почетнее, — горестно вздохнул Константин Леонтьевич. — Нужен мне такой почет, дармоедку на шею! — не унималась Роза Львовна. — Но это ты преувеличиваешь, она в дармоедках никогда не будет, на ней и сейчас дом держится. Такое посягательство на ее хозяйский авторитет, власть, безраздельное господство, Раза Львовна стерпеть, конечно, не могла. — Ишь ты, какой хороший! Она уже для тебя хозяйка в этом доме, а я должна у нее в прислугах ходить?! — Роза Львовна даже все-таки привстала от возмущения, уперла руки в бока внушительной фигуры. — Напротив, — поторопился умерить гнев супруги Константин Леонтьевич, — у тебя появляется даровая помощница, невестке платить, как домработнице, не станешь - обидишь платой новую родню. В таком духе разговор между супругами продолжался долго. Не сразу Чумские успокоились, но когда взвесили, прикинули все возможные последствия, то пришли к единомыслию — случившееся не так уж и плохо, ни какую-то размазню или, еще хуже, распутницу подобрал Толик — нынче молодежь-то вон какая, особенно девушки — а хорошо им известную, работящую, чистоплотную, безотказную женщину. В духе столь демократично выработанного решения прошли переговоры Розы Львовны с молодыми, сначала по отдельности, а потом и совместно. 31 Дабы не привлекать излишнего любопытства и не входить в ненужные расходы порешили: свадьба будет по-советски, без попа или раввина, без загса, без шумного застолья, теперь принято сходиться без отметок в паспорте и брачных контрактов или свидетельств. Через несколько дней решение, принятое на высшем семейном уровне, было проведено в жизнь — Анатолий и Женя ложились в одну постель на законных основаниях, разумеется, на законных по понятиям новым, упрощенным, не отягощенным ни вековыми традициями, ни мещанскими предрассудками.. 8 . Женя Станкевич с таким интересом училась, что звонок, протрезвонивший об окончании последнего урока — физики — не обрадовал, ее увлекало ежедневное узнавание нового: любопытство у нее развито до предела, вечно прислушивается к разговорам, от заголовка до подписи редактора прочитывает газеты, несмотря на ворчание, правда беззлобное, свекрови Розы Львовны на полную громкость включает тарелку-репродуктор. Ее одноклассники напротив, с нетерпением ждут окончания уроков - наконец-то побегут домой, у большинства семьи, и почти всем приходится рано подниматься на работу. Чуть скосив глаза, Женя не без удовлетворения наблюдала, как к ней робко, будто опасаясь невидимого препятствия, направляется учитель Алексей Николаевич Зайцев. Кто не торопится, тот почти всегда опаздывает, учителя опередил долговязый одноклассник Витька Князькин. Витька парень развязный до нахальства, явно помыкал парнями, которые, от греха подальше, старались не связываться с ним, бесцеремонно обращался и с девчатами, набивался в провожатые, отказов, как правило, не встречал и не потому, что нравился как парень, те вынужденно рассуждали: черт с ним, пусть провожает, все равно не отстанет, да и спокойнее с ним идти по пустырю и темным улицам, шпана поселковая приставать не станет. Чем заканчивались подобные провожания, никто из девчат не распространялся, но Витька редко с какой из них уходил из школы дважды. — Нам попутно, — без всяких вступлений обратился он к Жене, — собирайся побыстрее. Смущенный учитель отступил перед таким натиском и, безвольно кивнув головой, зашагал к выходу. — Меня Толя встречает, — не скрывая досады, отвечала Женя и продолжала укладывать книжки и тетрадки в сумку. Витька с дерзким неудовольствием посмотрел на нее и, как показалось Жене, с угрозой пробурчал: 32 — Ну, как знаешь, только со мной спокойнее, особенно в твоем положении, — он показал взглядом на ее живот, — твой рахитик в случае чего... Он не договорил, что подразумевал под словами «в случае чего», но и так было понятно, шахтерский поселок давно славился как самый небезопасный в темное время. Женя хотела возразить, Анатолий, мол, совсем не рахитик, но подумала, стоит ли связываться с этим.., она не произнесла и не додумала, с кем, с «этим», но это тоже понятно, подобных парней не жаловала, но, помня о своих, отнюдь не смирных братьях, суровой к ним не была. Женя чуть не зашибла Анатолия, оказывается, давно ждал за дверью, он потянулся полными губами к ее щеке, но она легонько отстранилась, и оглянулась - боялась, одноклассники увидят эти «телячьи нежности», да и никак не могла усвоить привычки, бытующей в семье Чумских, целоваться при встречах и прощаньях, в деревне вполне обходились без показных проявлений чувств. Анатолия обидело ее уклончивое движение, но виду не показал, на людях держать себя умел. Женя подхватила мужа под руку, и они вышли из школы, провожаемые завистливыми взглядами девчат и парней. Женя красавица известная и в этой части соперниц не имела, как не завидовать красивым чертам лица, стройной фигуре и тому, какой у нее симпатичный, культурный, обходительный муж — вон, как Женьку обхаживает. Жене приятны завистливые взгляды школьных подруг и сама она не прочь прихвастнуть, как ей повезло: и дом приличный, и муж хороший, да и сама не из последнего десятка, все при ней, и лицом, и фигурой, а люди говорят, и умом удалась. Разве не умница — такого мужа отхватила! Правда, как и все жены, хотела бы кое-что к его качествам и добавить. Со стороны смотреть: действительно, только завидовать можно, как она вертит Анатолием - что скажет, а то и лишь намекнет, он уже готов угодить ей. Роза Львовна иной раз недовольно морщится: под каблук жены попал любимый, единственный сыночек. — Ох, и добалуешь жену, Анатолий, — поворчит иной раз мать, — как бы потом не пожалел, когда нас с отцом не станет. Крутит, вертит тобой, как только захочет. Анатолий только улыбался, ну что мать придирается, попусту ворчит? Роза Львовна продолжала вздыхать, хоть изредка да поперек бы слово сказал, посвоему, что-нибудь совершил. Да где там! Привык из-под мамочкиной юбки выглядывать, теперь из-под супругиной, никакой самостоятельности, да и по правде сказать, откуда ей взяться? С пеленок на всем готовеньком, самостоятельно ни шагу в жизни не сделал. Деревенские ребята, мужики нисколько на него не похожи, иногда не без сожаления сравнивала Женя, их с малолетства приучают самим кусок хлеба добывать. Взять ее отца: молчун молчуном, а на своем, когда надо, твердо, а то и жестко настоит, и мать ее, строптивая Авдотья, тоже не пряник, уступает, понимает, мужик он мужик и есть, свое хозяйское, мужицкое дело знает и в 33 послушании ему быть надлежит. А что молчит, жене на людях не перечит, что она иной раз позволяет себе прикрикнуть на него, так то от бабского самолюбия, от стремления перед другими бабами покрасоваться - вот, мол, какая я - захочу, все, по-моему, будет! Если бы ее такие мысли могли прочитать школьные подружки, наверняка сказали бы: заелась девка, какого рожна ей надо?! И впрямь, не от жиру ли бесится, не сглазить бы дурными мыслями, не прогнать от себя счастье и радость, что дает Анатолий — веселый, часто дурашливый, легкий для совместной жизни. Идти до дома довольно далеко, вечерняя школа в поселке всего одна и размещалась возле самой дальней шахты «Октябрьская», считалось, что вечерней школе рабочей молодежи – ШРМ — лучше быть ближе к производству. Квартира Чумских располагалась в центре городка, добираться приходилось через болотистый пустырь перед речушкой. Поздний октябрьский вечер, темный и безлунный: небо затянуто плотными облаками, того и гляди пойдет дождь, а скорее всего снег, к вечеру заметно похолодало. Анатолий нарадоваться не может — как-никак, а наедине с родной женушкой, дома, как ни хорошо, но на глазах у всевидящей мамочки, да и папочка частенько пристально вглядывается: все ли у них в порядке с Женей, не ошиблись ли в снохе. Конечно, не ошиблись! Он, Анатолий, каждый день что-нибудь открывает в ней, работящая, сноровистая, ничего из рук не вывалится, а какая ласковая, верная! Никому, даже родителям неведомо сокровенное: уединись с ней в своей комнате, такое испытаешь, готов жизнь отдать, лишь бы оно повторялось и повторялось. Нетерпение перед очередной ночью в этот вечер у Толика настолько ясное, нескрываемое, что еще крепче прижимается к Жене, крепко обнимает ее, вертит из стороны в сторону, жадно целует. Женя игриво отбивается от его нетерпеливости, а сама невольно, по природному женскому к инстинкту, мягким прикосновением, нежным голосом, игривым поцелуем возбуждает мужево нетерпение. Навстречу широко, во всю улицу, покачиваясь и шумно перекликаясь между собой, идут трое парней. Поравнявшись, один из них шагнул к Анатолию, руки в карманах, туловище наклонено вперед, голова как бы втянута в плечи. — Дай прикурить! От приказной резкости Женю покорежило. — Не курю, — отвечал Анатолий, и Женя уловила в его ответе явное беспокойство. — Чего жмешься, фраер? — в голосе парня звучали презрение и угроза, — пошарю по карманам, авось найду коробок. Он быстрыми движениями рук как бы пробежал по Анатолиевой одежде и вынул из бокового кармана пиджака кожаное портмоне. Его приятель, на голову выше, стоял за его спиной, похоже, подстраховывал, а третий, в сдвинутой на затылок кепчонке, плечом настойчиво отодвигал от Анатолия Женю. 34 — Такой фартовый бумажник, а всего трешка! Ну-ка, снимай шмотки и ты, шалава, чего рот разинула? Скидывай, ишь разоделась, как барыня! — парень потянул за рукав Женю. Анатолий начал расстегиваться, но увидел, как третий парень начал стаскивать с Жени пальто, рванулся в ее сторону и тотчас получил сильный удар в лицо, из носа хлынула кровь. — Не трогай, паразит! — закричала Женя. — Забирай барахло и уметайся! Парень схватил ее за голову, пытаясь закрыть рот, Женя вырывалась, царапалась, кусалась, деревенские сила и смелость ее пригодились. Парень, матерясь, несколько раз со злом огрел ее кулаком по голове. В борьбе с ним она не сразу увидела, как между Анатолием и двумя другими завязалась драка. Внезапно парень отпустил ее, Женя от неожиданности не устояла на ногах, больно ударилась о подмерзшую землю. — Бросай, ее! — услышала команду парня, просившего прикурить, — смываемся! Парни побежали, Жене показалось, их уже не трое и первым бежал высокий, и как будто знакомый фигурой человек. Анатолий лежал на земле, его колени были пригнуты к животу, рядом чернела кровь. — Ножом,.. — еле слышно выговорил Анатолий. От испуга, увидев лежащего в крови мужа, Женя растерялась, не знала, что предпринять — кругом ни души, сколько не кричи, никто не услышит, до ближайших от пустыря домов далеко. — Зови людей... — с трудом, умоляюще прохрипел Анатолий. Метнулась к нему, но Анатолий досадливо показал слабеющей рукой в сторону домов: — Беги, зови людей... Женя несколько секунд продолжала стоять в растерянности, боялась оставить Анатолия одного, потом, решившись, изо всей мочи бросилась бежать к домам. Трудно сказать, удалось бы вытянуть кого темной ночью из этих приземистых домов с крепкими запорами и плотно закрытыми ставнями, да повезло, навстречу приближалась большая компания парней и девушек, возвращавшихся из клуба железнодорожников. На этом для Жени везение закончилось — когда подбежали к Анатолию, тот был мертв. Потрясение оказалось слишком сильным, она рухнула наземь, мозг отключился. Выписалась из больницы Евгения не одна, а с дочерью, появившаяся на этот жестокий свет за два месяца до установленного природой срока. Гибель мужа, 35 несчастного Толика, так взорвала крепко устроенный, с хорошим крестьянским нутром организм, что созревавшая в нем новая жизнь не сумела удержаться и, при во сто крат увеличенных муках и болях, была вытолкнута на белый свет. Вместе с нею мучились, стонали, мрачно шутили еще девять женщин, согнанных разными телесными недугами в тесную и душную больничную комнату с отвратительным запахом, к которому никак не могла привыкнуть неизнеженная Евгения, ее тело изнемогало, страдало от болей и непривычного безделья, а голова разламывалась от множества мыслей, они как будто только и ждали этих невыносимо тяжких дней, чтобы терзать ее душу, так беспощадно и жестоко потрясенную. Что за напасть такая, одна невзгода за другой наваливаются на нее!? Какая сила сорвала ее с теплого материнского места и кинула в эту холодную, нескладную вертепщину? С омерзеньем вспоминала ткацкую фабрику, неумолкаемый, изматывающий гул станков и во все проникающую пыль, от одного воспоминания о которой у нее начинались спазмы в горле, и она заходилась кашлем от удушья. А тихоня Прасковья насоветовала приехать сюда, к Чумским и вот она в мрачной и вонькой больнице трясется над крохотным, недоспелым, существом, дрожит каждую минуту — не оборвется ли едва теплившаяся жизнь. В своих телесных и душевных муках забывала: недавно почти молилась за Прасковью, благодарила за устройство в уютной, приветливой семье Чумских. Тяжело Евгении думать, но еще тяжелее уходить от мрачных дум, возвращаться к обыденной суетне, чувствовать себя кругом виноватой - виноватой перед матерью и отцом, виноватой перед погибшим Толей, виноватой перед его матерью Розой Львовной и отцом его Константином Леонтьевичем, виноватой перед этим крошечным существом, ее дочерью, с огромными усилиями, собственными и медицинскими, начинавшей земное существование. Вечером в день возвращения Евгении из больницы к Чумским пришла их дочь Сара вместе с мужем Иосифом Ефимовичем Попковым. Сара сдержанно, но довольно тепло обняла, расцеловала лежавшую в постели Евгению, долго и нежно сюсюкала над малюткой, спящей здесь же в красивой кроватке, которую успел раздобыть, по случаю, расторопный Константин Леонтьевич, всплакнула по несчастному Толику и побежала к Розе Львовне еще раз погоревать по любимому братику, не забывая при этом обсудить свои бесконечные проблемы и дела. В комнату к Жене, неостывшей еще от волнения, вызванного причитаниями Сары, вошел Иосиф Ефимович или Еська, как его обычно называл Константин Леонтьевич, не прощавший зятю службы в могущественных и суровых органах, в которых Еська, как он предполагал, играет не последнюю роль. Иосиф Ефимович, как перед начальством, одернул китель цвета хаки с отложным воротником, присаживаясь, провел ладонью по брюкам галифе, заправленным в блестевшие от крема хромовые сапоги. Форма придавала воинский вид, шла к высокой фигуре, крупной голове с курчавившимися темными 36 волосами, к дерзкому взгляду слегка выпученных темно-карих больших глаз. Тонкие губы, прикрывавшие маленький рот, плотно сжимались, подбородок мощно нависал над длинной шеей, обрамленной необыкновенной чистоты белым подворотничком, чувствовалось, ему нравилось, как его воспринимают в доме тестя, считают, а теща даже и чтит, высоким начальством. Он по-деловому коротко справился о самочувствии Евгении, а затем также деловито стал выспрашивать о подробностях гибели Анатолия. — Ты вспомни весь тот день, вечер, — настойчиво добивался он от Жени, — с кем встречалась, с кем разговаривала, с кем, может быть, спорила, кто-нибудь, возможно, угрожал тебе, вспомни, как вы шли домой, кто попадался навстречу и как можно подробнее расскажи о встрече с теми хулиганами, как ты их называешь. Евгения усиленно старалась, все припомнить, подробнее отвечать на вопросы Иосифа Ефимовича и злилась на себя, на свою память, что многое упустила, не запомнила. Он слушал с предельным вниманием, приклонял ближе, чтобы лучше слышать, курчавую голову, задавал уточняющие вопросы, просил повторять по несколько раз обо всем, что происходило в злополучный вечер в школе, по дороге домой. Женя мимоходом, не придавая этому ни какого значения, упомянула, как к ней подходил Витька Князькин и предлагал себя в провожатые. Иосиф Ефимович, как показалось Жене, назойливо просил еще и ещераз рассказать об этом эпизоде и так измучил вопросами, что она искала благовидный повод отвязаться от него. Еська не отступал, должно быть, дело свое знал неплохо, и в памяти Евгении возникала долговязая фигура, присоединившаяся к трем убегавшим парням, и она высказала свою догадку назойливому родственнику. — О-о, это очень важно! — воскликнул он и поднял нос еще выше,- вот оно самое важное и нужное,- и ухватился за появившуюся ниточку, — если это был тот, Князькин, ты его так называла, возможно, через него и до остальных доберемся. — А вдруг он не причем?! — испугалась Евгения. — Не причем, значит не причем,.. — неопределенно заключил Иосиф Ефимович и на этом свои расспросы, наконец, оборвал, пожелав Евгении быстрее поправляться и поднимать, ставить на ноги сиротку. — Тебе еще повезло, в такой семье — как Роза Львовна и Константин Леонтьевич — с ними не пропадешь, — заключил этот родич короткий визит. Евгения и без Еськи отлично представляла, что значили для нее в эти дни родители Анатолия, кроме них, никого рядом, на кого могла бы опереться. Женя написала в деревню, родителям. Ответ из далекой Сибири пришлось ждать долго, наконец пришел, погасли надежды на поддержку родных. Письмо не от родителей, отвечал Иван Муратов, председатель колхоза, по просьбе матери. 37 Известия такие, что и здоровый человек свалится, ее отец, Алексей Максимович, скончался от простуды вскоре после ее отъезда, Евгения вздрогнула от не скрытого и болезненного укора - только сейчас до нее стали доходить последствия зловещего безрассудства для родителей, для всей семьи, ее легкомысленного ухода, точнее бегства из дому, ее сотрясали рыдания, с непоправимым запозданием пришло горькое осознание, насколько близкого человека потеряла. Мать же, писал Иван Александрович, после смерти отца осталась одна, перебираться в город к сыновьям отказывается. Первый порыв: немедля отправиться к одинокой матери, да не тут-то было, с малюткой, с трудом пробивавшейся к жизни, невозможно и подумать тронуться в путь за многие тысячи километров. Не могла Женя написать и братьям — не знала их адресов, легко нашла бы, окажись в сибирском городе, знала дорогу к их домам. Написала горькое со слезливыми просьбами письмо Муратовым, слава богу, Иван Александрович написал свой городской адрес. В кроватке зашевелилась дочка, начала подавать слабенький голос, Евгения приподнялась взять ее, но в комнату быстро вошла Роза Львовна: — Лежи, лежи, Женя, я подам. Она бережно вынула девочку из вороха белоснежных, отделанных кружевами простынок, одеялец, положила рядом с Женей и начала разматывать пеленки. Освобожденная девочка трогательно вытягивала ручки, слабенькие хрупкие ножки, беспомощно хватала ротиком воздух, инстинктивно надеясь, что вот-вот к ней прильнет материнский сосок. Женя беспокойно наблюдала как слабенький, недоношенный ребенок насыщался. Роза Львовна была готова в любую секунду помочь внученьке, так внезапно и трагично вошедшей в их жизнь, она настолько отдавалась этому беспомощному, хрупкому существу, что иногда ловила себя на ощущении, что при девочке совсем забывает о Толике, о горе, внезапно оглушившем их с Константином Леонтьевичем. При виде девочки, да что при виде! Даже при возне с ее пеленками и простынками, навалившееся несчастье куда-то отходит, она невольно, подсознательно искала повод заняться хлопотами с ребенком. — Ешь, Фаечка, ешь родимая, — приговаривала она, не отводя напряженного взгляда от медленно сосущей внученьки. Только сейчас Фаечка — а такое имя ей дали они с Константином Леонтьевичем, не ожидая возвращения Жени из больницы — начинала более или менее нормально брать грудь, первые дни питание недоношенной девочки доставляло множество беспокойных забот. Роза Львовна бережно перепеленала успокоившуюся после еды внученьку, укутала в белоснежную пену, уложила в кроватку, забрала мокрое и вышла. Женя не могла не оценить заботы свекрови, она не осознавала, сколь они с дочерью нужны самой Розе Львовне в эти тяжкие дни, как смягчает, отводит материнское горе это крохотное существо. Ночи и дни стали для Жени бесконечно длинными, мучительно нескончаемыми, в ее голове возникал один и тот же вопрос: как ей жить без 38 Толика? Кто она теперь в этом доме? После того, как попробовала что-то вроде равноправия, испытала положение равного с остальными членами семьи. Куда ей податься? Да и отпустят ли Чумские? Вон как трясется над внученькой Роза Львовна, Констанхин Леонтьевич только и ждет момента, когда и ему позволят заглянуть в эту комнату, войдет, встанет перед кроваткой и может часами наблюдать за спящей крохотулей. Несколько дней провела Женя в постели, тяжко и грустно размышляя, затем начала подниматься и постепенно втягиваться в обычную домашнюю суету, а потом и каждый вечер приниматься за учебники, тетради — бросать учиться и не думала. Через несколько дней к ней снова заглянул Иосиф Ефимович Попков, на этот раз Сары с ним не было, забежал попутно: — Витька Князькин оказался хорошей зацепкой, — начал он сходу, войдя к Жене, — через него и на остальных вышли. Отец Князькина, оказывается, кулак, в соседней волости живет, да и у тех троих с происхождением не гладко, из приказчиков. В общем, налицо вражеская, шовинистическая вылазка. Крупный нос строго вздернулся вверх, придавая непримиримую суровость и значительность его лицу. — Причем тут вражеская, — слабо возразила Женя, — обыкновенное хулиганье бандитское. — Ничего ты не понимаешь, — назидательно процедил сквозь тонкие губы Еська, — идет ожесточенная классовая борьба и вражеские элементы, где только могут, там и стараются нагадить. Сказал, как обрезал, для него нет предмета для спора и тем более для сомнений, сочувствия всяким «элементам». Еська не стал задерживаться, оставив Женю раздумывать, какое отношение имели они с Толиком к той классовой борьбе и почему именно в отношении их совершено подлое и, судя по Еськиным словам, вредное злодейство. Женю дважды вызывали в городскую милицию к следователю, снимать, как выражались в милиции, показания, вопросы следователя и ответы Евгении не многим отличались от разговора на эту тему с Еськой, разве лишь тем, что у следователя все заносилось на бумагу, в протокол, накапливалось во все утяжеляющейся папке, становящейся убийственной гирей на Весах Правосудия. Прошло немного дней, как тот же Еська принес известие -: парней осудили, дали всем большие сроки. Времена в стране суровые и суд состоялся скорый, и справедливый. Женю, к ее удивлению, на суд не вызывали, он проходил почему-то закрыто. 39 Часть вторая 1 Горком партии размещался в двух деревянных двухэтажных домах, которые правильнее было бы назвать бараками из-за схожести с другими подобными домами в этом поселке шахтерского города. Барак бараком, а все же Женя не без робости вошла в первое от дороги здание, поднялась по крашеной, крутой лестнице, с непонятной опаской открыла дверь на второй этаж. Чистый, с побеленными стенами длинный коридор, на полу красная с белыми полосами ковровая дорожка. Это ей и понятно и приятно — раз власть, значит и порядок соблюдаться должен. В коридор выходит много покрашенных светло-голубой краской дверей, на каждой в рамочках под стеклом таблички с фамилиями. Прошла мимо первой двери: на табличке написано «приемная», на следующей двери: «Тов. Локотова М.П.». Это к ней надо обратиться Жене, так велел Еська, то есть Иосиф Ефимович Попков, зять Чумских. Он провел неведомые Жене переговоры после застенчивой, но настойчивой ее просьбы помочь подыскать работу. — Возьмут тебя курьером, — сообщил он через несколько дней, — будешь бумаги разносить, кое в чем еще помогать, а дальше видно будет. Горком учреждение солидное, там порядки строгие. После гибели Анатолия положение Жени в доме Чумских становилось двусмысленным. Она снова полностью втянулась в домашние дела, исполняла все, что делала прежде, до замужества, когда официально считалась домработницей, по деревенским же понятиям домашний труд не считался настоящей работой, подлежащей оплате. Фаечке исполнился годик и к восторгу и удивлению окружающих она стараниями матери и бабушки встала на окрепшие ножки. Женя исподволь затевала разговоры с Розой Львовной о своем новом, неопределенном положении в доме, та сама сообразила и прежде Жени попросила зятя подыскать подходящее место, чтобы Женя могла работать, и для домашних дел сил и времени оставалось бы. И вот она в горкоме партии, в учреждении, о котором слышала разное, где до сих пор бывать случая не выпадало. Константин Леонтьевич, постоянно поругивая нынешние порядки, часто кивал в сторону горкома: чего, мол, так ведут дело, ведь у них вся власть? В школе горком упоминался только в уважительном духе, в очередях женщины, переругиваясь меж собой, часто вставляли: — Подожди, горком до них доберется... — В горком надо сообщить... — Горком им покажет... 40 И вот Женя в грозном и таинственном доме. Робко постучала в дверь, услышала вежливый, но твердый голос: — Войдите... Майя Петровна Локотова, помощник первого секретаря горкома партии, оказалась женщиной средних лет. Темные волосы тщательно уложены, на затылке собраны в мощный узел, скреплены красивой шпилькой, строгое, тщательно отутюженное темно-синее платье освежали накрахмаленные, сияющие белизной воротник и манжеты. Прежде всего, Локотова усадила Женю, робевшую и от особенностей учреждения и от солидной начальницы, за написание анкеты, подобным делом никогда до этого заниматься не приходилось. С трудом, при доброжелательной помощи Майи Петровны Локотовой, с перечнем вопросов: где, когда... она справилась. Сложнее стало, когда принялась расписывать биографию, ею до сих пор никто и она сама не интересовались. Локотова потребовала подробно расписать про всех родственников, указать их занятия, адреса, но как это сделать, если она не ведала даже об адресах родных братьев, не то что дядей и теток, двоюродных братьев и сестер. Скажем, про брата Костю — о нем лишь доходили слухи. Неизвестно, жив или нет, он сейчас? Как это выразить на листке казенной бумаги? Запнувшись на этом факте, до того разволновалась, что вообще забыла о Косте написать, получилась не автобиография, а сплошное умолчание поневоле. С существенными пропусками в автобиографии пришлось Локотовой представлять кандидата в курьеры первому секретарю горкома партии — Георгию Павловичу Келареву. Тот менее привередливый и над незадачей с Жениными родичами лишь посмеялся — видимо, считал, для курьера да еще в юном возрасте можно с подобными изъянами в жизнеописании примириться. Работы для курьера в горкоме партии оказалось немного, Женя, натура деятельная, сидеть без дела или без толку слоняться по кабинетам не могла, выпросила у строгой, но покровительствующей ей Локотовой списанную пишущую машинку и, получив несколько первичных уроков у горкомовской машинистки, вскоре выстукивала на этом инструменте так, что ее учительница даже позавидовала скорости и аккуратности печатания. Незаметно приобретенная уже настоящая профессия и определила дальнейшую службу, хлеб насущный молодая вдова могла зарабатывать не домашним услуженьем и стараньем на побегушках, а уважаемой квалифицированной работой. Прилежание молодой работницы и внешние достоинства довольно скоро оказались замечены и оценены, примерно через год она стала секретарем-машинисткой у первого секретаря горкома партии. 2 Алексей Николаевич Зайцев до сих пор считал себя человеком нерешительным, не пробивным, и, может и, преувеличивая такой недостаток, иногда намеренно ставил себя в положение, когда нельзя увильнуть, избавиться от 41 совершения поступка, преодоления препятствия. «Нужно!» приказывал себе, непременно надо сделать! Превозмочь трудности, препятствия! Приучал себя находить, принимать твердое решение и действовать! Иначе, страшился он, окончательно исчезнет вера в самого себя, пропадет самоуважение, останется на задворках жизни, обреченным всю жизнь исполнять чужую волю. На сегодня наложил на себя очередное обязательство, принял, возможно, переломное, главное решение в более чем тридцатилетней своей жизни. Приказал себе именно сегодня решительно объясниться с Женей Станкевич, ученицей вечерней школы, где третий год преподает физику. Основное его служебное занятие — работа в тресте, там он заместитель начальника технического отдела или, как называл свой отдел начальник Чеканников Николай Иванович, мозгового центра треста. В отделе намечалась, разрабатывалась — на то он и мозг — техническая политика — определяющее условие, по словам Николая Ивановича, устойчивой, надежной работы по добыче угля. Совмещать Алексею Николаевичу службу с преподаванием начальник не то, что разрешил, а практически принудил, пусть покорпит над книгами, с пустой головой никого, ничему не научишь, полезно пообщаться с молодыми людьми, себя раньше времени в старики записывать не станет, современным почувствует, будет вынужден следить за собой и за новинками в технике, а это для работника техотдела, по мнению Николая Ивановича, первейшее условие. Человек в жизни нерасчетливый, в этом случае он подходил сугубо утилитарно, рассчитывая соорудить из молодого подчиненного современного специалиста, конечно, Алексею дополнительная нагрузка, зато отделу польза несомненная. Недовольные сетования Алексея Николаевича решительно отметал: — По Павлову отдых — это смена занятий. Вечерняя школа в этом смысле не может быть перегрузкой. Терпение и труд — все перетрут, уважаемый Алексей Николаевич, так что трудитесь, и на поблажки не надейтесь. — Николай Иванович углублялся в очередную бумагу, давая понять, разговор о перегрузках исчерпан. Алексей Николаевич никогда не помышлял о педагогическом поприще, но в житейской передряге, которая навалилась на него, предложению подработать в школе даже обрадовался. Все это из-за Клавки, бывшей супружницы, ее неверность, прежде об этом лишь предполагал, довелось лицезреть собственными глазами, зло и решительно расстался с коварной изменницей. Вечерняя работа заполняла освободившееся время, оберегала нервную систему, отвлекала от безрадостных мыслей о Клавдиной подлости. В школе ему понравилось: преподавать не так уж трудно, он хорошо разбирался в физике, любимом со школы предмете, а главное, оправдались предсказания Николая Ивановича, в школе, хотя и своеобразно, но он на виду, выделяется из общей массы, в какой-то мере, руководит молодежью, направляет ее мысли и поступки. Работнику такого солидного учреждения, как трест, полагал он, не без влияния Николая Ивановича, вести себя следует тоже солидно, взвешенно, держать марку. И он ее держал, да еще как. 42 Природа не наградила Зайцева выдающейся внешностью. Правда, при невысоком росте он не казался малорослым, заметную внушительность придавали плотная ширококостная фигура, крупная голова. Весь его облик подтверждал происхождение отнюдь не из благородных, породистых слоев: черты лица грубоватые, как бы не отточенные, а нос даже укрупненный, мясистый, уши оттопырены. Но умение держать себя, непроницаемое выражение лица - трудно определить его истинные чувства - и особенно высокий лоб, над которым блестели зачесанные назад прямые, густые волосы, смягчали простоватость, придавали значительность. Молодость требовала свое, но держал свои чувства в крепкой узде. Найти замену Клавдии в его положении и возрасте непросто, в тридцать лет бегать по танцулькам, гоняться за девчонками смешно. В школе народ не взбалмошный, серьезный, баламуты и вертихвостки за знаниями не гонятся, только посмотри на эту Евгению Станкевич — необыкновенно серьезная, старательная девушка, нет, не девушка, молодая женщина, дочку имеет, мужа хулиганье угробило. Она и прежде красотой выделялась, а после родов и вовсе расцвела, ему нравилась на ее красивом лице, будто выточенном из слоновой кости, особая лирическая грусть, таящая нечто необыкновенное. Фигура, прежде хрупкая, после родов стала мягче, овальнее, исчезла угловатость, красиво изогнутые брови придавали аристократичность, одевалась Женя не богато, но не без изящества: грудь аккуратная, волнующая, облегается в меру открытой кофточкой, расклешенная юбка подчеркивает раздавшиеся бедра. Внешние ли прелести Евгении, или ее лирически грустный облик так неотразимо привлекательны, но Алексей Николаевич на уроках в этом классе бросал на привлекательную ученицу далеко не учительские взгляды. До того насмотрелся, что не представлял себя в будущем без этой, казавшейся ему необыкновенной, женщины, совсем забыл о гадком Клавкином уроке. В этот учебный год настойчиво побуждал себя приступить в отношениях с этой ученицей к более активным действиям. Стал чаще подходить на переменах и заговаривать, как-то осмелился набиться в провожатые. Их встречи учащались и в последнее время стали почти регулярными. По разным признакам Алексей отмечал, Евгения не совсем равнодушна к его ухаживаниям, относится к нему все лучше и лучше. Объясниться до этого дня недоставало смелости, но теперь твердо решил связать себя жестким самообязательством, перекрыть путь к собственному отступлению назначением точного срока для объяснения. Скоро каникулы и встречи могут прекратиться, а продолжатся ли в новом учебном году — это бабушка надвое сказала. Евгения незаметно для себя привыкла возвращаться из школы с Алексеем Николаевичем и на этот раз не удивилась, увидев его ожидающим у выхода из щколы, настолько освоилась с его обществом, что не задумывалась, насколько верно поступает, и оттого оставалась непринужденной, естественной. Жила женским естеством, женскими мечтами и страстями, правда далеко не осуществленными, слишком короткая бабья жизнь, попробовала, ощутила 43 прелесть любовного наслаждения, и вдруг все оборвалось, ночами и особенно ранним утром, пробуждаясь, изнемогала от желания до боли, до помрачения, исступления, проведет рукой по кровати — одна, совсем одна... Она по женской интуиции тотчас почувствовала интерес к ней Алексея Николаевича и, если не хитрить с собой, его интерес ей не безразличен. После гибели Толика прошло достаточно много времени, ее сожаления, боль утраты не переходили в чувство вины, и Алексей Николаевич все больше и больше места занимал в ее размышлениях, часто в одинокой постели представляла его далеко не в невинных ситуациях, и это также не смущало. Учитель становился желанным, ей льстило — солидный, представительный инженер, учитель выделил ее из многих женщин в тресте и в школе. До поры до времени отгоняла мелькавшее предположение - могла бы стать женой этого человека — насколько, казалось ей, велика разница в их положении. Она деревенская, почти полуграмотная, без какой-либо профессии, ни то приживалка, ни то домработница, да еще с ребенком на руках, он - учитель, инженер, видный работник треста. «Инженер» звучало звонко, престижно. Трест в городе олицетворял чуть ли не высшую власть, двигавшую дела на шахтах, в мастерских, на электростанции, как говорил Константин Леонтьевич, главный хозяин города. Слово «хозяин» он произносил с особым смаком, с уважением, даже с подобострастием. Конечно, внешне Алексей Николаевич уступал Толику, не такой стройный, веселый и красивый, но приземистая солидность, значительность инженера не давали повода к умалению, эти его качкства как бы смягчали в глазах Жени внешнюю разницу двух мужчин, занявших вполне определенное место в ее судьбе. Да и не задумывалась она над внешностью Алексея Николаевича, назвать его «Алексей» даже не приходило в голову. Незаметно, исподволь привыкала сначала к учителю, а затем с каждым днем, к расширявшему свое место в душе человеку. Интересен ли, красив ли, статен — это мельком, скользом пробегало где-то в глубине ее сознания, не замечалось ею в каждодневном общении, по серьезному об этом она не задумывалась. Красивые или некрасивые ее мать, братья, близкие, родные, всех воспринимала такими, какими они были. Подобная бесхитростность Жени придавала ее отношениям с учителем естественность, потому держалась с Алексеем Николаевичем просто, без всяких ухищрений. В этот вечер она почувствовала, что привычный провожающий в необычном состоянии, настроен на неожиданные действия — выглядел смущеннее, чем обычно, задумавшимся, уходящим в себя. Внешне ее предчувствия никак не проявлялись, как всегда, щебетала на обычные в их общении темы - об интересном на уроках, какая из одноклассниц сегодня пришла в новом платье или щеголяла в туфлях на высоких каблуках, перемывала косточки парням, пытавшимся допустить некоторую вольность по отношению к ней. О парнях рассказывала подробнее, беззлобно посмеиваясь над их неловкими попытками сыскать ее благосклонность. Алексея Николаевича внешне безобидная трескотня о парнях задевала. По инстинктивному женскому, необдуманному тщеславию, она разжигала его интерес к себе и невольно поощряла решимость 44 Алексея непременно провести намеченный именно на этот вечер решительный разговор. — Женя, а эти парни знают, — начал он, волнуясь и от того немного запинаясь, — об этих... ну наших, этих вот, ну... что мы вместе из школы ходим? — А что тут особенного? — засмеялась Женя, ее чудные брови удивленно вскинулись вверх. — Конечно,.. Николаевич. ничего и вообще, но,..— продолжал запинаться Алексей Женя, помахивая сумкой, шла на полшага впереди Алексея Николаевича, и не видела, как он менялся в лице, извечная робость и обреченная решительность перемешались, трудно понять, кто он: или видный, энергичный инженер, или робкий, беспомощный мальчик? — Какие могут быть разговоры?! — беспечно воскликнула Женя. — Да мало ли какие, — и Алексей Николаевич, не придумав ничего иного, запутавшись в поисках нитей дальнейшего разговора, неожиданно для себя выпалил: — Хватит нам Женя, так ходить, будьте моей женой. Женя не ожидала такого решительного натиска, споткнулась, — чуть не упала. Алексей Николаевич подхватил и сначала невольно, удерживал ее от падения, а потом, не задумываясь ни о чем, крепко, по-мужски, прижал к себе и впился в губы. Женя глубоко и часто дышала и оттого, что неожиданный поцелуй надолго перехватил дыхание, и оттого, что услышала ожидаемое: — Не знаю... — теперь запиналась она, — не знаю,.. у меня ребенок, да и Роза Львовна... Ей вновь было хорошо, даже не заметила, что поцелуй Алексея случился там, где погиб Толик. 3 Внешне ничего не менялось в Евгении, по-прежнему ходила на вечерние занятия, как всегда ее провожал из школы Алексей Николаевич. Но все же после объяснения с ним ее жизнь вновь приобретала надежность и уверенность, она знала, есть человек, который ее любит, есть на кого опереться, к ней возвратилась вера в себя, в будущее свое и Фаи, ее милой сиротинушки-доченьки. Фая — беспредельное счастье, свет в окошечке не только для Евгении, маленькую девочку боготворили Роза Львовна и Константин Леонтьевич, внученька для них, пусть не полное, но все же ощутимое возмещение потери Анатолия, их любимого сыночка. Заботы о малышке, их прибавлялось с каждым днем, ее милое щебетанье, каждодневные открытия нового, возникающего, каждое мгновенье в ней, становились для всех событием, отвлекали от горестных воспоминаний и 45 раздумий. Константин Леонтьевич умилялся, когда малютка начала улыбаться, восторгался, когда девочка осознанно или случайно, схватывалась за развешенные над кроваткой разноцветные погремушки, чуть ли не прыгал от восторга, когда внучка стала самостоятельно сидеть. Подошло время малютке становиться на ножки, дедушкиной радости не было пределов, внученьку у новоявленного деда приходилось насильно отнимать — надо же ребенка покормить или укладывать спать. Девочка произнесла первые слова — у деда с бабкой несколько дней велись споры: какое слово первым произнесла: «баба» или «деда», совершенно забыли, первым из ее нежного ротика вылетело вечное и одинаковое для всех детишек слово - «мама». Евгения не меньше стариков баловала дочку в своей беззаботной материнской любви, но на полном серьезе выговаривала деду и бабушке: — Вы мне испортите девочку, нельзя же так ее баловать. После объяснения с Алексеем Николаевичем, первый вопрос, который задала себе и ему, был: — А как с Фаей? Алексей Николаевич удивлен вопросу, не задумываясь, отвечал, что удочерит девочку, надеется, будет ей настоящим отцом. Евгения не так далеко заглядывала вперед, ей достаточно забот сегодняшнего дня, рано или поздно ей предстоит покинуть дом погибшего мужа, а как поступать с девочкой? Она и Алексей на работе, вечером занятия в школе. С кем, на кого оставить ребенка? Хочешь, не хочешь, а все надежды на свекра и свекровь — назвать их бывшими она никак не могла, это потом, когда уйдет окончательно к Зайцеву, но прежде надо рассказать свекрам о случившемся между ними. Женя боялась — Чумские воспримут этот ее шаг как прямую измену Толику, будут укорять в беспамятстве, в покушении на их дедовские права. Женя не могла и помыслить лишить их любимицы внучки, прямой замены погибшего сына. Дни шли, Женя не могла решиться на объяснения, и в доме Чумских внешне все оставалось по-прежнему. Однажды, накануне выходного — воскресенья и субботы еще не признавались, рабочие и выходные дни отмерялись шестидневками — Роза Львовна обратилась к Жене: — Женечка, к тете Риве назавтра приглашены гости, какое-то семейное торжество, она просила подсобить в приготовлении, помочь управиться с гостями, убрать за ними. Ты не могла бы сходить к ней? Когда Роза Львовна хотела чего-либо добиться, она умела обращаться особенно мягко и уважительно, но и без дипломатических подходов, реверансов Евгения ни в чем бы ей не отказала, чувство признательности ей не чуждо, тем более, отлично понимала, чем обязана Чумским. Тетя Рива — какая-то родня на седьмом киселе Чумским, ее муж ходил в больших начальниках, по масштабам этого городка, его отличал и чтил Константин Леонтьевич: 46 — Исаак Маркович — человек большого ума, государственного размаха, чего только он с этими связался? Под «этими» Константин Леонтьевич подразумевал большевиков, но фразу до конца никогда не договаривал, слова «большевик», «коммунист» крайне редко исходили из его уст. Тетя Рива немного моложе Розы Львовны, но она выглядела значительно старше своей родственницы из-за расплывшейся фигуры, одутловатого лица, на котором глубоко запрятались глаза, между отвислых щек заметно выделялся крупный, рыхлый нос,. Никто и никогда не называл ее по имени, отчеству, все обходились простым и очень к ней подходящим обращением «тетя Рива». Исаак Маркович Шленский не имел собственного дома, занимал большую четырех комнатную квартиру в казенном доме, полагавшуюся ему в силу руководящего положения. До революции дом принадлежал местному шахтовладельцу Козловскому, затем его разделили на четыре вполне приличные квартиры для местных воротил. Евгении пришлось, прежде всего, приняться за генеральную уборку. У тети Ривы явно не доставало ни способностей, ни физических возможностей содержать квартиру хотя бы в относительном порядке и чистоте, квартира заставлена пропыленной, казенной мебелью — кое-что осталось от бывших хозяев, большая часть стульев, столов, шкафов экспроприирована из квартир бывших богатеев, усилиями подхалимствующих хозяйственников. Женя энергично прошлась тряпкой по мебели, лишив ее давно накопившейся пыли, вытрясла потертые ковры и дорожки, попыталась очистить и представить на всеобщее обозрение капитально затертый и замытый когда-то прекрасный пол из дубового паркета, но удалось лишь очистить от поверхностной грязи. Невзирая на противодействие тети Ривы, до смерти боявшейся сквозняков, Евгения растворила все окна и двери - требовалось хотя бы немного выветрить застойный запах пыли и кошачьих отходов. Тетя Рива только успевала восхищенно охать Жениному умению и сноровке, стараниям навести чистоту, блеск в доме. В юности она жила в просторном и чистом доме, служанки и лакеи с утра до ночи протирали, выбивали ковры, переставляли посуду, мебель, а беззаботная девочка Рива, порхала из комнаты в комнату, наслаждаясь чинным порядком, безукоризненной чистотой, читала стихи Надсона и Хлебникова, распевала модные романсы и совершенно не замечала тех, кто наводил блеск и порядок в залах, гостиных, спальнях. Как все-таки хорошо жили до революции! Отчего-то все круто переменилось потом, слава богу, муж попался не из последних, сумел и при новой власти устроиться, более или менее сносную квартиру получил. Правда, одной содержать ее не просто, хорошо бы такую сноровистую помощницу как Женя. Смотри и только командуй! Вскоре, однако, роли в доме поменялись, верховодство полностью перешло к Жене — чувствовалась школа Розы Львовны — тетя Рива мучительно вспоминала где, что у нее лежит или стоит, искала, подносила, подавала, и, запыхавшись от шумной и подначальной суеты, сваливалась на диван, утирая пот, исходящий из объемистой шеи. Управив47 шись с уборкой, Женя принялась за приготовление ужина, из под ее шустрых рук, как с конвейера, одно за другим выходили праздничные блюда, вкусная стряпня. Тетя Рива только успевала удивляться, оказывается из таящихся в дебрях и завалах ее кухни припасов можно наготовить множество разнообразного и вкусного. После шести часов стали сходиться гости и каждый непременно и не только по воспитанности и вежливости, издавал ахи и охи, увидев чисто прибранную квартиру, аппетитно заставленный стол. Приглашать за стол не торопились, задерживался хозяин, Шленский редко являлся с работы вовремя, руководящая должность каждодневно удерживала важными и неотложными делами, во всяком случае, так он объяснял жене поздние возвращения в родные стены. Наконец, шумно отворилась входная дверь и, на ходу сбрасывая пальто и кепку, быстрым шагом в комнату, неожиданно для него чистую и прибранную с приманчиво уставленными на столе яствами, вошел хозяин. Долго ожидавшие гости оживились. Исаак Маркович энергично пожал каждому руку, извиняясь за задержку, все выразили понимание его деловой загруженности и, не прекословя, обрадовано и суетливо откликнулись на приглашение к столу. Женя впервые наблюдала столь большую компанию городских людей. Чумские больших застолий не устраивали и ей любопытно, как здесь люди, говоря по-деревенски, гуляют. Компания несколько удивляла, мужчины пришли одни, без жен, женский пол представляла лишь одна темноволосая женщина в пенсне, она пришла тоже одна, без мужа, если таковой у нее имелся. Среди гостей Женя с немалым удивлением и не без смущения, увидела знакомых, они довольно часто появлялись в горкоме партии и, тоже смущены, встретив горкомовскую секретаршу. Не знала, радоваться или нет появлению Игоря Борисовича Савранского, второго секретаря горкома партии, да и он, увидев сослуживицу, не очень-то обрадовался. Появились известные Жене заведующие местных шахт, двое из Горсовета, начальник Углесбыта, всего набралось человек десять. Двое, как поняла Евгения, приезжие из Москвы, никак не могла их припомнить: уж очень на кого-то похожие. Не без удовольствия Женя отметила, как гости время от времени бросали взгляды в ее сторону, в их глазах нескрываемое восхищение, большинство гостей, за исключением разве Савранского, впервые у Шленских и принимали Женю за его жену. Вот вам и Шленский, какую кралю отхватил! Аккуратненькая, опрятненькая, такая уютненькая, само дуновение свежести, тепла. Эх, зачем какая-то политика при такой-то женщине! Какое-то время за столом затишье, нарушаемое стуком ножей и вилок, просьбами передать то или иное блюдо, бульканьем наливаемого вина. Тостов и речей не произносилось, лишь первую рюмку Исаак Маркович предложил выпить за здоровье всех присутствующих. Насытив желудки, гости начали оживляться, разговор набирал силу. До кухни, где возилась Женя, приглушенно доносились голоса, их трудно разобрать, она не все улавливала, чтобы до конца понять, о чем идет речь. Многословность иногда стихала, доносился лишь монолог одного из московских гостей. 48 — После высылки Льва Давидовича, он набирает силу, теперь ему на равных никто не возразит... Евгения по хрипловатому голосу, который запомнила, поняла, что говорил тот из московских гостей, что поплотнее, со следами былой барственности и повыше, с большими усами и небольшой бородкой. — Еще два года назад, — опять доносилось до Жени, — мы указывали на то, что группа, — тут кто-то звонко положил нож на тарелку и Женя не расслышала несколько слов, — поставила задачей сломать сложившееся руководство партией, не дать отсечь ближайших учеников и соратников Владимира Ильича. — Сами виноваты, — Женя по голосу не узнала, кто перебил говорящего, усиливающийся временами шум за столом мешал ей, — вам собственная партия понадобилась... — Лозунг двух партий — не наш лозунг, — усилил голос гость из Москвы, — партия должна оставаться единой и единственной... Мы будем бороться всеми силами за возвращение в партию всех... Грубым нарушением... массовые исключения... свернуть... на путь... По отрывкам фраз, из отдельных слов, что доносились до кухни, Женя улавливала, о чем идет речь, она регулярно читала газеты, а пребывание в приемной первого секретаря горкома партии, печатанье секретарских речей и других документов позволяло узнавать о многом таком, о чем ни в одной газете не прочитаешь. Дискуссии в партии шли почти непрерывно, громили то одних оппозиционеров, то других. В горкоме, тоже спорили, она слышала горячие дискуссии на комсомольских и партийных собраниях, а комсомолкой принципиальная Локотова ее сделала почти сразу после приема на работу, недавно же, опять не обошлось без Локотовой, Женя удостоилась стать кандидатом в члены партии. Не все в дискуссиях ей было ясно и понятно, но видела и чувствовала, и не только на партсобраниях; первый секретарь Келарев и второй Савранский не во всем сходятся во мнениях и оттого часто очень недовольны друг другом. — Ему очень выгодно преподнести наши разногласия как борьбу за власть, — это говорил другой гость из Москвы. Он чуть пониже, но тоже коренастый и какой-то живчик, показалось Евгении, все время семенит ногами, размахивает руками. Вьющиеся длинные волосы на голове тоже в движении от частого встряхивания квадратной головой. — Тут Лев.., говорил, — долетали до Жени его слова, — что для страны губительна политика.., — гость, похоже, горячился, нож, вилку бросал на тарелку и Женя не расслышала последних слов. — Вы сами повинны в этой политике, — резко перебили его, Женя узнала, что говорил начальник Углесбыта Робейчик, он часто бывал в горкоме и его мягкий, вкрадчивый, иногда до приторности, голос ей нетрудно узнать, — вы помогали бороться с Троцким... теперь пожинаете... Он убьет нас... он новый Чингис-Хан... 49 Задушит нас... — Что было, то было, — не стал спорить москвич, — но теперь мы должны откликнуться на призыв … действовать вместе... — Ему теперь легко призывать из заграничного далека, а здесь попробуй действовать, — перебил иронический голос, который раньше не слышала Женя, — у нас теперь научились круто расправляться... — Да ему еще Бухарчик подпевал,.. — эту реплику вставил Игорь Борисович, его резкий, повелительный тон хорошо знаком Жене. — Его черед придет, — отвечал москвич, — как только в нем отпадет необходимость... — Сколько же это можно терпеть?.. — резко взвизгнула женщина, — из партии изгоняются признанные вожди мирового пролетариата, герои Октября, победители в Гражданской! О чем они говорят? — думала Евгения, в стране еще много разрухи, не хватает элементарного для нормальной жизни, а они здесь какие-то непонятные споры разводят, власть делят, обиды считают, в грудь себя бьют, за праведников сойти хотят. Не это надо сегодня людям! — У него железная логика, — это говорил один из шахтеров, — он знает, чего сам для себя хочет, и чего от него люди ждут, он словоблудием не занимается. Голос говорящего был твердый, четкий, видимо привык командовать, выдавать безапелляционные распоряжения. — Вы не правы, — снова зазвучал хрипловатый голос первого москвича, — мы тоже знаем, чего хотим, но у него власть... — У вас тоже была власть,.. вы в нее, как клещи, вцепились, кровью налились и как насосавшийся клещ, отвалились!!! — грубо оборвал его хриплый бас, опять Жене знакомый. — Это естественное развитие всех революций, они всегда пожирают своих творцов... — Вот это и есть словоблудие! Власть надо уметь держать в руках, она имеет свойство улетать от тех, кто ею упивается. Не выдержали вы испытания властью, о себе только думаете, других, кто вас двигал, на вас надеялся, забыли. Жене некогда вслушиваться, надо разливать чай, подавать на стол стряпанное. Она меняла посуду, расставляла чистые тарелки, розетки, чашки и вслушивалась в разговор гостей, который ее все больше занимал. Возбужденные вином и спорами гости на нее и тетю Риву не реагировали, каждый стремился вставить свое слово в разгоравшиеся споры. Игорь Борисович Савранский не мог усидеть на месте и, размахивая руками, наступал на посасывающего трубку московского гостя. — Что вы говорите об его жестокости, — Игорь Борисович потянулся к трубке 50 собеседника, она явно мешала ему, загораживала лицо собеседника, — а чем лучше Троцкий? Раскатывал на своем бронепоезде и командовал: «расстрелять,.. расстрелять». Не в жестокости дело, без нее политики не бывает... — Ну вы, батенька, не упрощайте. То война была, борьба... — А сейчас чем не борьба? Может внутри партии еще ожесточенней. Гражданская война сглаживала разногласия, перед общим врагом вынуждены сплотиться. Нет у нас сейчас фигуры, чтобы противостоять ему... — Есть кому, но он успевает опережать... Разве наше положение не безнадежно? — Раз опережает, значит умнее, как опытный шахматист умеет просчитывать на несколько ходов вперед. Его сила в том, что он от жизни идет, а вы от теорий, они сейчас нужны людям, стране, как мертвому припарки. Смотрите, кто вокруг него — практические работники: секретари губкомов, обкомов, хозяйственники, а у вас одни москвичи, прежде еще питерцы были, под вами ходили, как на цирлах... — У нас зато настоящие большевики, закаленные в подполье, в революции, в гражданской войне... — Вот-вот, они или еще из подполья не вышла или все еще шашкой размахивают. На другие силы жизнь диктует опираться, к молодежи идти, ее поднимать. — Для этого мы и приехали, давайте посовещаемся вместе, как ее поднимать. Нельзя позволить, чтобы старые идейные разногласия помешали нам объединиться для самообороны. До конца услышать спор Евгении не пришлось, унесла на кухню переполненный поднос с грязной посудой. А когда возвратилась, Игорь Борисович уже сидел и отхлебывал мелкими глотками чай. К московским гостям, тоже принявшимся за чай, пододвинулись со своими стульями несколько гостей. — Сейчас обстановка на шахтах меняется, новая структура управления — тресты —более оперативня, чем прежняя. Тресты разместили по рудникам, где есть горкомы, райкомы партии, таким образом, хозяйственное и политическое руководство сблизилось, парторганизации шахт могут опираться на специалистов из треста. Это говорил Борис Семенович Белый, начальник шахты восемь-бис, он жил по соседству с Чумскими и, как поняла Женя, связывало их не только соседство. — Мне думается, — голос Бориса Семеновича звучал твердо, он привык отдавать распоряжения с уверенностью, их никто не осмелится не исполнить, — тресты — удачная управленческая структура и они подойдут не только для угольной промышленности. — И в этом ему повезло, — с нескрываемой горечью произнес московский гость, тот, что пониже, и тряхнул курчавой головой, — он в тресты своих людей 51 натолкает, они поднаберутся опыта и ими заполнятся наркоматы и главки. Корень зла в том, что партия и государство полностью слились... — Не исключено, не исключено, — вторил ему другой московский гость, с бородкой, — в этом его сила, он всякий фактор — политический, экономический, управленческий — поворачивает против оппозиции, сколачивает против нас силы из новых людей. — Вы правы, — продолжал гость, что пониже, — все решится в сфере экономики. Мне придется, я заранее предвещаю об этом, начать с установления некоторых элементарных экономических положений относительно нашей, еще так называемой новой, экономической политики, — он приостановился, чувствовалось, что подбирает выражения, ему не хотелось кого-либо обидеть, хотя и старался доказать насколько серьезно обсуждаемое, — это политика могла привести нас к реставрации, возвращению на командные высоты буржуазии. Белый усмехнулся и перебил говорившего: — Вы похожи на того человека, который, когда видит мертвого воробья, то кричит: «все помрем через два дня!» Зачем впадать в панику, тем более нам, большевикам?! Гость недоуменно взглянул на едкого оппонента, раздумывал обидеться или нет, не за ссорой же он притащился не без опасности для себя в эту глушь. — НЭП есть признанная нами, законодательным порядком, — он старался не сойти с избранного направления рассуждений, — арена борьбы между нами и частным капиталом. — Но оживилась же при НЭПе экономическая жизнь, — не отступал Белый. — У нас государственная промышленность терпит убытки, но не в пользу иностранцев, как утверждают некоторые, а, очевидно, в пользу каких-то внутренних третьих лиц. Кто эти «третьи лица»? Это мелкая буржуазия, нарождающаяся средняя буржуазия, спекулянт. Это не оживление, а спекулятивная горячка, она означала и означает разорение... Вы посмотрите на бумажную промышленность, а куда уходит бумага? На нерациональную рекламу—это расточение денег, расточение бумаги, а называют самоокупаемостью. Белый, как показалось Жене, посмотрел на московских гостей с жалостью, как бывало, смотрела ее мать на нищих возле церкви. Женя с помощью тети Ривы убрала со стола и вернулась на кухню, принялась за мытье посуды. Женя уже не надеялась возвратиться сегодня домой. Из-за мытья посуды не видела, как расходились собравшиеся, доносились лишь неразборчивые голоса их прощания, хлопанье дверей. Расходились гости медленнее, чем собирались, по одному, по два, и это показалось Жене, не случайно - гостям, как и хозяину Исааку Марковичу Шленскому, очевидно не хотелось, чтобы кто-либо увидел их большой группой выходящими из этого дома. 52 Встретиться именно на этой квартире с москвичами настоял Савранский, сам же Исаак Маркович предпочел бы собраться где-либо в другом месте. Во внутрипартийной борьбе он, по крайней мере, внешне, публично, не становился на чью-либо сторону, выжидал, кто возьмет верх. Несмотря на довольно высокое положение в местной руководящей иерархии, Шленский не чувствовал себя прочно и уверенно, как можно было бы подумать, наблюдая за его энергичными действиями, твердыми высказываниями, волевыми жестами. Виной такой зыбкости считал свое происхождение из богатых заводчиков. До сих пор видел в Москве и других крупных городах чугунные крышки канализационных колодцев, на которых выпукло выделялось «Шленский и сыновья». В случаях, когда его попрекали прошлым, решительно возражал: — Мое происхождение не имеет совершенно никакого значения. Молотов, когда еще Скрябиным был, в приказчиках ходил, а у Троцкого отец крупный землевладелец, Красин тоже не из рабочих. — Эко, хватил!!! — А чем я хуже их? Передовая молодежь решительно порывала со своим классом после знакомства с марксизмом! Если бы кто копнул поглубже марксизм Шленского, то без труда убедился бы в его шапочном знакомстве с этим учением, но Исаак Маркович, напоминал - он в свое время пострадал за свои убеждения. В пятнадцатом его исключили из гимназии, о причинах этого никто не знал, но Исаак Маркович настойчиво доказывал, что исключение произошло из-за участия в маевке, хотя злые языки утверждали, что это была не революционная маевка, а обычная молодежная попойка, куда втянули несмышленыша гимназиста. С таким происхождением ему бы подальше от московских деятелей, да втравил настырный Савранский, хорошо, что осенью рано наступает темнота, никто не видит. Надежна ли эта невестка Чумских? Но без помощи Ревекке не обойтись, да кажется, девка не из болтливых, иначе Константин Леонтьевич ее не держал бы. Московские гости задержались дольше всех. Провожать их прикатил на неизвестно где добытой легковой автомашине Константин Леонтьевич. Женя как раз уносила со стола последнюю посуду и видела, как в уголке примостились московские гости и о чем-то очень оживленно шептались с ее свекром. Далеко за полночь Шленский с Чумским отвезли московских гостей на вокзал. 4 Ночевать Жене все-таки пришлось у тети Ривы. Покончили с мытьем посуды, принялись за приборку квартиры, после нашествия не заботившихся об аккуратности гостей она вновь приобрела далеко не привлекательный вид: мебель сдвинута, на полу насорено, окурки торчали в самых неподходящих местах. Тетя 53 Рива безумолку сварливо верещала, досадовала на мужа, всегда приволочет кучу гостей — корми, прибирай за ними, да хотя бы гости путные, а то говоруны одни, спорщики. Доспорятся на свою голову, все Сталина ругают, а его теперь ругай, не ругай, плетью обуха не перерубить. Женя слышала голос тети Ривы, а слова пролетали мимо, она поглощена своими мыслями, да такими непростыми. Еще в начале вечера сообразила, это не обычная компания друзей, собравшихся выпить, закусить, повеселиться, а сбор, собрание людей, не слишком желавших, чтобы об их встрече кто-либо узнал. Незнакомые друг другу люди, не совсем понятные, но что-то их объединяет, делает похожими друг на друга. Женя долго подбирала слова, которыми бы эту их общность выразить и, наконец, ей пришло на ум: не наши они все! Какие-то далекие, запутанные и даже запуганные, чего-то возжелавшие. Все они, москвичи — и Евсеевич, и Лев, и местные - Робейчик, и начальник шахты Белый Борис Семенович — жалкие человечки. А наш Савранский чем отличается? — как раз для этой компании. Нет, не наши они! А она-то - ныне горкомовская, секретарь-машинистка самого первого секретаря, кандидат в члены партии!?. По партийному долгу, по своему служебному положению обязана рассказать об увиденном, услышанном, если не самому первому, то хотя бы Локотовой, обязана-то, обязана, но вся ее натура, деревенское воспитание восставало, с молоком матери впитала неприятие доносительства, ябедничества. Мать, бывало, одаривала крепким подзатыльником мальчишек, ее братцев, когда те пытались жаловаться на обиды, нанесенные им деревенскими сверстниками. — Не ябедничай, не ябедничай! — сопровождала она каждый подзатыльник. Первый секретарь Георгий Павлович Келарев относился к ней хорошо. Женя замечала, смотрит порой на нее не только как на секретаршу, это смущало, она приходила в волнение, и сама иногда задумывалась о Георгии Павловиче не только как о начальнике. Если бы не такие мысли, возможно, рассказала бы первому секретарю горкома о встрече у тети Ривы, но с человеком, о котором порой возникают подобные мысли, едва ли осмелится пооткровенничать, ей дорого его мнение о себе и как о человеке, и как о женщине, предстать в его глазах доносчицей, ябедницей совсем не улыбалось. И не сказать нельзя. Слышала, конечно, читала, призывают к бдительности, требуют быть беспощадным ко всем, кто не разделяет линии партии, ставит палки в колеса, она верит этим призывам, более того, убеждена в необходимости бдительности и беспощадности. Когда же коснулось непосредственно ее, оказалось, сколь непросто переломить себя, свою натуру, понять, что для нее важнее: партийный долг или... ... Проходил день за днем, а она так и не решилась, а потом уже поздно стало рассказывать, уже чувствовала себя виноватой в укрывательстве, если не в пособничестве. Чистая и честная ее душа надламывалась, раздваивалась, угнетало чувство вины. 54 На другой день произошло обеспокоившее ее событие. Она вздрогнула, когда в приемную вошел второй секретарь горкома партии Игорь Борисович Савранский, как всегда напыщенный, изображающий большого начальника. На пороге кабинета первого напускная важность мгновенно слетала, лицо принимало выражение почтительности и готовности исполнять указания, могущие последовать Мимо секретарши к первому не пройти. Евгения, приветливо улыбаясь, здоровалась с ним и ничего, разумеется, большего. А в этот день... Только собственной растерянности не позволило Евгении разглядеть, как взволновался Игорь Борисович, заботы начавшегося дня оттеснили в его памяти вчерашнее присутствие Жени в доме тети Ривы и мысли неизбежности столкнуться с нею в горкоме. Из-за охватившей Женю на какое-то время растерянности она не сумела увидеть, как в глазах Савранского мгновенной искоркой промелькнул испуг. — Здравствуйте, ... Женя, — Савранский запнулся, соображая как надо обратиться, до этого не задумывался, коротко, как ко всем работающим в приемных, обращался по имени «Женя», и на «ты», но тут подумал, уместно ли теперь подобное упрощенное общение. Навеличивать ее не мог не только из-за амбициозной напыщенности, но и по весьма простой причине — никогда не интересовался ее отчеством, и даже фамилия не прочно закрепилась в его памяти, хотя знал, она жена инженера Зайцева, но, вроде бы у нее фамилия иная то ли девичья, то ли какая-то другая, Зайцев у нее не первый. — Здравствуйте,... Женя. Первый у себя? – невнятно пролепетал Савранский и открыл дверь в кабинет Келарева. Игорь Борисович многое бы дал, чтобы Женя исчезла из этой приемной, удалилась бы куда-нибудь насколько возможно подальше, с глаз долой — из сердца вон, но в то же время пугался, а не будет хуже, если, оказавшись вдали от него, бесконтрольная, совсем независимая, возьмет да и брякнет, ненароком или специально, кому-нибудь о проклинаемой им встрече на квартире Шленского. Ни один раз укорял себя за дурацкое тщеславие, ненужное любопытство, еще бы, рассуждал он перед встречей, такие деятели! С ними всякому лестно пообщаться, а тем более поразмышлять о положении в партии, услышать из первых уст о дискуссиях, платформах, о планах оппозиции, застолбить свое место на случай ее прихода к руководству, в этом он не сомневался — такие люди! Октябрь провернули, гражданскую войну выиграли! Черт его дернул, ругал себя задним числом, нужны эти деятели, как прошлогодний снег. Вернутся или не вернутся они к власти — это еще вопрос! Ломай теперь голову, как от этой смазливой дурехи избавиться, или, по крайней мере, нейтрализовать ее. А не попытаться ли выжить Евгению из горкома партии? — Что-то ваша Женя расцвела чрезмерно, — пустил он осторожно пробный шар, пристально наблюдая за реакцией Георгия Павловича. — Как это чрезмерно? 55 Первый секретарь не без интереса взглянул на Игоря Борисовича, для него давно не секрет - Савранский из любопытства вопросов не задает, по-пустому разговора не затевает. — Да вы знаете, сами понимаете, Георгий Павлович, — множество вступительных слов Игорю Борисовичу понадобилось, чтобы лучше сформулировать основную мысль и то же время так ее принарядить, закамуфлировать, чтобы она не выглядела прямолинейной, обнаженной, — как-то не привычно,.. не то, что не привычно, а не принято в партийном аппарате встречать молоденьких, ну и, скажем прямо, соблазнительных женщин. — Это лошадей, Игорь Борисович, по зубам, да по экстерьеру подбирают. Чем плоха Женя? При ней в приемную зайти приятно - аккуратно, чисто, курильщиков отучила дымить, не продохнуть было. Отлично печатает — с такой бумагой не стыдно к самому привередливому начальству сунуться., когда в отпуск уходят работники отделов и, даже, извини пожалуйста, ты, Игорь Борисович, или другие секретари горкома, я этого не очень-то замечаю, довольно свободно обхожусь, но когда уходит в отпуск или бюллетенит технический секретарь, почти физически ощущаю ее отсутствиебез ее помощи обходиться, оказывается, сложновато. Игорь Борисович понял — на этот раз уперся в крепкую стену, Келарев не поддержит его поползновений, явно не намерен расставаться с Женей. — Что плохого, если в приемной привлекательная женщина, — продолжал Георгий Павлович, — разве лучше будет, если сидела бы пугало? — Да нет, пугало, как Вы выражаетесь, не надо — уже без напористого пыла отвечал Игорь Борисович, — но посолиднее надо бы, авторитетнее. — Ты, Игорь Борисович, хотел бы, чтобы в горкоме сплошные страхолюдины сидели. Заметили: среди женщин - партийных работников нормальную бабу не встретишь, как бы по единому шаблону сработаны. Прошлым летом, как знаешь, ездил в санаторий, в Крым, там такие бабищи отдыхали, словно из сказок набрали ведьм каких-то, сплошные бабы-яги, мужики из нашего санатория за десять километров в Алупку бегали, в дом отдыха энергетического института — там и посмотреть было на кого и вообще... Игорь Борисович усмехнулся, но осторожно, едва заметно, вроде и согласен с первым, но от своего мнения не совсем отказался, про себя же подумал - «вот ты какой, на курорте баб разглядывал, а здесь «за моральное разложение» головы отрывает. Высказать вслух подобное заключение не осмелился, черт с ней, с этой Женей, надо подумать, как ее под себя подмять. Добрые слова Келарева о Жене, его рассуждения о женской внешности обратили мысли и действия Савранского в другую сторону, он и прежде не слепой был, женское обаяние Жени и на него действовало, не раз ловил себя — очень уж привлекательна эта бабенка, есть в ней влекущая сила, заставляющая думать о ней не только как о девушке из приемной. Если человек что-либо задумал, обязательно возникнут обстоятельства, когда 56 представится реальная возможность осуществить затеянное. 5 Новогодний праздник трестовское руководство решило на этот раз отметить коллективно. Как ни сопротивлялись некоторые, как ни устраивали шумные скандалы бдительные жены, доказывавшие, что встреча Нового года — испокон веку семейный праздник, Шестов, управляющий трестом, был неумолим и тридцать первого декабря в столовой треста, расположенной в соседнем с трестом деревянном доме, оказались расставлены буквой «П» праздничные столы. Анатолию Иосифовичу Шестову праздник в кругу друзей понадобился по многим причинам, не хотелось убивать вечер под Новый год лишь вдвоем с женой, молча тянуть время, пока по радио не пробьют полуночный час; старший сын с молодой женой собираются встретить Новый год с друзьями, а младший, он его называл, «шелопут», новогоднюю ночь проведет на техникумовском балмаскараде, который считался в городе самым ярким и веселым новогодним событием. Приглашать гостей в дом Анатолий Иосифович не любил — противно смотреть и в доме на угодничающие лица, до смерти надоевшие на работе, о другой причине не распространялся, но ее почти все знали: при всей размашистости натуры, широте взглядов Шестов в бытовом плане изрядный скупец, с великим трудом расставался с каждой копейкой. И все-таки не эти, пусть даже основательные, причины побудили управляющего организовать новогодний банкет, в последнее время он переполнен необычным возбуждением - уходящий год в его жизни оказался знаменательным. Трест, возглавляемый Шестовым, уже шестой год, словно раскочегаренный паровоз, набирал темпы, о нем с похвалой отзывались в областных и московских верхах, считали ведущим в отрасли, успехи треста непременно связывали с его — Шестовым, — именем, не напрасно оказался приглашенным на Первое Всесоюзное совещание стахановцев и получил лестную возможность выступить на самой престижной в стране трибуне, а по окончании Совещания награжден орденом Ленина, наградой, о которой мечтали многие, но удостаивались единицы, ведь более высокого отличия не существовало. Шестов обиделся бы, если кто назвал его честолюбцем, высокую награду рассматривал, как доказательство верной и последовательной службы партии, ее делу и через новогодний банкет он хотел в какой-то мере отдать часть переполнявшей его радости и безмерной гордости тем, кого считал близкими по работе и даже по духу, образу мыслей и действий, еще раз подтвердить публично высказанное чувство благодарности коллегам, подтвердить, что отличия и награды, которых удостоен он, принадлежат и его соратниками по труду. Шестов хозяйственник крепкий, и политик достаточно опытный, соображал, что без согласия или, хотя бы ведома горкома партии, затевать подобное празднество опасно, чего доброго, обвинят в организации «коллективной пьянки» 57 или в чем-нибудь еще похуже. Потому и позвонил первому секретарю: — Георгий Павлович, нынешний год трест завершает неплохо, план почти на десять процентов перекроем. К следующему году подготовились, запасы фронта для выемки угля достаточные, будем работать устойчиво. — Ну что ж, Анатолий Иосифович, поздравлять тебя в Новый год есть с чем, но насчет будущего года я не торопился бы успокаиваться, можно быть уверенным, к плану тебе подкинут приличную добавку. Все ли шахты к этому готовы? — Это я отлично понимаю, Георгий Павлович, о добавке к плану в Министерстве уже поговаривают, мы это учитываем и на легкую жизнь не рассчитываем. Но я тебя не по этому поводу побеспокоил. Люди, как видишь, потрудились в полную силу, справедливо было бы как-то отметить это поособому. — Тебя, допустим, уже отметили — орденом наградили. Как ты предлагаешь других отметить? Келарев начал догадываться о причине шестовского звонка, но понятливость проявлять не намерен, пусть управляющий сам раскроится. — Может, нам устроить встречу Нового года совместно с коллективом треста? Шестов калач тертый, прямолинейно не говорит, оттого и «может», оставляет себе свободу действий, если первый не поддержит. «Я ведь лишь высказал возможность новогодней встречи, если горком не согласен, обойдемся и без нее». Не случайно сказал и «нам устроить». Вроде бы не один трест устраивает — совместно или с разрешения горкома. — А конкретнее? Келарев тоном дает понять, хватит, мол, вокруг да около ходить. — Конкретнее это так - собрать тридцать первого декабря в трестовской столовой работников треста с женами или мужьями, пригласить немного людей со стороны, с кем вместе лямку тянем, и, как положено, по-русски встретить Новый год, это только сплотит коллектив, поднимет настроение. Думаю, люди правильно поймут. — Ну, если правильно поймут, я не против. Только чувство меры не потерять бы, организованно и культурно... — Спасибо, чувство меры будет соблюдено. Так что ждем тебя с Зоей Михайловной. Итак, добро от высшего городского руководства получено. Шестов вызвал в свой кабинет главного инженера Елпачева, секретаря трестовской партийной организации Кононова и председателя местного профсоюза Лапшина, сущкствующие порядки соблюдал неукоснительно, все видят, что «треугольник» в его тресте действует заодно, он, управляющий, опирается на общественность. - Согласие горкома на Новогодний вечер получено, -- сообщил он 58 разместившимся за длинным столом, - времени остается немного и надо продумать, как провести его, чтобы было празднично, весело, никто не перебрал бы и все учитывали, что трест не балаган какой-то, а солидное учреждение, где каждый знает как себя вести, особенно в присутствии городских властей. Ты Николай Иванович, - он повернул голову к Елпачеву, - особо обрати внимание на своих инженеров, они при Чеканникове отучились язык за зубами держать. - Понял, Анатолий Иосифович,- откликнулся главный инженер, и воспользовался паузой в монологе управляющего, чтобы высказать свое мнение, горкому соглашаться легко – пришел, выпил, закусил, свое отсидел, тост произнес и не о чем душа не болит, он же не станет это мероприятие финансировать. - Не лезь поперед батьки в пекло, Николай Иванович, - как от назойливой мухи отмахнулся управляющий, - и до финансов дойдет время. Сначала надо прикинуть, сколько народу наберется, хватит ли места в столовой. Елпачев недовольно поерзал на стуле. - Всегда там проводим вечера, все вмещаются, - ответил на вопросительный взгляд управляющего Лапшин, он редко появляется в этом кабинете, его основная работа – инженер производственного отдела – не вызывала необходимость общения с верхами трестовского начальства, оттого говорил тихо, запинаясь. - Если в норке одни мыши, им, конечно просторно, ты же учитывай, кто к нам придет, их же не будешь размещать как сельдей в бочке, впритычку один к одному. - Начальника станции неплохо бы пригласить – нерешительно подсказывает Кононов, его заинтересованность понятна, как работнику транспортного отдела ему приходится иметь дело с железнодорожниками. - Дело говоришь, Василий Егорович – поддерживает Шестов, парторгу, хотя и не освобожденному доводится нередко бывать в горкоме, - и Углесбыт не забудь включить в список гостей, эти иногда могут так напакостить, что все шахты закашляют. - А как будем приглашать? С женами или одних? – обеспокоился главный инженер. - Тебя, Николай Иванович, твоя Софья Семеновна на гулянку, тем более в Новый год отпустит? – сверкнул взглядом Шестов в сторону главного инженера, он хорошо знал волевой характер жены Елпачева. - С приглашенными, да еще с женами, - застонал Лапшин,- тесновато будет… - Вот и подумаем, как столы расставить, чтобы толкотню не устраивать, Шестов взял чистый лист бумаги, он всегда вел тщательные расчеты, и начал набрасывать схему рассадки, - надо учесть, кто-то должен и работать, шахты изза встречи Нового года не остановишь. Следует в каждом отделе минимум по 59 одному человеку оставить, а может и по два, так легче всех рассадить. - Обидно будет им, все гуляют…- посочувствовал Елпачев. - Ничего, проглотят, зато нам с тобой за столом не тесно и голова об обстановке с добычей меньше болеть будет, - как отрезал, сказал Шестов. Длинных заседаний Шестов не любил, на этот же раз не пожалел времени и диспозиция на Новогоднее мероприятие была выработана добротно. …Женя с любопытством и не без пристрастия устремляла взгляды, некоторых смущавшие, а других возбуждавшие, на разделенную по небольшим группкам, видимо, по служебным связям или близкому друг от друга местожительству. Она в этом городе знала слишком мало людей, на знакомства была не щедрой. Присутствовавшие в качестве приглашенных Келарев и Савранский и их жены в счет не шли, их отделяла от нее должностная дистанция. Потому крайне удивилась, когда на нее налетела незнакомая ей женщина, не столь уж молодая, но и к пожилым относить ее еще рано: Евгения Алексеевна, как я рада встретить Вас здесь! - заверещала она, раскинув полные руки, явно намереваясь обнять и расцеловать Женю, но та опередила ее, протянув, довольно прохладно, изящную руку. - Евгения напрягла память и вспомнила, как на одном из совещаний в горкоме председатель горисполкома представил эту даму, как свою жену, добавив: Евдокия Иннокентьевна работает методистом в горотделе культуры. - На деятеле местной культуры яркая тонкая блузка, более подходящая к июльской жаре. Ее обширное тело колыхалось при торопливо вылетавших сквозь мясистые губы громких и уверенных фраз. - Не поверите, Евгения Алексеевна, кроме Вас не вижу ни одной женщины, на которой задержался бы взгляд. Зато среди мужчин, в них-то я разбираюсь, есть экземпляры достойные нашего с Вами внимания. Конечно, самый видный мужчина это Ваш шеф, Георгий Павлович, 0на мотнула мощным подбородком в сторону, где стоял окруженный трестовским начальством Келарев, понимаю, сколько приходится прилагать усилий, чтобы не поддаться соблазну, это же горком! - подчеркнула с хитроватой улыбкой деятедь местной культуры. - Кстати, Вас пригласили как секретаря горкома? - Нет, у меня муж работает в тресте, я же всего лишь технический работник, тоже не без лукавства отвечала Евгения - Как его фамилия? - интерес у Евдокии Иннокентьевны неподдельный. - Зайцев, - с непонятным для самой вызовом назвала мужа Евгения. - Алексей Николаевич – инженер техотдела?! Как же, хорошо его знаю! Не один раз привлекала читать лекции по научным вопросам. Интересный…работник культуры внезапно оборвала фразу и помчалась к жене Келарева, входившей в столовую - Кроме главного инженера Елпачева, из трестовских на вечере заместители управляющего, начальники отделов, разумеется, с женами. Шестова трудно упрек60 нуть в потакании подхалимству, в угодничестве, но полагал само собой разумеющимся не отступать от общепринятого обычая, и пригласил, конечно, от имени треста на новогоднее празднество городское начальство: помимо первого секретаря горкома партии, председателя горсовета Чернигова, второго секретаря Савранского, начальника НКВД Лазарева, начальника городской милиции Удовиченко, прокурора Шеметова, начальника железнодорожной станции Дмитриева, начальника углесбыта Плотникова, еще человек пять должностями поменьше, но от них в разной степени трест и он, управляющий трестом, имели или ожидали какую-либо пользу. С настороженным интересом Женя всматривалась в «городской свет». Начальствующие персоны ее не слишком интересовали — почти всех знала в лицо, большинство из них нередко видела в приемной первого секретаря горкома партии. Зато их жены возбуждали пристальное любопытство. Конечно, Женю волновало собственное положение в этой компании и немало беспокоило, как она выглядит, какое производит впечатление. Как ни сковывала ее, особенно в начале, стеснительность, освоившись, осторожно и очень-очень тайно призналась себе, она вовсе не хуже других, а даже, может, наоборот, вот разве подучиться бы умению раскованно держать себя в обществе. В таком же, как и она, качестве — исполняли роли жен своих мужей — присутствовали в этом большом и неуютном зале большинство женщин. Как и она, они в первые минуты скованно и даже растерянно чувствовали себя в непривычной компании, собранной, как лоскутное одеяло, из разных и далеко не подходящих друг к другу домохозяек, конторских служащих, некоторые же были простыми работницами с местных предприятий. Если руководство подбирает по потребностям и своему разумению работников, то последние в свое время жен не подбирали, а получили тех, кого им судьбой определено, не напрасно сказано: браки заключаются на небесах. Алексей Николаевич на подобном сборе новичок, тоже не сразу обрел уверенность, хотя многие из приглашенных ему знакомы — с кем-то встречался по работе, кого-то видел в президиумах и на собраниях, а с некоторыми из трестовских коллег состоял если не в дружеских, то, во всяком случае, в нормальных служебных отношениях. Но одно дело трестовское служебное общение, официальные встречи, и совсем другое — видеть тех же людей в праздничной компании с женами. После обычной в больших компаниях бестолковой суетни, шумного рассаживания, наконец, все разместились за столами, не без интереса рассматривали закуски и напитки. Напитки определяли не по крепости и вкусу, а по цвету. Почти все из рабочих и крестьян и делили спиртное в основном по одному признаку: белое — значит крепкое, то есть для мужчин, не белое — менее крепкое — и его употреблять женщинам. Отношение к спиртному у Алексея Николаевича довольно равнодушное, мог иногда не без удовольствия выпить одну, две рюмки водки, на большее не 61 потягивало. В столь необычной обстановке вовсе не расположен отдаться водочной стихии, пил осторожнее обычного, отпивал глоток, другой и ставил рюмку, не поддаваясь насмешливым подначкам более активных соседей, обычному для таких случаев: «пей до дна!» Ему не улыбалось предстать в пьяном обличий. Напротив, с отнюдь не праздным любопытством внимательно наблюдал, как под влиянием выпитого начальники и сослуживцы раскрывали новые качества и свойства. Пытался распознать, в их натуре истинное, отделить наносное, случайное, выставляемое на показ в служебной обстановке. Рядом с ним сидел начальник производственного отдела Федоров. После первого, официального, тоста, торжественно и громогласно произнесенного управляющим трестом, солидно с сознанием высокого руководящего долга собравшихся «от имени и по поручению» приветствовал первый секретарь горкома ВКП(б) Келарев. Федорова перспектива томительно выслушивать всех выступающих по строгому официальному ранжиру, явно не устраивала - он не мог терпеть, чтобы наполненный бокал из-за длинных и довольно однообразных приветствий и поздравлений, простаивал в покорном бездействии – и негромко, чтобы его слова не доходили до руководящего центрального стола, предложил: - Пока руководство тянет казенную волынку с тостами, предлагаю выпить за все членов Политбюро по очереди, но без задержек. Начнем с товарища Сталина? Возражений не последовало и за дальним столом празднование пошло по автономной ускоренной программе. Алексей Николаевич не стал пререкаться с коллегой, но к происходящему за центральным столом прислушивался, не реагируя на подначки и обвинения в угодничестве начальству со стороны соседей по самому активному столу. Алексей Николаевич настолько увлекся наблюдениями за начальством, что не заметил, как жена его, чем дальше, тем больше становилась притягательным центром вечера. Мужчины один за другим, не исключая и сидевших за главным столом, перемещались к дальнему столу, за которым довольно расковано, веселились в основном те, кто должностями пониже, да и годами моложе. Женя едва успевала чокаться с одним, другому отвечать на новогодние поздравления, от третьего выслушивать лестные комплименты. С непривычки, первые рюмки вина возбуждающе подействовали на нее, почувствовалась необыкновенная легкость, все вокруг стало казаться интересным, красивым, мужчины и даже женщины приятными, добрыми, особо доброжелательными к ней. Как мило поздравляют, как настойчиво приглашают выпить. Послушать Савранского, а он мужчина видный, и, видать, опытный, так она самая красивая, самая умная, всех затмила, мужчины от нее без ума, он первый из них, совсем потерял из-за нее рассудок. Она смеялась, воспринимала славословие лишь как шутку, скорее пустую, но такую приятную. Русское застолье не может обойтись без пения. Сначала затянули «Славное море...», потом дружнее пропели про замерзающего ямщика, про «златые горы». Звонко, задористо, с вызовом утверждения, пели новые песни. 62 ... потому, что у нас Каждый молод сейчас, В нашей юной, прекрасной стране! И, конечно, не могли не спеть самую новейшую, утесовскую из новейшей кинокомедии «Веселые ребята». Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда И тот, кто с песней по жизни шагает... Из общего хора выделился Женин голос — грудной, задушевный. Заметив повышенный интерес к своей персоне, Женя испуганно примолкла, но мгновенно со всех сторон раздались возгласы: «еще, еще, пожалуйста, еще...» И она распелась. Если бы за столом сидели свои, деревенские, вспомнили бы ее мать. Так сильно голосом, манерой петь Женя напоминала Авдотью Карповну. Евгения словно забыла, где она и для кого поет, полностью погрузилась в мелодии и слова песен, изливала в них настроение, обнажала неспокойную душу. «Ямщик, не гони лошадей...» поет она и до боли жалко счастье, которое так коротко промелькнуло у нее, которого ждала, получила и не по своей вине утратила. «Только раз бывает в жизни счастье...», словно исповедуется она: счастье, счастье, где ты, куда умчалось и будет ли еще?! Замечает, как с грустной укоризной на нее посмотрел муж, на мгновение запинается, затем с вызовом выводит следующий куплет и доводит песню до конца. Раздаются дружные аплодисменты, мужчины тянутся к ней: один с рюмкой, другие неуклюже чмокают ручку. Вокруг толпится городское начальство, оставившее скучных жен за главным столом: Шестов, Келарев, ближе всех Савранский на правах старого знакомого представляет ее, нахваливает, не забывая подчеркнуть, «наша, горкомовская». Об Алексее Николаевиче ни Савранский, ни другие ни слова, совсем забыли, для них он отсутствует. Сидит рядом, а словно в отдалении, сумрачный, а от того некрасивый, сникший, с трудом сдерживающий душившую досаду. Шестов, то ли заметив сумрачного Зайцева, то ли в пику Савранскому, объявившему горкомовскую монополию на Женю, протягивает наполненные рюмки Алексею Николаевичу и Жене и с особой торжественностью произносит: — Недавно мы выдвинули начальником технического отдела молодого, перспективного инженера, товарища Зайцева Алексея Николаевича, мужа Евгении..., — Шестов запнулся, не зная отчества, Савранский поспешил на помощь: «Алексеевны», Шестов улыбнулся и закончил: - ... Алексеевны. Предлагаю поднять бокалы за эту замечательную молодую советскую семью, пусть наступающий год будет для них плодотворным и счастливым! Под дружные аплодисменты, веселые возгласы Женя, радостно улыбаясь, 63 залпом выпила свою рюмку, Алексей Николаевич, натянуто улыбаясь, цедил свою. Начинались танцы. Шестов галантно протянул Жене руку, сделал что-то вроде поклона. Женя переполнена радостными чувствами, чисто женской гордостью от несомненного успеха и не обращает внимания, какой неважный танцор Шестов, неуклюже владеет располневшим телом. У Жени наверняка были бы оттоптаны ноги, помяты бока от столкновения с другими парами, но никто не позволял вольности по отношению к руководству, предоставлялось достаточно свободного пространства и неуклюжесть танцора не нанесла урона очаровательной партнерше: Разгоряченная, до крайности возбужденная успехом, Женя, как только умолк вальс, оставила партнера, выбежала из зала, хотелось побыть одной, глотнуть свежего воздуха, привести в порядок прическу, раскрасневшееся лицо. В полутемном коридоре прохлада. Женя толкается в одну дверь за другой, они закрыты, наконец, одна поддалась. Юркнула в нее, радуясь, что получила на какое-то время уединение. Сегодняшний успех как бы пробудил прежнюю Женьку из сибирской деревушки, где парни дрались из-за нее, где из-за их поклонения, молчаливого восхищения отца, ворчливой гордости матери выросли ее строптивость и капризность, бросившие в незнаемое житейское море, выбросившее в этот городишко в центре России. Холодный воздух действовал успокаивающе: нет, былой Женьки уже нет! Нынешняя совсем другая, по другому мыслит, действует, ее этой мишурой, полупьяным восторгом не обманешь! Но благие помыслы чаще всего хороши лишь в рассудительных мыслях. Жизнь откалывает такие номера... Женя надеялась, что ее исчезновение из зала никто не заметит, и она свободно переведет дух, остынет от возбуждения. Она не ведала, что Игорь Борисович Савранский имел в отношении нее особый расчет. Внимательно следил, как таранно водил ее в танце Шестов, как она оставила его и вышмыгнула из зала. Кружным путем, вдоль стен, оглядываясь, добрался до выхода, тихо, по-кошачьи, нырнул в дверь. Отыскать Женю труда не представляло. Мягко положил на ее вздрогнувшие плечи крепкие руки, потом словно проверяя на прочность, провел ими по талии, обхватил теплое и мягкое тело, дерзко и жадно впился в дрожащие губы. Женя скорее инстинктивно, нежели от возмущения, сделала попытку высвободиться из цепких объятий, но произвольное, импульсивное движение было кратким и бессмысленным. Игорь Борисович покрывал поцелуями щеки, шею, грудь, обнаженную низким вырезом блузки. Савранский на новогоднем вечере увидел как бы новую, незнакомую ему Женю. Вот действительно, думал он, настоящая русская красавица, как только могла такая в Сибири на свет появиться. А как поет! Словно душою разговаривает. Он почти забыл, с какой целью пытался сойтись с Женей, увлечение его становилось сильнее и настойчивее. Поцелуй в столовской комнатушке 64 вдохновлял его, он почувствовал слабость Жениного сопротивления, и это еще больше распаляло его. Вскоре подвернулся подходящий случай. ...Только что закончился городской партхозактив. Он проходил в клубе шахты № 7. Игорь Михайлович задержал Женю, она вела протокол собрания. — Давай, сразу приведем протокол в порядок, завтра у меня день занят, не до него будет. Жене спешить домой не хотелось. После новогоднего вечера Алексей с ней не разговаривал, злился, ему казалось, Женя поставила его в унизительное положение. Напропалую флиртовала, не постеснялась даже строить шашни с управляющим. Женя не стремилась сгладить размолвку, не делала первого шага к примирению, хотя ссора была ей тягостна и она тосковала по мужниной ласке. Собственно отрабатывать протокол большого труда не представляло, записи довольно полные, последовательность соблюдена, отсебятины Женя не позволяла. Савранский читал бегло, «по диагонали», протокол явно был предлогом, он все плотнее прижимался к Жене, она не отодвигалась и немного прошло времени, как они очутились на диване в кабинете куда-то своевременно исчезнувшего зав. клубом. Между техническим секретарем первого секретаря горкома партии и вторым секретарем этого же горкома возникли отношения вполне определенного характера. Встречи Жени с Савранским чаще были случайными, торопливыми, приносили не столько радость и наслаждение, сколько раздражение, доходящее часто до гадливости, омерзения. Савранскому на первых порах связь с Женей принесла некоторое успокоение — теперь она в его руках, не посмеет и пикнуть о той памятной, и, как впоследствии выяснилось, ненужной и опасной встрече. Их связь не бросалась в глаза, на людях новизна их отношений не проявлялась. Осторожность — вторая натура Савранского. Женя же — импульсивная, непредсказуемая — не напрасно столько времени прожила у Розы Львовны, немало уже проработала в столь специфичном коллективе, как горком партии. У нее постепенно, но прочно выработались умение не раскрывать свои чувства и мысли, навыки взвешивать каждое слово, выверять всякий шаг. И Женя, и Игорь Борисович отлично представляли, что огласка их связи равноценна если не смерти, то позорному изгнанию не только из горкома, но и из партии, крушению всех жизненных планов, стремлений, надежд. Естественно, не подозревал о роли Савранского в жизни его жены обуреваемый ревностью Алексей Николаевич, по-прежнему считал виновником перемены отношения Жени к нему ничего не подозревавшего Келарева. 6 65 Сколько существует на этом свете беспокойное и обреченное человеческое скопище, столько однообразно и без всякой пользы люди сокрушаются, как стремительно проносится необратимое время, беспощадно изменяя человека и чаще не в лучшую сторону. В эгоистическом самомнении каждый злорадно наблюдает, как время накладывает мрачные краски на других людей, и в эгоистическом же ослеплении не всегда замечает, как разрушительный процесс отражается и на его теле, фигуре, лице, мыслях, поступках. Алексей Николаевич Зайцев не был склонен к отвлеченным философским размышлениям и жил, до последнего времени, заботами самого ближайшего будущего, заботы просты, если наблюдать со стороны за другими и до нетерпимости сложные, когда касаются самого себя. Как и всегда очередной день начинал с бритья, отработанными движениями водил золингеровскую бритву по щекам, еще малозаметно, но уже начинавшими отвисать, пробривал верхнюю губу под нависшим мясистым, мужицким носом, отчеркивал от покрасневшей кожи четкой линией на висках темные волосы с пробивающимися, пока одинокими, серебринками седины, с беспокойством вглядывался темно-карими, глубоко запрятанными глазами в две параллельные, заметно углубившиеся морщины на узком, но довольно высоком лбу и в мозгу краткими вспышками возникали тревожные мысли о грядущей старости... Кто же виноват в этих изменениях? Услужливое сознание подсказывало преждевременно они наступают из-за нее, из-за Евгении, из-за красавицы-жены, с которой живет вот уже более семи лет. Как она переменилась! Тревожили не внешние изменения, напротив, внешне она, к его удивлению, зависти и даже к ужасу его, расцвела, да еще как расцвела! Как бутон экзотического цветка в пик цветения. Куда только подевалась деревенская угловатость, милая и наивная застенчивость?! Формы ее лица, тела стали более мягкими, округлыми и, как он убежден, еще более соблазнительными. А ее походка! Стройные ноги с полными, в меру, икрами красиво обрисовывались, когда спокойно, плавно и грациозно вышагивала в туфлях на высоком каблук, так вышагивала, можно подумать — всю жизнь ходила только в хрустальных туфельках - словно принцесса потомственная, а не девчонка из таежного захолустья, не знала чирок с бечевочной завязкой! Вся ее фигура — невысокая и не полная — казалось, выточена настолько точно, что ничего не оставалось лишнего и не подпорчено нужное. Евгения редко смеялась, нечасто улыбка озаряла ее лицо, но таинственный взгляд серовато-зеленоватых глаз в сочетании с загадочно сомкнутыми, чуть оттененными помадой губами, был не грубо зовущим, а каким-то волнующе-мягким, притягивающим, запоминающимся, заставляющим еще и еще ловить его, такая женщина, иногда признавался себе Алексей, не может быть лишь домашней бабенкой, замотанной уборкой и стиркой! Вот тебе и рабоче-крестьянское происхождение! Как он радовался, когда познакомился, а затем ухаживал за Женей. Встретил, нет, не встретил, а отыскал привлекательную женщину с биографией, подходящей к времени, востребовавшему простых людей. Собственная биография, по его мнению, для 66 нынешних времен не слишком приемлемая, не из дворян, не из капиталистов, а еще, пожалуй, хуже, из «прислужников капитала», как выражались некоторые блюстители пролетарской чистоты - отец его, Николай Алексеевич, служил штейгером на шахте под Ростовом. Строгим, видать, был, это понял Алексей еще мальчишкой, когда поселковые сорванцы, мало с ним общавшиеся, по-гусиному угрожающе шипели: — У-у, штейгеренок!.. После революции отец продолжал работать на шахте, но вскоре его уволили «за связь с контрреволюционными элементами». Что это такое, сын не очень-то представлял, но видел, как старательно обходили отца новые шахтовые начальники, особенно из бывших его коллег, чувствовал, что формулировка при увольнении тяжелая и опасная, оттого и учиться уехал подальше от родного города, в Ленинградский горный институт. После окончания добился направления не в отчие края, а сюда, в Подмосковный бассейн, от родных старался держаться подальше, нечасто отвечал на материнские письма, почти перестал писать, когда приняли в комсомол. Откровенно радовался вступлению в партию, но и удивлялся немало, как с такой биографией сравнительно легко миновал все препоны. Не знал, что его разговор с парторгом, когда попытался прощупать возможность вступления в партию, совпал с отчетом парторганизации в горкоме партии, там сделали внушение «за невнимание к отбору в партию передовых представителей технической интеллигенции». А тут, как говорится: на ловца и зверь бежит, парторг Кононов не слишком задумывался, передовой или нет инженер Зайцев, главное — оперативно отреагировать на критику, а впрочем, этот инженер не хуже других, а может и лучше; недаром выдвинули заместителем начальница технического отдела, станет коммунистом, могут двинуть и на место недавно арестованного начальника техотдела Чеканникова. Арест начальника отдела ошеломил осторожного Алексея Николаевича, несколько дней пребывал чуть ли не в шоковом оцепенении, как и прежде, выходил на работу, появлялся по вызовам в кабинетах управляющего и главного инженера, ездил по их заданиям на шахты, проводил там совещания, но совершалось это автоматически, по отработанной схеме. В сознании поганый страх, тяжеловесный, угнетающий, сковывающий, постоянно, день и ночь боялся — и его арестуют, ведь именно Чеканников перетащил его с шахты, где Зайцев, работал заместителем главного инженера, именно по его же настоянию был назначен заместителем начальника технического отдела треста. Совсем недавно Зайцев замирал от восхищения при смелых разговорах своего шефа, тот их вел, не стесняясь никого, но видимо, кто-то все-таки «среагировал» по-своему. Евгения привыкла распознавать перемены в настроении и поведении мужа, видела, насколько он потрясен арестом Чеканникова, но и представить не могла степень его потрясения. 67 — Что ты так мучаешься? — обратилась она к мужу, — если Николай Иванович виноват, получит по заслугам, не виноват — выпустят. Ты-то при чем? — Как же? Сколько лет вместе работали. — С ним не один ты работал, всех, что ли сажать? Мало ли кто с кем работает. Алексей Николаевич промолчал: разве ей понять реальную обстановку, его отец из бывших, при шахтинском деле его тоже таскали, но, правда, остался в стороне. Но не напрасно утверждают, что жизнь состоит из парадоксов, последствия ареста Чеканникова оказались совсем неожиданными для Алексея Николаевич, такое ему даже в голову не приходило. Примерно через месяц Зайцева пригласил управляющий трестом хмурый Шестов, и, не глядя на него, не вдаваясь в объяснения, объявил: — Товарищ Зайцев, — Шестов обращался ко всем только официально, по фамилии и на «вы», перенял этот обычай у одного большого руководителя, — товарищ Зайцев, вы назначены начальником технического отдела треста с сего числа, отправляйтесь в отдел и немедля принимайтесь за дело, что к чему, объяснять не собираюсь, вы в отделе не новичок, — Шестов жестом дал понять, что разговор закончен. Алексей Николаевич, ошарашенный неожиданным решением, даже благодарного слова не вымолвил, пробормотал, что-то невнятное, невразумительное и совершенно не помнил, как вышел от ошеломившего его управляющего. Обычных для таких случаев сбора отдела и представления нового руководителя не состоялось, не кот же в мешке для работников отдела — секретарша Шестова зашла с книгой приказов и заставила каждого из девяти наличествующих отдельцев расписаться, и, таким образом узнать о немало удивившем их событии в жизни отдела. Алексей Николаевич перешел в небольшую смежную комнату, ставшую с этого дня его кабинетом, плотно притворив никогда не закрывавшуюся при Чеканникове дверь, набрал телефон горкомовской приемной: — Евгения? — почему-то полушепотом спросил он. — Слушаю. Это ты, Алексей? — Я, я — у меня новость... — Что за новость? Говори быстрее... — Меня назначили начальником техотдела, — на одном дыхании произнес Алексей Николаевич. — Что ж, поздравляю,.. — раздались частые гудки. Алексею Николаевичу больно стало, как ему показалось, от равнодушной реакции на столь неординарное сообщение. Возможно, в приемной, как всегда, толпились люди - к первому секретарю горкома партии люди идут непрерывно - и Евгении неудобно рассыпаться в сладких поздравлениях, но Алексей Николаевич 68 ее равнодушный тон и сдержанность поставил в один ряде с цепью мелких, внешне не слишком заметных, но для него чувствительных нюансов в нынешних отношениях с женой. После того, как Евгения осмелилась и, заикаясь на каждом слове, объявила Розе Львовне о намерении уйти к Алексею Николаевичу, сборы были недолги, узелок да чемоданчик и она в его квартире. Молодожены, хотя и не венчанные и нерегистрируемые, не могли насытиться, налюбоваться друг на друга, трогательно было наблюдать, как они идут, прижавшись друг к другу, будто видятся впервые, открывают во взглядах, улыбках что-то новое, необычное. Тревоги, робкие, затаенные в глубине Жениного сознания, как отнесется Алексей Николаевич к Фае быстро исчезли, он боготворил девочку — видимо, отсутствие в его возрасте собственных детей обострило отцовские инстинкты. Шла непрерывная, невидимая, но довольно осязаемая борьба за девочку между Чумскими и молодыми, и, прежде всего, с Алексеем Николаевичем, придя с работы, а возвращался он раньше Жени, тотчас бежал за Фаей, в выходные дни не отпускал ее от себя. В характере Фаи, избалованной нежной заботой и потворством со всех сторон, проскальзовали черты, беспокоившие мать, но противостоять безмерному до поклонения обожанию Алексея Николаевича и страдающими от отдаления внучки деду и бабушке, становилось все труднее и труднее. Как радовался Алексей женитьбе на Жене! Она, конечно, не шла ни в какие сравнения с беспутной Клавдией, в ней сохранилась деревенская незамутненность, душевность, простота. Но как изменилась его жена за эти совместно прожитые годы! Евгения первая почувствовала: их отношения меняются не к лучшему. И не только, как женщина, сравнивавшая познанных ею мужчин, разных по возрасту, темпераменту, силе и энергии, не в ее натуре заниматься копанием в себе, каким-либо самоанализом, чтобы понять причины охлаждения. Брак не зарегистрирован — в их среде и в их время этому серьезного значения не придавалось, Алексей Николаевич считался ее законным, ни с кем неделимым мужем. Она старалась не замечать непривычной для нее мелочности мужа в бытовых делах, его брюзжащего скептицизма, мирилась с недружелюбными, а порой злыми выпадами насчет места ее работы, хотя после вступления в партию он меньше изощрялся в подковырках коммунистов. Но главное все-таки не в этом, понимала Евгения, она готова была бы поверить в передачу мыслей на расстояние, о которой ей по какой-то случайности именно в это время пришлось прочитать в книге. Алексей Николаевич, ничего не зная и даже об этом не задумываясь, какими-то особыми чувствами, за пределами своего сознания, улавливал, что в Жене идет борьба между долгом перед мужем и возникшим, возможно, помимо ее воли и сознания, не чувством еще, но вполне определенной тягой к более глубокому познанию жизни, а не быть навсегда ограниченной интересами, кругозором и темпераментьм Алексея. Женя, рано превратившаяся в женщину, при Анатолии не задумывалась о своей женской сути, с Анатолием у них была своеобразная игра, все происходило 69 само собой, инстинктивно, как, видимо, это было между мужчиной и женщиной еще в ту пору, когда совместное ложе размещалось в пещерах — позыв, исполнение, покой. Точно так, как исполнялись потребности есть, пить. Анатолий и Женя не задумывались, подходят ли они друг к другу, как партнеры, им это даже в голову не приходило. Им было хорошо вместе, приятно, нет, даже не приятно, этого мало, чтобы выразить наслаждение друг другом. Так же естественно сблизились Женя и Алексей Николаевич, хотя меньше было игры, забавы, переходящей в насладительное сближение, ничто не порождало размышлений, так или не так складывается их интимная жизнь. Женя не сразу заметила, как у нее исподволь накапливалось ощущение: во взаимоотношениях с мужем появилась какая-то заданность, рутина, исполнение привычного чуть ли не ритуала. Постепенно после близости у нее стало возникать впечатление неоконченности, незавершенности, Алексей, свершив свое, успокаивался, вскоре начинал всхрапывать, а Женя лежала рядом и ждала, вот он встрепенется, обернется к ней, обнимет, прижмет к себе и наслаждение повторится, но он не поворачивался, храп становился громче, раздражительнее, а она часто не засыпала до утра и шла на работу усталая, разбитая, недовольная. Поначалу искала для себя объяснений — то арест Чекаяникова, вызвавший необычно острую реакцию Алексея, отвлекал его от нее, то на новой должности у него много новых забот. Потом объяснений уже не искала, пыталась приспособиться к его ритму, стремилась, как и он, погрузиться в сон, не всегда это удавалось — в ней все явственнее проступала страстная, жаждущая женщина, тем более, вокруг столько интересного, возбуждающего. Весь уклад нынешней жизни Евгении - окружавшие ее люди, дело, которым с все большим интересом занималась - незаметно, исподволь каждодневно отдаляли ее от мужа без всякой надежды вернуться к безмятежности первых лет их совместной жизни. По долгу службы Евгения все рабочее время обязана посвящать первому секретарю горкома партии, непосредственному своему начальнику. Почти все эти годы им был Георгий Павлович Келарев, почти — потому, что примерно, года через два после прихода Евгении в горком партии Кепарева забрали, или, как официально говорилось в решении пленума горкома партии, отозвали на работу в областной партийный комитет. Но затем, после гибели Кирова многое в партии изменилось, Георгия Павловича вернули в город, на этот раз официальное решение гласило: «для укрепления руководства городской партийной организации». В знакомой приемной Келарева ждала молодая, очень привлекательная женщина с мягкой, радостной улыбкой и, показавшимся ему тогда, с каким-то загадочным взглядом. — Здравствуйте, Георгий Павлович, — мягким ласковым приветствовала она, — у нас очень рады Вашему возвращению. голосом Только когда она заговорила, Георгий Павлович узнал бывшего курьера и не мог не удивиться - робкая девчонка превратилась в расцветшую, полную прелести и загадочности женщину. Только въевшаяся в него, ставшая органическим 70 свойством натуры, сдержанность помогла пригасить восхищенное удивление, он подал ей руку, внешне довольно официально, даже сухо поздоровался, но, по сверкнувшей на миг искорке в его глазах Евгения не без удовольствия отметила и восхищение и удивление. Георгий Павлович, как вскоре убедилась Евгения, тоже изменился. Жизнь и работа в областном центре обкатали его, исчезла резкость, порывистая походка сменилась степенностью, в голосе стало меньше «металла», зато больше уверенности, в мягком, внешне вежливом, тоне звучала твердая безаппеляционность. С возвращением Келарева прибавилось работы для Евгении: на прием к первому секретарю постоянно толпились люди, непрерывно приходилось отвечать на телефонные звонки, одних соединяла с ним, другим назначала время для встречи. Алексей Николаевич часто проводил вечера один, в горкоме почти каждый вечер проходили совещания, заседания, нередко первый секретарь задерживал Женю для перепечатки какого-либо срочного материала, он стал замечать - Женя более тщательно собирается перед уходом на работу, подолгу подбирает, какое надеть платье или блузку, каждое утро возится с прической, подвивая локоны недавно приобретенной плойкой, подслюненным пальцем проводит по красиво изогнутым бровям, стала подкрашивать губы. Утреннее верчение перед зеркалом поначалу забавляло Алексея Николаевича, потом стало настораживать, а в последнее время выводило из себя. ...В этот день Алексей Николаевич злится больше обычного, вечер, девять часов, а Евгении все еще нет. Мечется по квартире, не зная, чем занять себя, Фая на выходной оставлена у дедов и ее щебетание, капризы, почти игровая помощь ей в приготовлении уроков не отвлекают от тягостных мыслей. Наконец, не выдержал, выскочил на улицу, опасливо озираясь, как бы кто не увидел его в метущемся состоянии, побежал, сначала даже не задумываясь куда, и удивился, когда оказался у горкома партии. Напротив здания горкома небольшой сквер, сквозь редеющую листву — первый признак наступавшей осени — Алексею Николаевичу виден свет в кабинете первого секретаря и в его приемной. Почти час вышагивал по тропинке в опустевшем сквере, не отрывая взгляд от светящихся окон, лишь на мгновение перебрасывал его на входную дверь, она постоянно открывалась и закрывалась, от здания горкома отъезжали пролетки - горком учреждение важное и посещают его в основном лица тоже важные. Гурьба слонявшихся подростков остановилась возле легковых автомобилей и с любопытством разглядывала разносчиков бензиновой гари, они только начали появляться в городе. Из трех стоящих легковушек две Алексей Николаевич знал, одна возила первого секретаря горкома партии, другая – управляющего трестом, третья машина ему незнакома, видать, из области кто-то прикатил. 71 Внешне для знакомых и незнакомых вышагивание Алексея Николаевича по скверу не вызывало любопытного интереса, прогуливается человек и пускай себе, тем более многие знали его пристрастие к пешим променажам. Мозг Алексея Николаевича, приученный к порядку, системе, в этот осенний вечер примитивно замкнулся лишь на одном - Женя, без которой не представлял себя, свою жизнь, не принадлежит ему безраздельно, отдаляется от него, разумная логика не находила места в его взбудораженном, как бы сдвинутом сознании, отторгалась любая разумная реальность, исключались здравые мысли: Женя могла быть занята работой, задерживается из-за неожиданных поручений руководства, в эти минуты для него все зациклилось на одном - коли задерживается, значит изменяет. Открылась дверь, в освещенном проеме показался управляющий трестом Шестов. Шел зажатый с обеих сторон крупными мужиками, незнакомыми Зайцеву, выглядел невзрачным, беспомощным. Трестовский шофер, увидев своего начальника, бросился к машине, но Шестов со спутниками прошли мимо к нездешней машине, водитель растерянно наблюдал, как увозили его управляющего. Алексей Николаевич продолжал нервно вышагивать. Машинально, не вдумываясь, наблюдал, как исчез в черной машине Шестов, его мысли заняты одним — что же творится у них с Женей? — отчего он так терзается и когда же, наконец, появится она? Огни в горкоме партии один за другим начали гаснуть, светились лишь окна в кабинете первого и в приемной. Но вот, наконец, и там исчез свет, между исчезновением света в приемной и появлением Жени в проеме двери, время для Алексея Николаевича тянулось бесконечно. Вскоре показался Келарев, он жестом приглашал Женю к автомашине, она повернула в другую сторону и засеменила по тротуару. Алексей Николаевич, невидимый за кустами в быстро наступивших сумерках, поспешил к дому и уже в квартире хмуро встречал запыхавшуюся Евгению. Женя не поздоровалась, невидящим взглядом окинула мужа, механическим движением сбросила жакет и берет, чувствовалось, ей в этот момент не до мужа, ни до его настроения. — Шестова исключили из партии и арестовали,.. — заговорила она. — А тебе-то, какое дело до этого? — со злом, резко спросил Алексей Николаевич. — Как какое?! — Женя посмотрела недоуменно, заметила злое выражение на лице мужа, ей явно не до выяснения отношений, — разоблачена большая группа вредителей в угольной промышленности: в Кузбассе, в Восточной Сибири и особенно много в Донбассе. Алексею Николаевичу в этот момент было ровным счетом наплевать на всяких вредителей, диверсантов, совсем другое занимало его, он всматривался в лицо жены, в ее изящную небольшую фигуру, в ее одежду, выискивая хотя бы 72 малейших доказательств ее неверности, безрассудная, беспредельная ревность напрочь затуманила его сознание. Изнуряющая подозрительность мужа для Евгении давно не в диковинку, при первых проявлениях ревности, когда бывала в добром настроении, пыталась посмеиваться над мужем, поначалу даже радовалась, ревнует — значит любит, потом наступило раздражение и чем дальше, тем больше. Происшедшее на заседании бюро горкома партии для нее настолько значительно, так заполнило ее существо, что не оставляло места другим ощущениям, мыслям. Еще бы! Шестов, которого почитала как самого уважаемого человека, крупного руководителя, большого инженера, преданного партийца, оказался врагом народа, вредителем! Никаких сомнений в его виновности у Жени не возникло — ведь об этом заявили «органы». Алексей Николаевич, зацикленный на своем, не воспринимал состояния Жениной души, как бык с завязанными глазами, метался по комнате, выкрикивал ругательства. Для Жени они уже не новость, к ним давно привыкла, а после того, как стала действительно небезгрешной, вообще на них не реагировала, выработался своеобразный иммунитет, словно ругань не касается ее и кричит, бесится не ее муж, а кто-то посторонний, не имеющий до нее никакого дела. Связь с Савранским не заполняла полностью ее душу, не стала главным содержанием жизни, но и не вызывала терзаний, угрызений совести, жизнь ее раздвоилась: служебная — интересная, наполненная событиями, тревогами и бесцельная, тягучая, надоедливая вне работы, если бы не работа, то неудовлетворенность, опустошенность достигли бы той грани отчаяния, как тогда, после гибели Анатолия. ...Долго не могла заснуть, ночью не один раз просыпалась. В одно из пробуждений увидела горящий свет настольной лампы и Алексея Николаевича, склоненного над столом и что-то быстро пишущего. Повернувшись на другой бок, вновь провалилась в беспокойную дремоту, увиденное запряталось где-то в потаенных глубинах мозга. 7 Алексея Николаевича вызвали в горком ВКП(б), вызов, совсем нежданный, чрезвычайно озадачил, в горкоме бывал лишь однажды, на зкседании бюро, когда принимали в партию. Сначала содрогнулся, подумал, не Евгеньиных ли дело рук, не пожаловалась ли, но она не крикливая бабенка, на нее это не похоже, ни при каких обстоятельствах до жалобы не опустится. В этом убедился в приемной первого секретаря, увидев искреннее недоумение жены, печатавшей что-то на машинке, кроме недоумения ничего не заметил, встретила как чужого, доложила Келареву и Алексей Николаевич тотчас же приглашен в кабинет. Георгий Павлович при появлении Зайцева встал из-за большого письменного стола и пошел навстречу, протянув руку, пригласил усаживаться за длинный стол, 73 покрытый зеленым сукном, сам сел напротив, в глазах первого секретаря доброжелательность, расположенность к собеседнику. Алексей Николаевич напряжен, взволнован, ни разу не вспомнил, что считал или даже до сих пор считает хозяина кабинета соискателем на внимание его жены. Келарев расспрашивал об обстановке в тресте, на шахтах, интересовался, чем занимается технический отдел. Отвечать Алексею Николаевичу легко, характер вопросов не таил ничего неожиданного, как начальник технического отдела он присутствовал на планерках, совещаниях в тресте, часто бывал на шахтах, и о производственной жизни имел представление, пожалуй, лучше других. Насторожился лишь, когда разговор коснулся его родителей и других родственников. С родителями, заявил Алексей Николаевич, связи почти не поддерживает, тут же подумал, не перебрал ли, к тому же Келарев заметил, что родителей нельзя забывать, тем более, что его, Алексея Николаевича, отец старый опытный горняк, еще дореволюционной формации. Келарев уверенно и твердо произнес это и Зайцев понял: выкрутасы излишни, об отце все известно, ничего предосудительного в его биографии не обнаружено. Только в отношении отца успокоился, новая тревога - Келарев задал вопрос о настроении. Мелькнуло вновь — не пожаловалась ли Евгения? Но нет, разговор о настроении пошел в другом плане. Келарев встал из-за стола, Алексей Николаевич тоже приподнялся, но мягким нажатием на плечо был усажен на место. Георгий Павлович несколько раз прошелся по мягкой ковровой дорожке, проложенной от двери до письменного стола, видимо, обдумывая, как подойти к главному, ради чего Зайцев и вызван в этот просторный кабинет. — Шестов оказался подлецом, дал втянуть себя во вредительскую шайку, его будут судить. Келарев подбирал слова и это ему давалось, заметил Алексей Николаевич, нелегко, да и действительно, столько лет вместе работали, в одном бюро заседали, даже семьями дружили. — Встал вопрос о новом управляющем трестом, — продолжал Келарев, не останавливаясь и потирая рукой подбородок, — перебрали много кандидатур... Келарев резко повернулся, подошел к столу, уселся напротив Алексея Николаевича, вот оказывается, в чем дело, подумал Зайцев, интересно, о ком станет выспрашивать. — Остановились на вас, — Келарев пристально, как лучом проткнул, взглянул в глаза Алексея Николаевича. Глядя со стороны, можно подумать, что Алексея Николаевича ударили чем-то тяжелым по голове, настолько оглушенным, удивленным он выглядел. Уставился на Келарева, словно спрашивал: в уме ли вы, всерьез ли это говорите? Растерянность, удивление Зайцева, как ни странно, понравились Келареву - не переоценивает себя человек, не карьерист, с тем большей ответственностью воспримет доверие, будет им дорожить, не жалеть себя. 74 — Вы потомственный шахтер, — как бы успокаивая, приводя в нормальное состояние Зайцева, продолжал Келарев, — поработали на шахтах, сейчас возглавляете инженерную мысль в тресте, а в современных условиях это важно. Вы коммунист, семья надежная, проверенная. Алексей Николаевич, потрясенный неожиданным предложением, не ведал о муках сомнения, что таились в душе первого секретаря. Выдвижение Зайцева и для Келарева неожиданное, хотя официально именно он его и предложил, но кого же еще предложишь, выбирать-то не из кого, всех, кто поопытнее, понадежнее, позабирали, остались лишь беспартийные, да такие же не обкатанные, не испытанные как этот Зайцев, не проскакавшие все служебные ступеньки. Может молодостью, грамотой возьмет, в гражданскую не такие полки, а то и дивизии водили, и этот, надеялся он, освоится, выкрутится. Кандидатура Зайцева не сразу оказалась в блокноте Келарева, куда он, после ареста Шестова, вносил фамилии возможных преемников. Порядок отбора людей на такие посты выработался строгий и достаточно четкий, сначала секретарь горкома партии, ведавший промышленностью, заведующие организационным и промышленным отделами составляли список из руководителей, специалистов, из которых возможно отобрать наиболее подходящего человека, из так называемого резерва кадров. Келарев посту управляющего трестом, а это основной хозяйственный руководитель в городе, придавал особое значение, тоже завел подобный список. Затем собрались все вместе и основательно «просеяли» списки, оставив наиболее, по их мнению, подготовленные кандидатуры. После дотошного просеивания проверка по различным каналам, негласно и осторожно собирались сведения о семье, родственниках, подробно изучалось прошлое, запрашивались отзывы, характеристики. Перед постановкой вопроса на бюро первый секретарь обменялся мнениями с начальником городского НКВД, мало ли что могло оказаться в их личном деле - неровен час, сегодня выдвинешь, а завтра вновь испеченного на «черном вороне» увезут. — Жидковат,.. — высказал свое мнение член бюро, — неужели никого посильнее не найти? Перебрали заведующих шахтами, по логике, подготовке и по неписаной традиции в первую очередь из этой категории выдвигали в управляющие трестом. Почти все они новички, недавно заменили несчастных предшественников и еще не показали себя в новой роли, правда, нашлось двое, их можно бы выдвигать, хотя с натяжкой, но начальник НКВД возразил: — Их лучше обойти, с Шестовым крепко связаны, видимо, придется брать. Келарев нервно вычеркнул их из списка. Начали перебирать трестовских работников, а там оказывается из перспективных все беспартийные, в нынешней обстановке никто не возьмет смелость их рекомендовать, членами партии из начальников отделов были лишь Махновский и Зайцев. — Махновский кроме аппарата треста нигде не работал, — отрицательно покачал головой Келарев, — на управляющего не потянет, остается один Зайцев. 75 — Ну, Зайцев, так Зайцев, — согласился начальник НКВД. — Специалист он возможно и неплохой, но ты прав, жидковат, волевых качеств не хватает, рохля, спросить, нажать не сможет, — высказал сомнения первый секретарь горкома. — Это не так страшно, — засмеялся его собеседник, — мы поможем ему стать и волевым и решительным. Как говорится, по «всему поэтому» и оказался Зайцев в кабинете Келарева. Первый секретарь еще и еще всматривался в молодого инженера, пытался почерпнуть в согнувшейся от ошеломляющего предложения фигуре Зайцева уверенность в правильности своего выбора. У Алексея Николаевича свои мысли мечутся: «Семья проверенная», повторил про себя, это Женю имеет ввиду. «Знал бы он...» — мелькнула молнией неуместная ирония и мгновенно исчезла. Нельзя сказать, чтобы Алексей Николаевич не подумывал о должности управляющего трестом, но эти думы простирались в неопределенную даль, а не в столь близкое будущее. После ареста Шестова в трестовских кабинетах и коридорах перешептывались о возможных кандидатах, громко говорить побаивались, Алексей Николаевич не уходил от подобных разговоров, сам называл, кто мог бы претендовать, но мысли о собственной персоне в этом качестве и в данное время, ему в голову и приходили. — Надо... подумать,.. — только и нашелся Зайцев что ответить, от волнения перекидывал руки со стола на колени и обратно, не находил им удобного места. — Думать некогда, — заключил Келарев, встал со стула, подошел к письменному столу, взял заранее подготовленную бумагу. — Вот телеграмма с приказом наркома о Вашем назначении. Он протянул бумагу вновь ошарашенному столь быстрым оборотом дела Алексею Николаевичу, да, все верно, в бумаге черным по белому написано то, о чем говорил Келарев. Первый секретарь вынул карманные часы и почти приказным тоном сказал: — Идите, обедайте, а к шестнадцати часам возвращайтесь в горком, в зал заседаний. Нет, сначала ко мне, мы соберем заведующих шахтами, парторгов, руководящих работников треста и объявим приказ. Пока молчите о нашем разговоре, никому ни слова! — Келарев выразительно посмотрел на дверь, — в трест сейчас лучше не показываться. — Понял, — уже более спокойно отвечал Алексей Николаевич. Он вытянувшись, словно солдат, стоял перед секретарем горкома партии, сопровождая взглядом каждый его шаг. В приемной Женя по смятенному выражению лица поняла: разговор ее мужа с первым не был обычным, вопросительно взглянула на него, но тот выбежал из приемной, бросив на ходу: 76 — Потом,.. потом... Лишь вечером на совещании, протокол которого она вела, Евгения узнала о содержании утреннего разговора в кабинете шефа. Она была не то, что удивлена, а самым настоящим образом потрясена подобным скачком в карьере мужа, но всетаки не настолько, насколько были поражены таким решением работники в тресте и на шахтах. 8 Евгения за эти годы постигла двойственность натуры Алексея Николаевича, отлично представляла - непомерное честолюбие таится под внешним равнодушием, напускным скепсисом, велико его стремление любым способом выбиться наверх. Он обладал недооцененным многими качеством — умением ждать, терпеливо ожидать, когда обстановка, обстоятельства, «господин Случай» предоставят реальную возможность оказаться на виду, занять удачные исходные позиции, всплыть наверх. Всем поведением, неброским, чуть ли не смущенным, педантичной аккуратностью, беспрекословной исполнительностью, умением вовремя промолчать, безотказностью при выполнении разного рода общественных поручений, какими бы никчемными и нелепыми они ни казались, по крупицам складывал, или, говоря по казенному, формировал у окружающих, и, прежде всего, у вышестоящих нужное ему мнение о себе. В 1937 году роковые обстоятельства подтвердили плодотворную результативность выработанной позиции, благоприятным образом сработали на него, ружье из первого акта выстрелило в подходящий момент, несколько слоев руководителей шахт, работников треста, вырванных арестами, расчистили карьерное пространство, кстати пришлись и недавнее вступление в партию, и жена, удачно выбранная из самых подходящих по наступившим временам социальных слоев. Евгению, как, впрочем, и самого Алексея Николаевича, волновало, как он сумеет распорядиться свалившейся властью, в горном деле суровые принципы управления, отражавшие непредсказуемость и капризность подземной стихии, замкнутость рабочего пространства и своеобразие шахтерской массы, традиционно вбиравшей в себя наиболее независимых, разудалых людей, часто не признающих ни бога, ни черта, никогда не лезших за словом в карман. От руководителя требуется разумное и гибкое сочетание непреклонной твердости, решительности с простотой, доступностью, умением ладить с самыми отчаянными людьми. Умирать будет Алексей Николаевич, а не забудет первые дни в новой должности. Не успел освоиться с просторным и солидным трестовским кабинетом, как вызывали в Москву, в наркомат, там решили задним числом познакомиться с новым управляющим, так настойчиво навязанным обкомом партии, представить его в ЦК, в Совнаркоме. Как ни близка Москва, а неделю ухлопал на московские кабинеты, знакомства и выслушивание пожеланий и 77 назиданий. Узнавал, какое это не простое дело — получить доступ к верхним, как говорили, эшелонам власти, какое требуется умение преподнести себя в выгодном свете, терпеливо выслушивать разглагольствования часто не сведущих людей. В наркомате познакомили с Тимошевичем Игорем Евсеевичем, он занимался делами треста, высокий, в хорошо отутюженном костюме, наркоматовский куратор встретил Зайцева в небольшой комнате с побеленными стенами. Кроме стола, за которым, важно надувшись, восседал московский чиновник, в комнате стояли еще два таких же обшарпанных стола, один из них пустовал, как потом узнал Алексей Николаевич, сидевший за ним инженер попал под гребенку, вычесывавшую «врагов народа», другой отсутствовал по случаю командировки. Игорь Евсеевич принял нового управляющего радушно, не без снисходительности подчеркивал, насколько высокое доверие тому оказано. По новизне Зайцев не только терпеливо, но и с интересом его слушал, именно через этого надувшегося куратора начинался его путь в другие наркоматовские кабинеты. В этот же день в Москве оказался коллега из Сибири, недавно получивший назначение. В коридоре новые назначенцы разговорились. Попов знал Тимошевича. — Прежде нас курировал, усердием и придирками особенно не допекал. Ехать к нам поездом ухлопаешь дней десять, да столько же обратно, потому часто не наездишься. Игорь Евсеевич в очередную командировку приедет, портфель бумагами набьет, новый костюм ему сошьют и на полгода, считай, исчезнет. Вы поближе к Москве, чаще наезжать будет, так что Вам, думаю, накладнее под ним находиться. Алексей Николаевич все запоминал и про костюм пометочку в голове сделал. Вернулся Зайцев домой, а тут новость сногсшибательная — арестовали Келарева, утром позвонила Евгения и со всхлипом выдавила: — Георгия Павловича арестовали, сегодня ночью... Что же это такое?! Она долго держала трубку, видимо, ожидая ответа. Но что мог ответить Алексей Николаевич? Он был потрясен не менее. Как же так? Что теперь будет с ним? Келарев же выдвинул его на этот пост, так настоял, что нарком подписал приказ без вызова к себе. Пробивалась успокаивающая мысль: не могут же так поступить с только что назначенным человеком, но тут же наплывала тревога — припомнил случаи, забирали людей и месяца не проработавших в новой должности. А тут выдвиженец врага народа, и жена — Евгения — к нему приближенная, не один год совместной работы наберется, а может и не только работы, злорадно промелькнуло в голове. Решил действовать так, словно ничего особенного, его лично касающегося, не произошло. Ломая свой характер, а может и не ломая, а давая простор органически присущему, убрав сдерживающиеся до поры до времени и по необходимости внутренние преграды, давил на заведующих шахт, начальников отделов, требовал, требовал, требовал... .. .В ту ночь Зайцев появился дома очень поздно, уже к полуночи — поздние 78 возвращения стали обыденным в его новом рабочем режиме. Евгения спала, подтянув ноги к подбородку, он вспомнил, как мать, увидев однажды спящую в такой позе гостившую у них свою сестру, проговорила: — Несчастной будет, примета такая: кто в утробной позе спит, того ожидают несчастья. Действительно, у этой тетки Алексея Николаевича в скором времени скончался муж, оставив ее с тремя малолетками. Алексей Николаевич усмехнулся пришедшему в голову воспоминанию: какие могут быть у нее неприятности, может, от того, что муж большой начальник, прокатилась в душе приятная волна, или, может, Келарева жалко, интересно, до чего же у них дошло? Да ладно, чего вспоминать, его песенка спета... Но удовлетворения не почувствовал, что-то липко-грязное обволакивало его, вспоминалась та ночь, то письмо. Только уснул — резкое дребезжание дверного звонка, ночные звонки и стуки в дверь звучали зловеще. Открыла Женя, вроде, на этот раз пронесло, успокоился Алексей Николаевич, увидев, как в открытой Евгенией двери показался Еська — Иосиф Ефимович Попков — зять Чумских. Он замешкался в дверях, зябко потряхивал плечами, но сзади надавил на него и показался знакомый Алексею Николаевичу парторг шахты имени Кирова Воропаев. «Зачем он в такое время притащился?» — едва успел подумать Зайцев, как тут же страх придавил его: следом протискивался незнакомый человек, сразу понятно, откуда он. Алексей Николаевич не мог быстро накинуть одежду, как слепой тыкался ногами, руками в брюки. Из прихожей донесся голос незнакомца: – Гражданка Станкевич? Собирайтесь, пойдете с нами. Незарегистрированная с Алексеем Николаевичем, то есть формально не состоявшая с ним в браке Евгения, по-прежнему носила девичью фамилию, это явление для тех времен, отрицавших «буржуазные и мещанские предрассудки», было распространенным. Алексей Николаевич тяжело вздохнул — не за ним пришли! Он вышел в прихожую и, стараясь выглядеть как можно спокойнее, спросил: — В чем дело? — Вас, товарищ Зайцев, это не касается, нам нужна гражданка Станкевич, — сурово произнес незнакомец. Алексей Николаевич переводил вопросительный взгляд на Еську, на Воропаева, те отводили глаза, Еська даже отвернулся, должно быть от стыда, а, скорее, от беспомощности. Незнакомец, начальствующий в ночной команде, не спрашивая разрешения, по-хозяйски прошелся по комнатам, опытным взглядом окинул стены, мебель, разобранные постели, потом отрывисто спросил: — Оружие есть? Спросил не от нужды, а для порядка, процедура ареста для него до надоедливости привычная, но формальности надо исполнять, заполнил какие-то бумаги и обратился не столько к Евгении: 79 — Обыск производить не будем, квартира управляющего трестом,.. — он со смыслом вперил взгляд в Алексея Николаевича, в котором тот увидел определенное уважение, но и не без предупреждения. — Гражданка Станкевич, — взгляд его стал суровым, — Вы, готовы? Женя прижалась к груди Алексея Николаевича - безрассудно, плотно, как бы с беззвучной мольбой о защите, это ее движение встряхнуло Алексея Николаевича, вернуло к происходящему, нелепому и ужасному, безмерная жалость горячим потоком разлилась по его душе, слезы непрошеные ненужные, слезы обреченной беспомощности навернулись на его глаза. Женя, гордая, независимая, порой дерзкая, в этот миг не сдержалась и громко разрыдалась: — Прощай, Алеша, не забывай. Прости за все, я все-таки твоя, какая бы ни была, но твоя, прости. Фаечку береги, не бросай, умоляю тебя, я знаю, ты любишь ее. Слезы катились по обмякшим вдруг щекам, красиво, аристократично изогнутые брови надломили болезненные изломы. Едва закрылась дверь за уведенной Женей, Алексей Николаевич бросился на кровать и неудержимо, как редко, но все-таки бывало в детстве, громко и безутешно разрыдался. Сквозь слезы, рыдания прорвалось в сознании: хорошо, что Фая сегодня ночует не дома, а у дедов Чумских. Утром Алексей Николаевич, обмякший, с набухшими веками и красными глазами едва добрался до трестовского кабинета, ровно в девять часов позвонил второму секретарю горкома партии, первого — вместо арестованного Келарева — еще не избрали. — Игорь Борисович, Зайцев говорит. У меня ночью забрали жену,— сразу, без вступительный слов, объявил он. — Это последствия Келарева, — зло отвечал Савранский, — сам влез в дерьмо и других тянет. — Что же мне делать, как быть?! — жалостливо ныл Зайцев. — Как, что делать?! Работать! Вас это не касается! «Как это не касается? — подумал Алексей Николаевич, услышав короткие гудки в трубке, — Жену забрали и не касается». Заказал Москву, начальника Главка, когда соединили, рассказал о своей беде. Начальник Главка долго молчал, потом произнес: — Будьте на месте, я позвоню. Через несколько минут зазвонил аппарат правительственной телефонистка предупредила: будет говорить нарком. связи, — Ты чего там скис, нюни распустил? — услышал он прокуренный, хриплый голос наркома, — ты же большевик! Отбрось в сторону личное и работай на всю 80 катушку! — после короткой паузы голос наркома чуть смягчился, — работа — лучшее лекарство, Алексей, — и снова твердая хрипота, — конец года на носу, нажимай, чтобы план безусловно был! У тебя он на волоске и упустишь, если погрязнешь в своих мерихлюндиях! Будь здоров! Нарком сказал: работать! — почти радостно подумал Алексей Николаевич, значит, его не освобождают, ему доверяют. А как надо оправдывать доверие, он хорошо представлял. На работе забывал об опустевшем доме, Евгения, ее судьба, тревоги за нее отодвигались все дальше, хотя ему очень ее не хватало, особенно по вечерам, вспоминал ее только по-хорошему, как будто не было их ссор, усиливавшейся в последнее время отдаленности. Хотелось знать — где она, за что арестована? Не из-за того ли письма? Есть ли шансы на освобождение? Но спрашивать, даже заикаться об этом боялся, напротив старался действовать так, чтобы никто и не вспоминал, что у него была жена, ныне репрессированная. А тут, это случилось на другой день после разговора с наркомом, еще звонок, поначалу едва не лишивший его рассудка. Позвонил начальник городского НКВД, от него и его звонка Алексей Николаевич ничего доброго не ожидал. Пока тот, к удивлению, как обычные люди, говорил вступительные слова, расспрашивал, как осваивается в новой должности, какое при этом настроение, Алексей Николаевич пребывал в таком напряжении, что тронь его и обязательно в нем что-нибудь лопнет: или туго натянутая жила, или сердце, или что-нибудь в голове. Наконец тот приступил к главному: — Я внимательно слежу за сводками по добыче, нам вменено следить за работой предприятий. Так вот, у тебя и по тресту и по большинству шахт минус. Этого терпеть нельзя, обстановка требует увеличения добычи угля! Надо немедленно покончить с отставанием! Бери твердо руководство в свои руки, никому не должно быть никакого спуска! В случае необходимости подключай нас, мы примем свои меры. И сам делай выводы! В условиях диктатуры пролетариата власть должна быть твердой, без всяких послаблений! Алексей Николаевич, когда начальник НКВД заговорил о добыче, несколько отошел, чуть не перекрестился: и на этот раз пронесло, пролепетал что-то невразумительное в ответ, но на другом конце провода его не слушали, похоже, к подобной реакции привыкли. Значение этого звонка Алексею Николаевичу дополнительно разъяснять не требовалось. В тот же день собрал заведующих и техноруков шахт. Они с интересом ожидали указаний и действий нового управляющего трестом, и удивлению их не было предела - Александр Николаевич, известный дотоле как исключительно корректный человек, главным недостатком которого считались на первых порах мягкотелость, либерализм, говорил в таком тоне, с такой мощью голосовых связок, каких стены трестовского зала заседаний, ко многому приученные, еще не слышали, его даже не смутило, что немногие женщины, оказавшиеся на заседании, с красными лицами выскочили из зала. 81 Примечательным стало напутственное заключение Алексея Николаевича: — Мы не позволим, чтобы вредители и саботажники помешали тресту выполнить план! Твердая рука пролетарской диктатуры сметет их с дороги, никаких послаблений не будет! Я требую, чтобы вы крепко над этим задумались и приняли все возможное и невозможное, и чтобы каждая шахта выполнила свой долг перед Советской властью! После подобного выступления «новой метлы» совещание не затянулось. Взбудораженный, с напряженными нервами уже заполночь вернулся Алексей Николаевич в свою квартиру, неуютность, сжатость маленькой комнатки и еще меньшей кухонки до сих пор не замечал. Вспомнил, как после его вступления в новую должность, начальник административно-хозяйственного отдела треста – АХО — угодливо предложил: —Алексей Николаевич, управляющему трестом положена должностная квартира. Семье Шестова, несмотря на его подлость, мы предоставили комнату. Ваша квартира теперь свободна, отремонтирована. Когда будете переезжать? Тогда Зайцев отмахнулся от назойливого хозяйственника, дескать, не до квартиры сейчас, Евгения с иронической усмешкой выслушала рассказ о подхалимском предложении, ей, видимо, в то время тоже не до квартиры. Сиротски выглядевшая, серая, холодная квартира давила угрюмой неприветливостью, хотелось тотчас же убежать. «Завтра скажу, чтобы перевозили», с усталой раздраженностью решил он, и, как будто кого-то застеснявшись, тут же оправдал себя: «раз положено, значит, надо пользоваться». Нехотя, принуждая себя, начал просматривать газеты, вынутые из почтового ящика, выпал конверт, письмо из Сибири для Евгении. Обычно они с Женей не вскрывали почту, если она предназначалась другому из них. Алексей Николаевич отложил конверт, но тут в мозгу пронзительно возникло: «ее же нет и будет ли когда-нибудь?» Рывком, неаккуратно, разорвал конверт. Писала Екатерина Муратова или ктото под ее диктовку. Почти половину небольшого листка занимали приветы и поклоны от родни и общих знакомых. Из сумбурной писанины до Алексея Николаевича дошло, что муж Екатерины, зав. шахтой Иван Александрович днюет и ночует на шахте и она — Екатерина — его почти не видит, ребятишки растут, какой-то Санька уже в шестой класс ходит. «А еще сообщаю,— писала Екатерина, – брат мой Михаил вернулся домой и рассказал, что Косте, брату твоему, дали новый срок за побег. Михаил собирается к тебе приехать, чтобы рассказать подробности». «Чертова семейка! — обозлился Алексей Николаевич, не могут нормально жить, все в тюрьмах да лагерях!» Скомкал письмо и со злостью отбросил в угол. «Не дай бог еще этот гость нагрянет, нужен больно, шантрапа тюремная». 9 82 Что делать? Как прокормить свою ораву, как сберечь ребятишек до возвращения Ивана? Для Екатерины вопрос далеко не простой. Деревенская женщина могла выполнять любую работу в поле, со скотиной, по дому. Но в городе другие требования: нужна профессия, а ее не было, оставалось пойти в уборщицы или чернорабочие. Стать уборщицей не пугало, это что-то близкое к домашним заботам, но как прокормить, содержать детей на скудный заработок? Чернорабочий — грязная и чаще всего тяжелая работа, но это тоже не останавливало Екатерину — к труду тяжкому и часто неблагородному ей не привыкать. Через два дня после ареста Ивана, она, аккуратно прибранная и одетая, отправилась на седьмую шахту. На пятую-бис, понимала, ей идти не стоит, к жене бывшего заведующего, да еще арестованного, справедливого отношения ожидать не приходилось. Седьмая близко от дома и нового заведующего шахтой Михаила Дмитриевича Одегова хорошо знала. Он партизанил в одном отряде с Иваном, часто бывал у них, да и Екатерине доводилось с Иваном заглядывать к Одеговым. После назначения в заведующие седьмой Михаил Дмитриевич не один раз советовался с Иваном насчет разных дел, по новизне многое для него было трудно, непонятно. Как не сочувствовал Михаил Дмитриевич попавшей в беду женщине, ее появление совсем не кстати. Чем, да и как ей поможет? Специальности никакой, грамотности меньше, чем кот наплакал: в контору не посадишь. В шахту отправить тоже не решался — все-таки жена приятеля, ходившего в начальниках, могла за широкой спиной мужа отвыкнуть от простого труда. Он отводил глаза, заикался, чувствуя неубедительность и неуместность своих аргументов. — Мне хоть бы откатчицей или подносчицей, — невнятно лепетала Екатерина, переминавшаяся у порога. Задача заведующего не облегчалась оттого, что просительница не претендовала на чистую работу, готова заняться чем угодно. Ни на миг не упускал из виду, что ее муж, Муратов, арестован, а с женами репрессированных, убеждал горький опыт многих, лучше не связываться, не дай бог что случится, в шахте всякое бывает, ему припомнят: пригрел жену врага народа. — В шахте сейчас, понимаешь, все места заняты. Вот на лесной склад, — сказал так, к слову, надеясь, Екатерина убоится туда пойти, откажется. — Вот спасибо, Михаил Дмитриевич, — обрадовалась Екатерина. Делать нечего, пришлось позвонить в отдел кадров и приказать оформить Муратову Екатерину Егоровну разнорабочей на лесной склад. На что Екатерина женщина не избалованная, с раннего детства привычна к труду, часто грязному, изнурительному, но такой изматывающей тяжести никогда и нигде не испытывала, как довелось изведать на лесном складе при шахте. Утром не выспавшаяся, не избавившаяся за ночь от ломоты в костях и суставах, от боли в мышцах, от каждодневного надрыва над неподъемными лесинами, привычно, без всякого будильника или чьего-либо толчка соскакивала с неласковой достели. Наскоро прошлась полынным веником по полу — вечером 83 сил не хватало, а ребятишки сор не замечают — также спеша, перемыла посуду, не смогла вымыть ее тотчас после несытного ужина. Как ни рано поднимается Екатерина, но едва успевает до ухода на работу подоить корову, просепарировать молоко. Можно было бы Саньке с ребятишками поручить это нехитрое дело, по силам оно им, но не аккуратные еще, не бережливы, не соображают, как она трясется над каждым стаканом молока, каждой ложкой сливок. Цельного молока отольет пацанам, обрат разольет по глиняным крынкам: простокваша пойдет частью на творог, а остальное тем же ребятишкам. Сливки вовсе бесценны: и сметана, и масло, и пахта — все пойдет на еду. Не раз она молилась на Изу, готова ее расцеловать от рогов до хвоста, ведь в этой красивой и ласковой корове спасенье и надежда несчастной семьи в свалившееся на нее тяжкое время. Молоко — весомая добавка и к нещедрому заработку. Каждый день целую четверть, а то и больше выносит Санька на станцию, к проходящим пассажирским поездам и радуется, если удается все распродать и принести в крепко сжатом кулаке так нужные семье рубли и медяки. Тем и сводит концы с концами Екатерина. Ее дети, взять старшего Саньку или самую меньшую Любку, хоть не до отвалу едят, но выглядят пока сносно. По ее работе, высасывающей все соки, ей бы есть да есть, но куда там, в крови заложено: сначала отдай детям, а остальное себе, если останется, да что от них, растущих, прожорливых останется?! Правда, Санька соображать начал: мать беречь надо, куда им без нее! Потихоньку от ребят приберегал ломтик хлеба, ложечку сахара, да много ли из ничего сбережешь?! Как ни жалко, но растолкала разоспавшегося Саньку, ему пора в свой техникум, наказала, как приготовить в школу остальных, за Ленькой особо проследить — не хочет парень учиться, из-под палки тянет лямку, нет у него, как у Саньки Жадной тяги к учебе. Натянула брезентовую спецовку и почти бегом на шахту. В восемь часов, запыхавшейся вбежала в маленький рубленный домишко, где размещалась раскомандировочная лесного склада. Начальник склада выталкивал рабочих — только что подали вагоны с лесом, надо побыстрее разгружать, за их перепростой, а за него штраф полагается и большой, заведующий шахтой с него три шкуры сдерет. Лесины длинные, по шесть с половиной метров, как на подбор, толщиной не меньше двадцати шести сантиметров — Екатерина на глазок научилась определять толщину — от того и вся тяжесть, да не дай бог, если среди сосновых лесин лиственница окажется, тут уж понадрываешься! Самое противное это выволакивать бревна со дна вагона, кранов и лебедок на складе никаких, приходится собственными руками и горбом выкатывать по уложенным в наклон покатам. Екатерина поначалу лесины бревнами называла, но на шахтах цельное бревно зовется лесиной, а распиленное на отрезки в два, два с половиной метра, это уже стойки, ими укрепляют под землей выработанное пространство. Подобралась вагой под лесину и по команде старшего, стоявшего с вагой посередине, начала накатывать свой край. На другом краю сегодня стоял хиленький мальчишка, чуть постарше Саньки, лет семнадцати-восемнадцати, 84 недавно поступивший на склад. Венька, так звали парнишку, неловко подводил вагу под лесину, не в лад с остальными подталкивал ее и пытался подпереть плечом, когда она немного поднялась по жердям. — Смотри, рта не разевай, — крикнул на парня старший, — не отставай, а то слетит лесина с поката. То ли от крика вздрогнул парнишка, то ли сил не хватило, сноровки вовремя переставить вагу, но соскользнула лесина с его края, не успел он перехватиться вагой, сорвалась, «сыграла», как подброшенная палка, и рванулась вниз, ко дну вагона, перепрыгнул старший, не задела концом парнишку, а ударилась об Екатерину. Та пронзительно вскрикнула и упала, да, слава богу, сверху лесины, а то придавить могла насмерть. С трудом выволокли из вагона Екатерину, тяжести в ней немного, но со дна вагона совсем непросто поднимать, да вскрикивает при каждом шевелении. Очнулась в чистенькой и светлой больнице, тепло в ней, доктора, сестры ласковые, внимательные, от того вроде и полегче стало, но точит беспокойство: как там ребятишки, кто Изу подоит? Обрадовалась: увидела Дуню Коваленкову с их материального двора, узнала, что та в пять часов кончает работу, упросила зайти к ребятишкам, да не напугать их: ничего с ней не случилось, поболит, поболит, да перестанет. Попросила Дуню подоить корову, Иза смирная, любого подпустит. А тут доктор подошел, успокоил: – Перелома нет, но ушиб серьезный. Придется немного полежать, надо понаблюдать, не задеты ли внутренние органы, а потом еще дома побюллетенить немного дадим. Радуется Екатерина, что побюллетенить дадут: сроду не болела, а тут она дома горы свернет, домашних дел поднакопилось невпроворот, да на Гришево к гадалке сбегает, может, что про Ивана нагадает. Такая выдалась жизнь у Екатерины, что за заботами непрестанными, за трудом каждодневным, почти ничего вокруг не замечала, не обращала внимания ни на веру в Бога, ни на приметы жизненные. Церкви в их деревне, и в Муратовке, куда замуж вышла, не было, только на Рождество, на Пасху, да на Троицу поп из города наезжал. К обрядам церковным привыкнуть, в вере утвердиться ей, как впрочем, и другим односельчанам, просто-напросто было негде. После ареста Ивана беды и невзгоды так беспощадно и безжалостно ударили по ней, что само собой, без всяких с ее стороны усилий пробудилась в ней вера, оказалось, непрестанно в ее душе, сознании существовавшая, заложенная ни одним поколением дедов и прадедов, от матери и ее предков перешедшая. Вера ее в эти дни поддерживала, оставалась почти единственной надеждой и опорой. В особо тяжкие минуты поначалу сгоряча, как бы присказкой про себя спрашивала, а иногда и вслух вопрошала: — За что это меня Господь Бог наказывает?! Потом над этим задумалась, может, действительно тяжкие грехи за ней, Бог должен ее наказать. — Перебирала жизнь свою — как и у всех, перемешено в ней всякое, и радостное, и печальное, и гордое, и такое, чего 85 стыдиться приходится, но нет, полагала она, непростимого греха, достойного жестокого божьего наказания. Раздумывала, раздумывала и обнаружила за собой грех превеликий, за него и наказание ей выходит. Как-то раз Иван Александрович перебрал дома все книжки — их не так уж много набралось — бумаги разные, блокнотики, отобрал из них стопку отдельную, попался в нее и блокнотик, куда по молодости корявым почерком песенки разные — солдатские, любовные — переписал. Потом отобранную стопку разом в печку, в огонь сунул. Екатерина аж зашлась, зачем же это делает, книги денег стоят, а бумажки есть-пить не просили. — При обыске все книги, бумаги просматривают, а здесь среди писателей арестованные, враги народа есть, в блокнотике записи для нас безобидные, а там из них всякое извлечь могут, пустяковщину в обвинительное дело раздуют. Поняла Екатерина беспокойство мужа. Чуял горемычный беду предстоящую. Уехал Иван на шахту, она свои сундуки обшарила. В одном из них в чистых льняных полотенцах завернуты иконы, убрала их из угла, с божницы, как Иван коммунистом стал. Партийным, говорил, в Бога верить нельзя. Она эти иконы тоже в огонь сунула. Старалась уберечь Ивана, а вышло, беду накликала на него, на себя, на ребятишек безвинных! Настигла за богохульство всех их кара Божья! О разного рода приметах, конечно, знала, но прикладывала, примеривала их только к своему Ивану. К примеру, почешется у нее локоть, означает — Иван ее вспомнил, где бы не находился, в своем кабинете или под землей, в шахте. Она такой примете верила настолько, что иногда даже начинала оглядываться, а не рядом ли, не поблизости ли Иван. А если вечером впереди возвращающегося стада шла темная корова, Екатерина вздыхала: «завтра ненастье будет». Забрали Ивана, тягостно было на душе, пуще прежнего в приметы начала вглядываться, сны запоминать. Увидела во сне, как грядку в огороде пропалывала, проснувшись, подумала: не к добру это, кто-то умер или умрет. Так и случилось, не успело рассветать, как прибежала Анастасия, — жена Прокопия — свекровь, сообщила, скончалась. Погоревала, наплакалась до боли в глазах — не простился Иван с родной матерью. Увидит: паутинку сплетет паук над крыльцом, целый день потом ждет — может весточка сегодня придет от Ивана. Почти два года утекло, а он как в воду сгинул, никаких известий, куда только не писала, точнее Санька по ее подсказке писал, все равно ни привета, ни ответа! Анастасия, жена Прокопьева, как-то рассказала, что на Гришево — это дальний поселок при третьей шахте — гадалка особенная объявилась, все точно нагадывает, вот Анастасьиной соседке нагадала, убыток у нее будет и точно, как в воду глядела, дня через два воры забрались, до ниточки обчистили. Собиралась Екатерина в ближайший выходной сбегать к этой гадалке, да вот угораздило под лесину попасть, хорошо еще, что бюллетень выписали, теперь маленько оклемалась, можно и погадать. Правда, доктор говорил, отлежаться надо, тяжелого не поднимать и вообще поберечься. Да как убережешься — ребятишки глаз да забот поминутно требуют! А что с Иваном, где он мается? 86 Узнать надо, вот и торопится Екатерина Егоровна к гадалке. Говорят, не ходи ворожиться, ходи Богу молиться. Пошла бы, помолилась, да куда пойдешь: церковь в городе прикрыли, попа, говорят, посадили. Одна пойти побоялась, тяжело ей ходить, боль в бедре донимает, потому Саньку с собой прихватила, от учения на день оторвала. Санька походу к гадалке рад, любопытство разбирает: как-то гаданье происходит? Веры в карточные выкладки особенной у него нет. А все-таки, может, и вправду, вопреки разуму теплится надежда, об отце скажет. Скоро два года, как его забрали, а Саньку каждый стук во дворе вздрагивать заставляет — не отец ли возвращается? Был отец дома — вроде и не замечал его, рядом где-то и ладно, а как не стало его — от тоски, печали Санькина душа измоталась. А насколько сложнее стало жить! Что нехватки всякие начались, на зарплату матери особенно не разбежишься, это еще терпеть можно. Притеснений, унижений выносить приходится столько, что он, парень самостоятельный, самолюбивый, иногда в отчаяние приходил. В школе учителя с опаской смотрят, вроде боятся, что он неожиданный фортель выкинет, чуть ли не теракт устроит, ребятишки, у которых тоже отцов в этом году не стало, смотрят из-под лобья, будто его отец в их несчастьях виноват, а другие, если повздоришь с ними или так, где столкнешься, непременно отцом подкусить стараются. Петька Сивцев взял книгу, толстый однотомник Пушкина, да с десяток страниц испоганил, блины на них что ли ел, а когда Санька возмутился, выпалил: — Вражий выродок, а еще разоряется! Хотел плюнуть ему в морду или заехать по ней как следует, но сдержался, понимал во что ему, «сыну врага народа», это может обойтись, и матери новые расстройства, ей и без этого всяких мытарств хватает. Тащится Екатерина на далекое Гришево, о судьбине несчастной погадать, прихрамывает, на каждом шагу боль, кричащую в бедре утишает, нельзя ей дать волю, во что бы то ни стало дойти надо. А как обратно добираться, боялась даже подумать, надеялась, как-нибудь обойдется, добредет — к дому ведь, а домой и лошадь шустрее бежит. Солнце уже показывало на обеду, пока докостыляли по нужному адресу, бумажка с ним крепко зажата в потной руке. Жила гадалка в длинном и черном бараке, со сквозным коридором, общим для доброго десятка квартир. У входа встретила пожилая тощая женщина, закутанная в черную шаль. — Вы не к Настасье Лукиничне?— спросила она, хотя понятливым взглядом сразу сообразила, какой ответ будет. — К ней, к ней..., — робко закивала Екатерина, испугавшаяся: как бы после изнурительной для нее ходьбы не повернуть назад, вдруг не примет гадалка или дома ее нет. — Ты, голубушка, подожди где-нибудь поблизости, очередь к Настасье Лукиничне, — женщина покрутила вокруг головой. Екатерина проследила за ее взглядом и заметила, что вдоль улицы ходят женщины. Сразу понятно: не зря они здесь. — Притесняют ее, — пояснила женщина, — не надо, чтобы милиция и вообще 87 кто видел, как к ней люди за ответом по судьбе своей идут. Екатерина понимающе закивала. — Перед Вами пришла вон та женщина, в синей шерстяной кофте с корзинкой в руках. Следите, как она выйдет, так и проходите. Повернули Екатерина с Санькой взоры к той женщине, пошли отыскивать скамеечку, где Екатерина могла бы присесть, силы ее совсем на исходе. Скамеечка отыскалась возле дома с палисадником. Екатерина уселась на скамеечку, привалилась боком к стенке, дала отдых больному бедру, Санька начал расхаживать вдоль улицы, не упуская из виду показанную женщину. Ждать пришлось долго. Екатерину, да и Саньку уже сомнения одолевали, попадут ли в этот день к гадалке. Но вот женщина с корзинкой направилась в барак. Мать и сын те полчаса, что женщина оставалась у гадалки, не раз вспомнили присказку: хуже нет, чем ждать да догонять. А когда настал их черед войти в квартиру, необъяснимая робость на Екатерину навалилась, на ногах едва устояла, слезы из глаз сами собой покатились. — Успокойся, голубушка, — гладила ее по спине женщина в черной шали, встретившая в квартире, — сейчас Настасья Лукинична все расскажет, у нее глаз острый, вера крепкая, ей карты всю правду откроют. Только не скупись, она не простая гадалка, ее Бог сподобил прорицать, тебя насквозь видит, судьбу твою на много лет вперед просматривает. —А сколько ей платить-то надо? — робко заикнулась Екатерина. — Ты, голубушка к ней с деньгами не суйся. Ей нельзя свой ум отвлекать на суетность всякую. Я при ней для этого. — Понятно, понятно... — волновалась Екатерина. Как бы не обидеть гадалку, да и хватит ли прихваченных денег? — Ты назови, будь добра? Сколько с нас причитаться будет для Настасьи Лукиничны. Женщина в шали добрыми глазами глядела на нее, осторожно прикоснулась к локтю. —Она человек особенный, Богом посланный, чтобы утешить и обнадежить, ей себя надо всегда в добром теле, в светлом уме содержать, чтобы все нужное для жизни имелось и нужда житейская не мешала узнавать судьбу человечью. Женщина не отводила глаз от уставленного вопрошающего взгляда Екатерины и, как бы отвечая, сказала: — С тебя больше пятнадцати рублей не возьмет, Настасья Лукинична все понимает, жалостлива, обиды не допустит. Екатерина про себя ахнула: пятнадцать рублей! Не зря у нее левая рука чесалась — вот и пришлось отдавать свои кровные. За такие деньги мантулить на лесном складе, ворочать лесины неподъемные надо целую неделю, а тут выкладывай столько! Деньги не щепки, они счетом крепки, их трудом, да заботами надо наскрести. Она беспомощно оглянулась на Саньку. Тот представлял цену деньгам и знал, рубли в платочке у матери последние, отдай их и одна надежда остается на Изино молоко. Но не уходить же не солоно хлебавши, у него, как и у матери, непреодо88 лимое желание что-нибудь да проведать про отца. Санька не особенно верит в приметы, гадания и заклинания. А вдруг чтонибудь нагадает?! Да разве в рублях дело, все что есть, отдали бы они, Санька голодать и бедствовать всю жизнь готов, лишь бы об отце узнать, увидеть его возвратившимся домой! Деньгами души не выкупишь. Екатерина торопливо засунула руку под мышку, вынула затянутый узлом платочек. Зубами прихватила за серединку узла, с трудом развязала его и протянула деньги женщине, терпеливо наблюдавшей за клиентами. Их переживания хорошо понимала, но входить в положение и не помышляла. — Ты присядь, голубушка, — еще ласковее заговорила она, крепко зажав полученные деньги, пересчитывать не стала, отлично представляла — такие, как Екатерина, обманывать не способны. — Я сейчас призову Настасью Лукиничну, она твою судьбу точнехонько проскажет. Женщина удалилась за досчатую побеленную перегородку. Екатерина с Санькой уселись на скамеечке, стоявшей вдоль стены за столом, напротив табуретки, предназначенной для гадалки. Раскинув сатиновую в цветочках портьеру-занавеску, из соседней комнаты появилась Настасья Лукинична. Невысокая, плотная, она прямо-таки светилась добродушием, приветливостью. У Екатерины даже возникло ощущение: Настасья Лукинична давно поджидает именно ее прихода и бесконечно рада, наконец, что появилась у нее. Гадалка чуть нагнула красивую, с аккуратно уложенными и скрепленными узлом косами, небольшую голову, приветствуя посетителей. Изпод красивых ресниц, мягко прищурясь, Екатерину и Саньку внимательно, оценивающе разглядывали темно-карие глаза. По измученному лицу Екатерины, по пружинисто напряженной позе Саньки многоопытная Настасья Лукинична сразу сообразила, что привели их сюда исключительные обстоятельства. Давно убедилась, благополучные люди к ней не ходят, а лишь те, у которых пришла беда. Что же за беда у этих людей? Прикидывала Настасья Лукинична. Скорее всего, что-то с мужем. Умер? Не похоже, женщина, хоть и изможденная, но еще довольно молодая, не более сорока лет. Ушел к другой? Заболел? Возможно, но, может, что-нибудь другое: счастье выпадает одно и редко, а несчастьями хоть пруд пруди и все они разные, какое же у этой женщины? Ей это знать точно надо, тогда гадать проще, но нечего волноваться, сами проговорятся какое горе-злосчастье на них навалилось. — Погадать решились? — мягким голосом, даже с оттенком нежности заговорила Настасья Лукинична, — судьбу проведать? Я, дорогие мои, всю правду выскажу, у меня карты верные, надежные, они не обманут, я их ночь под подушкой держала, им всякий раз отдых даю, от старой памяти очищаю. Настасья Лукинична мягкими, гладенькими ручками непрестанно тусовала колоду карт, время от времени энергично дула на них, словно сдувая что-то невидимое, но мешающее картам раскрыть перед гадалкой таинственное и неведомое, заключенное в мелкой сетке оборотной стороны, в своеобразных рисунках королей, дам, валетов, тузов, десяток, шестерок89 Неотрывно наблюдал за манипуляциями гадалки Санька, завораживался каждым движением, перекладываниями, тасовкой колоды и незаметно для себя подпадал под обаяние размеренно мягкого воркования Настасьи Лукиничны. Невзрачная барачная кухня наполнялась загадочностью, населялась невидимыми, но могучими духами. Гадалка еще ни слова не произнесла об отце, а он уже верил, что сейчас, через несколько минут узнает, где затерялся его сильный и несчастный отец и когда снова будет дома. Екатерина же на узнавание правды, на новые известия об Иване настроилась давно, лишь только услыхала о всезнающей гадалке. Мягкие движения Настасьи Лукиничны, ее обещающая и сочувствующая улыбка, голубиное воркование успокаивали истерзанную тяжелыми думами и заботами женщину. Екатерина, вытянув вперед голову, старалась уловить каждое движение, каждое слово гадалки, запомнить его. — На кого гадать будем? — обратилась к Екатерине гадалка, одновременно бросая ласковый взгляд на Саньку, — на бубновую даму? — Нет, нет, — заторопилась ответить Екатерина, — на короля, трефовый он у меня, как забрали, вот уж вскорости два года, так ни слуху ни духу. Вот и высказала Екатерина так нужные для гадалки сведения. Теперь ей проще собраться с мыслями, легче прочитать карты. Забрали, значит, у нее родненького, единственного, осталась одна, да на шее, похоже, не один этот парнишка. Таких посетительниц, придавленных неожиданным и непонятным горем, в этом году перебывало столько, что и не счесть. Намытарятся по тюрьмам и канцеляриям, ничего утешительного не услышат и жалкие, измученные, как к последней надежде, несут свое горькое несчастье к ней. Беззащитные, доведенные до крайности мытарствами, болью по близкому человеку готовы отдать последнее, лишь бы получить призрачную надежду. Выгодны гадалке такие посетительницы, но и опасны. Соседи косятся, милиционер заходит, да еще пугает: — Как бы тебя, Лукинична, не пришлось прибрать за связь с врагами народа. — Да какие же они враги народа? Настасья Лукинична доставала из дальнего угла громоздкого буфета, занимавшего полкухни, пузатый графинчик с «успокоительной настойкой» и щедро подливала в граненый стаканчик, поставленный перед милиционером. — Они несчастные, врагов вы уже забрали, а потом у нас сын за отца не отвечает, — уже смелее поучала она милиционера, с удовольствием крякнувшего от крепкой и приятной настойки. — Так-то так, но ты все-таки, Лукинична, поостерегись,— милиционер хрустел соленым огурчиком, особого, нигде в другом месте ему не встречавшегося посола. — Да я так, изредка. Как отказать людям, плачут, упрашивают? — ворковала гадалка, довольная, что страж порядка не отказался от настойки, всегда облегчавшей ее такую хлебную деятельность. Настасья Лукинична еще раз перетасовала карты, еще раз подула на них и стала раскидывать по столу под уставленными взглядами посетителей, с 90 напряженным нетерпением ожидавших расшифровки непонятного расклада карт. Никаких новых, неизвестных для Екатерины слов гадалка не произносила, но ее добрый взгляд, доброжелательная улыбка, а главное Екатеринин настрой, заставляли видеть в укладываемых по рядам картах, в словах Настасьи Лукиничны облегчающее откровение. — Не печалься, милая, жив твой муженек, целехонек. Смотри: вот он выпал рядом с пиковым тузом, значит, в казенном доме, вот через казенное письмо, — гадалка ткнула пальцами в бубнового туза, — его ждет дальняя дорога, вишь, как трефовая шестерка легла. «Домой дорога?! — радостно встрепенулась Екатерина. — Но будут у него пустые хлопоты, через злодейство вот этого червонного короля. Гадалка раскидывала, собирала, тусовала карты, вновь их разбрасывала и говорила, говорила, говорила... Екатерина, как переводчик с чужеземного языка, каждую фразу толковала по-своему, вкладывая в нее свои желания, надежды. До Саньки не сразу доходило, что означает «для себя, для дома; для души, чем сердце успокоится», а Екатерина в банальных присказках видела конкретный смысл. Когда гадалка говорила, что через дальнюю дорогу у трефового короля «сердце успокоится свиданием», она переводила фразу для себя как скорое возвращение Ивана домой, а завезли его наверняка далеко, от того и дорога дальняя, свидание же, которым его сердце успокоится, это непременно с нею, а с кем же другим? Все явственнее оживала Екатерина, сошла с лица серая усталость, румянец надежды освежил щеки. Теперь надо торопиться домой, рассказать Анастасии, жене Прокопия, соседям, ребятишкам — скоро ее Иван вернется. Торопилась домой Екатерина и досадовала на Санькины приставания: что такое «дальняя дорога», «неожиданная весть», как понимать «для дома», «для семьи»? Ну как вбить ему, что карты выпали, что у них свой язык, его же понимать надо, это не книжки, где все черным по белому расписано, только буквы знай! Потому и ходят люди к гадалке, не всем дано прочитать расклад карт, для этого дар особый, отмеченный Богом, требуется. А какая Настасья Лукинична добрая, ласковая, приняла их как родных, все доподлинно поведала! 10 Поглощенный собственным горем, малоопытный в общении с людьми уровня, на который его так внезапно вскинула судьба, а вернее трагедия его времени, Алексей Николаевич не подумал, как арест Жени отзовется на других, он не вслушивался в интонации голосов телефонных собеседников, не ощущал в них ни тревоги, ни сочувствия, единственное, что его волновало в эти дни — собственная судьба. Позвонить начальству, сообщить об аресте жены и ждать решения о самом себе, Зайцев считал своим служебным, гражданским, а теперь еще и партийным долгом, поэтому и Савранскому позвонил. Горком, полагал он, определяет судьбы 91 всех, не исключая и его, состояние после страшной бессонной ночи у Алексея Николаевича такое, что о возможных последствиях своего сообщения совершенно не задумывался. У Игоря Борисовича Савранского первичный отклик на сообщение был автоматическим, формальным, так полагалось реагировать партийному руководителю его уровня. Единственное, что ему пришло в голову при разговоре с Зайцевым, «Вас это не касается» высказал не от раздумий, а по привычно устоявшейся реакции на подобные явления: Женя много проработала под непосредственным началом Келарева, в тот момент даже не связал ее с самим собой, с их отношениями, запрятанными, как считал, далеко-далеко от людских глаз и ушей. О Келареве, о его судьбе по-человечески, сочувственно, да и вообще сколько-нибудь серьезно ни разу не задумался, как человека его почти не знал, не сложились у них личные отношения, как работника, как своего шефа признавал лишь в определенных пределах, на людях проявлял лояльность, не возражал ему, не покушался ни на его место, ни на его авторитет, в душе же, а этого никто не видел и не знал, считал бывшего первого занудным службистом, солдафоном, готовым беспрекословно проводить «партийную линию». Игоря Борисовича не потряс арест Келарева, знал — других первых секретарей почти повсеместно арестовали, и не задавался вопросом, виновен в чем-либо Келарев или не виновен, да и что рассуждать о виновности: органы на то и есть, они разберутся, а как разберутся — не его дело. Положив телефонную трубку на место, еще не задумываясь над сообщением Зайцева, ощутил довольно заметное облегчение: исчезло из его жизни серьезное осложнение, не стало опасного свидетеля той давней встречи, с исчезновением Жени наступит спокойствие и в личной жизни, он снова становился добропорядочным семьянином. От этого непроизвольно и вырвалась твердая до резкости установка Зайцеву: «Работать! Вас это не касается!» Но облегчение и успокоение продолжались недолго, вдруг мысли Игоря Борисовича приобрели совсем иное направление - Женя не только свидетель, но и участник той встречи! Вольный или невольный, но именно участник! А где теперь они! Двое — гости из Москвы — расстреляны, об этом всемирно объявленно, давно арестован хозяин квартиры, непотопляемый Исаак Маркович Шленский, безвестно исчез Робейчик, а начальника шахты Белого забрали вместе с женой Мариной, хотя та, пожалуй, и не подозревала, что где-то, когда-то происходила какая-то встреча. Да и Женя исчезла не в небытие, а попала в такие руки!.. Страшно подумать, что из нее там выжмут! Игорь Борисович по привычке накручивал на указательный палец тонкую бечевку, которой были связаны принесенные вчера из книготорга новые книги. У него привычка крутить или наматывать что-нибудь на палец, это успокаивало нервы, упорядочивало мысли, обычно накручивал сцепленные скрепки, сегодня под руку подвернулась бечевка. Мысли вращались как бы в ритме с движением пальца, наматывающего и разматывающего бечевку. Размышления Игоря Борисовича от той встречи, ее участников, от Жени перекинулись на горкомовское 92 окружение - вокруг почти все незнакомые, новые работники, заменившие арестованных за этот злосчастный год секретарей, заведующих отделами, инструкторов. Он единственный уцелевший! Вывод напрашивался страшный круг замкнулся! Подошла его очередь! По голове будто ударили чем-то тяжелым, в глазах темнело, сквозь тяжесть и тьму молниями повторялась одно - теперь его очередь! Он нервно зажал бечевку в кулаке, с полчаса сидел не двигаясь, переполненный страшным сознанием — теперь его очередь! Сорвался со стула, бегом выскочил из кабинета, в приемной подменившая Женю зав. отделом Локотова удивилась необычному виду и быстроте, с какой Игорь Борисович проскочил мимо нее. .. .Заведующий орготделом Коридзе нервно прохаживался по тканой дорожке в коридоре. В закрытую комнату без всякой надписи пришел инструктор Савилов, но почти тотчас же вышел с нескрываемым раздражением. — Полчаса, наверное, ожидаю, — тоже раздраженно сказал ему Коридзе, — кто там засел так крепко? — Полчаса?! — удивился в свою очередь Савилов, — давайте постучим, пусть поторопится. На стук никто не отвечал, долготерпцы встревожились, пошли в каморку к уборщицам, взяли топор. В туалете полусвалившись со стульчака на них страшно глянул Савранский, в его шею впилась тоненькая бечевка... 11 Браздами правления Алексей Николаевич овладел быстро и довольно успешно, недаром Артемий Александрович Коридзе, недавно кооптированный первым секретарем горкома партии, на последнем заседании бюро заметил: — С приходом к руководству товарища Зайцева в тресте почувствовалась твердая рука, на шахтах больше стало порядка и дисциплины, план повсеместно выполняется. Алексей Николаевич стремился держаться солидно, как, по его мнению, требовало начальствующее положение, приосанился, лицо при разговорах с подчиненными становилось твердокаменным, решительным, он вполне усвоил дух времени — никакой мягкости, никаких «вхождений в положение», твердость, твердость и еще раз твердость и... безжалостность. Хуже приходилось, когда оставался наедине с самим собой. В первые дни, когда Фая еще жила у Чумских, с трудно объяснимым страхом возвращался в разом ставшую постылой квартиру. Как не напряжены были в последнее время отношения с Евгенией, его словно мощным магнитом тянуло к ней, постоянно жаждал встречи с нею, не мог ни одного дня обходиться без нее, она дулась, не 93 разговаривала с ним, он этим мучался, но она присутствовала в каждой его клеточке, всегда рядом. Его жизнь от ее непрерывной близости не становилась бессодержательной, напротив, в ее безмолвном, иногда злом, недовольном присутствии таилась внешне неосязаемая, но огромная энергия, придававшая постоянные импульсы его действиям и мыслям, с ней тяжело, иногда признавался он себе, а без нее еще хуже. Возвратившись в квартиру, Алексей Николаевич часто чувствовал себя опустошенным. Бесконечная жизнь на криках, угрозах изматывала не одних подчиненных, но и его, требовались разрядка, смена эмоций, а в пустой квартире, казалось, даже стены становились холодными, злобными. Не стало легче после смены квартиры, стены стали новые, боли и страдания остались прежние. После ареста Евгении, по уговору с Чумскими, Алексей Николаевич долго не говорил Фае, где ее мать, что с нею случилось, увертывался от разговоров о случившемся. Старики Чумские и без того баловали внучку, а теперь их жалость к круглой сиротке, никогда не знавшей отца и вот потерявшей мать, еще больше обострилась, и они прямо излучали на девочку всеобволакивающую ласку, не было предела их нежной заботе. Перед очередным выходным днем Алексей Николаевич упросил прислать Фаю к нему. Девочка удивилась и новой квартире и тому, что не застала дома мать, Алексей Николаевич сначала разным задельем отвлекал ее, а сам напряженно обдумывал, как менее болезненно сказать правду, путаясь, петляя, наконец, произнес: мать арестована. Девочка, которой шел десятый год, представляла, что такое арест и не один раз слышала, за что арестовывали людей в тот год, в их классе учились ребята, оставшиеся по этой причине без отцов, об арестах матерей своих сверстников девочка до сих пор не слышала. Не сразу до Фаиного сознания дошло: матери не будет долго, может, очень долго, а когда в поздний вечер, с ясной отчетливостью представила, впредь ей придется жить без мамочки и, может, никогда ее не увидит, то с ней, первый раз в жизни, приключилась страшная до безобразия и тяжелая, чуть не до смерти, истерика. Она истошно кричала, по сумасшедшему каталась по полу, исступленно и безжалостно билась головой. — Папочка, родной, отвези меня к мамочке, — заходилась криком Фая, — хочу к мамочке, хочу к мамочке Алексей Николаевич не знал, что делать: метался, уговаривал, кричал, даже шлепнул, но страшная истерика продолжалась довольно долго, он по-настоящему перепугался за ее жизнь. Потом девочка постепенно начала успокаиваться, выкрики и рыдания переходили во всхлипывания, на каком-то всхлипе бедняжка затихла, заснула неожиданно и как-то пугающе: совсем не слышно дыхания, лежала, разбросав руки, совершенно неподвижно. Алексей Николаевич только по теплоте тела с трудом определил — все-таки уснула. Утром, слава богу, был выходной день и ему не обязательно рано утром, как заведено, отправляться в трест. Фая проснулась необычно тихой, присмиревшей и 94 совершенно ко всему безразличной, Алексей Николаевич видел: она движется, убирается, завтракает, не соображая, все делает, словно заведенная механическая игрушка. На другой день ему предстояло уходить на службу и, как у лих установилось при Жене, намеревался завезти Фаю к бабушке, но на этот раз она воспротивилась: — Нет, я останусь дома, а друг мама вернется? Так, до безрассудства надеясь и каждодневно ожидая мать, сиротка Фая осталась с Алексеем Николаевичем, постепенно вырастая и превращаясь практически в подлинную хозяйку его осиротевшего дома. Алексей Николаевич привык к новым порядкам, внедряемым дочерью — он не принимал Фаю за падчерицу — к нему постепенно возвращалось ощущение: у него есть дом, где может как-то разрядиться, может и не полностью, но отдохнуть и отойти от нервного напряжения, постепенно переполнявшего и тяготившего неспокойную душу. В сознание вернулось - его кто-то ждет, о ком-то он обязан заботиться. Чумские, и Константин Леонтьевич и, особенно, Роза Львовна, больше всего на свете, до боли сердечной хотели бы, чтобы их несравненная любимица, светлая радость Фаечка жила с ними. Арест Евгении, невестки, от которой после гибели сына никогда не думал отказываться, Константин Леонтьевич воспринял почти как неизбежное для этих времен явление, исчезновение из их семьи Жени для него — сигнал бедствия, причем, сигнал не первый и не единственный, он вел счет друзьям, приятелям, знакомым, по которым жестко ударил 1937-й год, болезненно пережил расстрел знакомых москвичей, помнилась последняя встреча с ними на квартире Исаака Марковича Шленского, тоже недавно арестованного. Внутренне Константин Леонтьевич почти всегда, с памятных ярославских событий, готов к появлению в своем доме ночных визитеров, в последнее время готовность к худшему стала более конкретной — припас саквояжик с минимумом, как он полагал, необходимых в заключении вещей, предпринял ряд шагов по снижению вероятности ареста, прекратил связи со старыми знакомыми, бывшими сослуживцами. Выжить, выжить в беспощадное время — на это и только на это направлялись его гибкий ум и немалая энергия. Как ни хотелось Константину Леонтьевичу постоянно видеть бесконечно дорогую ему Фаечку, рациональным умом понял, для Фай и для него спокойнее, чтобы малышка большую часть времени оставалась с Алексеем Николаевичем. Если с дедом произойдет худшее, девочка не останется совсем одинокой, беззащитной, убедил Розу Львовну, что для Фаи и для всех это наилучший вариант, по крайней мере, на данное время. 12 Говорят, время излечивает любую боль. Эта истина бесспорна. Но Алексей 95 Николаевич к ней обязательно добавил бы и «работа». Как безвольный алкоголик оглушает себя водкой, так и он старался заглушить беспрерывной, изматывающей работой свои естественные чувства — тоску, любовь, желание. Дел у него набиралось невпроворот, каждый день от восьми утра до десяти вечера, изо всех сил старался заполнить совещаниями, встречами, разносами, просмотром бумаг, пытался не оставлять незаполненной делом ни единой секунды. Мгновение без дела становилось угрожающим, на его сердце и душу тотчас же набрасывались страшные, тяжелые мысли. Со стороны муки Алексея Николаевича никому не заметны, люди заходили в назначенный час, в установленную минуту с каким-либо делом, требовавшим согласия, разрешения, утверждения. В тресте скоро поняли: управляющий не терпит, если в назначенное время, обозначенное в его росписи, человек не явится, тут же, не церемонясь, устроит грандиозный, часто несоразмерный важности вопроса разнос —гнев его, порой не знал границ. Подобная строгость не вредила, напротив, усиливала репутацию требовательного руководителя, приучала к строгому порядку. В едва переносимое мучение для Зайцева превращалось заседание бюро горкома партии, куда был введен, не дожидаясь очередной партконференции. Назначение управляющим трестом одновременно становилось включением в руководящий орган городской парторганизации. На бюро рассматривается уйма больших и малых вопросов, до которых управляющему угольным трестом нет абсолютно никакого дела. Они не занимали мозг Алексея Николаевича и несдерживаемые мысли, как вырвавшийся из улья пчелиный рой, обретали свободу и принимались терзать его. Чтобы отогнать их, он принуждал себя вникать в любое разбираемое дело, выступал едва ли не по каждому вопросу. В первое время его выступления, реплики часто оказывались невпопад, и председательствующему секретарю горкома Коридзе пришлось даже объясняться с Алексеем Николаевичем, посоветовать быть сдержаннее. Себе Коридзе объяснял не всегда уместную активность нового члена бюро неопытностью. Только начальник НКВД — тоже непременный член бюро — делал другой вывод: Алексей Николаевич чрезмерным рвением стремится доказать лояльность, несмотря на связи с арестованной Станкевич. Очередное заседание бюро горкома партии среди прочего обсуждало состояние мобилизационной готовности конского поголовья в районе. По доброму Алексею Николаевичу подремать бы, отвлечься от заседательской одури, однако дремота не приходит, дурные мысли допекают и он врезался в прения: на шахтах конепоголовье в тяжелом состоянии — управляющий не сдерживал эмоций, гнев и возмущение переполняли его — много старых и ослепших на подземной работе лошадей. С неподдельным возмущением распекал руководителей шахт: они не устраивают подземных конюшен, нередко подземные лошади используются на поверхностных работах, а в шахту спускаются 96 неопытные, непривычные к шахтной мгле кони. Речь звучала страстно и заинтересованно. Заведующий отделом пропаганды придвинул губы к ушам соседа, заместителя председателя горисполкома: — Какой гуманизм! На людей бы его заботу, а не на лошадей. — На людей у него, говорят, достаточно мата, — также шепотом отвечал тот. Начальник НКВД в перерыве подошел к Алексею Николаевичу: — Молодец, хорошо выступил. Вопрос о лошадях — это вопрос о готовности к обороне, международная обстановка накаляется, события на границе еще раз показывают, конница играет важную роль. Алексей Николаевич не понял, серьезно говорит опасный собеседник или насмехается, может, прощупывает и счел достаточным ограничиться ничего не значащим хмыканьем. Заседание бюро, к удивлению, окончилось сравнительно рано, еще не было десяти часов вечера. Не рассчитывавший на ранее освобождение Алексей Николаевич не спешил домой, решил заглянуть в трест. Проходя через пустую приемную, пожалел, что зря не отправился на квартиру, там его нетерпеливо ожидает Фая. Не успел усесться за громоздкий стол — в кабинете управляющего стояла с незапамятных времен солидная резная мебель — как шумно, можно подумать, с необычайно срочным делом, не вошел, а ворвался как вихрь, начальник технического отдела Махновский. Новый управляющий трестом перевел Евсея Яковлевича с должности начальника планового отдела в начальники техотдела на освобожденное им место. В прежней должности Алексей Николаевич стремился ладить со всеми и с коллегой плановиком они сошлись не только по служебной линии, но и стали друзьями, насколько это возможно при замкнутости и осторожности Алексея Николаевича. Манера появляться в кабинетах начальствующих шумно, с видом весьма занятого человека отличала Евсея Яковлевича от прочих. По трестовским коридорам и городским улицам он вышагивал степенно, с внушительной важностью. Ворвавшись в руководящий кабинет, Махновский не спешил уходить оттуда, из обрывков телефонных разговоров, из фраз, на ходу бросаемых, из настроения начальства с пользой для себя улавливал, какой ныне ветер на дворе, и определял, какую позицию удобнее избрать в той или иной ситуации. Из уловленной информации большого секрета не делал, полученные сведения среди коллег и на шахтах распространял таким образом, что у собеседников складывалось впечатление о близости Махновского к руководству, о решающем воздействии на важные дела. Махновский удобно устроился в кресле возле приставного столика и для порядка, точнее для проформы, деловым тоном доложил управляющему: на 97 шахтах особых происшествий не случилось, с добычей на десять вечера есть плюс. Как опытный аппаратчик, Евсей Яковлевич быстро и точно сообразил, что при сегодняшнем настроении начальства допустимо отойти от официальности, можно обратиться к свободным темам. — Наш князь-то здорово определился!? — не то восхищенно, не то вопросительно воскликнул он. Он бросил эту фразу для уточнения настроения управляющего, подхватит ли тот приглашение к свободной беседе? Князем в аппарате прозывали меж собой бывшего главного инженера треста Елпачева. — Чего тут здорового? Ушел с такой солидной должности и завербовался на Север, это тебе не Москва и не Сочи. Ему что, здесь работы не хватало?! — Как же! Это же мастерский, прямо-таки гениальный ход! — Махновский чуть ли не захлебывался от восхищения, — пока здесь идет кутерьма, перетряска — уже по второму заходу берут — он на Севере отсидится, да еще под такой крышей! Северное промышленное управление числится за органами. Алексей Николаевич с кривой улыбкой согласно покачал головой: действительно, придумано не дурно. Для Елпачева оставаться дольше в тресте могло обернуться бедой, он из старых спецов, а их по последнему ряду подчищали. — Не в первый раз так выкручивается, — искренне восхищение Махновского перемешано с наигранным осуждением, — он в Шахтах работал, под Ростовом, когда там началась кампания со спецами. Помнишь, знаменитое Шахтинское дело. Тотчас сообразил: незачем попадать в один с ними невод и через дружков в Москве устроил перевод сюда, к нам. Ты, — Махновский наедине обращался к управляющему по-прежнему на «ты», — подожди, пройдет время, попомни меня, как только немного успокоится, закончится нынешняя кампания, наш князюшка гляди, вновь в теплых краях объявится. Зайцева заинтересовал разговор о мудром маневре Елпачева, но стоило Махновскому упомянуть Шахтинское дело, он недовольно заерзал в глубоком кресле, опасливо пригнул плечи, заводил глазами по кабинету. Махновский заметил беспокойство собеседника и понял причину этого по-своему: заводил глазами — кто и как мог их подслушать? Нарочито громко произнес несколько резких фраз с осуждением двурушников и приспособленцев, а потом перевел разговор на трестовские дела. Пустой разговор на служебные темы продолжался еще четверть часа и Махновский решил, что на сегодня с него довольно — отметил вечернее бдение у начальства — пора отправляться домой. Работа по вечерам и ночам в то время только начинала входить в обычай. Местные руководители знали, что в Москве бодрствуют чуть ли не до утра, в любой момент жди звонка, могут потребовать сведения, объяснения. Сколько угодно можешь ворчать, перемывать косточки 98 московскому начальству, но терпеливо торчи на службе, пока руководство не даст сигнала к отдыху. Перемену в режиме работы первыми, как водится, подхватили угодники и подхалимы, они демонстративно дольше других задерживались по вечерам: авось, понадобятся начальству, авось, заметят их рвение. При такой ситуации остальным не оставалось другого, как отбывать вечерние бдения, не быть же белой вороной. После ухода Махновского по внутреннему коммутатору Алексей Николаевич приказал позвать к нему дежурного по тресту. В кабинет, сияя широкой, с налетом смелости, улыбкой вошла молодая, высокая женщина с развернутой большой книгой дежурств. Приходу молодой женщины Алексей Николаевич если и удивился, но лишь немного. Ночные дежурства по тресту исполняли поочередно все инженеры треста, в свое время Алексей Николаевич в этой роли коротал не одну ночь. Сегодня по графику дежурить выпало Галине Никифоровне Поповой, инженеру по обогащению угля. Дежурный, а точнее дежурная, прошла к столу и встала с той стороны, где сидел управляющий трестом, положила перед ним развернутый журнал и начала объяснять обстановку на шахтах. Алексей Николаевич слушал довольно рассеянно, во-первых, Галина Никифоровна мало добавляла к информации Махновского, а во-вторых, его обеспокоило бедро докладывающей, которое все плотнее прижималось к его локтю, упиравшемуся в кресло. Положение Алексея Николаевича после ареста Евгении схоже с невольным монашеством — и возраст и должность не способствовали легким, мимолетным связям. На молодого здорового мужчину — Алексею Николаевичу еще не исполнилось и сорока лет, — длительное время томящемуся без любовных утех, прижимающееся бедро молодой, энергичной женщины воздействовало так, как и должно было воздействовать. Состояние и чувства Галины Никифоровым настроены в унисон с нарастающим возбуждением начальства. Время, в которое им обоим довелось жить, содержало, мягко говоря, много неудобств для молодых, здоровых и энергичных людей. Галина Никифоровна, в которой после недавнего замужества в полную силу проснулась женщина, в эти дни жила одна — ее муж Валерий отбывал очередную повинность на шестимесячных военных сборах. Обстановка в мире накалялась, страна усердно готовилась к возможным осложнениям, заблаговременно обучала военные кадры. Требовалась замена командирам, выбывшим в несчастные тридцатые годы не по военным обстоятельствам. Пылкой, чувственной натуре, а таковой родилась Галина Никифоровна, нелегко переносить разлуку с мужем. По тресту ходили разные слухи, как она разнообразит одиночество. В общем и целом, как выразились бы трестовские бюрократы, в этот поздний вечер случилось то, что не могло не случиться при соприкосновении одинокого томящегося мужчины с такой же одинокой, полной жизненной энергии женщиной. Тем более, что за кабинетом управляющего располагалась «комната 99 отдыха» с удобным кожаным диваном. В эту комнату Алексей Николаевич заходил редко, отдыхать на работе не привык, об ином ее предназначении до этого вечера не задумывался. Очень поздно, почти под утро, возвратился Алексей Николаевич в эту ночь на квартиру. Хромоногая Фира, которую Роза Львовна пристроила к нему в качестве домработницы, не удивилась, привыкла, у хозяина поздние возвращения скорее правило, нежели исключение. Не слышала возвращения и долго ожидавшая его Фая, не слышавшая, а потому и не предчувствовавшая, как в эту ночь в ее жизнь, как и в жизнь Алексея Николаевича, нечаянно-негаданно, вторглась новая сила, новые обстоятельства. 13 Уже темнеет. День весенний прирастает, Но все еще короткий, это как раз то, что нужно ей — Галине Никифоровне Поповой. Собственно ей-то безразлично — короткий зимний или длинный летний день. Лишь бы скорее встретиться, насладиться и снова ждать нового дня, новой встречи. Это ему — Алексею Николаевичу, управляющему трестом — потемки требуются, будто бы при сумеречном вечере или темной ночи их связь станет не видной любопытной трестовской шатии. Утаишь шило в мешке! И к чему, от кого таиться?! Жены у него нет, конечно, формально есть, но где она? В тюрьме, в лагерях? А оттуда она, Галина Никифоровна, ещё не встречала, кто бы возвратился. Говорят, ну и пусть говорят, реально даже он ей не муж, а она ему не жена. Не расписывались, не регистрировались. Так что права у них одинаковые, что у жены, по тюрьмам мыкающейся, что и у нее, здесь под боком, рядом с Алексеем Николаевичем обитающей. Едва от дома отошла, навстречу соседка Манька Перетолчина. Откуда ее черт послал? С работы, вроде, уже поздно: — Куда это, Галка, настрополилась? К милому дружку? Вот холера вездесущая, прознала уже. Если знаешь, так помалкивай, нечего на всю ивановскую трезвонить. — Валерий-то что пишет? Скоро ли возвращается? — Кто его знает? Ничего об этом не сообщает. Вот змея подколодная. Знает, не до Валерия ей сейчас. Приедет Валерий и ему кое-что останется, не убудет от нее. Не стала рассусоливать с Манькой. Зов жизни, сегодняшней, а не какой-то там заоблачной, постоянно заставлял спешить в сумеречное время снова в трест, не на работу, конечно, а к нему — Алексею Николаевичу. Внизу у входа дежурила не то швейцар, не то сторожиха пожилая, а по Галининым понятиям даже старая, вдова Стрежнева. Недовольная отомкнула 100 дверь, пропустила, ничего не спросив, ни словечка не сказав. Лучше бы какнибудь огрызнулась, а то одарила таким взглядом, хуже самого крепкого, самого грязного слова. Все ведает, про всех всю поднаготную собирает, карга старая. Поднялась на третий этаж. К себе, в техотдел решила не заходить, направилась к приемной управляющего, а оттуда вываливает сам Махновский, ее непосредственный начальник. Галину Никифоровну явление Махновского не смутило, он давно, с первого дня, в курсе. Он не карга Стрежнева, понимает ее, Галину, и видит свою выгоду от ее, так сказать, неформальных отношений с управляющим. На немой вопрос подчиненной: «как он там?» раздраженно заворчал: —Давит, как медведь. Затянули, говорит, разработку предложений к мобилизационному плану. А что это за план? Я его сроду не видел и представления о нем не имею. Кому он нужен? Что-то родить хочет, а что — сам не знает. Поговорила бы, чтоб отстал. — Нужно мне, — почти цинично ответила Галина Никифоровна. Махновский ее понял, не решать производственные дела она приходит вечерами к управляющему. Он даже похвалил ее про себя — не путает деловое с личным. Не дай бог, еще возомнит себя примой и его столкнуть с насиженного места постарается. Нет уж, лучше пусть шуры-муры крутит. Осторожно, чтобы скрипа-шума не было, заглянула в кабинет управляющего. Слава богу, один, смелее открыла дверь, рванулась к нему, готовая распахнуть объятия. Алексею Николаевичу не до объятий, его хмурое, усталое лицо несколько охладило пыл Галины Никифоровны, она ограничилась чмоканьем в щеку. — Со всех сторон давят: «давай скорее мероприятия по мобилизационному плану», а Махновский волокиту затеял, тянет и тянет. Заелись, бездельники, лишнего часа не перерабатывают. А тут жмут, как будто завтра война. Алексей Николаевич привык к поздним визитам инженерши из техотдела, но в этот вечер она появилась намного раньше обычного. Ему не удалось скрыть неудовольствие нарушением установленного им для себя суточного расклада жизни. Встречи с Галиной Никифоровной, по его расчетам, должны завершать активную деятельность перед необходимостью ложиться спать. В его жизни мало, что изменилось с возникновением «особых» отношений с Галиной Никифоровной. Просто он восстановил определенную физиологическую функцию, нарушенную исчезновением из его жизни Евгении. Понятия «любовь», «привязанность» в данном случае в его обиход не входили. Организм требовал женщину, она появилась, чего более? Женя стала исключением из его немногочисленных связей с женщинами. Ее он воспринимал как завершение формирования из себя человеческой особи, приложением некой, предназначенной ему, второй половинки, из соединения 101 мужчины и женщины, в данном случае из него и Евгении, складывалась нормальная человеческая структура. Поэтому и чувства к Жене необычайные и его привязанность прочная и от того болезненно восприятие ее исчезновения. Отруби ему палец, было бы больно, отнята часть его тела. Отнята Женя, это, разумеется, более болезненно, целая встряска для организма, для его натуры. И если восполнима, заменима, то не более, чем протез восполняет отрезанную ногу. Галина Никифоровна чувствовала своеобразную механистичность в их отношениях. И все же... Довольно легкое, по ее разумению, обольщение Алексея Николаевича пробудило в ее подсознании мысли: а что, если овладеть им полностью, добиться превращения любовника в мужа. Неплохо бы… Муж с солидным положением, с приличным окладом, с просторной квартирой, не обремененный детьми. О существовании Фай она знала, как и знала, что девочка ему не родная, а, значит, не может стать серьезной помехой. Не слишком честолюбивой была Галина Никифоровна, но иногда ее посещала мысль, а почему бы при помощи любовника, пока любовника, не продвинуться по службе. Чем она хуже Махновского, такой же инженер, по крайней мере, его заместителем она вполне могла бы стать. Это на первых порах, а там видно будет. — Я не ждал тебя так рано, — объяснял Алексей Николаевич, — дел еще много. — Мне встретился Махновский, похоже, ты ему влил, — игриво начала Галина Никифоровна. Алексей Николаевич четко отделял служебные отношения от личных, потому сразу пресек попытки вовлечь его в обсуждение проблем с Махновским. 14 На страну, на людей обрушилась страшная беда – заполыхала война, беспощадно ломая судьбы, быт, будущее. На управляющего трестом Алексея Николаевича Зайцева навалилась безбрежная лавина тревожных забот: по несколько суток не мог заглянуть домой. По утрам оправдывался перед волновавшейся из-за его отсутствия Фаей, неделями остававшейся лишь вдвоем с домработницей Фирой. Перед самой войной Фая совсем осиротела, если не считать его — ее отчима. Бабушка и дедушка Чумские тихо и незаметно для посторонних, но обвально и невыносимо тяжко для Фаи, один за другим скончались, даже их выживаемости оказалось недостаточно. Потеря сына Анатолия, их единственной опоры и надежды, а затем исчезновение в безвозвратную бездну невестки Евгении, роковым образом надломили их. В первые дни войны эвакуировалась в Ташкент Фаина тетка Сара с новым мужем. Судьба исчезнувшего, как многие другие, ее первого мужа Иосифа не волновала женщину, не обремененную моральными 102 принципами. Не будь рядом Алексея Николаевича, Фая была бы обречена на несчастную сиротскую долю. Отчим, любивший ее, то ли из-за привязанности к матери девочки, то ли по свойству далеко не черствой натуры, но не слишком подходящей к времени, в котором ему довелось бороться за место в этой жизни. Заботы управляющего теперь не те, что в мирное время, их не отложить на потом, не перерешить, требовалось определяться быстро, разом и окончательно. И перепоручить нельзя — время потеряешь, спрос все равно с тебя, спрос по законам того же военного времени: быстрый, решительный и окончательный, обжалованию не подлежит. Скидки на должность высокую, авторитет большой, заслуги прошлые не помогут, ответ надлежало держать за этот день, за этот час, за это мгновение, за это конкретное, сиюминутное дело. Авторитет у Алексея Николаевича к началу войны сложился солидный, его почитали не только в тресте, в городе, но и в Москве многие ценили, крепкого и надежного управляющего трестом, считались с ним. В наркомате, в Совнаркоме, в других московских кабинетах полагали — на него положиться можно, любое поручение исполнит беспрекословно, точно и вовремя. Умеет управляющий Зайцев давить и выдавливать, воля его непреклонна, прекословить никому не позволит. Конечно, авторитет, прежде всего заработанный, а не какой-то дутый, безосновательный — трест всегда планы выполняет, новые методы добычи угля осваивает: комбайн для проходки применили, в лавах пробовать начали комплексы — мощное металлическое передвижное крепление, весьма удачное решение при кровлях с сыпучим песком. Необычное новшество в Москве одобрили, опять Зайцеву в строку, мнения и разговоры в его пользу, мол, новатор, современный, грамотный руководитель. Почет ему, уважение от властей, премии, награды, недавно орден Трудового Красного Знамени сам Калинин в Кремле вручил. Про себя Алексей Николаевич иногда отделяет - где его настоящий успех, так сказать, личные заслуги, а где труд людей, что под его началом ходят, но себя все же не умалял, всегда подчеркивал — продуктивный труд подчиненного заслуга начальника. И куратор наркоматовский — Тимошевич Игорь Евсеевич — руку приложил к его прославлению. Алексей Николаевич хорошо запомнил рассказ сибирского коллеги о портфеле с бумагами и новом костюме. Его трест не сибирское захолустье, к Москве гораздо ближе, чаще наезжал наркоматовский контролер, иногда надоедал до чертиков, пытался лезть, куда не хотелось бы, но благодарным вниманием Алексея Николаевича не был обижен и с пустыми руками к жене не возвращался. В наркомате докладывал в соответствии с увесистостью командировочного чемоданчика и коробочных приложений к нему. Через доклады обласканного Зайцевым куратора всякая удача треста вырастала в крупные успехи, подчеркивалось руководящее мастерство управляющего. Если случалось худое — авария, завал, подтопление или просто план по углю срывался — в докладах Тимошевича об этом; не всегда упоминалось или говорилось 103 попутно, без выпячиваний, без указания на вину или промахи Алексея Николаевича, чаще все сваливалось на нерадивых заведующих шахтами, а иногда беды-неудачи тоже в его пользу выходили. Могло бы н хуже быть, докладывал Тимошевич, да организаторское умение, настойчивая воля и разумная распорядительность управляющего трестом худшее предотвратили, от более крупных несчастий отвели. С началом войны о Тимошевиче неслышно. Говорили, опять в Сибирь отправился уголь выколачивать, Донбасс под угрозой оказался, мощь страны сосредоточилась в Сибири. Алексей Николаевич и не вспоминал о Тимошевиче, и не только по ненадобности. Каждый новый день подбрасывал необычные, тяжкие проблемы, — о них прежде и помыслить никто не мог. Снабжение ухудшилось, начались перебои с поставками крепежного леса, терзали нехватки в транспортерной ленте, вагонетках, подшипниках, — куда ни кинь, везде клин. Неделю назад позвонил нарком: — Немцы, как видишь, к вам приближаются, — говорил он прокуренным сиплым голосом, — начинай готовить шахты к самому худшему. Заложи взрывчатку под копры, вентиляторные установки и стволы, где требуется, придется обрушить. Алексей Николаевич опешил от этих слов, война только началась, а такие страшные команды уже выдают. Его заминку уловил нарком: — Ты читал речь от третьего июля? Действуй, как там сказано! Чтобы ничего врагу не досталось! Приступай к эвакуации людей и не тяни с этим, а то потеряем все. Главное сохрани людей, кадры, потеряем их — пропадем! Самых опытных, стахановцев вывози в первую очередь! Куда направлять, связывайся с М..., — нарком назвал фамилию своего заместителя, — сам тоже готовься, но покидай рудник в последнюю очередь, убедись, что ни одна шахта целой немцам не достанется, понял?! От такого приказа в пору с ума сходить, да времени нет, немец безостановочно и неумолимо подкатывался к городу. Недели не прошло, как поступил приказ поторапливаться, а на шахтах не успевают заложить взрывчатку, не все эшелоны с шахтерами отправлены. Его кабинет как штаб боевого соединения: непрерывно одни докладывают, другие получают команды, беспокойные звонки, сплошной крик, мат, угрозы. — Сколько у тебя теплушек готово? — кричал Алексей Николаевич по телефону, начальнику станции, — давай собирай все, что можно, у меня больше половины людей еще не отправлены, не можем же оставлять такую рабочую силу! Не вывезем их — под трибунал оба пойдем, ты даже первым! Только положил трубку, хотел распорядиться, чтобы заместитель отправился на станцию, организовать погрузку людей, как грозно зазвонил «прямой» телефон от первого секретаря горкома партии. — Обстановка осложнилась, — командовал Коридзе, похоже, и в его кабинете полно людей, — немецкие танки на соседней станции вот-вот ворвутся в город! 104 Отдавай команды на взрывы, своих людей разошли по шахтам, сам проследи, чтобы ничего не взорванного не осталось! — Понятно, еду! — отвечал Алексей Николаевич. — Ты семью отправил? — не дал положить трубку первый. — Мне приказано в последнюю очередь. — Это тебе, а не твоей семье! Еще не хватало, чтобы немцы семью управляющего захватили! Немедля отправляй! Действуй! — Понял Вас! — коротко ответил Алексей Николаевич. Подчиненные на время отстали от него, понимали: получил важное указание от вышестоящего руководства и собирается с мыслями. — Зови всех замов и начальников отделов! — приказал Алексей Николаевич стоявшему перед ним с какими-то бумагами долговязому начальнику отдела кадров Поляниченко. Собрались мгновенно — большинство из вызываемых торчали здесь же в кабинете или в приемной: ожидали новых указаний или передавали прежние по телефонам. Алексей Николаевич оглядел присутствующих, прикидывая, кому какое поручение выдать, кого на какую шахту послать для выполнения грозного приказа наркома. — А где Махновский? Ему нужен начальник технического отдела, намеривался тотчас его отправить на шахту имени Кирова, за подрывом которой намеревался проследить сам. Прежде надо заехать домой, отправить на станцию Фаю, и, чтобы не потерять время, на шахту прежде него должен прибыть Махновский и начать взрывные работы. В ответ на вопрос управляющего о Махновском присутствующие не то загадочно, не то насмешливо переглянулись. — Он вместе с Цукуровым еще с утра на стацию отправился места в эшелоне захватывать, — ответил за всех Поляниченко. Цукуров Александр Митрофанович — заместитель Махновского. У большинства из присутствующих семьи подготовились к эвакуации, ждали мужей с транспортом. Мужьям же не до семей, требовалось выполнять задание управляющего трестом. Поляниченко позвонил домой и велел без него добираться до станции, отыскивать эшелон, а он, если успеет, догонит в пути. Жена упрекала его в бесчувствии, вечно самое тяжелое по дому взваливает на нее, Поляниченко выслушал справедливые нарекания, но покинуть трест, не выполнить задания по эвакуации людей с шахт не мог, о семье оставалось лишь переживать. В таком же положении оказались и остальные. — Мать его..., шкура ...ская, — не стесняясь, зло и презрительно выругал 105 пронырливого Махновского возмущенный Алексей Николаевич. Хотел куда-то позвонить насчет Махновского, но времени в обрез, надо быстрее рассылать оставшихся руководителей по шахтам, самое худшее наступило, подошло время взрывать то, что с таким трудом и жертвами совсем еще недавно возводили. Задания выданы, один за другим работники треста покидали управляющего. Алексей Николаевич, оставшись один, открыл сейф, начал выгребать оттуда пачки с деньгами. Зарплату обычно оставлял в сейфе, выдавая необходимую сумму хромой Фире на домашние расходы. Денег накопилось немало, там же лежали три сберкнижки. Рассовал часть денег по карманам, остальные пихнул в кожаный новенький портфель, до сих пор без толку лежавший в другом шкафу. На бронзовой планке, прикрепленной к портфелю, выгравировано поздравление сотрудников треста в связи с днем рождения управляющего, туда же затолкал часть бумаг, вынутых из сейфа. Позвонил по внутреннему телефону начальнику отдела кадров Поляниченко: — Ты еще на работе? Не стережешь место в эшелоне? — обрадовался, слава богу, кто-то еще оставался в тресте. — Бумаги уничтожаю, Алексей Николаевич. — Молодец! Зайди ко мне, обшарь все шкафы, ящики, столы и все уничтожь! Понял? А пока прощай! У меня все открыто. На минутку загляну домой и дальше на Кировскую. Только не задерживайся долго, торопись на шахту! — Понял, до свидания, Алексей Николаевич. Все. С трестом покончено. Не было времени у Алексея Николаевича предаваться размышлениям, меланхолии расставания, грустным или веселым воспоминаниям. Война толкала в спину, требовала быстрых и решительных действий. Дома застал до удивительного мирную картину: Фая читала книгу, Фира хлопотала по хозяйству. Алексей Николаевич даже опешил от такой мирной обыденности, настолько она отличалась от суматошности, взрывной энергии, жуткого и беспощадного беспокойства, которое окружало его в эти дни и, особенно, в последние часы. — Вы чего не шевелитесь, не видите, что немцы рядом? — возмущенно заговорил он. — А нам что беспокоиться, ты не звонишь, не приходишь? — зло и угрюмо отвечала Фая, — думала, нас бросил. А куда нам деваться? — в голосе Фай нотки обреченности и обиды на Алексея Николаевича. — На кого же все это бросить? — вторила ей Фира, обводя руками вокруг. — Фая, быстро собирайся и в эшелон, сейчас здесь будут немцы! — Алексей Николаевич не обращал внимания на их слова, сейчас не обиды считать, а быстрее уносить ноги. Он достал с антресоли два больших чемодана. 106 — Где твои вещи? Давай! — Какие вещи? — Фая явно не осознавала, что надо немедля убираться от этого дома. — Где платья, пальто, обувь? Быстро укладывай в чемодан! Алексей Николаевич метался по квартире, кидал в чемодан, что попадалось под руки, торопил Фаю. — Быстренько одевайся и в машину! Фира беспокойно наблюдала за сборами, пыталась помочь, отыскивая и бросая с чемодан теплые вещи! — Ладно, хватит! — прекратил сборы Алексей Николаевич, — времени у нас в обрез! Мне еще на шахту Кирова надо, немцы вот-вот будут здесь! Фая заплакала. Она не знала, отчего плачет, но слезы и рыдания душили ее. К Фаиным рыданиям вдруг, неожиданно для Алексея Николаевича, присоединились всхлипывания Фиры. — Да перестаньте, не до ваших переживаний, надо быстрее ехать, пошли, Фая! Фая не двигалась, Алексей Николаевич хотел прикрикнуть, поторопить ее, но выражение лица Фай, ее недоуменно-испуганный взгляд удержали от этого. — А как же мамочка? — пронзительным шепотом спросила Фая, – вдруг она вернется? Нас на месте нет, где она искать будет?! Алексей Николаевич перепугался, не случилась бы опять истерика, как тогда, в памятный вечер, когда он сказал девочке, почти ребенку об аресте Евгении, этого только сейчас не хватало! — Фаечка, успокойся, — он погладил ее по голове, лицу, тут остается Фира, если мама вернется, она расскажет, куда мы поехали. Да мы скоро вернемся, наши не вечно же отступать будут! Решительно подхватил чемоданы и направился к выходу. — А я как? — вдруг заревела Фира, — мне-то что делать? — Как что? Оставайтесь здесь, вас никто не тронет, вы же не управляющий! — Алексей Николаевич поставил чемоданы, вынул из кармана пачку денег. — Вот вам на жизнь, немцы здесь долго не задержатся, присматривайте за квартирой. Вновь взял чемоданы, пропустил вперед плачущую Фаю, подталкивая ее чемоданами. На лестнице Фая повернулась к нему: — А как же с тетей Фирой? Она же еврейка! Алексея Николаевича словно молнией по голове, совсем забыл, а вернее даже и не думал, какой национальности у него домработница и ужаснулся от возможной участи Фиры. Но он торопился, надо поспеть на станцию, а потом на шахту Кирова. 107 — Ничего с ней не случится! Кому она нужна?! — почти прикрикнул на Фаю. Шофер, нетерпеливо ожидавший — его тоже терзало беспокойство за собственную семью — подхватил чемоданы, затолкал в багажник. Алексей Николаевич усадил плачущую Фаю на заднее сидение, рядом втиснулся сам. На железнодорожной станции Алексей Николаевич застал подлинное столпотворение. Со связками, чемоданами, корзинами, сумками, с грудными детьми, кошками, собаками и даже с козами по железнодорожным путям из конца в конец с криком, матом, плачем, носились почти обезумевшие люди. То, что до служебных кабинетов доносилось в виде кратких и неполных сводок или доверительной информации, для людей на станции существовало в жуткой реальности, намного превосходящей инициальные сводки, умножалось многократно самыми устрашающими слухами. Распространялось, что немцы уже в городе, железная дорога перерезана, ушедшие ранее составы разбомблены, и так далее в таком же духе. Обстановкой здесь владел не разум, полновластно командовала паника, доводящая все до полной неразберихи, невообразимого хаоса. Железнодорожники панику увеличивали, неизвестно почему перегоняя составы с одного места на другое, не отправляли накопившиеся эшелоны. Лязг буферов, визг тормозных колодок, непрерывные гудки паровозов еще больше пугали людей, взвинчивали их. Эшелоны, в которых должны отправляться трестовские, Алексей Николаевич отыскал совершенно случайно. Его увидел работник отдела снабжения треста Дутов. С двумя огромными чемоданами и с мешком за спиной, потный, в зимнем пальто и со сбитой на бок кепчонке, буквально налетел на управляющего трестом: — Алексей Николаевич, в отделе снабжения брошены все заявки, как же мы организуем снабжение на новом месте? Алексей Николаевич оторопел от такого наскока, не мог сразу уразуметь, о каких заявках шла речь и зачем они сейчас нужны. А уразумев, не стесняясь Фаи, обматерил Дутова. — У Гитлера спросите! Кому сейчас нужны Ваши заявки?! Где наш состав? — Вот он, Алексей Николаевич! Дутов шустро и легко с огромным грузом развернулся в обратную сторону и полез под стоящий состав, ловко проталкивая под вагоны свой груз. Трестовский эшелон стоял совсем рядом. Алексея Николаевича увидели сразу из нескольких вагонов и с криками кинулись к нему. Всех опередил Махновский Евсей Яковлевич, он подбежал к управляющему, выхватил из его рук чемоданы с Фаиными вещами, повлек за собой. — Сюда, Алексей Николаевич, в нашем вагоне для Вас место есть. А где остальные вещи? Махновский и в этой обстановке двигался быстро и шумно. Он на голову выше Зайцева, шире в плечах и по врожденной солидности и здесь внушал 108 уверенности и доверия больше, чем его начальник. — Ты как здесь оказался? Драп от немца устроил? Почему не в тресте?! — грозно обрушился на Махновского Алексей Николаевич. — Я организовываю эвакуацию своего отдела, Вы своим приказом, Алексей Николаевич, возложили ответственность за это на начальников отделов. «Что сейчас возьмешь с Махновского?» — подумал Алексей Николаевич. Возможно, в этой кутерьме он действует вернее других. Алексею Николаевичу захотелось бросить все это суматошное дело, забраться с Фаей и чемоданами в угол вагона и терпеливо ждать, куда повезут из этой страшной круговерти. Но решительно отбросил крамольную мысль, вспомнил грозный звонок наркома, понял, ему никак нельзя бросить порученное дело. Такое равносильно самоубийству — трибунал и расстрел обеспечены. Из вагона навстречу выскочила Галина Никифоровна Попова. Она сделала шаг, чтобы броситься на шею Алексею Николаевичу, но сдержалась, хотя ее порыв и был всеми замечен. Галина Никифоровна не слишком смутилась, в тресте давно знали об особых ее отношениях с управляющим, она не пыталась их скрывать, напротив, при случае давала понять, какое может иметь преимущество из этих обстоятельств. Оттеснив Махновского довольно мощной фигурой, Галина Никифоровна зашептала: — Как хорошо, что приехал, вместе легче будет, я в вагоне хорошее место подобрала, отделим его занавеской... Алексей Николаевич окинул ее взглядом не обещавшим ничего хоршего. — Я не поеду, у меня еще масса дел! Там видно будет. Мне еще в Москву надо попасть, к наркому, — Алексей Николаевич оглянулся, заплаканная Фая бросала злые взгляды на пристававшую к Алексею Николаевичу настырную Попову, — я привез Фаю, присмотрите за ней в дороге, помогите на новом месте устроиться. — Алексей Николаевич, будь спокоен, я присмотрю, — отвечала Попова, хотя Зайцев обращался с этой просьбой к Махновскому. Тот стоял рядом и кивал головой. Галина Никифоровна отнесла поручение Зайцева к себе и сочла его проявлением добрым знаком на будущее. Алексей Николаевич тревожился за Фаю, но в этой обстановке ему следовало спешить на шахту имени Кирова, проявлению чувств, он наскоро попрощался с девочкой, у той из глаз хлынули слезы, затряслись плечи. — Успокойся, пожалуйста, вот тебе деньги на дорогу и на первый случай, — Алексей Николаевич вынул из кармана толстую пачку денег, сунул в карман пальто повисшей на нем Фай. Как только Фая по подвесной лесенке поднялась в вагон, Алексей Николаевич позвал Махновского. — Раз ты уж здесь оказался, — со злой иронией произнес он, — то головой 109 отвечаешь за этот эшелон! Сейчас же иди к начальнику станции и быстрее отправляйтесь, немцы вот-вот будут в городе. Понял? Чего стоишь? Не тяни! Махновский стал как бы меньше ростом под грозными приказаниями управляющего, торопливым шагом направился в сторону вокзала, но, отойдя немного от вагона, приосанился, к нему вернулись солидность, внушительность, начальственный облик. Алексей Николаевич побежал к машине, надо спешить на шахту. Галина Никифоровна кричала ему вслед: — Быстрее приезжай, я жду! 15 Пожалуй, только в войну россияне во всей наглядности, измерили собственными судьбами насколько велика, обширна их действительно великая страна, до этого они механически, не всегда вдумываясь, прилагали эпитет великая, не взвешивая его сути. В длинных эшелонах, в основном, в товарных вагонах, приспособленных под теплушки, одних из них вывозили на восток, в неведомую, а потому и страшащую даль, других везли в солдатских шинелях не в меньшую даль - на запад - на страшную и для многих роковую битву. Махновский сумел использовать для блага людей, переполнивших эшелон, свои начальственные качества - солидность, апломб, нахрапистую напористость настырным нажимом, обаянием, чаще напускным, громкими угрозами заставил замотанных железнодорожников прицепить к эшелону паровоз и отдать команду на отправление. Если бы Фая и захотела, то ей всё равно не удалось бы вытравить из своей памяти длинное, многодневное невольное путешествие, названное непривычным, но быстро въевшимся в обиход корявым словом «эвакуация». Поезд уже тронулся, как на станцию налетела стая фашистских самолетов, паника, и до сих пор державшая в напряженности людей, еще более усилилась, теперь уже от непосредственной, видимой и страшной угрозы, люди выскакивали из вагонов, метались по путям, искали спасение от бомб и пулеметных очередей, руководимые звериным инстинктом самосохранения они не столько избегали смерти, сколько находили ее. Трудно сказать, опытным или трусливым оказался машинист паровоза, к которому прицепили эшелон с трестовцами, при налете он не остановил поезд, лишил возможности выпрыгнуть наружу несчастным пассажирам, бросившимся в страхе к вагонным дверям, напротив, быстро набрал скорость и вывел, казалось, обреченный поезд из зоны бомбежки. Кинувшийся вдогонку самолет сбрасывал бомбы не прицельно, они разорвались в стороне от железнодорожного полотна, пулеметная очередь также большого вреда эшелону не причинила. Такое действие, разумный маневр машинист мог совершить, имея страшный опыт, 110 лучший способ спасения — это быстрее уйти из зоны бомбежки, оставаться на месте означало безвольно подставиться под неминуемый расстрел фашистским хищником. Вагон встряхивало от взрывных волн, казалось вот-вот он опрокинется, свалится с рельсов, забурится, рухнет под натиском других вагонов. Как ни странно это звучит, но бомбежка благотворно подействовала на состояние Фаи, отвлекла ее от смятения, горя, охватившего при прощании с привычным домом, с родным городом, она, конечно, испугалась, съежилась, и внутренне и внешне. Немало перепуганная Фая все же рассмотрела, что Евсей Яковлевич Махновский вытянулся напрягся всеми своими мускулами, лицо его настолько бледное, что затасканное выражение «побелел как лист бумаги», в данный момент вполне уместно, к нему прижалась жена, грациозная для своих лет женщина, она, похоже, безропотно отдалась, как самка в зверином стаде отдается под защиту вожака. Ее по-матерински больше беспокоил сын, Вадим, сидевший на нарах рядом с Фаей, внешне он, как две капли воды похож на отца, но более полон самоуверенности, что у него отец видный начальник и красивая мать, одарившая его внешностью, приводившей в восторг девочек из школы. Появление на станции хрупкой и нежной девочки привлекло его отнюдь не праздное внимание. Она еще совсем ребенок, но все же в теплушке ближе других ему по возрасту. Совсем юная попутчица выделялась редкостной, загадочной красотой, красотой прирожденной, натуральной. С начала бомбежки Вадим, как и отец побелел, дико озирался по сторонам и его вырвало, Фая перепугалась за него и ее тоже затошнило от вырывавшейся из Вадиковой глотки рвоты. С другой стороны от Фаи расположилась Галина Никифоровна Попова, пытавшаяся, как только исчез Алексей Николаевич, взять одинокую девчонку под неусыпную опеку, она бесцеремонно и энергично растолкала вещи, оказавшиеся рядом ссоседей, высвободила место для Фаи, решительно усадила ее ближе к себе и намеревалась не менее решительно забрать деньги, что на ее глазах без всякого счета сунул в карманы Фаи отчим, внезапная бомбежка помешала Галине Никифоровне осуществить немедленную экспроприацию, от страха у нее выпучились глаза, ей хотелось закричать, но спазмы сдавили гортань. Взрывы бомб, наконец, остались позади, затих пугающий шум удалявшегося стервятника-самолета, выпустившего последнюю пулеметную очередь по эшелону, по инерции страх еще несколько минут держал в оцепенении Фаю и ее невольных соседей. Затем наступила разрядка, обычная после острого приступа животного страха, вагонный люд необычайно расшумелся, подняли крик маленькие дети, возможно, они кричали и прежде, но из-за бомбежки и сковывавшего людей страха на их крик никто не реагировал. Разрыдалась грациозная жена Махновского, а на лице ее мужа появилась неестественно яркая краснота, Вадим явно стыдился пережитых минут и пытливо всматривался в Фаю, пытаясь понять, видела ли она, как ему было страшно. Галина Никифоровна соскочила с места и разразилась гневной тирадой. - Это разве машинист?! Так возят только кирпичи, а не живых людей! У 111 меня все почки отбиты! Начальник станции растяпа, сонный, тянул с отправкой, пока не налетели эти стервятники! Управляющий тоже хорош гусь, бросил людей под бомбежку, а сам смылся, над ним самолеты не летают, бомбы не капают! Фая молча и неприязненно наблюдала за словесным извержением своей попутчицы, возможно, и покровительницы. До нее доходили разговоры о связи Галины Никифоровны и отчима, она не совсем понимала, о чем шла речь и не придавала этому заслуживающего значения, пока не увидела на станции, как по хозяйски, на правах, если не жены, то очень близкого человека, общалась Галина Никифоровна с Алексеем Николаевичем. Фая подсознательно считала себя единственной, имеющей безусловные права на него, не зная ничего, разумеется, о юридической правомерности своих претензий, для нее он был мужем ее матери, ее отцом, она не представляла какого-либо различия в понятиях «отец» и «отчим». Она видела, как нежно любил Алексей Николаевич ее мамочку, принимала эту любовь как естественную, истинную, он принадлежал ей как бы по праву собственности, а после исчезновения матери и по праву наследования. Судорожное возбуждение после выхода эшелона из опасной зоны постепенно затихало, люди успокаивались, постепенно начинал устраиваться дорожный быт, время от времени вспыхивали мелочные стычки из-за дележки места, из-за обнаружившейся пропажи какой-либо вещи, неизвестно еще захваченной или забытой в спешке. Заботливые мамаши занялись кормежкой малолетних чад. 16 Наконец-то Зайцев добрался до столицы, даже не верится — сидит в наркомате, перед куратором его, теперь уже эвакуированного, треста Тимошевичем Игорем Евсеевичем, словно не о себе, а о ком-то другом взволнованно, сбивчиво ведет рассказ, что перенес, вытерпел, познал и узнал за эти две недели. Поражался — как ему, именно ему, все это досталось. Расскажи об этом кто-нибудь другой месяц назад — ни за что бы не поверил. Больше всего страшился Алексей Николаевич угодить к немцам, нет, не пленение, не захват немцами пугал его, боялся самого себя — выдержит ли, не сломится ли, не согнется ли, окажись он у врагов. Каких только людей не повстречал, пока пробирался к Москве, как не одинаково их поведение в чрезвычайных ситуациях! Видел, как коротко расстояние от самоуверенности, самомнения до падения. В не блиставшем и прежде солидностью и убранством кабинете куратора сейчас еще более убого, обшарпано, неуютно. Два других стола завалены бумагами, раскрыты шкафы, на полу разбросаны бумаги. — Готовимся к эвакуации,— пояснял Тимошевич,— наркомат уже на новом месте. Остались нарком да несколько нас, бедолаг, не попавших под эвакуацию в первую очередь. А что творится вокруг, вы лучше меня знаете, немцы, сами 112 видели, до Москвы добрались, танки, говорят, уже в Химках. Последние слова Тимошевич произнес полушепотом, как бы сообщая великую тайну, хотя это секретом ни для кого не являлось, он помнил 16 октября 1941 года в Москве и последовавший грозный приказ Сталина об осадном положении. — Видел, нагляделся такого, что и присниться не могло. Как немцам в лапы не попал, лишь удивляться приходится, — согласился Алексей Николаевич. — Почему задержался? Ваши, насколько я знаю, давно выехали. В словах Тимошевича не столько вопрос, скорее упрек: управляющий трестом отстал, а еще хуже, бросил своих подчиненных, торчит неизвестно зачем в Москве. Тимошевич только что вернулся из Молотова — бывшей Перми — выезжал туда по заданию руководства, что произошло без него в наркомате и в подопечных трестах, в точности не знал. — Выполнял задание наркома взорвать шахты. Едва успел. Кировскую взрывал почти на виду у немцев. Тяжкие дни выпали на долю Зайцева. Со станции, проводив Фаю и трестовцев, помчался на шахту Кирова, все приготовлено для взрывов, начали бы взрывать и без него, но в голове прочно застряло жесткое указание наркома: — Сам проследи, чтобы ничего немцам не досталось! Взрывай, не жалея! Подбежавший командир саперов заторопил: — Уходите быстрее, сейчас начинаем рвать. Что делать дальше? Возвращаться на станцию? Эшелон наверняка уже ушел. Догонять на машине? Подошел шофер, в глазах испуг, чуть ли не плачет: — Поедемте, Алексей Николаевич, без вас взорвут. Мне надо домой, что там с семьей — не ведаю. В голосе шофера затравленность, тревога и какая-то решимость обреченного, на уме только семья и никакими приказами его не удержать, понял Алексей Николаевич. Состояние Зайцева не лучше. Кто он? Разумеется, не управляющий трестом, жертва, беспомощная жертва неотвратимых обстоятельств, они теперь управляют им, диктуют собственное поведение и отношение к людям. А тут еще расхныкался водитель. — Поедем, — отрешенно согласился он. Километра два отъехали от шахты, видят—впереди дорогу пересекают немецкие танки, они входили в город, шахта оставалась в стороне от направления движения танковой колоны. — Что делать, Алексей Николаевич? — испуганно запричитал шофер, — как проедем в город? — В город теперь поздно, к немцам попадем, это ни в коем случае недопустимо. Шофер в паническом напряжении, вот-вот сорвется: « доездились, 113 допровожались»...Назад возвращаться к шахте невозможно и поздно, оттуда доносились раскаты взрывов. — Давай попробуем напрямую через поле, может, с той стороны проскочим в город, — скомандовал Алексей Николаевич. Повернули на неубранное картофельное поле, трясло, казалось, потроха вытрясет. Вскоре выбрались на Тульское шоссе, здесь жуткое столпотворение: грузовики, телеги, пролетки, велосипеды, ручные тележки и люди, люди с сумками, узлами, мешками, с детьми, гул, плач, стенания, многие ведут коров, толкают упирающихся коз. — Куда дальше? Шофер спрашивал прерывистым, злым голосом, в свалившихся на него злосчастьях, бедствиях семьи упрекал управляющего, от его беспутности, от дурацких, по мнению водителя, приказов вся неразбериха - дозаседались, в тресте проторчал, дома со своей Фаечкой ненаглядной, на станции развел прощание чуть ли не до слез - только время потеряли, теперь вот все дороги запружены, перерезаны немцем, в какую сторону не поверни все равно не прорвешься. Емуто, Зайцеву — что? Своих на поезд усадил, а как с его семьей? Может, и они гдето в людском потоке, обвешанные узлами, котомками бредут. А, может, уже под немцем мытарства терпят? Зачем поперся на Кировскую, не управились бы без него?! Да и кому эти взрывы нужны? Люди-то все давно разбежались, а без них шахту не запустишь. А с неба новая беда — наваливался устрашающий рев немецких самолетов, они вынырнули как-то вдруг из-за облаков, и, казалось, со всех сторон, самолеты снижались, открыли частую и густую стрельбу. На дороге паника: одни попадали в придорожные канавы, другие кинулись к редким кустам вдоль дороги, третьи в растерянности остановились, рев, вопли, пулеметная трескотня. Водителем овладела паника, он бросил руль, выскочил из машины и помчался в сторону, откуда только что приехали, Алексею Николаевичу ничего не оставалось, как тоже выскочить из машины. Схватив портфель, в котором лежали захваченные из кабинета бумаги, казавшиеся ему особенно важными, отбежал от машины и бросился в придорожный кювет, на него, так ему представилось, на бреющем направлялись два самолета, выпуская в него поток пулеметных пуль. Самолеты пронеслись столь низко, казалось вот-вот зацепятся за землю, шум моторов наваливался осязаемым валом, возбуждал неимоверный страх. Обстрел продолжался совсем недолго, самолеты улетели быстро, видимо, шли с бомбежки, увидели беспомощных людей на дороге, прошлись над ними, расстреляв оставшийся боезапас. Боязливо оглядываясь, Алексей Николаевич поднялся с земли, пошел к дороге, машина стояла на прежнем месте, шофер исчез. С полчаса ходил вокруг Алексей Николаевич, искал, звал, бесполезно, сам поехать не мог, водитель, по въевшейся в него профессиональной привычке, вынул ключи. Между тем, движение по дороге возобновилось и никакими налетами, 114 обстрелами, смертями его не остановить. Алексей Николаевич включился в общее движение. 17 Эшелоны, эшелоны, эшелоны... Ими забиты станции, вся железная дорога от Москвы до Иркутска и даже дальше. В ту и другую сторону они продираются сквозь плотный заслон, устроенный из... эшелонов же. Несется поток эшелонов с подкреплениями на фронт, им встречно пробиваются составы с людьми, станками и оборудованием на новые места, чтобы как можно быстрее возобновить производство столь нужного с огромными усилиями сдерживающим напирающего врага войскам, оружия, боеприпасов, солдатского довольствия. Эшелон с трестовцами вторую неделю проталкивается в далекую, неведомую и, что греха таить, страшившую многих Сибирь, не напрасно же Сибирью всегда пугали русских людей. По мере приближения поезда к цели, Фая с нарастающим волнением ожидала встречи с загадочной страной, для нее по многому таинственной. Знала, что это родные места ее неизвестно куда канувшей матери, мамочка с каким-то непонятным восторгом, ностальгической любовью не раз рассказывала о бескрайних сибирских расстояниях, непроходимой тайге, жестоких морозах, чистых реках и крепких людях. В вагоне установился дорожный быт: по утрам бежали к водогрейкам сполоснуть лицо, набрать воды в чайники, ведра, кувшины. На каждой станции выскакивали искать съестное, которое, чем дальше ехали, тем дороже стоило, многие давно поистратились и выносили на привокзальные площади продать или выменять на продукты какую-либо вещь. Фая тоже выскакивала, но ничего не покупала и не продавала, Галина Никифоровна после бомбежки все-таки довольно решительно изъяла деньги, оставленные Алексеем Николаевичем. Фая, еще не оправившаяся от потрясений того дня, отдала деньги безропотно, не сопротивляясь, собственно, на эффект внезапности, решительности и рассчитывала энергичная опекуншаа. Чем дальше за Урал, тем богаче базарчики, хотя война и здесь уже сказывалась, стакан варенца, бутылка молока, кучка вареной картошки на бумажном или капустном листе стоили теперь столько, что большинство эвакуирующихся, а точнее беженцев, возвращалось в теплушку без покупок, горестно разводя руками, в ответ на жалобно вопрошающие взгляды ребятишек, старушек и стариков. Галина Никифоровна, когда большинство взрослых убегало рыскать по базарчикам и киоскам, вынимала из своих бездонных сумок колбасу, сыр, сало, (когда только сумела столько захватить), отрезала тонкие пластики, накладывала на тонкий кусочек хлеба, его запасала на больших станциях, растолкав очередь, карточки в сибирских областях введены еще не везде. Кипяток обычно приносил Вадик Махновский, он давно оправился от испуга, сковавшего его при бомбежке, стал прежним, самоуверенным. В оставленном городке Фая 115 лишь несколько раз видела этого видного, красивого юношу. Природа заказала и исполнила почти точную копию отца — Евсея Яковлевича, та же уверенная походка, тот же крепкий волевой подбородок, то же не слишком скрываемое презрение к окружающим, только осанистости у Вадима пока поменьше, да фигура потоньше, погибче, чем у полноватого отца. Продолжительность стоянки поезда определялась непонятно какими нормами, во всяком случае, не зависела от размеров станции, города, поезд мог, не останавливаясь, миновать крупную, всем известную станцию и на много часов застрять на безвестном разъезде, у которого иногда даже и названия не было. На этот раз остановились на какой-то станции на подступах к Красноярску. Вадим Махновский сразу же выпрыгнул из вагона, но вскоре вернулся, по каким-то, одному ему известным признакам, он почти безошибочно определял ожидаемую продолжительность стоянки. Позвал Фаю: — Вылезай из вагона, пойдем побродим, стоять будем долго. Фая не прочь побродить, но дорога так измотала ее, она настолько ослабела, что на нее навалилось безвольное равнодушие ко всему, не хотелось двигаться, лежала бы неподвижно на жестких нарах целыми сутками. Вадим парень настырный, отделаться от него не так-то просто, схватил за тонкую руку, почти насильно поднял с нар, буквально вытянул слабо сопротивлявшуюся Фаю, и также натянул на слабо сопротивлявшуюся девочку пальтишко — утренники в Сибири прохладные. Вадим помог Фае выпрыгнуть из вагона и, подхватывая, не совсем уж нечаянно, на мгновение прижал к себе девочку, у бледной и слабенькой Фаи от свежего воздуха и слабости закружилась голова, она наверняка бы упала, если бы Вадим не задержал ее в своих объятиях. На привокзальной площади под навесом ряды деревянных прилавков, сколоченных, должно быть, еще при сооружении Транссиба, на них отварная картошка, свежепосоленные огурчики, морковь, лук, молоко, варенец, лепешки, выпеченные из ржаной муки пополам с отрубями и картошкой. Вадим перехватил голодный блеск в глазах Фай, стал торговаться, как ни подавлял голод все другие чувства и думы Фаи, она не могла не оценить предприимчивости попутчика, а теперь и покровителя, и картошку на капустном листе, и варенец в эмалированной кружке, и ржаную лепешку он купил дешевле, чем запрашивали хозяйки. Он не только экономил так нужные ему пятаки и гривенники, а деньги Евсей Яковлевич выдавал по строгому счету, ему доставляло удовольствие покрасоваться перед Фаей в роли хозяйственного, сметливого человека, понимающего жизнь, знающего цену деньгам и продуктам, показать, что перед нею не беспечный мальчишка, а вполне взрослый мужчина. Фая пыталась робко запротестовать, когда съестное богатство Вадим преподнес ей, но голод не тетка и через минуту она с жадной ненасытностью торопливо поглощала и картошку, и варенец, и лепешку. Потом они побродили по грязному вокзалу, вдоль заставленных составами путей и, конечно, — где лучше предоставлялась такая возможность! — Вадим показал умение удерживать равновесие при ходьбе по рельсу. 116 К концу дороги Вадим сделался совсем необходимым для Фаи. В незатейливых разговорах, перешучиваниях, воспоминаниях об общих школьных и уличных знакомых убивали томительно тянувшееся дорожное время с вечными дерганиями состава, перетаскиванием его на станциях с одного пути на другой, с долгими стоянками на безвестных полустанках и разъездах. Подкармливаемая Вадимом девочка несколько оживилась, ее меньше мучили воспоминания о страхах при той бомбежке, на время оставляло беспокойство о задержавшемся Алексее Николаевиче, о покинутой Фире... 18 Алексей Николаевич мог быть удовлетворен — вот он в Москве, добрался до наркомата, предстал перед очами куратора. Но до радости ли теперь?! Повсюду развал полнейший, никакой определенности, от треста оторвался — как они добрались до места, что с Фаей? Кто ее пристроит, присмотрит за ней? Знала бы Женя, отправил девочку неизвестно куда, никогда бы его не простила, ладно, Женя, ей сейчас наверняка не до дочери, где она, бог весть, жива ли, но собственное беспокойство за судьбу бедной девочки непрестанно терзало его душу. Куда ему податься? Догонять трест? Зачем, кому он там нужен? В месте назначения действует трест с управляющим, которого он знал. На шахту идти? С нуля начинать? Может здесь, в Москве остаться? Пойти в ополчение? Мысль неплохая, но фронт есть фронт, оттуда не всякий возвращается. Ради чего он с ежеминутным риском, опасностью для жизни, с неимоверным трудом через перелески, обходя деревни, жилье, в основном по ночам пробирался к Москве?! Обходил, чудом проскальзывал через натыканные частой изгородью патрули, задержи они, понимал Алексей Николаевич, начнутся проверки, распросыдопросы, выяснения. Доказывай—не дезертир, мол, не предатель, от треста, вот отстал, еще на кого нарвешься — без распросов-допросов арестуют, осудят, сделают изменником, а то под горячую руку и пристрелят — война все спишет, всех оправдает. Нет, в благополучный исход встречи с патрулем, заграждением не верил - люди в патрулях издерганы, перемучены, перепуганы, им бы быстрее справиться с прущей через них бесконечной массой тоже издерганных, истерзанных людей. Тут не до внимательности, чуткости, доброжелательства. По Москве тоже петлял, как заяц, не наткнуться бы на патрульных, на милицию. Бог миловал, без особых приключений добрался до старых знакомых, люди добрые: приютили, помогли обмыться, переодеться, дали передохнуть. Как ни пыжился Тимошевич изобразить из себя начальство, невозможно не заметить — сейчас главное для него быстрее уехать из Москвы, не исключал, что вот-вот ворвутся фашисты. Отлично помнил — у него шахтерская бронь, освобождение от военной службы по производственной надобности. Это солидное и надежное прикрытие. А что обстоятельства стали иными и его 117 надобность для производственных дел довольно сомнительная, его почти не волновало. Голова отягощена одной мыслью — быстрее выбраться из опасной столичной обстановки. Тимошевич— чиновник вышколенный и пронырливый не мог не воспользоваться прибытием управляющего трестом Зайцева. Удобный повод лишний раз помаячить на глазах у начальства. В Москве уже нет начальника Главка, ни кого из заместителей наркома, все они уже эвакуировались, оставался один нарком с помощниками. Алексей Николаевич не знал, не ведал, как действовал Игорь Евсеевич, на какие рычаги нажимал, с кем говорил, как заинтересовал, но запыхавшийся и явно довольный собой куратор заявился с неожиданным сообщением: - Договорился. В одиннадцать вечера, в двадцать три часа, — уточнил Тимошевич, — тебя вызывает нарком. — Меня? Нарком? — удивился Алексей Николаевич, никого ни о чем договариваться он не просил. — Тебя, тебя, кого же другого! Все разъехались, нарком здесь один, дел у него по горло, но ты ему нужен. — Зачем я ему нужен? Тимошевич недоуменно посмотрел на собеседника. Чудак-человек, его нарком вызывает, а он еще кочеврыжится, рассуждает. Он, Тимошевич, столько лет в наркомате, а ни разу не удостоился вызова к наркому, правда, у его заместителей бывал, не у всех и не часто, выше начальника главка их брата куратора не допускают. — Наверное, поинтересуется, как ты его задание выполнил по эвакуации и по взрывам. Кроме того, ты сейчас без должности, надо же тебя куда-то пристроить. В общем готовься, мало ли о чем может спросить нарком. Мне же приказано сегодня же уезжать из Москвы, догонять наркомат. Так что прощай, до новых встреч, как говорится. Алексей Николаевич рассеянно пожал руку, протянутую Тимошевичем. До сих пор бывал у наркома раза три-четыре, вызываемый на совещания, не один раз говорил с ним по телефону, трест от Москвы самый ближний и его управляющего вызывали, как своего рода представителя «низового звена управления», отражающего настроения и пожелания «мест». Наедине, как предстояло в этот поздний ноябрьский вечер, разговаривать с высшим руководителем отрасли Алексею Николаевичу не доводилось,на всю жизнь запомнил телефонный разговор с наркомом после ареста Жени. Как много он значил для него в тот день — день потери, страха и надежды, вернувшейся к нему после наркомовского утешения! Точно в одиннадцать вечера, или как уточнил, исходя из обстоятельств военного времени, Тимошевич, в двадцать три часа ноль-ноль минут, Алексей Николаевич прибыл в приемную наркома. Внешне здесь как обычно - на привычных местах столы и шкафы, аккуратно расставлены папки, разложены 118 бумаги, четко и деловито отвечает на телефонные звонки помощник, он, как понял Алексей Николаевич, сегодня в двух лицах: заменяет секретарей, уже эвакуированных из Москвы, и продолжает исполнять прямые должностные обязанности. Зайцев, входя в приемную, заметил прохаживающегося по коридору возле двери человека в штатском. — «охранник», — сообразил он. При внешней обыденности в приемной довольно явно ощущается неустойчивое, предотъездное состояние, как бывает в семьях при переездах на новое местожительство, на прежнем месте жизнь продолжается как бы по инерции, а все мысли уже на новом расположении - туда переадресовывается почта, телефонные звонки, там намечаются предстоящие встречи. Минут через пять после появления Зайцева из кабинета наркома вышла женщина, она не первой молодости, тщательно уложенная прическа подчеркивает высокий, умный лоб, уверенная, твердая походка, снисходительная, несколько свысока улыбка. Помощник при появлении дамы поднялся со своего кресла и не без доли подобострастия проводил ее до выхода. — Начальник управления внешних сношений наркомата, — ответил помощник на немой вопрос Алексея Николаевича и направился в кабинет наркома. Помощник долго у наркома не задержался. — Входите, Алексей Николаевич, — пригласил он, широко раскрывая дверь и, когда Алексей Николаевич проходил мимо него, успел шепнуть: — особенно не задерживайтесь, у наркома еще много дел. «Я же к нему не напрашивался, мелькнуло в голове у Алексея Николаевича, бог его знает, зачем потребовался». Нарком, не привставая из глубокого вращающегося кресла, протянул руку, пожатие было мягким, едва ощутимым. Нарком довольно грузный, с явно выпирающим животом, внушительной шеей, на которой, чувствовалось, нелегко застегнуть верхнюю пуговицу сорочки, незатянутый галстук свисал по контуру живота, видимо, каждое движение ему давалось с трудом. Коротким жестом усадил Алексея Николаевича в кресло возле приставного столика. Зайцеву бросилась в глаза пепельница, переполненная дымящимися окурками. Нарком брал из открытой пачки «Казбека», делал одну-две затяжки и бросал начатую папиросу в пепельницу, пока Алексей Николаевич пребывал в кабинете, помощник не один раз заходил заменить ее. — Удалось-таки добраться до столицы? — голос у наркома сиплый, но твердый. Алексей Николаевич попытался было рассказать о выполнении задания по взрыву шахт, об эвакуации людей и оборудования, о своих злоключениях, но нарком коротким, решительным жестом прервал его: — Докладывать не надо, я в курсе, обрисую тебе обстановку, чтобы соображал, как надо действовать. Вся энергетика страны держится сейчас на угле, 119 торф и дрова не в счет, объемы их поставок мизерные, гидроэнергетика практически вся потеряна. С углем жесточайшее напряжение — Донбасс и Подмосковье выбыли, на Урале мощности незначительные, уголь барахольный. Единственным поставщиком коксующихся остался Кузбасс, но объемы там недостаточные, выбывшие мощности не компенсируются, в срочном порядке сооружаем новые шахты, расширяем фронт очистных работ на действующих. Нарком вырвал изо рта очередную папиросу и ткнул ее в пепельницу. Не успокаивает ли он свои нервы таким порядком, подумал Зайцев, пока возьмет папироску, прикурит, затянется раз-другой, глядишь, и поспокойнее ему. — На востоке, под Иркутском, есть еще один угольный бассейн, — продолжал нарком, выпуская клубы дыма после глубокой затяжки, — Черемхово. Угли в Черемхово длинно-пламенные, энергетические, коксующихся там нет, хотя опыты по их коксованию ведутся, накануне войны запустили небольшой заводик полукоксования. Что получится неизвестно, а кокс дозарезу нужен немедленно. Но как энергетический, Черемховский уголь хороший, до революции да и потом Транссиб на нем держался. Все речные пароходства за Уралом на него перевели, увеличились поставки Черемховского угля Тихоокеанскому флоту. Алексею Николаевичу нетрудно сообразить, нарком завел разговор о Черемховских углях не для расширения его кругозора, он знал, что люди и оборудование с шахт его треста эвакуировали именно в Черемхово, но какова при этом его будущая роль можно лишь догадываться. — Сейчас Черембассу предстоит восполнить дефицит энергетических углей в западных районах страны. В Черемхово требуется быстро нарастить мощности. Пласты угля залегают неглубоко, их можно добывать открытым способом. Трудно с техникой, на вскрышные работы немного экскаваторов наскребли, а уголь вынимается пока также как под землей — вручную, лопатами. Ведем переговоры с американской фирмой «Марион» о поставках экскаваторов, хотя они маломощны, но на первых порах и это выход из положения. Вот почему у него была начальник управления внешних сношений, вспомнил Алексей Николаевич даму со снисходительной улыбкой! Вошел помощник: — В.В., соединяют с Лаврентием Павловичем, по ВЧ. Нарком, словно под воздействием спрятанной в нем пружины выпрямился, энергичным движением снял трубку с телефонного аппарата молочного цвета с гербом на диске. — Слушаю, Лаврентий Павлович, — в голосе его, показалось Зайцеву, стало меньше сиплости, он воткнул папиросу в пепельницу и не взял в рот очередную, — в Кузбассе плохо с людьми, Лаврентий Павлович, на шахты с грехом пополам набираем за счет эвакуированных, а на строительстве хуже некуда. Две тысячи заключенных направлены? Это хорошо, хотя еще и недостаточно, если еще подбросят, то график ввода новых мощностей выдержим. Как с обустройством? 120 Туго, придется людей с основных работ снимать на строительство домов, но справимся, им же не хоромы нужны, как-нибудь перезимуют. В Черемхово пока людей не надо, там с оборудованием сложности, надо бы ускорить доставку экскаваторов. Люди прибыли из Подмосковья, на днях новый управляющий подъедет и, надеюсь, дело сдвинется. Потянет? А куда ему деваться, не потянет трест, в разрезы пойдет уголь колупать. Вас понял, Лаврентий Павлович. Все будет сделано. Нарком осторожно после некоторой паузы положил трубку, потянулся за очередной папиросой, прикурил и с явным наслаждением затянулся: — Как ты понял, — обратился он к Зайцеву, — тебя назначили управляющим трестом «Востсибуголь». Трест напрямую выходит на наркомат, комбината там нет. В будущем намерены все тресты Восточной Сибири и Забайкалья подчинить комбинату, который посадим в областном центре. Уходил Алексей Николаевич от наркома хотя и озадаченный, но несколько успокоенный. Успокоение происходило от определенности, теперь ясно, где дальше жизнь устраивать. Назначение для него не ожидаемое и, конечно, беспокоился, как там на новом месте обернется. Не знает горных условий тамошнего бассейна, но это не страшно — освоится. Воспользуется советом наркома, заедет в Кузбасс, там народ опытный, на разных пластах работать приходится. Правда, задержка получится - как там у Фаи? Но ничего, немного потерпит. Нарком верит в него, это главное, а уж он постарается. Молодец Тимошевич, спасибо ему, но за мной не пропадет — в долгу не останусь. 19 Почти через месяц измотавшего всех пути эшелон, наконец, прибыл к месту назначения — к шахтерскому городу Ч. О том, что их эвакуируют сюда, пассажиры поезда знали с момента отправления, но, как всегда случается при подобных обстоятельствах, по эшелону каждый день разносились слухи о возможной перемене места назначения. Слухи порождали беспокойство, люди боялись затеряться в Сибирской безбрежности, оставить в неведении родных и близких, которым успели сообщить намечаемое место их проживания в эвакуации. При подъезде к городу взрослые и дети старались оказаться поближе к полураскрытой двери или возле узенького окошечка вверху теплушки. С напряженным интересом всматривались в приближающийся город, надеясь и пугаясь одновременно от того неведомого, а может и опасного, что их ждет впереди. Первое, что увидели эвакуируемые, это огромное черное облако, неподвижно нависшее над городом. — Жирный уголь, — тихо, не поймешь хвалит или ругает, произнес кто-то в вагоне. 121 — Более пятидесяти процентов летучих содержат здешние угли, — твердо и безапелляционно заявил Евсей Яковлевич Махновский, он хорошо знал горногеологические и другие условия бассейна, — длиннопламенные, прорабатывался вопрос получения из них бензина. Уныло, тяжело и устало тарахтел на стыках эшелон с эвакуированными, втягиваясь в город. Фая, острожно раздвигая столпившихся вагонных попутчиков, остепенно протиснулась к перекладине у двери, чтобы лучше рассмотреть мелькающие дома, ограды, заборы, за длинную дорогу столько наслушалась о предстоящем местожительстве, что город стал рисоваться загадочным и страшным. В вагоне, как и во всем эшелоне, можно по пальцам одной руки сосчитать тех, кто побывал в этих краях, немногим больше ехало тех, кто прежде слышал или читал о них. Перед напряженным, до крайности любопытным Фаиным взором возникали высокие терриконники, они окутывались черным дымом, выбрасывали короткие языки пламени. Среди маленьких деревянных домиков выделялись, словно вожаки в стае, отдельные двухэтажные дома, в основном деревянные, архитектурными деталями не блистали, обычные батраки, только в два этажа. Фая вглядывалась в почерневший поселок длинных бараков, когда-то побеленных известью, с мыслью — в каком из них ее будущее жилье? — Уголь склонен к самовозгоранию, — как строчкой из учебника по горному делу прокомментировал этот факт Евсей Яковлевич Махновский. Он уже при «полном параде», едко прошептала Галина Никифоровна, как только показались первые дома, облепившие горящие терриконники и невысокие копры шахт, напялил белую сорочку, прицепил галстук в тон к темно-синему шевиотовому костюму, надел темно-серое демисезонное пальто, на голову водрузил серую фетровую шляпу, не мог же появиться в этом городе, в здешнем тресте несолидным, не импозантным. Наконец, последний раз лязгнув буферами, эшелон застыл на станции, вокзал — большое деревянное одноэтажное здание, покрашенное в желтый цвет, теперь изрядно потемневшее от угольной сажи, похожие здания эвакуированные видели на всех станциях Транссиба, и порой было трудно отличить одну станцию от другой. В вагоне началась суета, обычная для пассажиров на конечных станциях, хотя вещи давно собраны, упакованы, увязаны, все равно забот у всех, особенно у матерей, немало - застегнуть последние пуговицы у ребятишек, отыскать закатившуюся в дальний угол посудину, да и за всем приглядывать, как бы чего не стибрили, вон рассказывают, город-то какой, разбойный не иначе. Евсей Яковлевич Махновский поправил на голове фетровую шляпу, подтянул узел галстука, молодцевато выпрыгнул из вагона, одернул пальто и твердо, уверенно направился к начальнику эшелона — он считался старшим по вагонам, где размещались трестовцы — необходимо получить указания по дальнейшим действиям в связи с прибытием на место назначения, узнать порядок выгрузки и размещения прибывших. Ждать Махновского пришлось достаточно долго и наверняка истомились бы, но жизнь на путях оживилась с прибытием воинского эшелона. Красноармейцы 122 на ходу выпрыгивали из вагонов, бежали с котелками за кипятком, на базарчик, а некоторые — счастливчики — попадали в объятия родных, как-то прознавших о том, что этим эшелоном едет на фронт их отец, муж или сын. Появился Махновский, уверенно и твердо неся свою импозантную, внушительную фигуру, рядом с ним совсем молоденький паренек, едва ли не подросток, ему, чувствовалось, хотелось ускорить шаг, даже побежать, но внушительная степенность Махновского сковывала молодую энергию, он невольно приноравливался к неспешному, твердому шагу старшего спутника. Фая, как и все, с нетерпением ожидала вестей от Евсея Яковлевича и понимала, юноша, сопровождавший его, становится тем звеном, которое свяжет их, прибывших, с местными жителями, с интересом разглядывала первого представителя незнакомого города. Внешне паренек не мог на равных соперничать с Вадимом Махновским, ростом несколько ниже, черты лица попроще, небольшой рот с тонкими губами, оттопырены крупные уши, темные и внимательные глаза. Фае стало даже неуютно от их пронзительности, когда взгляд паренька не без интереса уткнулся в нее, показалось, что мелькнула какая-то снисходительность — не тушуйся, мол, все утрясется. На пареньке неуклюже сидел давно не новый светло-коричневый с черной полоской пиджачишко из недорогой ткани, старенькие туфли с матерчатым верхом, на смятом борте пиджака выделялся круглый значок с профилем Ленина, длинные темнокаштановые волосы, почти в тон глазам, зачесаны не как у всех справа налево, а наоборот. — Товарищи! — несколько напыщенно начал Махновский, — у начальника эшелона вместе с представителями местного штаба по приему эвакуированных рассмотрены вопросы размещения прибывающих. Он вынул из внутреннего кармана блокнот и начал зачитывать адреса квартир, где будут жить трестовские. — В помощь нам выделен представитель штаба, местный комсомолец Муратов Александр, — он хотел назвать отчество, но не знал его и резко оборвал представление паренька. Широким жестом Евсей Яковлевич показал на Александра, который при его словах сделал шаг вперед, выдвинулся на одну линию с Махновским. Александр предложил эвакуированным забрать вещи и двигаться, не отставая, за ним. Муратов увидел, что красивая девочка, которую сразу выделил из приехавших, пытается поднять два объемистых чемодана, он шагнул помочь ей, но симпатичный парень, похоже, его ровесник, довольно решительно пресек эту попытку, окинув Александра чуть ли не презрительным взглядом. Этот взгляд приезжего красавчика крепко и надолго отпечатался в памяти Александра. На привокзальной площади столпотворение. Разместить на подводах сотни задерганных, измученных длинной дорогое людей не просто, плач детей, истошные выкрики женщин, раздражающая воркотня стариков, грохот отъезжающих телег слились в сплошной тревожный гул. Спорили из-за мест на телегах, путались с указанными адресами. Махновский-старший отошел в сторону, предоставив разбираться во всей этой сутолоке Александру. Разные люди 123 прибыли с эшелоном, но Александру они кажутся почти неразличимыми, все на одно лицо, в глазах какая-то одинаковая затравленность, плоские, серые лица, одинаково сломанный стержень, на котором зижделась их прежняя жизнь, они шумят, но как-то робко, с притаенной боязнью как бы их не обидели, не лишили бы еще не известных им прав. Чего же они опасаются здесь, в глубоком тылу? – жалел несчастных Александр и отвечал себе - да всего! — не накричит ли на них кто-либо, не оттолкнет ли в сторону, не оставит ли беспомощных на этой грязной площади, в далеком и незнакомом городе. Их называют эвакуированными, прикрыв этим звучным нерусским словом истинную суть — они беженцы, обездоленные, в одно мгновение потерявшие почти все, а часто и абсолютно все, что нарабатывали, накапливали, сберегали всю жизнь — нелегкую, трудовую, ненавистное слово «война» ворвалась в их жизнь всепожирающим беспощадным смерчем и они сразу стали безвольными и бессильными, словно щепка в мощном потоке, и, главное, нет в этом виновных, никто не отвечает за горе, обрушившееся на них, никто не спасает от бед, одна за другой навалившихся на них, никто не возместит утраченное. На широкую телегу Фаю устраивал Вадим Махновский. Приладив на задок чемоданы, усадил ее рядом с возницей и помог взобраться Галине Никифоровне, обвешанной сумками и кошелками. Александр Муратов готов был облегченно вздохнуть, люди из порученного его попечению вагона рассажены по телегам, размещены узлы и чемоданы, собраны под материнский надзор ребятишки. Он намеривался скомандовать обозу трогаться, как на площадь юрко вынырнула «эмка» — трестовская легковушка — в городе всего лишь две эмки: горкомовская и трестовская. Шофер высунулся в открытую дверцу и что-то кричал, до Александра, наконец, донеслось: — Где здесь семья управляющего трестом? Санька спокойно повернулся к своим телегам, это его не касается, можно ехать. Но встрепенулась высокая молодая женщина. — Мы здесь, мы здесь! — обрадовано закричала Галина Никифоровна Попова, отец и сын Махновские, все остальные с недоумением уставились на нее. — Здесь дочь управляющего Фая! — кричала Галина Никифоровна. «Эмка» ловко подвернула к телеге, Вадим Махновский на этот раз не помогал Фае, пришлось Александру снимать Фаины чемоданы, девочка благодарно посмотрела на него и улыбнулась. Ничего при этом не было сказано, но улыбка и взгляд девочки по какой-то загадочной, необъяснимой причине остались запечатленными в сознании Александра. Следом за Фаей с телеги со всеми чемоданами и кошелками снималась Галина Никифоровна. — Мне Алексей Николаевич поручил Фаю и я бедную девочку одну не оставлю. Шофер воспринял это как само собой разумеющееся и помог важной, как он определил для себя, даме разместиться в легковушке рядом с нежной и хрупкой девочкой. Трестовские не без зависти проводили взглядами быстро исчезнувшую 124 «эмку». Забот по размещению эвакуированных досталось Александру немало, хозяева квартир разные люди - одни встречали приветливо, понимая, в какую беду попали беженцы; другие настороженно — кого им бог послал в нежданные постояльцы? Были и такие, которые считали несчастных людей обузой, их, мол, обидели, реквизировав часть и без того не слишком просторной жилой площади для ненужных им подселенцев. С тяжелым сердцем возвращался Александр Муратов к себе в маленький домик на Материальном дворе. Встретился с людским горем и пытался как-то облегчить его и тщедушному старичку, и солидному начальнику, и крупной даме, прилепившейся к хрупкой девочке, и самой девочке. В этот день его одолевали и собственные непростые заботы и нес он их сейчас в свой дом, к матери, Екатерине Егоровне, еще днем до совещания в горкоме комсомола, в штабе по приему эвакуированных, узнал, что его заявление с просьбой о досрочном призыве в армию, на фронт удовлетворено. Трудно объяснить, даже самому себе, почему обратился в военкомат с таким заявлением, месяц назад он не мог, как и все, смириться с тем, что наши отступают и считал, что в эти тяжелые дни место всякого здорового мужчины быть там, где решается судьба страны, его Родины. Вместе с ребятами из группы подал то заявление, немного прошло времени — большинство из них призвали в армию, его же не трогали, — более того, узнал он, пришла бумага, по которой студентов выпускных курсов ВУЗов и техникумов бронировали. Александр же привычно полагал, что опять попал в число меченых, не призывают из-за отца. Попытка попасть на фронт, помимо прочего, это стремление доказать всем и себе в том числе, что он как и все, нормальный человек, предан не меньше других своей стране, верен партии, комсомолу, это стремление стало почти навязчивым. И он подал второе заявление. До сих пор не сомневался, заявление подал не от дури или из бахвальства, по-другому в это время он поступить не мог, не имел права! Но вот решение вышло и он в смятении: как оставить мать — одну с тремя ребятишками? Их надо кормить, одевать, следить за каждым, вон, Ленька едва ли не из-под палки в школу ходит, да и Любке помогать в учебе приходится. Только теперь, когда дело сделано и в кармане военкоматовская повестка, начинал понимать, что в его порыве не все здраво и справедливо. Но не будет же опускаться до просьбы не призывать, не снимать брони, нет, отправится туда, откуда прибыли эти эвакуированные, эта хрупкая и загадочная девочка, поедет на смертельную схватку, уклониться от нее считал ниже своего достоинства, полагал долгом перед неизвестно где пропавшим отцом, перед товарищами, перед матерью, несчастной, горемычной женщиной. Она не будет отводить глаза при вопросе, где был ее сын в это страшное время?! Снова, в который раз, в бессчетный раз в этой жизни Екатерине Егоровне предстояло переживать, терпеть, ждать, плакать?!. 20 125 Галина Никифоровна поместила Фаю, возбужденную неожиданным появлением за семьей управляющего трестом «эмки», на заднем сидении, туда же затолкала свои чемоданы и сумки, сама, упиваясь сознанием высокого положения Алексея Николаевича, а значит, как полагала она, и ее, уселась рядом с шофером, предпочитала это место, как признак начальствующего положения, задние места, по ее разумению, для тех, кто чином, положением пониже. С любопытством вглядывалась Фая в улицы, в дома, ничего особенного: такие же деревянные домишки, как и в ее родном городе, только более черные от сажи, реже попадались на глаза кирпичные двухэтажные дома, минут через десять подъехали к покрашенному в темно-коричневый цвет высокому забору, открылись широкие двухстворчатые ворота. Дом широкий, отштукатуренный и побеленный, машина остановилась возле высокого каменного крыльца с витыми колоннами, на другом конце дома еще одно такое же крыльцо. Прежде, как потом узнала Фая, здесь размещался «Дом техники», собирались инженеры, смотрели кино, на биллиарде играли, работал буфет. Потом поступила команда: прикрыть «Дом техники» — для руководства треста понадобились улучшенные квартиры — для управляющего трестом и для его заместителя. Первого жильца, управляющего трестом Калюжного Дмитрия Семеновича в тридцать седьмом «взяли», потом его жену в ту же безвестность увезли, детишек— дочку и сынишку — куда-то в детдом определили. Обо всем этом короткими фразами, полушепотом рассказывал шофер «эмки», в его голосе проскальзовали уважительные нотки при упоминании имени несчастного, при этом погладывал на Галину Никифоровну, ей опасался, могли быть не по нутру упоминания о бывшем управляющем, угодившем во «враги народа». Но, похоже, Галине Никифоровне не до шоферской информации, зато Фая оказалась внимательным слушателем. — После Калюжного в квартире никто не проживал. Пустовала она, — продолжал рассказывать шофер, вытаскивая багаж,— нынешний управляющий Семен Акимович остался в старой, шахтовой квартире, где начальником шахты работал. Галина Никифоровна с нетерпением ожидала, когда, наконец, вещи занесут в дом, ее радостному удивлению не было предела, никак не ожидала «в этой каторжной Сибири» попасть в просторные хоромы, чеыре больших и высоких комнаты, просторная кухня, ванная — хоть всей шахтой мойся, туалет теплый, это особенное для нее удобство - комнаты заставлены комодами, зеркальными шифоньерами, кожаными диванами. Фаю мысли подобного рода не отвлекали. Когда же приедет отец Алексей Николаевич, как разыщет их ее мама, когда ее все же выпустят? Неужели придется терпеть эту Галину Никифоровну? За долгую дорогу общение с почти незнакомой женщиной вызвало у Фай острое чувство неприятия, доходящее до отвращения, «заботы» Галины Никифоровны доводили Фаю почти до бешенства, с сгромным трудом сдерживала себя, чтобы не надерзить непрошеной покровительнице, сказывалось воспитание бабушки 126 Розы—на людях истинные чувства не раскрывать, уметь держать себя в руках. — Фаечка, ты будешь спать в этой комнате, — приторно умильным голосом командовала Галина Никифоровна, — умывайся, чаю попьем, и спать укладывайся. Вскоре появился Александр Карпович Мосеев, заместитель управляющего трестом, принес хлеба, колбасы, масла, сахару и еще кой-каких продуктов. — Это на первый случай. Завтра оформим карточки и прикрепим к семье Алексея Николаевича женщину по хозяйству. — Спасибо, Александр Карпович, — Галина Никифоровна воспринимала его сообщение как само собой разумеющееся, — мне, конечно, сложно со всем этим справляться. Алексей Николаевич человек требовательный, ему необходимы внимание, забота, доченька довольно капризная, с ней хлопот тоже достаточно, единственная у отца. Последнюю фразу Галина оглянувшись, не рядом ли Фая. Никифоровна произнесла, предварительно — Насчет вашей работы надо подумать. Нам не сообщали, что новый управляющий, телеграмма о его назначении уже пришла, едет с,.. — Мосеев замялся, не знал, как точнее выразиться, не попасть бы впросак, — с... женой, — наконец произнес он. — Много думать нечего. Я работала инженером в техотделе по обогащению, здесь буду этим же заниматься, — безапелляционно заявила Галина Никифоровна. Александр Карпович поражался мощному напору, но мужик он тертый, видал всяких, спорить не стал, справедливо полагая, управляющий сам разрешит насчет этой напористой то ли жены, то ли неизвестно... Утром следующего дня Фая провела своего рода рекогносцировку местности, вышла за ограду. Вокруг прямыми улицами параллельно дороге шли длинные бревенчатые бараки. Между домами простор, передними тополя с остатками сухой листвы. Акации, реже черемуха, огородики с неубранной картофельной ботвой. Позади каждого дома стайки, над ними небольшие сеновалы, стайки двух параллельных улиц примыкают друг к другу. Между двух бараков напротив особняка затесалась приземистая хибарка, по дыму из побеленной трубы видно — она заселена. И первая неожиданность... Из калитки перед хибаркой выходит паренек, встречавший их на вокзале, несмотря на прохладное утро, на нем лишь вчерашний светло-коричневый пиджачок, только крупная голова выглядела по иному - длинные волосы сегодня острижены. Александр Муратов, увидев девочку, запомнившуюся по вчерашней встрече эвакуированных, сначала подумал насколько удобно подойти к ней лишь после мимолетного привокзального знакомства. Она совсем юная, на немного старше его сестренки Ольги, правда, выглядит уже как девушкА, на ней демисезонное пальто, беретик, на ногах красивые туфельки. Его как бы толкнуло к этой девушке. 127 — Здравствуйте, — обратился он на «вы», это вышло произвольно, — устроились? Фая, заметно было, обрадовалась, увидев Александра. Еще бы! Первое знакомое лицо на новом, пока неведомом ей месте. В вопросе услышала подтекст, понравился ли ей дом. — Нормально, хорошая квартира, только папа еще.не приехал, - в голосе тоска одиночества. — Мама же с вами, — начал успокаивать Александр. — Да это не мама, — сморщилась, как от боли, Фая... У Александра хватило ума и такта не расспрашивать подробнее. Он заметил недоуменный взгляд, брошенный Фаей на его остриженную голову. — Сегодня остригся «под военкомат», — с грустью и в то же время не без гордости ответил Александр на ее немой вопрос, — забирают... — Как забирают? — слово «забирают» Фая воспринимала в своем страшном понимании. — В армию берут, скоро на фронте буду, — пояснил Александр. Короткая, мимолетная встреча, ничего особенного не сказано, а Александр запомнил ее надолго. И годы, такие непростые, переполненные событиями, встречами, не оттеснили память о ней, забылось многое, даже весьма значительное, а эту встречу Александр помнил всегда до деталей. Фая расспросила Александра, где ближайшая школа. После прощания, обычного, без церемоний, как это бывает между мало знакомыми людьми, отправилась в школу, у нее начиналась привычная школьная жизнь. После обеда Галине Никифоровне позвонил Махновский, рассказал, что ему предоставлена двухкомнатная квартира. — Неподалеку от Вас, в бараке, но вход отдельный. Тесновато, правда, но приходится терпеть, что поделаешь, — бодрячески жаловался он. Галина Никифоровна «входить в положение» начальника техотдела намерения не проявила. — Завтра, думаю, приступить к работе, оказывается, на меня уже есть приказ Министерства о назначении начальником технического отдела треста. В этой дыре, конечно, это не должность, приедет Алексей Николаевич, обсудим и решим как надо. — А когда его ждут? — поинтересовалась Галина Никифоровна. — Телеграмма о его назначении поступила. — Знаю, когда приедет, я спрашиваю? — Это сказать трудно, — начал рассуждать Евсей Яковлевич, — сюда и в мирное время поездом почти десять дней добираться. Как сейчас поезда ходят вы видели, больше стоят, чем идут, самолетом могут управляющего отправить. Не за128 держали бы в Москве, могут еще заставить заехать в Министерство на новом месте — они же в эвакуации. Думается, не раньше, чем недели через две можно его ждать. — Так долго?! — удивляется Галина Никифоровна, — работать надо же, деньги, карточки нужны. — Завтра приходите, с Вами проблем не будет. У Махновского свой интерес, выражение «шерше ля фам» еще не было в ходу, но Евсей Яковлевич, всегда знал рычаги, на которые следовало нажимать. 21. Про путешествие Алексея Николаевича из Москвы до места нового назначения —управляющим угледобывающим трестом в Восточной Сибири — можно определенно сказать: при всей его краткости оно сложилось удачно и было на редкость полезным. Нарком посоветовал новому управляющему заехать в Кузбасс: туда теперь переместился основной центр шахтеров, там, главным образом, сосредоточились опытные горняки из Донбасса, которых удалось эвакуировать. — В Кузбассе основная масса угля добывается, там наши лучшие кадры, кого сумели переправить, — говорил нарком между затяжками, казалось, нескончаемой папиросы, — присмотрись, как донбассовцы осваиваются в незнакомых условиях. Жаль, конечно, тратить военное время, но, думаю, игра стоит свеч — наберешься полезного, быстрее втянешься в новую работу. Как доберешься до места, звони мне. Как не спешил Алексей Николаевич к своим трестовцам, побыстрее встретиться с Фаей, указание наркома не выполнить не осмелился, понимал, это не прихоть начальственная, а необходимость и для него самого, и нарком определенные виды имел. До Новосибирска Зайцев добирался на военном самолете, летчики направлялись на тамошний авиационный завод имени Чкалова за запчастями к фронтовым самолетам. От Новосибирска до Кемерово почти сутки болтался в переполненном товарно-пассажирском поезде, битком набитом разномастным людом — строгие ограничения военного времени не уменьшили людские потоки. За неделю, проведенную в крупнейшем угольном бассейне страны, облазил ни одну шахту Сталинска, Прокопьевска, Киселевска, поинтересовался, как добывается уголь открытым образом, побывал на шахтных стройках, повстречался со знакомыми из Донбасса и Подмосковья, и как губка напитался полезными впечатлениями. Из Кемерово пришлось вернуться в Новосибирск и оттуда поездом до места назначения - более трех суток отсыпался - с момента поспешного отбытия из Подмосковья, практически ни разу не удалось спокойно и досыта выспаться. На новом месте о нормальном сне даже и мечтать не представилось времени, навалилось столько острых и неотложных дел, продлись сутки в несколько раз 129 дольше — все равно бы не хватило. Проблемы начались с собственной семьи. Сдав из-за обстоятельств на попечение Галине Никифоровне на станции Фаю, он никак не предполагал, что его просьба-поручение будут истолкованы весьма примитивным, прямолинейным образом, Галина Никифоровна, что называется, де-факто утверждалась в качестве хозяйки дома, если не жены, то в роли, ей соответствующей. Еще на станции встречавший его заместитель управляющего трестом Александр Карпович Мосеев сообщил: — Ваши на новом месте уже обустроились: жена приступила к работе в тресте, дочка ходит в школу. При слове «жена» Алексея Николаевича покоробило, он насторожился, но обсуждать с новым подчиненным домашние дела не стал. Галина Никифоровна встречала его с широко расставленными руками для объятий и громкими восклицаниями: — Наконец-то приехал! А мы уж заждались, ни одной весточки почти месяц, хорошо, что телеграмму с дороги послал, она вчера только дошла. Алексей Николаевич решительно увернулся от объятий и поцелуев. — Где Фая? — с тревогой в голосе спросил он. — Где же ей быть! В школе, скоро должна возвратиться, если не задержится, она же такая своенравная. Я ей о твоем приезде не говорила, пусть будет сюрприз. Сюрпризы в первую очередь выпали на долю Галины Никифоровны. Зайцев прямо из дома позвонил заместителю управляющего Мосееву, расспросил о возможностях в части жилья и приказал: — Пришлите машину, заберете Галину Никифоровну. На первое время разместите в трестовской гостинице, а в ближайшие дни подберите ей квартиру, да получше. Галина Никифоровна ни в малейшей степени не ожидала подобных действий со стороны Алексея Николаевича, это явное покушение на ее ожидания, до деталей обдуманных представлений о совместной с ним жизни. Ее возмущению не было границ, но решительность Алексея Николаевича пресекла гневные вопли Галины Никифоровны. — У Фаи есть мать, а у меня жена и тебе жить с нами не вполне прилично. Я не хочу, чтобы личная жизнь управляющего стала предметом обсуждений и сплетен. О наших бывших взаимоотношениях не должны знать ни в тресте, ни в горкоме, нигде. Ясно?! 22 Целые сутки, какой там сутки — больше! — провела Екатерина в шахте. А если все взять, считай дольше: двенадцать часов — это рабочая смена под землей, 130 до участка добраться надо, накидывай еще почти час, зайти на склад ВВ, то есть взрывчатых веществ, также не на одну минуту, уйма времени на оформление вороха бумаг — взрывчатка же! Она под особым контролем, ни лишнего грамма, ни одного взрывателя не смей не досчитаться. Со склада отправляться за глиной, пока ее накопаешь, собственными ладонями накатаешь из нее забойку — короткие как пальцы стерженьки — их шахтеры прозывают «...-ки», без этой забойки взрыв уйдет в пшик, сгорит динамит впустую, не отвалит уголек. Навьючишь на себя сумки с взрывчаткой, с забойкой и как ишак тащишься по лавам, забоям. — Ты, одна сегодня, что ли? — спрашивает раздатчица, — где твоя подносчица-то? Надсадишься, таская такую сумищу. — Дуська Шубаева не вышла, а отчего не знаю. Дуська Шубаева в подносчицах у Екатерины ходит, обучает ее на взрывника или на запальщика, как по-старому называют их шахтеры. — Не от добра видно, — вздыхает раздатчица, — сейчас просто так работу не пропустишь, того и гляди под трибунал пойдешь. Да, я смотрю, ты на вторую смену пошла, вот в книге записано — утром взрывчатку получала,..— продолжает раздатчица. — Я, я,.. — устало отвечает Екатерина. — Со сменщицей приключилось что-то? С ума сойти — цельные сутки под землей! — Сходи, не сходи, а мужики в забоях мерзнут, рвать уголь надо скорее. А у сменщицы Лидии Бирюковой всякое может случиться. Мужик ее и парнишка старший на фронте, — Екатерина до того измаяна, что и говорить моготы нет, — беда одна не приходит — вот мне и отдуваться, и за Дуську, и за Лидию. Екатерина кряхтит, с трудом отрывает сумку от пола, тяжело вздыхая, не вышла, а выползла со склада. Раздатчице тоже не до Екатерины, пришли бабызапальщицы с других участков, только успевай разворачиваться. Так и отмантулила подряд две смены — военные двенадцатичасовые. Как дотащилась домой и представить трудно, в глазах темно, ноги ноют, в избу вошла, тотчас на лавку бухнулась, шагу дальше сделать сил не осталось. Тут же на лавке сидя, глаза прикрыла и не поймешь — то ли в забытье впала, то ли задремала. Едва отдышалась, оклемалась, сколько дремала, не заметила, очнувшись, сбросила грязную, сырую спецуху, развесила к печке ближе, подсушить к новой смене. Девчонки обе в школе, ждать ее не стали, привыкли, не впервой мать задерживается, Любка в этом году пошла в третий класс, Ольга — в шестой, еще год — седьмой — проучится, а дальше думать, куда ее - в техникум или в горпромуч. Забот с ними для Екатерины с каждым днем прибавляется: покормить, едят как большие, только подавай, одежонка; обувка износились, а что осталось: не налазит — растут — особенно плохо с обутками, достать трудно, заказала 131 сандали из прорезиновой транспортерной ленты — какие это сандали, бухалы, но других-то нет и скоро, видать, не будет, на эти-то чуть не ползарплаты поистратила. Оставлять одних девчонок без присмотра целый день душа болит, что там с ними, выбегут на улицу, заиграются, тащи из дому все подряд, хотя не богато в доме, но все же деньги трачены и лишнего ничего нет. Любка нравом уродилась парнишечьим, поноситься бы по улице, вечно в синяках и ссадинах, чуть ли не каждый день починка требуется — горит одежонка на ней, как на огне. Девчонки заботятся о матери — вот картошки отварили, картошечка с молочком не так уж плохо, а они еще хлебушка оставили. Карточки проверила, на месте лежат, отовариваются-то девчонки, опять беспокойство — не потеряли бы, вот у соседей Петрищевых недавно такая беда стряслась. Карточки взамен потерянных новые не выдают, до конца месяца оставалось еще много, последнее барахло из дому на базар стаскали, на вырученные деньги хлеб покупали, а он нынче дороже золота, еле дотянули до новых карточек. Торкается из угла в угол Екатерина, а спать не укладывается, в окно нетерпеливо поглядывает—не идет ли почтальон, время уж. Наконец, показалась Елена, в три погибели согнувшаяся от тяжелой сумки, почтарка ее хорошая знакомая, вдова солдатская, еще летом, поначалу войны, сгинул ее мужик. Теперь сама разносит страшные вести — а куда подашься без особой грамотешки, без специальности. Елена уже по соседнему бараку разнесла треугольники, газеты сейчас редко кто выписывает, радио больше слушают. Принесет ли сегодня чтонибудь? А если принесет: то какую весть — страшно и подумать. Открыла дверь. Елена приветливо, но настороженно улыбается, снимает сумку, освобождаясь от тяжести. — Здравствуй, Катя. Ты сегодня в ночь или отдыхаешь? — спрашивает Елена, окидывая взглядом напряженно ожидающую Екатерину. — Какой там отдых! Только что приплелась, две смены отъишачила, сменщица не вышла, — вздыхает Екатерина, — присаживайся, передохни, сумка-то у тебя пудовая. — Какой там пудовая, считай больше. Рассиживаться некогда, видишь, сколько еще обойти надо, — показывает Елена на разбухшую сумку. За каждым жестом почтальона водит глазами Екатерина, с надеждой трепетной, с затаенным страхом всматривается: что же сегодня вытащит из сумки? Не дай бог прямоугольный конверт, какие до войны приходили с наклеенными марками, теперь в таком конверте самое страшное таится, не от руки чаще написано, а печатными буквами, лишь фамилия вписывается от руки. Сколько же таких бумажек заготовлено, сколько и чьих фамилий впишет ротный писарь в бумагу со страшным прозвищем — похоронка?! . Насмотрелась страдалица Елена, как взрываются бумажные конверты в разных семьях. Бухались в обморочное беспамятство мать или жена и приходилось почтальону отхаживать их, приводить сначала в сознание, а затем в более или менее нормальное чувство. Не единожды казенный конверт взрывался 132 раздирающими рыданиями всей семьи с истериками, бабьим подвыванием. Мужиков почти не встречалось, лишь изредка попадался доживающий старик, он не рыдал, не кричал, лишь неудержимые слезы выкатывались из его обесцвеченных глаз. Страшнее всего бывало, когда наступало словно от контузии оцепенение, жена, ставшая вдруг вдовой, или мать застывает, часами ни единого звука, не отвечает ни на какие вопросы, становилась, будто окаменевшая. Как ни торопится Елена со своей сумкой, где лежал еще не один казенный конверт, все равно не уйдет из такого дома, пока окаменевшая не отойдет или случайно не подвернется кто-нибудь, на кого можно оставить несчастную. Слава богу, треугольник вытащила из сумки Елена, пронесло сегодня, жив сыночек! Не ранен ли, новыми страхами терзается Екатерина, не из лазарета ли письмо? Не изувечен ли? ...Казалось, не было в жизни Екатерины горя, беды страшнее, чем в треклятом тридцать седьмом. Исчез, пропал без вести, как иногда сообщают с фронта, муж ее, бесценный Иван. Сгинул куда-то страшнее, чем на войне — ни единой весточки от него вот уже шестой год, до сих пор каждый стук калитки настораживает, прислушивается, не Иван ли вернулся. Напрасны ожидания, сколько еще ждать и дождется ли когда-нибудь? Не задвинута боль об Иване, не на втором плане, не в дальнем углу памяти, только добавились, навалились на душу новые тревоги — каждодневное боязливое ожидание вестей от сыновей. ...Трепещет в руке у Екатерины развернутый треугольник, с трудом улавливает мелькающие буквы, слова - жив и не ранен Александр! Мало пишет, приветы да поклоны, а о себе всего чуть-чуть, не мастер расписывать, не приучен жалиться, бахвалиться, да и нельзя, видимо, вон сколько слов зачеркнуто и штамп казенный кляксой пропечатан: «проверено цензурой». Да ладно, не это главное! Жив, не перемолот в страшной мясорубке, спокой на душе на какое-то время, спокой боязливый, с оглядкой, как бы не накликать худого, письмо с фронта без малого месяц назад отправлено, война-то бушует без передыха-остановки и все может приключиться, скорее бы кончилась, проклятая! О Леньке, сыночке младшеньком, снова печаль-забота. Парень не сахар, с ним, пока в армию не забрали, напереживалась, как Саньку призвали, тотчас школу забросил, как ни уговаривала, даже плакала, ничто не помогло — не было у него Санькиной охоты к учебе. Ходила тогда Екатерина к начальнику АХО Каталову: — Помоги, Александр Иванович, совсем парнишка от рук отбился, школу забросил. Сам знаешь, до добра это не доведет. Возьми Леньку, пристрой к какому-нибудь делу. Каталов сочувственно покачал головой, он знал Ивана Муратова, когда-то вместе мантулили на пятой-бис в забое. — Присылай ко мне. Я его пристрою, вся блажь из головы вылетит. Время зимнее, людей не хватает, мужиков на фронт упекли, а баб в шахту. — Спасибочки, пришлю, спасибочки. 133 Направил безжалостный, а может, хитроумный Каталов неокрепшего малолетку помойки долбить, знал, как науку жизни прививать, изматывался парнишка не меньше, чем она сейчас на шахте, поорудуй-ка день за днем ломом да кайлой, отбивая промерзшие нечистоты. Ленька брезглив до тошноты, а тут долби погань, мелкие льдинки в лицо отскакивают, ладно зима их сковала, а то бы от вони задыхался. Бросить срамную работу не смей! Вмиг карточку отберут, а без нее подыхать остается. Вскоре для фронта и малолетки потребовались, едва семнадцать стукнуло пацану — хвать и забрили. Попал на курсы младших лейтенантов, их теперь как блины пекут, пишет — учится только на отлично, видать, впрок каталовская наука пошла, уразумел — без учебы всю жизнь на помойках маяться. Дольше бы курсы протянулись, бог даст, и войне конец придет — верит и не верит в свои рассуждения Екатерина. Страшней ей сейчас, конечно, за Саньку, тьфу тебе, какой он Санька, уходил на фронт уже Александром, а теперь полгода прошло и вовсе, наверное, возмужал, еще серьезнее стал. Служат сыновья, прокаливаются на страшном огне, твердеют крепче, чем железо кованое, а у нее — Екатерины — мука сплошная, слезы непрерывные—за Ивана, за Александра, за Леньку... Ох, горе наше горькое! Скоро ли отвернешься от нас, оставишь в покое? Не жизнь, а маята сплошная. Да что горевать, толк-то из этого какой, надо подыматься, за дела браться, в доме-то черт ногу сломит. Встала Екатерина со стула, именно встала, а не вскочила, как прежде бывало — многие знали за ней врожденную привычку все делать на бегу, быстро-быстро, замечать стала за собой: не та хватка у нее, медлительнее что-то стала, стареет или от не проходящего устатку, на шахте наломаешься, домой дорога не ближняя. Дома тоже не разляжешься — то одно, то другое. Взглянула в окошко, плетется, видит, старушка, может и не старушка, а так от усталости по старушечьи волочится, сбоку через плечо сумка, побирушка наверное. Смотри?! К ее дому заворачивает, самой впору побирайся, нашла к кому за подаянием обращаться. Боже ты мой, прости грешную, зачем тебя гневить, не накликать бы беду новую. Ей жаловаться грех, другим куда тяжче, у нее карточки подземные: хлебушка кило двести, у девчонок иждивенческие по четыреста граммов — это далеко не у всех! Да харчишки другие — мясцо, рыбка, крупки, сахарок, коровушка, кормилица наша — дай бог ей здоровьица и удоев — как бы без нее? А так сметанка, простоквашка, молочко. Как бы ее сберечь! С сеном-то нынче туго, мало, что накосить негде, совсем худо с привозкой, сама с девчонками вместо лошадей в тележку впрягается, да много ли так навозишься, а силенки-то на убыли. Как зиму продержать коровку? Побирушка-то, слышь, к ним стучит, перед дверью женщина, не поймешь, молодая или старая или просто горем, жизнью доведенная до зачуханности, смотрит-то, как будто знает давно, в гости, мол, пришла. Много вас таких тут ходит! — Не узнаешь, Катя? — тихо проговорила, почти прошептала побирушка. Екатерина вглядывается - вроде, в первый раз видит, еще и еще присматривается, кажется, что-то проглядывает в ней знакомое. Кто же это? 134 — Неужели так я переменилась, Катя?— снова, но уже погромче, почти с укоризной вопрошает женщина. Голос, голос-то знакомый, дай бог памяти, кто же это? Екатерина вглядывается, но подожди, подожди, неужели?! Так та совсем же молоденькая. — Женька, Женя,.. ты? — робко, неуверенно и отчего-то тоже шепотом произносит Екатерина. — Я, Катя, я — признаешь? Я это, Женька Станкевич, не пугайся только. И бросается обнимать, целовать. — Наконец-то нашла хоть одну родную душу. Который день шатаюсь по городу, а никого родного, близкого встретить не удалось. Спасибо Федору Тюрину, твой адрес подсказал. Екатерина, наконец, вполне уверилась — перед ней Женька Станкевич, голосто никуда не затаишь, какой был и остался таким, нутренной с надрывцем. Но как переменилась! Не заговори она, никак не признала бы. — Проходи, у меня, правда, не прибрано, только что с работы, не успела, — оправдывалась Екатерина. Никакая не побирушка, своя, заимская. Как переменилась! Не сладкая, похоже, и ей доля выпала. — Ты не беспокойся, Катя, я вот на лавочку присяду, передохну. Женя тоже вроде бы оправдывается, боится чего-то, не выпроводят ли ее из этого дома? — Снимай курмушку, отдыхай, сколько душа желает, а я пока сгоношу перекусить, — заметила нетерпеливый, отрицательный взгляд Евгении, — сама еще не ела, пришла с работы, а тут почтальонша, Елена, от Саньки письмо принесла. У своих-то была, как они? Екатерина говорила, спрашивала и гоношилась — доставала картошку, лук, принялась чистить, резать, печку расшуровала, чайник на нее толкнула, сковородку. — Кое-как нашла, — вздохнула Женя, — братьев-то дома нет, воюют, один уже погиб — Дмитрий. Невесток, считай, не знала, а ребятишки и вовсе, без меня родились, не до меня им, чужая для них. Вот и хожу, мытарюсь, ищу, где притулиться, слава Богу, тебя, вот застала. На заимку хотела, да невестки сказали, там никого своих уже нет, мать с отцом померли, а где Костя, никто не знает. — Оставайся у меня, поживи, а там видно будет. Я одна с девчонками, парни оба в армии, Санька на фронте, а Ленька в училище. О себе-то расскажи, откуда ты? Хотела сказать постеснялась: — откуда свалилась такая зачуханная, измученная, — Не эвакуированная? 135 — Какая там эвакуированная, — горестно усмехнулась Евгения, — я из тех краев, куда Макар телят не гонял, из лагеря освободилась. Ты разве не слышала, как меня в тридцать седьмом замели? Екатерина чуть сковородку из рук не выронила, нет, не от удивления, такому давно перестала удивляться, в тот год забирали всяких и отовсюду. Грех сказать, а чуть ли не обрадовалась, услышав, откуда появилась ее заимская товарка, молнией пронзила мысль — может, встречала Ивана, слышала о нем? Невдомек сердечной, лагеря-то по всей земле российской пораскиданы и народищу там побольше, чем не то, что на их заимке, даже в городе столько не поместится. — Нет, слыхом не слыхивала, ведать не ведала, — и тяжко вздохнула, — у меня Иван тоже где-то там мытарится. Как забрали в проклятом тридцать седьмом, так ни слуху, ни духу, куда только не писала, толку никакого не добились. О Косте вашем, Ванька... Иван Лабодинский рассказывал. Его с Мишуткой нашим выпустили, срок вышел, а Косте еще добавили за побег. А о моем Иване ни единой весточки, ни от кого... Сказала, а сама ждет, вот заговорит Женька и выплеснет: видела, мол, Ивана, или слышала о нем. Евгения же в оцепенении - как не привыкла, как не познала пословицу «от сумы, да от тюрьмы не зарекайся», все равно сообщения о лагерной судьбе близких и знакомых воспринимала, словно очередной удар. А тут еще хуже — шла со своей бедой, точнее с бедами, а нарвалась на чужое горе, да еще более тяжкое, у нее одна Фаечка осиротела, а тут на плечах Екатерины четверо, как она их сберегла, выходила? И вроде бы ее собственные муки-беды приуменьшились, полегчали, как ни страшны, ни тяжки они, но не перевесят Екатерининых отчаянных мук - сколько ей переживать: за мужа, за детей, за себя, еще молодую, жаждущую полной бабьей и человеческой жизни. — Родная моя! — обняла Екатерину, слезы катились из ее поблекших глаз, — прости, я не представляла, что у тебя такое! Свалилась на твою голову. Без меня горе хоть ведром черпай — как же ты выносишь такое? — Попривыкла, вроде, Женя, или втянулась. Поначалу так тяжко было, хоть в петлю лезь. Но что поделаешь — ребятишки, их не бросишь, как котят не утопишь. Сейчас-то хоть с едой полегче, на шахте работаю, паек подземный и зарплата какая никакая, а на первый случай хватает. Только на душе все тяжелее... Поплакали, поохали, повздыхали, за стол уселись. Екатерина на скору руку закусить соорудила, чайку согрела, бутылочку достала — шахтерам время от времени при особо тягостных трудах и преодолении разных передряг, шахтовых и, конечно за уголек сверх всяких заданий и требований поощрение и благодарность водочкой выказывали, она и тело согревает, душу смягчает и умиротворяет, на краткий миг от дум и тревог отвлекает, языки развязывает. Долго на этот раз не засиделись -- Екатерина совсем размякла, после работы не удалось передохнуть и водка свое сделала, глаза слипаются, дольше невмоготу: Женя, видимо, пока места-пристанища отыскивала, тоже измоталась и ее подразвезло. 136 Так по обоюдному невысказанному согласию пораньше улеглись. Недолго сон ублажал Екатерину, пришлось подняться, девчонок из школы встретить. Не стала их кормить, привыкли себя обихаживать, снова прилегла на кровать,завтра не праздник ведь, не день отдыха — от них за военные годы отвыкли. Извилист, петлист след от Екатерининых тяжких житейских лет, проторен он страданиями, потерями, скорбью и слезами. У Евгении Станкевич за годы жизни после почти вздорного, капризного побега с заимки оказалась дорога своя, вроде и непохожая на Екатеринину, начиналась удачно, гладкой -- попала в хороший дом, многому выучилась у Розы Львовны. Муж оказался добрым и любящим, но надо же случиться — загубили его бандюги. Оклемалась, дочь на руках, родненькая Фаечка. Работу неплохую нашла — уважали... Муж новый подвернулся, поначалу вроде бы нормально было, а потом началось, как с горы крутой в пропасть покатилась...И все же у Екатерины и Евгении есть одно общее, подводившее их жизни к единому знаменателю - страданий и бедствий им выпало гораздо больше, чем радости, удовольствий, счастья и любви. Повествовала Евгения о тюремных и лагерных скитаниях и страданиях, а Екатерина диву давалась, как эта хрупкая женщина такое вытерпела, выжила и не все растеряла от той Женьки, какую она помнила по дням далекой юности. Приглядывалась, прислушивалась Екатерина и раздваивалось ее впечатление, то это памятная ей с молодости резкая и порывистая, гордая и красивая, независимая Женька. И тут же предстает незнакомая, злая, циничная до наглости баба, способная на любой мерзкий, грязный поступок и которая может выпалить такое пакостное слово, что и самый поганый мужик-забулдыга не осмелится вымолвить. С С каждым днем в Евгении все ярче проступали знакомые Екатерине черты, конечно, годы не красят, а те, что пережила Женя, способны любого так перелицевать, что и родная мать с отцом не признают. Через несколько дней, примечала Екатерина, от жалкой, замызганной побирушки,, за которую она было приняла в первое мгновение Евгению, как бы отвалились присохшие короста и грязь, в ее лице, фигуре, во взгляде становилось меньше скорбности и внешнего убожества, женщина оживала на глазах -- посвежела, подтянулась кожа на лице, меньше бросались в глаза морщинки на лбу, вокруг носа, наполнялись упругостью губы и, казалось, возвращался прежний зовущий изгиб незабываемых Женькиных бровей. В выражении лица Евгении, в ее повадках, жестах, усмешках, Екатерина иногда видела знакомые повадки ее родителей, властностьи нетерпение матери — Авдотьи Карповны — и упорство отца – Алексея -- твердость, не выпячивающаяся, не оскорбляющая окружающих. Ласковая, почти материнская приветливость Екатерины, голоса девчонок -они то ласково ворковали между собой, то яростно, но беззлобно спорили -простой, но памятный и понятный Женьке уклад всей жизни в доме успокаивали гостью, она давно не ощущала себя такой свободной, успокоенной. Жизнь в доме Екатерины незаметно, но последовательно вытесняла, отодвигала в ее душе, 137 сознании неприятные привычки, манеру поведения, приобретенные Женькой в среде, где стремление выжить, хотя бы и за счет других, было определяющим. Евгения с первых минут появления в этом доме поняла напряженное, нетерпеливое ожидание Екатерины: что выскажет она какую-то весточку о Иване Александровиче, может, все-таки где-нибудь пересекались их пути? Нелегко Евгении разрушать хрупкие надежды, но и держать бедную женщину в их плену тоже невыносимо и она твердо погасила ее бесплодное ожидание. — Нет, нигде не встречался твой Иван Александрович. Там столько несчастного народа и встретить знакомого все равно, что в копне сена найти иголку. Пойми, там так меняются люди, что рядом окажись и не признаешь. Все как бы на одно лицо становятся, пока не поживешь какое-то время вместе, одинаковыми кажутся. Лишь потом попривыкнешь, начинаешь отличать, у каждого свое отличие и одного с другим не спутаешь. Ты вспомни, Катя, меня тоже не в тот же миг признала. Так ведь? — Прости, Женя, за мою настырность. Думала, всякое бывает, чем бог не шутит, а вдруг твои и Ивановы дорожки пересеклись. Я же тот мир, где ты была совсем, слава богу, не знаю, — оправдывалась Екатерина, по щекам скатывались неудержимые слезинки, — где же он, родимый, мается, здоров ли, жив ли еще? Евгения не старалась угождать Екатерине, ни к чему напрасные утешения, и отвечала с болезненной прямотой: — Там выжить труднее, чем на фронте. Что работа адова, а жизнь в лагерных бараках еще страшней — это одно. Сейчас зэки от голода, как мухи мрут. И прежде не харч был, а одно название — баланда, баланда и есть — теперь же в тысячу раз хуже. Здесь на воле, сама знаешь, с едой не просто, многие недоедают каждый день,, продуктов на всех не хватает, а что в таком случае остается лагерникам? От ничего много ли для них наберется? Кто на золоте работает, иногда чуть получше накормят, да и то редко, а основная масса сплошные доходяги, каждое утро мертвяков возами вывозят. Нет, веры и надежды, спокойствия Евгения в дом не принесла. Три мужика были в доме у Екатерины, опора и защита ей к старости, бывало радовалась она, а как обернулось? Ивана упекли бог весть куда, послушать Евгению, и не дождешься его. Парни служат, Санька на фронте, сколько война продлится, сколько ненасытная еще проглотит? Дождется ли она кормильцев своих и защитников? Остаются надежды на девчонок, какой стороной судьба к ним повернется? Приведут ли зятьев в дом или безмужними им вековать? Женихов вон как истребляют! Евгению от себя Екатерина не отпускала, куда ей, горемычной, податься, где угол обретет? Да и самой с Евгенией легче, есть с кем перемолвиться, горе выплакать, радостью поделиться. — Оставайся у нас, — предложила однажды Екатерина, — не хоромы, но место и для тебя найдется. Потом видно будет — работу подыщешь, карточки получишь, как-нибудь вместе и перебьемся. 138 Спорить Евгении смысла нет, куда ей податься? С работой определилось буквально на другой день. Через Федора Тюрина — она его встретила случайно еще до появления у Екатерины, он и дорогу к ней подсказал — пристроилась в ламповой на пятой шахте, где Иван Александрович Муратов в заведующих ходил. С началом войны заведующих переиначили в начальники -- все заведующие, директора вдруг превратились в начальники. Карточки Евгении полагались поверхностные, это победнее подземных, но жить можно, нашлась бы работа и под землей, но это «счастье» Евгения в неволе испытала и вновь испытать не жаждала. — Как же ты, Женя, во враги народа-то угодила, не в начальниках же ходила? — спросила Екатерина в один из вечеров, когда обоим не нужно в ночную смену торопиться. Задала вопрос осторожно, полушепотом, боялась не обидеть. Женька протирала только что вымытые тарелки и непохоже было, что вопрос для нее неожиданный. — Я же в горкоме партии работала. Должность действительно небольшая — секретарь-машинистка, но секретарствовала у главного начальника в городе — у первого секретаря горкома. Его раньше меня забрали, как врага народа, хотя он такой же враг как мы с тобой. А меня, значит, немного погодя арестовали за связи с врагом народа, с ним, с Георгием Павловичем Келаревым. И доносик сработал, — последние слова Евгения произносила с горькой усмешкой. —Какой доносик? Что это такое? — недоумевает Екатерина. — Ну, донос, бумага на меня, понимаешь? - Екатерина утвердительно замотала головой. — Муженек мой, Алексей, постарался, — к горькой усмешке в голосе Евгении примешиваются и злость и недоумение, — любил меня очень и оттого ревновал до сумасшествия, особенно к Георгию Павловичу, с ним мне не только целыми днями приходилось быть, но и часто вечерами задерживалась. У первого всегда дел по самую макушку, да и люди к нему шли непрерывно, хороший человек и мужик из себя видный, но не был он у меня ни на уме, ни на сердце. У меня в это время другая история происходила, Алексей о ней и не догадывался, но видел, что я к нему переменилась, потому и ревность его бешеная, хотя и не по адресу. Екатерина лишь диву давалась, вон, что на свете-то бывает! — Алексей мой от арестов только выиграл, — в голосе Евгении нотки презрения, — при других обстоятельствах, при нормальном течении жизни ему бы всю жизнь в рядовых инженерах торчать, по чужим командам, указаниям жить, место управляющего трестом ему отродясь не светило. А тут всех позабирали, и он всплыл. Как ни чувствовала, как ни понимала Екатерина, через какие муки прошла Евгения, она и малой толики не представляла истинной боли и цены испытаний, перенесенных ею. — Катя, ты и представить не можешь, что там творится. Я не могу все 139 рассказывать и не только потому, что подписку дала. Об этом невозможно говорить, настолько существование там мерзко, погано, неприемлемо и непонятно для нормального человека. Евгения говорила зло, резко, с такой ненавистью, что Екатерине казалось: сейчас сорвется, набросится на первого попавшегося человека и в необузданной ярости растерзает, Может наброситься даже на нее, Екатерину, столь слепа и зверина ее черная память. — Ты пойми, — истерически выкрикивала она, — во мне ничего человеческого не оставлено, все выбито, выжжено, выхаркано. Начальством униженная, что там униженная, затоптанная! Товарками битая, перебитая, охраной насилованная. О следователях и говорить нечего — у них должность такая, задание имеют, их учат этому. Представь себе: где-то, кто-то учит, как человека превращать в мразь, нет, не в мразь, хуже — в пыль, в лагерную пыль. Вот тебе высшая ступень развития человеческой цивилизации! Никакие обезьяны, неандертальцы до такого падения не дошли. Что там обезьяны, первобытные люди! Самая злая гиена и та чище, благороднее. От ее неистовости, Екатерине становилось страшно. Все эти дни она видела, как иссохшее тело Евгении находится в постоянном напряжении, в страхе ожидания ужасного, больного, непереносимого, у нее часто появлялся звериный, затравленный взгляд, морщины, обострившийся нос, усиливали похожесть на затравленного рогатинами зверя, изумительно красиво изогнутые брови мгновенно молниями вскидывались, как при ощущении приближающейся опасности. Только у сонной Евгении, да в минуты полного успокоения обнаруживала Екатерина прежние ее черты - она смотрелась по былому красивой, энергичной, готовой ввязаться в веселую, искрометную игру, пропеть частушку, отчебучить цыганочку или голубца. Екатерине собственные беды и горести теперь представлялись куда менее значительными по сравнению со злоключениями Евгении. Жизнь вместе, долгие и душевные разговоры в свободное для обеих от работы время, необычно сблизили их, больше, чем когда-то на заимке, в обычай вошло рассказывать друг другу о случившемся за время, что не виделись. Однажды Екатерина при рассказе о происшествиях с ней на работе обмолвилась: — Завтра, говорят, к нам приезжает новый управляющий трестом, шахтовое начальство засуетилось. Не здешний он, не знают, чего от него им ждать, беспокоятся. — Кто он, откуда? — Женя спросила так, между прочим, по ходу разговора. — Какой-то из России, эвакуированный. Вроде Зайцев фамилия его. — Зайцев?! — у Евгении дыхание перехватило, у У моего Алексея тоже фамилия Зайцев, он тоже управляющий трестом. Фая с ним, ты понимаешь, Катя?! Фая же с ним оставалась! 140 Евгения Алексеевна Станкевич потрясена до основания. Она, конечно, постоянно думала о дочери, не было у нее более сильного стремления, более нетерпеливого желания, чем найти, вновь обрести Фаю. Крайняя необходимость срочно подыскать жилье, угол, где могла бы обосноваться, хотя бы на первое время, естественным образом отодвигали заботу о самом родной ей существе, неотложным было определиться с работой — без этого немыслимо само ее существование, работа—это деньги, карточки, кусок хлеба, наконец. Не могла бывшая заключенная, ныне освобожденная, да еще на жестких условиях «свободы» бродить по земле так, сама по себе, требовалась прописка, привязка к определенному месту проживания, иначе она выпадала из-под контроля властей, органов, своеобразно пекущихся о ее каждом шаге, о всех поворотах ее судьбы. Поэтому ее главная цель — поиск доченьки — оказался на время как бы приглушенным, хотя каждосекундно Евгеньино существо наполнялось Фаей. И вдруг! Как будто там, где вершатся судьбы людские, услышали ее безмолвные непрерывные молитвы. Фая по воле тех же сил, двигалась навстречу, в незнакомые края, где витал дух ее не прославившихся, неизвестных и незаметных при жизни дедов и бабушек, ехала туда, где появилась на свет, а теперь мыкалась неприкаянной, отверженной ее мать. Как тут ни поверить в существование высшего, всевидящего властителя, кому подвластна жизнь каждого и кем направляются дела и помыслы души человеческой! Без постороннего или внутреннего внушения Женя теперь непрестанно благодарно повторяла вслух и про себя: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Неосознанная ее вера, бесхитростная и беспредельная ее благодарность, так естественно порождало желание воздать хвалу. После бессонной ночи возбужденная, окрыленная надеждой, отправилась Женя на работу, в шахтовую ламповую. Бесконечной, тягучей казалась ей эта смена, ходила, как во сне, автоматически, не думая и не видя лиц шахтеров, принимала бирки, выдавала и принимала лампы, ставила их на место, отвечала на вопросы, огрызалась на недовольных. И в то же время, из головы не выходило: как бы поточнее разузнать о новом управляющем трестом. Заводила, вроде ненароком, разговоры о трестовском начальстве, пыталась выяснить часто ли оно бывает у них на шахте. — Управляющий трестом, — отвечала ее напарница Нюрка Самохина, — приезжает к нам, когда с планом неувязка или несчастье какое-либо, авария. Чаще трестовские инженеры наведываются. Управляющего, как выпытала Женя, звали Попов Семен Акимович, о новом никто не слышал. — Сейчас много эвакуированных понаехало, они в основном в тресте оседают, а старых трестовских по шахтам растусовывают, — говорила та же Нюрка Самохина. После смены Евгения не поспешила домой к Екатерине, а отправилась в сторону треста, так нетерпеливо ее желание узнать о новом управляющем, о его 141 семье и, само собой, о Фае. Не напрасно же когда-то она работала в горкоме партии, пригодились знания о трестовской структуре, умение общаться с конторскими людьми. В тресте не стала сразу пробиваться к управляющему, начала разведывательные действия с самого низу, где уже который год уверенно командовала Марфа Петровна — не то сторож, не то швейцар — женщина наблюдательная, все слышащая, все видящая, а еще более обо всем догадывающаяся. Такой ее пост: никто мимо не проскользнет, всякий поздоровается, а то и словом перемолвится, а если иной слова не проронит, то Марфа Петровна рано или поздно ключик подберет и разговорит, расположит к себе. Женя нарвалась на нее в разгар рабочего дня, а работали по военному времени от темна до темна. Поначалу речь повела с Марфой Петровной о работе: не найдется ли в тресте что-нибудь подходящее, она на машинке печатать умеет, секретарем до эвакуации работала. Женя представилась эвакуированной, они сейчас почти полгорода составляли. — В тресте с работой сейчас туго, вакуированных навезли, — вздохнула сочувственно Марфа Петровна,— у нас и управляющий из вакуированных, Алексеем Николаевичем прозывают, их местность-то теперь под немцем, вот он и к нам на пересидку. Первая часть задачи оказалась выполненной почти мгновенно и без ее особых усилий. Он, Алексей, здесь. Теперь о Фае разузнать бы. Допытывать Марфу Петровну нужды не было, щвейцару в одиночестве коротать время нудно и она рада любому, с кем можно разнообразить долгое дежурство, а тут подвернулась терпеливая, благодарная собеседница. — Алексей Николаевич, — продолжала, несколько понизив голос, Марфа Петровна, — очень строгий, никакого упущения не потерпит. Семен Акимовичто, это старый управляющий, помягче был, сейчас снова на Кировскую начальником назначили. Строгость-то теперь очень нужна, времена такие, — вздохнула Марфа Петровна, — с него спрашивают, он и сторонится. Говорят, в Москве сам Сталин его напутствовал - уголь, говорит, очень нужен, ты, Зайцев, постарайся там, вот он и старается, боятся его у нас, — она, многозначительно вздохнув, добавила, — и уважают. — Да, да, нелегко ему, — поддакнула Женя, — трест на нем и без семьи, наверно, в Москве оставил ее или на старом месте застряла. Женя пытается повернуть разговор так, чтобы о Фае выведать и попала в точку, Марфа Петровна тотчас откликнулась. — С дочкой он приехал, такая хорошенькая, прибранная, аккуратненькая, просто заглядение. А жены нет с ним — или в Москве задержали или, может, на задании где. Вот и узнала главное — Фая здесь! Рядом! Она ее увидит! Как ни радостно Жене, но сдерживает себя, старается не выказать свой особый интерес, основное она уже выяснила, дальше, как говорится, дело техники. Через несколько минут Женя знала, где живет управляющий, обслуживает их хорошая знакомая Марфы 142 Петровны, женщина опрятная и честная — Настасья Павловна. Тут же отправилась Женя на поиски дочери, дом отыскать не составило особого труда, он почти рядом с трестом. И опять судьба повернулась к ней доброй стороной, пока Женя перед воротами особняка раздумывала, как войти в ограду, а затем в дом, калитка словно по волшебству отворилась и из нее вышла девочка. Одного мига достаточно Жене, чтобы узнать родное личико Фаи. И та тоже тотчас признала мать. С радостными возгласами, со слезами, обильно омывавшими их лица, мать и дочь вошли в дом, всполошив Настасью Павловну, орудовавшую на кухне. 23… Вечер угомонился, затихло на улице и в доме, ночь властно забирает в свои объятия — девчонки давно похрапывают, вздрагивают и взвизгивают во сне, кошка примостилась у них в ногах, слиплись ее глазки и совсем по-человечьи время от времени разевает ротик, причмокивает крохотными губками. Пора бы и Екатерине спать, подыматься чуть свет, в утреннюю смену отправляться на шахту, да где тут уснешь, нет до сих пор Евгении. Умом понимает Екатерина — взбудоражена горемычная, как услышала фамилию мужа, бывшего, кажется, так вся и переменилась, взбудораженной ушла на работу и сейчас, наверное, встретила его, разбирают непростые судьбинные повороты. Умом-то понимает, а спать все равно не укладывается, в голову разные дурные мысли протискиваются, ночью на улицах всякое случается, а они живут на отшибе. Мысли, самые разнообразные мысли голову Екатерины раздирают, одна другую перебивает и все они тревожные, возбуждающие, и ее задело известие — может, муж у Жени объявится. Не зависть черная гложет, а мечты-желания, а вдруг также нежданнонегаданно в скорости объявится ее Иван. Тишину ночную встряхнуло тарахтение мотора, вроде к дому машина подъехала, приглушился ненадолго машинный шум, потом снова взревнул мотор, зашуршали колеса, и шум удалился. Вот и стук в дверь, осторожный — видать, возвратилась, наконец, Евгения. Взглянула на нее Екатерина и сразу ясно — светится радостью, возбуждена, плещется из нее нетерпение поделиться необычным настроем души. — Катя! Катя! Ты не поймешь, какое на меня счастье свалилось, каким неожиданным боком повернулась судьба! Нашлась моя Фаечка! Нашлась, здесь она! Как выросла! Какая девочка! Красоты необыкновенной, залюбуешься - не верится, что это я такую родила! — льется поток бессвязных, радостных слов, заражается Екатерина радостью, обнимает подругу, обе плачут, слезы застилают глаза, а уняться не могут. — Рассказывай, Женя, рассказывай, — просит Екатерина. Сон, как рукой сняло, вылетело из головы, что ранехонько на работу отправляться. 143 Пошел разговор, не пустой, бабий, а открылся какой-то плотно до этого прикрытый кран в душе Евгении. Екатерина только лишь словечко вставит, а Женя все говорит и говорит, Екатерине душа Женина раскрывается и такие в ней струны видит и слышит, каких до сих пор в жизни встречать не приходилось. — Зайцев-то мой оказался, Алексей. Его сюда управляющим прислали. Разыскала его быстро, управляющий — фигура видная. За версту видать. Но не пошла к нему. Выведала у трестовской швейцарки, что надо и прямо к дому. Подхожу, калитка, как по волшебству открывается, а из нее не выходит, а выпрыгивает она — моя Фая! Сразу признала. Скажу тебе, едва на ногах устояла, на такой подарок судьбы и не надеялась. Вытянулась, конечно, изменилась, но я узнала сразу — родная ж кровушка! Обличьем она больше на Толика смахивает, как похорошела, ты бы видела! Как я могла такую красоту народить?! Есть в ней что-то от бабки Аксиньи — мамы моей, такой же прямой, твердый взгляд, повадки ее, руку к щеке приложит, и я вижу, мама также щеку на ладонь прилаживала и походка ее такая же твердая и, вроде куда-то торопится. — А его-то, мужа своего, видела? — Алексея?! Конечно! В лагерях, дорогой, и здесь все время думала: встречу — прибью гада, предателя, доносчика. — Скандал был? — испугалась Екатерина. — Что ты, Катя! Он пришел очень поздно. Мы с Фаей успели наговориться, у нее за каждым словом: «папа», «папа»: Любит он ее без всякой меры, хотя она ему и не родная. И она его любит, почитает, дай бог другим родных отцов так любить и почитать. Вырастил ее, обихожена она, не испорчена, чистенькая, светленькая. Ну, как я после этого на него накинусь, попрекать стану?! — А как встретились-то? Сразу признал? Как у Вас дальше? — Ой, Катя! Умора целая! Вошел он, меня увидел и обомлел — думала, кондрашка его хватит, то белый, как мел, то краска по всему лицу. Может и случилось бы что, да Фая подскочила к нему, на него бросилась, целует и без умолку повторяет: — Папочка! Смотри, мамочка вернулась! Я же говорила — она вернется и она, смотри, вернулась! — И все у нее, — Женя говорила с особенной грустью, в которой перемешаны и обида от Алексеевой подлости и радость, что с Фаей все благоприятно, — и опять у нее через каждое слово: «папочка! папочка!» Ну, могу ли, Катя, поднять я руку на него, раз так она его любит?! — А он-то как? Обнял, поцеловал? — Как-то обошлось без поцелуев и объятий. Он еле-еле отошел, уразумел, что я самая натуральная, живая, целехонькая перед ним. Да и Фая объятиями, трескотней как-то все само собой уладила. Потом сели за стол, поужинали, чайку попили, по рюмочке, как водится. 144 — Ночевать-то оставлял? — допытывается Екатерина. — Как же! Конечно, уговаривал, Фая очень просила, целую комнату мне отводили, но я отказалась. — Как же так? Почему? — Не могла, Катя, я там оставаться. Пойми, пожалуйста. Мне с Алексеем не жить, Фая уже взрослая, все понимает. Как мне быть? Показать сразу Фае, как я от Алексея — ее отца, отворачиваюсь? Или, чтобы Фая спокойной была, бухнуться в его постель? Нет, не могла я там остаться, хотя, чего таить, очень хотелось. С Фаей бы всю ночь проговорила. Да и не могла я тебя, Катя, заставлять мучаться, понимала же, ты без меня не заснешь. Алексей вызвал машину, и они с Фаей меня к тебе доставили. В дом не зашли, поздно, да и признаться, я не очень-то их уговаривала. — Дальше-то как, Женя? —Дальше?.. Видимо, так и останется. Алексей сам по себе, я сама по себе. — А Фая? С кем она? — Фая с Алексеем останется, — тихо, почти отрешенно произнесла Женя. — Почему с Алексеем? Она же тебе дочь родная? Для Екатерины оставить родную дочь, хотя бы и на хорошего человека, который ее безумно любит, выше ее материнского понимания. — Катя, я на фронт скоро отправляюсь. Не возьму же Фаю с собой? — Что ты мелешь? Куда еще собралась? Все, наконец, вместе собрались, а она вон что задумала? — возмущается Екатерина. — Катя, родная! Не в сей момент я это надумала. Как освободилась, сразу это решила. Давно уже заявление в военкомат отнесла, на днях была там, скоро, говорят, отправят. Поеду грехи свои отмывать. Как штрафники, кровью. — Какие на тебе грехи? Перед тобой все грешны, за муки твои, за терзания лагерные! — В грехах, Катя, я как в шелках. Не святая я, Катя, много за мной водится. Ты думаешь, я так просто освободилась, по чьему-то решению-повелению мне воля вышла? — Ты мне об этом ничего не рассказывала. Неужели сбежала? —Да что ты, Катя! Оттуда сбежишь! Так загорожено-перегорожено, охраняемо-переохраняемо, мышь и та оттуда не выскользнет. — Как же все-таки на воле очутилась? Рассказывай, не томи. — Намытарилась, настрадалась я, Катя, по тюрьмам, лагерям и вижу: пропадает моя жизнь ни за грош, ни за копейку. Молодость в тоске, страданиях уходит, ничего-то я на белом свете не повидала, не узнала. Надо, думаю, конец этому положить. Поначалу намеревалась просто покончить с этой распроклятой жизнью, хватит маяться, мучаться, наложу руки на себя и конец всему. 145 — Ой, ты! — только и вымолвила Екатерина. — Потом вроде просветление нашло. Легче от моей смерти станет? Бог дал мне жизнь — жить я и должна. Видела, в лагерях, тюрьмах по-разному живут. Может и мне попытаться обеспечить судьбу свою. — Каким же это путем? — Екатерина полуиспуганно впивается взглядом в Женю. — Я же живой человек. Не один раз видела, как охранники, их командиры, потом их офицерами стали называть, с понятной жадностью на меня глядят. Я же их так ненавидела, терпеть эти взгляды не могла, и, чтобы отвадить, старалась похуже выглядеть. За волосами не следила, робу арестантскую так носила, чтобы я еще срамнее смотрелась. А тут решила переломить себя, побороть брезгливость, ненависть. Что будет, то будет, а попробовать стоит! Стала себя обихаживать. Какую никакую, а прическу сооружаю, промывать лицо лучше, одежду подладила, чтобы фигуру выделить. В общем, вижу, приглядываться ко мне офицеры стали. И совсем не удивилась, когда начальник лагеря велел перевести меня уборщицей в контору. Там я уж постаралась себя показать. От трудов моих контора заблестела, не зря же я у Розы Львовны столько провела, это свекровь моя, Толикова мать. Тут нужда в машинистке выявилась. Не зря же я в горкоме на ней настрополилась. Георгий Павлович, первый секретарь, меня нахваливал, говорил, так красиво печатать никто не мог,- грустнопохвалила Евгения себя и дальше продолжила: — Дальше все пошло, как по маслу. Влюбился в меня начальник лагеря Николай Иннокентьевич Евстигнеев. Он хотя и долго в лагерях работал, но совсем не изсволочился. Тоже я поняла, там порядочным, мало-мальски нормальным быть страшно. Это такая машина, не только зэков ломает. Николай Иннокентьевич пытался все же послабление делать. Сошлись мы с ним. Со временем я на него большое влияние заимела. Потому осмелела и попросила с моим делом разобраться. Посмотрел он мое дело, мне кое-что показал, так я и узнала об Алексеевой доносе. Через какое-то время, когда Николай Иннокентьевич в меня до того втюрился, что стал предлагать себя в мужья, с женой собирался развестись, я ему заявила: — Ты сначала меня свободной сделай, а на зэковке тебе никто не позволит жениться. Он и постарался. Добился пересмотра моего дела. Вот так я и освободилась. —А он-то как? Ведь жениться собирался? — расспрашивает Екатерина. — До сих пор, наверное, собирается, я у него выпросилась Фаю разыскать. Он, спасибо ему, сочувствовал мне и позволил уехать. — Как же теперь? К нему отправишься? — Что ты, Катя! Он человек неплохой, с ним жить можно. Но как вспомню лагеря, всю обстановку тамошнюю, обреченность людскую, меня никаким калачом туда не заманишь, никаким трактором не утянешь. Оттого и на фронт 146 уехать надумала. Здесь он меня рано или поздно достанет, по-хорошему или поплохому к себе потребует. А на фронте ищи, свищи меня. — Так это же фронт, Женя! Там же такое! Вернешься ли?! — Вернусь, Катя! Я живучая — меня оглоблей не зашибешь, вожжами не задушишь! КНИГА ВТОРАЯ Часть первая 1 Шесть часов утра. Вот-вот на шахте №7 начнется утренний наряд, на него и приехал управляющий трестом Алексей Николаевич Зайцев. На улице темень, местами прорываемая желтым светом из окон раскомандировочной и надшахтных сооружений. В феврале день хотя и прибавил, но солнце поднимается еще поздно. С вечера прошел обильный снег, он еще не успел слежаться и несильный ветер поднимает снежинки, легкая метель крутит их над дорогами. К утру крепчает мороз, на улице уже ниже сорока градусов. Последние сретенские морозы, они иногда злее крещенских, зима с летом встречается, говорит его домработница тетя Настя, напоследок лютует, не хочет уступать весне. Но ничего, перетерпим, дождемся и теплых времен. Двери в раскомандировочную то и дело открываются. Окутанные наружным парящимся воздухом и опушенные белым снегом возникают человеческие фигуры. Они зябко вздрагивают плечами, ударяют руками в теплых рукавицах, не без усилия стягивают их, затем осторожно снимают с головы шапки с опущенными наушниками и сбивают с них об стену или об руку снег, налипший за дорогу. От учащающегося хлопанья дверями, от прибывающего многолюдья в раскомандировочной становится шумнее. Алексей Николаевич не поспешил в кабинет начальника шахты, а заходит в комнатки-закутки участков, где их начальники выдают задания-наряды смене, готовящейся к спуску в шахту. Ходьба по морозу выветрила из шахтеров остатки сна, они возбуждены, наступают на начальников участков, вываливая бесчисленные требования на их усталые, не освеженные сном головы. Некоторые по много суток не могут вырваться домой, засыпают на мгновения тут же в раскомандировочной на скамье или сидя за столом. Претензий никому не предъявляют - война ведь! - фронтовикам еще труднее, полагают они, где приходится солдатикам спать да приходится ли вообще? Спят родимые на морозе, на мерзлой земле, под пулеметным огнем, под снарядами, минами, бомбами. Как у всех тыловиков, у шахтеров представление о фронтовых тяготах, возможно, несколько преувеличенное, но вполне может быть и так, если на каждом наряде 147 слышно, то у одного, то у другого в доме страшное несчастье, принесенное в казенных конвертах - похоронках. Без всяких призывов, накачек, угроз всем понятно, что только углем, каждой дополнительной тонной они помогут родным страдальцам на фронте. Вон и управляющий трестом прикатил, ему спать да спать бы, а он чуть свет уже мечется по шахтам. На него ведь жмут со всех сторон, и сам не истукан беспонятливый, соображает, какая ныне цена каждой тонне угля. Сбросил полушубок и навострил уши, а вопросов к нему у каждого хоть отбавляй. В комнату третьего участка втиснулся начальник шахты Сергеев, донесли ему, что трестовское начальство по раскомандировочной шастает. Пусть бы шастало, нужды у Ивана Михайловича к нему никакой и толку от его приезда большого не ждет, будет лишь давить, давай, мол, план и ни каких гвоздей! Но Сергеев приучен почитать начальство, а этого, Зайцева, он, и почитает, руководитель сильный, но и побаивается, врезать может так, что и не поймешь, откуда только слова такие находит, самые острые, бьющие по наиболее чувствительным местам. Увидев Сергеева, управляющий, не прерывая разговора с известным всему городу навалоотбойщиком Рыжиковым, устало тряхнул протянутую ему руку. Потом, оторвавшись от разговора, скомандовал: - Иван Михайлович, собирай людей в общую раскомандировочную. Есть необходимость кое-что сказать... Сергеев покинул участок и почти сразу же послышался его голос, призывающий послушать управляющего. Смена третьего участка вывалилась из своего закутка вместе с зажатым шахтерами управляющим. Зайцев энергичным броском вскочил на возвышение, не подошел к деревянной тумбе, изображающей трибуну, а прямо со средины сцены, не дожидаясь ритуального представления, его и без этого на шахте хорошо знали, обратился к притихшим шахтерам. - Товарищи! Вы, не сомневаюсь, слушаете сводки Совинформбюро. Добили фрицев в Сталинграде и поперли эту погань с нашей Советской земли. Нелегко нашим на фронте. Не для того немцы добрались до Волги, Москвы, Ленинграда, чтобы подобру, по-здорову убираться назад, откуда пришли. Сопротивляться будут бешено. Немало еще прольется крови до окончательной победы. Всему нашему народу придется, как следует напрячься, чтобы покончить с фашистской нечистью. Вы видите, как заработали и набирают мощь эвакуированные к нам заводы. На Тихом океане флот должен поддерживать боевую готовность, с бешеной нагрузкой, без передыха работает железная дорога. Зайцев тыльной стороной ладони провел по лбу, убирая выступившую испарину. - Каждый день от нас требуют все больше и больше угля. Мы все, в том числе и вы, шахтеры семерки, конечно, стараемся, как можно полнее удовлетворить эти требования. Трест за военные годы увеличил добычу почти вдвое, но этого недостаточно! Мы получили новое повышенное задание. Да, да, новое задание, хотя и нынешний план под завязку и не все с ним справляются. Я не собираюсь кого-либо агитировать, и без меня понимаете, что значит для фронта каждая дополнительная тонна. Вы тоже участвуете в наступлении Красной Армии, в 148 изгнании немцев с нашей земли. Насколько остро стоит вопрос с обеспечением страны углем, вы поймете из телеграммы, с которой приказано всех шахтеров ознакомить. Управляющий трестом полез в боковой карман пиджака, вынул оттуда бумагу и развернул ее в сторону зала, на красном фоне отчетливо выделялось: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. - “Управляющему трестом Н-скуголь товарищу ...., - читал Зайцев, - Красная Армия, преодолевая упорное сопротивление противника, разворачивает успешное наступление по изгнанию немцев с территории нашей Родины. Масштабы и темпы наступления целиком и полностью зависят от трудовых усилий работников заводов и шахт по обеспечению войск всем необходимым для боевых действий. Вам не стоит разъяснять, что наращивание выпуска продукции для нужд фронта в решающей степени определяется бесперебойным обеспечением предприятий углем. Вверенный Вам трест в текущем месяце недодал к плановому заданию ... тысяч тонн угля, осложняя тем самым работу предприятий. Государственный Комитет Обороны требует безусловного погашения допущенной задолженности до конца месяца. В противном случае может встать вопрос о придании управляющего трестом, руководителей шахт суду военного трибунала в соответствии с законами военного времени. Председатель ГКО - Сталин.” Зайцев закончил читать и вопросительно уставился в напряженные лица шахтеров. Время было зимнее и, конечно, давно не летали мухи, но пролети в этот миг самая крохотная, самая тихая мошка ее услышали бы в воцарившейся абсолютной тишине. На возвышение медленно, даже степенно поднялся Сергеев. От его кряжистой фигуры исходила неимоверная решительность: - Алексей Николаевич! Передайте товарищу Сталину - мы костьми ляжем, сутками не будем вылазить из лав и забоев, но фронт, товарища Сталина не подведем! Он неожиданно легко спрыгнул с возвышения и вместе с поднявшимися в едином порыве шахтерами зааплодировал. Зайцеву не задали не единого вопроса и он, пожимая на ходу протягивавшиеся к нему руки, вышел наружу на крепнувший мороз, во все круче задувавшую пургу, чтобы отправиться на другую шахту. Через полчаса он уже обходил глубокие траншеи разреза №1. Угольные пласты здесь вскрывали маломощными экскаваторами, нагружая платформы породой, которую отвозили неподалеку в специальные отвалы. Уголь же вынимали так же, как и под землей - лопатами. С борта разреза хорошо видно рабочих, наваливавших раздробленный взрывами уголь на длинные транспортеры, с которых уголь сваливался в железнодорожные вагоны. Лопаты у горняков только мелькали. Согреваются работой, подумал Зайцев. 149 - Обмороженных много? - спросил он начальника разреза Антонова, плотнее кутавшегося в черный полушубок. Такие полушубки еще с осени управляющий трестом распорядился выдать начальникам шахт и разрезов, они заметно выделялись среди белых полушубков, выдаваемых как спецодежда другим работникам. - Слава Богу, пока не допускаем, чтобы обмораживались, разделили бригады пополам, и через каждый час подменяем, чтобы отогревались в теплушках. - Молодцы, что сообразили. Значит, часть людей сейчас греется? Зайдем к ним. В срубленной на скору руку сосновой теплушке вокруг печки отогревались рабочие, кто сушил портянки и валенки, кто крутил самокрутку, а некоторые, прикрыв глаза, старались немного вздремнуть. Приход начальства внес оживление. - Ну, как перебарываете морозец? - Зябко передернув плечами, спросил Зайцев. - Куда деваться, приходится перенемогать, - ответил на вид щупленький мужичок, сушивший над раскрасневшейся “буржуйкой” байковую портянку. Хорошо, что начальство озаботилось выдать катанки. - В промартели инвалидов удалось раздобыть, у них есть пимокатный цех, неплохие валенки катают. - Нам-то что, замерз и в теплушку отогреваться, а как там, на фронте ребятам? Им же обогревалок не настроишь,.. - с горестной печалью говорил тот же мужичок. Наверное, сын или кто другой из родных на фронте, пожалел Зайцев, сами в адских условиях трудятся, думы же их с теми, кто на войне. Но тут же отогнал испугавшую самого жалость, на войне как на войне, будь на фронте или в тылу жалости места быть не должно. Вынул из кармана сталинскую телеграмму и прочитал затихшим рабочим. - Правильно он требует, - безапелляционно заявил активный мужичок, расслабляться нельзя, гнать и гнать эту пакость! Ну что ж, пора обуваться, надо подменять ребят, мороз-то сегодня спуску не дает. Он начал наматывать подсохшие портянки. Когда рабочие вышли на смену своим товарищам, начальник разреза Антонов, сочувственно улыбаясь, спросил: - Привыкаешь, Алексей Николаевич, к нашему сибирскому климату, не тянет в родное Подмосковье? - Об этом и думать некогда, в этой круговерти не до погоды, хотя в Подмосковье февраль помягче, приближение весны уже ощущается. А насчет тянет или нет, тоже задумываться не приходится. Временщиком здесь себя не ощущаю и, если доведется всю жизнь здесь прожить, едва ли об этом пожалею. Народ здесь необыкновенный, работа тяжкая, мороз поджимает, харч небогатый, на душе муторно, а они - нам-то что, как там на фронте? И расслабляться нельзя! Таким людям при жизни надо монументы сооружать! 150 Вместе с клубами морозного воздуха в теплушку, потирая уши и хлопая рукавицами, вошли подмененные рабочие. Зайцев поздоровался с ними. - Мне пора спешить в трест. Иван Иванович познакомит Вас с телеграммой товарища Сталина, мне к ней добавлять нечего. Пока! Ох, какая холодрыга! Как Фая до школы дойдет? Позвонить что ли, чтобы дома оставалась? А впрочем, уже не маленькая, сама сообразит, пусть привыкает... Мысли с Фаи как бы автоматически переключились на Евгению, жену его, душемотальщицу. Неужели всю жизнь будет чувствовать себя виноватым перед ней? Кто же по этой жизни проходит без ошибок, не спотыкается, не падает и не поднимается? Столько лет проскочило! А будто вчера он терзался бешеной ревностью и до сих пор не знает наверняка, было ли что у Жени с ее начальником, первым секретарем горкома Келаревым? Тогда же, увидев их вместе выходящими из горкома, совсем потерял разум. Ночью настрочил - нечего перед собой крутить! - донос. Думал, избавится от соперника, тогда такой способ в ходу был, вышло же, что и ее на тюремные муки отправил, следом за Келаревым забрали. Вернулась оттуда, слава Богу, радовался, а она отвернулась, как от прокаженного, на фронт сбежала, чтобы рядом с ним не быть. Только Фая его утешение и его надежда... 2 Где-то далеко на западе шла война, страшнейшая из всех громыхавших за всю истории планеты Земля. Но ее ужасающий металлический лязг, победные клики, вопли отчаяния, стоны покалеченных едва пробивались через забор, укрывающий особняк, отстоящий за пять с лишним тысяч километров от полей сражений. На этом островке мирной жизни располагалось уютное гнездо самого управляющего трестом. ...Захлебывается от звона будильник. Взорвался бы, что ли, он или провалился куда-нибудь в преисподнюю! Такой сладкий сон перебить! Теперь не досмотришь, какие объятия, какие ласки! Не поймешь сразу во сне это или наяву? Никому не расскажешь об увиденном, даже себе! Наслаждение изумительное, а бывает ли так на самом деле? А мальчики! Истинные рыцари! Только лица не рассмотрела, какие-то размытые. И почему-то стыдно, нет не стыдно, но как-то стеснительно. А всё-таки приятно! Зачем ей этот трезвон?! Фая протягивает руку из-под одеяла, со злостью нажимает на кнопку дребезжащих часов. Звон умолкает. Как не хочется подниматься! Каждое утро одно и то же. Изо дня в день заставлять себя выбираться из мягкой и теплой постели. Иногда собственных усилий не хватает, начинает снова дремать. Да разве же даст полежать, понежиться противная тётя Настя, домработница?! - Фаечка, лапочка ты наша, давно пора вставать, - доносится из кухни её певучий голос, - собирайся быстрее, завтрак уже на столе. Смотри, не опоздай. 151 А тут еще дурную привычку заимела тетка Настя. Не дождавшись добровольного выползания Фаи из-под одеяла, подходит к постели и рывком сдёргивает его. Раскрытой лежать противно, холодно, аж озноб охватывает. И недовольной, хныкающей Фае приходится подниматься. - Когда же это кончится, - всхлипывает она, - не дадут человеку выспаться. За что же такая мука? Провалилась бы или сгорела эта школа! Передохнула бы от неё. Нелады со школой начались у Фаи сразу после отъезда матери - Евгении Станкевич - на фронт. Опять на ее долю выпало ждать мамочку, сколько помнит себя, столько и ждет её. Совсем махонькой осталась без нее - родной, ласковой, любящей, каждый день ждала её оттуда, откуда, как ей почти все говорили, никто не возвращается. Не передать самыми добрыми и красивыми словами радость Фаи, когда она, открыв калитку, увидела её - мамочку. Каждый день, нет, не каждый день, а каждую минуту ждала её, верила безгранично и неистово, что мамочка непременно вернётся, будет с ней и с папой. В тот день встреча с матерью оказалась совсем непредвиденной. Она недавно вернулась из школы, успела пообедать. Тут позвонил Вадик Махновский и сказал, куплены билеты в кино для неё и, разумеется, для него. Фая не спросила, какой фильм показывают. Это ей абсолютно безразлично. Ей приятно вновь встретиться с Вадиком. Не задумываясь, заверила, что сейчас же выходит из дома, назвала перекрёсток улиц, где они должны встретиться. Под привычное ворчание тёти Насти скорёхонько оделась - за дверь. Вот тут и свершилось чудо! Только открыла калитку и увидела её - мамочку робкую, неуверенную и в одно мгновение преобразившуюся от взгляда на неё - на свою дочку Фаю. Попала в объятия мамочки и, конечно, позабыла о Вадике и о кино. Не вспомнила об этом до той поры, когда поздней ночью вернулась с папой домой. Они отвозили мамочку к Екатерине Егоровне Муратовой, с которой назавтра мамочка её познакомила, сказав, что это её давняя и верная подруга. Фаю удивило, какая эта подруга? Пожилая, мамочка ей в дочки годится. Настасья Павловна, тётя Настя, открыв им дверь, на ходу прошелестела: - Вадька чуть телефон не оборвал, весь вечер названивал, очень хотел с тобой поговорить. Только в этот момент и почувствовала вину перед ним, но лишь на секундочку, ей было ни до Вадика, ни до кино. Она до краев своей души, до каждой клеточки была полна своей мамочкой. 152 А вскоре мамочка опять исчезла. Но не так, как в первый раз - внезапно и бесследно. Вдруг нежданно-негаданно объявила, что отправляется на фронт, твёрдо, не позволяя сомневаться, объяснила, что её, дескать, призывают в армию. Фая чувствовала - на фронт мамочку толкает неведомая, непонятная, но грозная и беспощадная сила, не только Родину она уходит защищать, как громко говорилось вслух, ей от кого-то убежать необходимо, укрыться на фронте. От папы? От чуткой девочки не утаилось, что между отцом и матерью не всё ладно, мамочка не разу не оставалась ночевать дома, напрямую с папой не разговаривает, если же возникает потребность выяснить что-либо у Алексея Николаевича, то обращается к Фае, хотя совершенно понятно, что вопрос не к ней. И всё же Фая уверена, не от папы мамочка сбежала на фронт. Фая горько плакала, навзрыд, упрекала мать, но была уже достаточно взрослой и, вопреки своим чувствам, сознавала – подругому матери поступить невозможно. Отъезд мамочки заставил помнить, что идет война и, говорят, страшная и мамочка может и не вернуться. Снова Фая осталась без мамы, одна с папой. Он после появления мамы и, особенно, после нового её исчезновения во многом переменился. Смотрел на Фаю пугливо, взгляд мечущийся, казалось, искал сочувствия или просил прощения. Если прежде никогда не выпивал, то теперь иногда в одиночестве мог выпить несколько рюмок водки, нередко возвращался и с работы под хмельком. ...И без треньканья будильника Фая знает - пора вставать. Надоела опостылевшая школа. Кому она нужна? Ей? Как мамочка, всхлипывая от радости, восторгаясь её дневником: - Какая ты умница, доченька! Почти одни пятёрки! Знала, что ты у меня славненькая, умненькая, но чтобы круглые пятёрки... Мамочку так и распирало от гордости, будто она сама нахватала эти пятёрки. Фае же теперь не до отметок, хоть весь дневник разукрась пятёрками. Мамочка все равно на фашистов ринулась, а ей, вроде пленницы, снова томиться в одиночестве. По школьному дневнику перемены в отношении учебы пока не заметны. Приличные отметки Фае ставились как бы по инерции. Учителя привыкли к ней, как к круглой отличнице. И если иногда путалась с ответом они все равно дотягивали до установившегося уровня, принимая это за случайный сбой. Фая, приученная с первых классов к определённому порядку, после школы, как отлаженный автомат, садилась за домашние задания, наспех без какого-либо интереса расправлялась с ними, отделываясь как от чего-то надоедливого. Её стало больше интересовать, во что одеты её сверстницы, насколько привлекательно они выглядят, как к ним относятся мальчишки. Ей не приходило в голову быть снисходительной, вспомнить о войне, принесшей в семьи многих школьников горе, нехватки и бедствия. Часто, глядя на одноклассницу, одетую в заштопанное платье или обутую в поношенные ботинки, выносила презрительный приговор: “вот уродина”. 153 Все чаще стала примечать, что мальчишки далеко не одинаковы, как ей казалось прежде. Правда, никому из них не сравниться с Вадиком Махновским, её земляком, с ним вместе эвакуировалась. Возвращаясь из школы, часто, а в последнее время почти ежедневно, случайно, а, может, и не случайно, сталкивалась с ним, он направлялся в горный институт, эвакуированный в этот город, или возвращался оттуда после занятий. Высокий, стройный, надменно несущий кудрявую голову, он держался свободней и независимей мальчишек из её школы. Всегда со вкусом одет, пиджак на нём добротный, стрелка на брюках никогда не смята, ботинки блестят, хоть смотрись в них, как в зеркало. Девчонки, чуть не лопаясь от зависти, наблюдали, с каким интересным мальчиком она идёт по улице. Только эти встречи с Вадиком и заставляют наведываться в занудный “храм науки”. Сегодня в школу идти решительно не хочется и даже Вадик на ум не приходит. До чего же упорная эта тётя Настя. Опять заявилась в спальню и тормошит: - Фаечка, ты ещё не встала? - В голосе недовольство и тревога, - времячко-то бежит, того и гляди, в школу опоздаешь. Фая хмурится, словно от зубной боли, выбираться из теплой постели желания никакого. Видя болезненную гримасу на её лице, тётя Настя с беспокойством прикладывает ладонь к её лбу. - Что с тобой? Залежалась что ли, или, чай, занедужила? Ай да тётя Настя! Какую подсказку выдала! - Что-то разламывает всю, - постанывает Фая, - голова какая-то тяжёлая... Она не раз слышала подобные жалобы от тёти Насти и, как способный попугай, повторяет её стенания, вздохи и охи при недомоганиях. Тётя Настя не отнимает ладонь от Фаиного лба. - Вроде горячая, - нерешительно произносит она. Фая усиливает стон. - Как же со школой-то быть? – причитает тетя Настя. Фая продолжает вздыхать, стонать, пытается изобразить кашель. - Это ты вчера, видимо, застоялась с Вадькой, будь он неладен. Хотя и весна, наконец-то, на дворе, но стоять на ветру в промозглости, того и гляди, болячку схватишь. Пойду позвоню Алексею Николаевичу, спрошу, как быть... Тётя Настя направляется к телефону. - Так он твоего звонка и ждет. Ему только до моей хвори. У него сейчас утренний наряд, самая запарка, начальникам шахт мозги мурыжит. Фая опять слово в слово повторяет домработницу, когда та останавливает её порыв позвонить папе на работу - сообщить ему, что тётя Настя занемогла или спросить о чем-либо. - День полежу, - жалобно стонет Фая, - отваляюсь немножко, позвоню девочкам, узнаю, что задали, завтра в норме буду, - чувствуется смесь её и тёти Настиной лексики. 154 - Ладно, - соглашается добрая женщина, - полежи, я сейчас сварганю блинчиков с медом да чаю с малиной, пропотеешь и впрямь к утру оклемаешься. Алексею Николаевичу с этой войной действительно не до тебя, изматывает она людей, проклятая. Фая не останавливает заботливую старушку, хотя старушка она только для юной Фаи, ей едва ли больше сорока-сорока пяти лет. Как здорово! Не идти в школу! Лежи в постели и радуйся! Только настоящей радости не ощущается, хотя вон как ловко обвела тётю Настю, поверила, бедняжка, в её болезнь. Фая не поймёт, чего ей хочется. Какое-то смутное, непонятное томление, желание. Где же мой миленький котик? - Тарасик, Тарасик! - кричит она на весь дом, забыв, что “больная”. Дверь приоткрывается, протискивается огромный белый с серыми пятнами кот и запрыгивает Фае на грудь. - Ой ты мой маленький, ой ты мой пушистенький, - Фая гладит кота и так страстно прижимает к груди, что тот взвизгивает, - какой ты хорошенький, ласковый... В сознании возникает Вадик Махновский, хотя прямого повода для раздумий о нем нет. Ох, этот шестнадцатый девичий год! Каких только мыслей и желаний не пробуждает, на какие безумства не толкает! Сколько радости и надежд, а чаще горя и разочарований, приносит... Появляется тетя Настя с подносом, на нём тарелочка с блинчиками, блюдечко с растопленным маслом, другое с медом и её кружка с чаем - в доме у каждого своя любимая кружка - и вазочка с малиновым вареньем. - Поешь, голубушка ты моя, ягодка ненаглядная, - воркует тётя Настя, блинчики свеженькие, горяченькие. Вареньица побольше клади в чай, малинка тебя прогреет и хворь твою наружу выведет. Побегу, у меня блин на сковородке... Блинчики тётя Настя пекла отменные, пористые с хрустящими краями. Фая сворачивала их в трубочку, макала в масло и уминала один за другим. Варенье в чай, конечно, не клала, а прямо с ложечки в рот, и даже вазочку язычком вылизала. Глотка три-четыре отхлебнула чаю. Вновь появилась тётя Настя с горячими блинчиками, залитыми растопленным маслом. - Покушала, моя славненькая? Ещё блинчиков напекла, ешь на здоровьице. Ах, чай-то почти не пила. Что же ты, голубушка? При болезни чаёк первое дело, организма-то жидкого требует. Доешь блинчики, чаёк допьёшь и сразу же в постельку. Как следует укутайся. Пропотеешь. И хворь твою как рукой снимет. Алексей Николаевич, может, к обеду вырвется домой, скажу, пусть доктора присылает, чтоб лекарства прописал. Не хватало ей доктора! Голосом под “больную” жалобно промолвила: - Не надо доктора! Отлежусь денёк, само пройдёт, папочку не надо тревожить, у него и без меня забот достаточно. 155 - Хорошо, хорошо, моя славная. Алексей Николаевич вечёр к Екатерине Егоровне ездил. Вернулся выпимши, говорит, сын её письмо с фронта прислал. В нём о твоей маме прописано. У Фаи “болезнь” мгновенно вышибло. - Где письмо? Давай, мне его! - Письмо, говорю, у Екатерины Егоровны. Вот поправишься и сбегаешь к ней, начитаешься вволю. Тётя Настя ушла хлопотать по хозяйству, а у Фаи на уме как бы скорее прочесть письмо о мамочке. Надо же придумать дурацкую болезнь, ничего умней не сообразила. Эта хлопотуха с “болезнью” за порог не выпустит. Разохалась, раскудахталась, будто помираю. Нет, к Муратовым надо непременно попасть. Фая поднялась с постели. Муратовы люди простые, потому и готовиться к встрече с ними приходится по другому, нежели к кому-либо из её подружек. Лучшее платье или новые ботиночки у них добрых чувств не вызовут. В обычном, повседневном одеянии Фая у них и то, что принцесса перед Золушками. У Муратовских девочек - у Оли и Любы - платья чистенькие, но видно, что стираны бессчётное число раз и кое-где заштопаны. По дому ходят босиком и без чулок изза бережливости, других пар не водится. Оля уехала учиться и мать, снаряжая её на самостоятельную жизнь среди чужих людей, собрала все лучшее из имевшегося, поэтому Любе осталось такое, что в добрые времена отправилось бы в корзинки с рухлядью. Дома у них всегда чистенько, прибрано и от того бедность проглядывает более броско. И до войны роскошью Муратовы не выделялись, а теперь и вовсе обносились. Чего же она торопится? Екатерина Егоровна, наверное, на работе, а Люба из школы прибежит после обеда. Есть время ещё поваляться, а часа в три нагрянет к Муратовым. 3 Медсестре Евгении Станкевич приказано ежедневно перебинтовывать ногу комдиву. Прибыв в назначенное время в штаб дивизии, она застала пациента перед входом в командирский блиндаж в окружении офицеров. - Сестра, - обратился к ней полковник, на лице мелькнуло подобие улыбки, поедете с нами. При остановке сделаете, что требуется. Сейчас же времени нет. Все в сборе, пора отправляться. Ехали на нескольких машинах. Женя поместилась в машине Мигулина за его спиной и ей видно, как он поддерживает рукой вытянутую негнущуюся ногу, и при каждом толчке на ухабах она физически сопереживала его адскую боль. Рядом с медсестрой сидел начальник штаба дивизии, за ним прижатый к дверце молоденький старший лейтенант, адъютант командира дивизии. Километра два пришлось идти на высоту, где размещался наблюдательный пункт командира стрелкового полка Чекулаева. Машины остались в редком кустарнике у подножия высоты. Командир дивизии, полковник Иван Петрович Мигулин, направлялся на рекогносцировку. На полшага позади следовали его 156 подчиненные, а точнее участники важнейшего операционного мероприятия начальники дивизионных служб, командиры полков, стрелковых и артиллерийского, противотанкового дивизиона. Замыкали группу адъютант комдива и медсестра Евгения Станкевич. Мигулин шел медленно. Сопровождающие это воспринимали, как стремление командира дивизии внимательнее присмотреться к местности. Никто, кроме медсестры, не догадывался, что быстрей идти он просто-напросто не может, почти физически она ощущала, насколько мучительно даётся Мигулину каждый шаг, не долечившись после ранения, он практически сбежал из госпиталя, рана кровоточила, нога не сгибалась и к концу дня распухала. На левом глазу комдива чёрная повязка, прикрывавшая пустую глазницу, чёрная повязка ещё больше обостряла обычную суровость выражения его квадратного лица. По всем понятиям ему следовало бы ожидать конца великой битвы подальше от фронта, развлекая мальчишек боевыми воспоминаниями - их хватило бы не на одно десятилетие. Если бы кто-нибудь заикнулся о подобной перспективе, наверняка, напоролся бы на крупные неприятности. До НП оставалось метров двести, как вдруг просвистел снаряд, за ним с пугающим воем летел целый металлический рой, вокруг взбиравшейся на высоту группы взметнулись взрывы, то ли немцы заметили поднимавшихся, то ли вёлся планомерный обстрел по площадям. - Всем в укрытие! - приказал полковник. Сам же продолжал стоять, опираясь на чахленькую берёзку. Командиры замешкались, не решаясь прыгать в ровики прежде комдива, ровики (ячейки) и щели сохранились после выбитых отсюда с месяц назад немцев, не имевших на этом участке фронта сплошной линии обороны в виде непрерывных траншей. - Немедленно в укрытия! - грозно повторил комдив. - А Вы?..- спросил начарт Курашов. - У полковника с ногой,.. - пыталась объяснить Женя, - он не может... - А Вас разве не касается? – на медсестру грозно уставился единственный глаз комдива, - марш в ровик! Женя, прыгнула в ближайшую щель под свист разлетающихся осколков. снаряда. - Нельзя ли полегче, .... твою мать! Спину же можно переломить! - донеслось со дна ровика. Под ней кто-то ворочался. Артналёт продолжался минут пять. Когда Женя выбралась наверх увидела, что полковник Мигулин продолжал стоять в прежнем положении, осколки миновали его, срезав верхушку берёзки, его крупная, ширококостная фигура на фоне зелёного склона высоты и голубого неба выглядела как каменный монумент былинного богатыря, высматривающего поле предстоящей битвы. Следом за Женей из ровика выбрался пострадавший от ее неловкого прыжка командир противотанкового дивизиона майор Воронов, не без ехидства Женя взглянула на его покрасневшее, немало удивленное лицо. - Все в сборе? - обратился комдив к офицерам, отряхивавшим с гимнастёрок и брюк пыль и грязь, - где Курашов? 157 Начарта среди командиров не было. - Осмотреть все ровики, - приказал Мигулин. Через минуту раздался голос начальника связи дивизии Романцова. - Здесь он! Все ринулись к ровику, где лежал раненный осколком Курашов, через несколько минут осторожно извлекли его, находящего без сознания. - Сестра, Вы с майором Вороновым будете сопровождать раненого, распорядился комдив, - Воронов и Чекулаев помогите донести его до машины. - А как же с перевязкой?!.. – вполголоса спросила Женя. - Прежде поторопитесь доставить раненого! Как бы не изошёл кровью. Настаивать на перевязке было бессмысленно. На войне не бывает без раненых и погибших, и всё-таки случившееся всегда действует удручающе. Но скорбеть, вдаваться в переживания времени не предоставляется, потому твёрдые указания полковника никаких нареканий не вызывали. …Сделать перевязку полковнику Мигулину в этот день Жене так и не удалось. Едва передав раненого в приемный пункт, где немедля занялись его раной, медсестра получила приказ тотчас же явиться к заместителю начальника медсанбата по политчасти. Капитан медслужбы Баглик без всяких вступительных и подготовительных фраз таинственно-тревожным тоном объявила, что за Женей прибыли из Особого отдела армии. - Сейчас особисты - капитан и старшина - отправились обедать вместе с нашим майором Мухаметшиным. Иди в свою палатку, возьми, что нужно и возвращайся сюда. В Особый отдел армии! - еще раз повторила замполит. Слово “армии” она произнесла в растяжку, - что же такое числится за тобой!? Женя передёрнула плечами - дескать, откуда ей знать. В душе же смятение, близкое к панике. “Неужели снова?..”, даже про себя боялась произнести слово “лагерь”, но это первое, что проблеснуло в ее голове. Она отчетливо сознавала, что ничего крамольного, преступного не совершала, но также отчетливо представляла, что может вновь лишиться свободы. Происшедшее с ней в казавшиеся далёкими мирные дни, ее недавние терзания, не исчезнувшие из её памяти, таившиеся в тайниках её мозга - арест, мытарства по тюрьмам и лагерям никогда надолго не покидали её душу. Нежданное, почти фантастическое освобождение представлялось таким необыкновенным везеньем, что она едва верила в совершившуюся реальность, постоянно жила в ожидании новых напастей. И вот, к её беде, они, кажется, вновь наваливаются. Не успела вернуться в палатку, как туда нагрянул майор Воронов. Он, передав раненного врачам, принялся разыскивать Женю. Повод проще простого - зашёл проститься, по правде же говоря, артиллерийскому командиру не хотелось, чтобы трагикомическая встреча в ровике с привлекательно-загадочной медсестрой ограничилась доставкой раненого друга. Необычные обстоятельства их знакомства ему представлялись знаком судьбы, из-за чувствительной боли от её прыжка в ровик не сразу понял - кого же угораздило свалиться на него, потом разглядел сапоги высоты и формы отнюдь не мужской, а далее и вовсе обомлел, 158 прямо над его лицом колыхалась юбка, под которой изгибалась изящная ножка, обтянутая тонким чулком. Само по себе столь близкое расположение ножек производило на молодого майора вполне понятное воздействие, если же к этому добавить, что, выбравшись из ровика, увидел молодую женщину необыкновенной привлекательности и с поразившим его загадочным взглядом и слегка ироничной улыбкой, то не удивительно, отчего молодрй майор в эту минуту оказался в Жениной палатке. Никаких угрызений, неприятных мыслей оттого, что всего несколько минут назад оставил на операционном столе страдающего друга, майор не испытывал. Война живет мгновениями - и горя и радости, дальнего загляда на ней не полагается, а потому лови миг удачи и миг любви. - Вы простите меня, - начал майор, прежнего смущения в немного хриплом голосе не было. - Я сегодня был не совсем корректен... В его облике больше мальчишеской удали, нежели командирской суровости, на лице широкая улыбка мальчика, которому многое дозволяется. - Да где уж там, - с непонятной майору горечью усмехнулась Женя, - чего только не бывает на войне. Давайте, замнёмте это дело, товарищ майор... Там возле окопа, мелькнуло в голове у Жени, он был куда интересней. Впрочем, да ну его, быстрее бы убирался, ей не до забавного майора. - Майор, у меня нет времени лясы точить. Сами видели, как много подвозят раненых. Дайте немного привести себя в порядок... - Но минуточку,.. - Воронов ретироваться не спешил. Так и не постигшая строгостей воинской субординации, Женя довольно бесцеремонно выпроводила абсолютно неуместного в этот момент поклонника. Опыт избавления от непрошеных или надоедливых визитеров у неё был. 4 Оправляться в штаб, захватив “что нужно”, Евгении не пришлось. Вслед за начальником медсанбата в палатку, настороженно, чуть ли не крадучись, протиснулись капитан и старшина. Женя ощутила всем существом их принадлежность к страшной и безжалостной силе, испытанной ею в тягостные годы лагерных скитаний, они не произнесли ещё ни слова, а Женя напряглась и ждала, что сейчас последует резкая команда, отданная уничижительным тоном. - Гражданка Станкевич, - не замедлил скомандовать, именно лагерным командным голосом, капитан, - собирайтесь, поедете с нами. Старшина при словах капитана принял стойку, словно Женя собиралась оказывать сопротивление. Стремясь смягчить неприятную резкость капитана, начальник медсанбата Мухаметшин счёл необходимым добавить: - Женя, не беспокойтесь, там разберутся, скоро Вы возвратитесь... Чисто гражданским обращением по имени, а не по званию или по должности, как положено военным, он показывал, что командование медсанбата к вызову её в Особый отдел отношения не имеет. Губы Жени на мгновение иронически 159 скривились - она, в отличие от майора Мухаметшина, представляла как “там” разберутся. - Я готова, - бодрым, не без вызова, тоном объявила Женя. В ней вновь проявлялась прежняя, не поддающаяся ударам судьбы Женька. Она ничего грубого и резкого не сказала и даже не подумала сказать, но в ней восставало её натуральное - будь что будет! Евгения направилась к выходу, подвижный капитан быстрым движением обошёл её, двинулся первым, на полшага позади, придерживая кобуру, шёл старшина, строго наблюдая за каждым движением сопровождаемой. Замыкал шествие, опустив голову, начальник медсанбата. В “Виллисе” медсестра сидела зажатая с обеих сторон капитаном и старшиной. Соседство молодой, исходящей теплом женщины возбуждало молодых военных, но присутствие водителя не из их отдела сдерживало, оба молчали всю дорогу. Спроси Женю сейчас о её сопровождающих, какие они, чем отличаются друг от друга, она ничего не смогла бы сказать. Будто слепая и глухая, никого не видела и не ощущала, голова совсем пустая, ни мыслей, ни желаний, ожидание и то какое-то терпеливое, безразличное - будь, что будет! Ослепительное июньское солнце заливало сосновый лес, редкие поляны, в такой день казались немыслимы ни грохот снарядов, ни вой бомб. Трудно представить, что где-то совсем рядом, укрытые кроной деревьев или специальной маскировкой, люди, словно злые хищники, выискивают, выжидают себе подобных только для того, чтобы послать в противную сторону пулю или снаряд. Ещё более нелепым при такой до боли мирной картине было видеть, как здоровенные мужики волокут беззащитную молодую, красивую женщину на страдания. От гравийного шоссе, по которому шла автомашина, ответвлялись в лес узкие, продавленные автомобильными и повозочными колесами дороги, в одну из них свернула машина. Вскоре Евгения увидела замаскированные блиндажи, между которых сновали военные. Автомашина, повернув на боковую дорожку, остановилась возле большого блиндажа, перекрытого несколькими рядами наката из толстых сосновых брёвен. Капитан, выскочив из машины, скомандовал Жене: - Гражданка Станкевич, выходите! У Жени затекли ноги, их пронизывали иголки. - Не задерживаться!.. Капитан следил за каждым её движением. Старшина выпрыгнул тотчас за нею, поддерживая кобуру. Водитель, молодой, полноватый сержант, не ожидая остальных, быстрым шагом удалился в блиндаж, явно стремясь прибыть первым к кому-то, пока неизвестному Жене. Когда она и сопровождавшие её подошли к блиндажу, он вышел навстречу. - Вы свободны, - обратился водитель к капитану и старшине. Недоумевающие от подобной команды младшего их по званию оба, не торопясь, удалились. По командному тону водителя нетрудно сообразить, что возил он человека с большой властью, и могущество начальника придавало вес и его командам и действиям. - Вы, немного подождите, - обычным тоном предложил водитель Жене. 160 Водитель скрылся в блиндаже, Женя, недоумевая, осталась одна, никем не охраняемая. В чём дело? Арестована она или нет? Если нет то зачем привезена сюда, причём, почти обычным лагерным образом? Ждать пришлось минут десятьпятнадцать, одна, без неприятной охраны, понемногу приходила в себя, может, этот вызов и не связан с её прошлым? Возможно, речь пойдёт о другом. Наконец, вышел водитель. - Проходите... - Он пропустил её, а сам остался снаружи. Инстинкт самосохранения, прочно заложенный в человеческих генах, выражается в страхе, порой доходящем до сумасшествия. Смелый человек может закричать истошным воплем, когда смерть реальным взмахом ножа, направленным в упор пистолетом или ружьём нависает над ним, Евгения однажды видела, как истошно орал гроза всей камеры, а затем тюремного вагона громила-уголовник, когда над ним блеснуло лезвие финки, занесённой для удара. Страшное дело война. Смертное. На фронте, не раз наблюдала, редко кричат при угрозе смерти. И не от бесстрашия, смерть на войне чаще всего подбирается внезапно и неощутимо - у человека нет даже мига для ощущения страха, мгновение - и пуля или осколок уже пронзили человеческое тело. В медсанбате Евгения более чем достаточно наслушалась криков раненых от нестерпимой боли, не единожды дрожала от страха смерти под бомбёжкой или, как это было только что под артобстрелом. Шутки, ирония звучали уже потом, когда угроза исчезала, они были своеобразной разрядкой после пережитого испуга и звучали тем сильнее, азартнее, чем больше было смертельных переживаний. Казалось, трудно перетерпеть больший страх, чем в окопе под огнём или бомбами, но в этот день с момента получения известия о вызове в Особый отдел Женю охватывал такой страх, какого не приходилось ни наблюдать, ни испытывать на передовой. Войдя в блиндаж, увидела человека, стоящего к ней спиной. Тотчас его узнала, от него убежала на фронт, надеясь, что война так укроет, что никто и никогда её не отыщет. Да, это был Николай Иннокентьевич Евстигнеев начальник лагеря. Она благодарна Евстигнееву за спасение от лагерной безысходности, за освобождение от тяжёлой и позорной участи, готова боготворить его за это, но жить рядом с лагерем, видеть каждый день доходягзэков было выше её сил. Оттого и решилась на обман, на побег от человека, сделавшего для неё большое, почти фантастическое при невообразимо опасных обстоятельствах того времени, выпросилась от него разыскивать доченьку Фаю. Отыскала родимую и, оставив её опять одну, сбежала на фронт, подальше от него же, убоялась, что разыщет её Николай Иннокентьевич, придётся вновь возвращаться в тот ненавистный до безумия мир. - Ну, здравствуй, Женя! - Николай Иннокентьевич обернулся к ней, сделал шаг, намереваясь обнять её или... Он заметно волновался. Перед ним стояла Женя, которую так хорошо знал, по ее напряжённой позе, по настороженному и дерзкому взгляду почувствовал, насколько стоящая перед ним женщина отлична от той, уехавшей от него почти два года назад. С утра, как только по его поручению сотрудники отдела отправились за ней, не находил себе места, на разные лады представлял, как они 161 встретятся, что ей скажет, пытался поставить себя на её место, вообразить, как Женя ответит на его вполне понятные вопросы. Не из прихоти так долго продержал её перед блиндажом, детально расспрашивал водителя, где её обнаружили, как она при этом держалась, какие слова и каким образом их произносила. Водитель приехал в действующую армию вместе с ним из наркомата и исполнял при нём доверительные обязанности ординарца. Затягивал предстоящую встречу Николай Иннокентьевич и для того, чтобы успокоить себя, достойно, без унизительного заискивания, упрашивания встретить женщину, ради которой рисковал нажитым на непростой службе авторитетом и весьма перспективной карьерой. - Здравствуйте, Николай Иннокентьевич... В голосе ничего от безмолвной покорности, не видно и готовности исполнять его возможные требования. Перед ним стояла женщина, знающая себе цену гордая, независимая, готовая к отпору, несмотря на тревогу и удивление от неожиданной для неё встречи. Несколько мгновений они стояли друг перед другом, не зная, как и о чём заговорить. Николай Иннокентьевич пригласил Женю сесть на один из самодельных стульев перед большим письменным столом, неведомо как оказавшимся в неподходящей обстановке. Сам расположился на другом стуле напротив. Теперь они были рядом, их колени почти соприкасались. Оба видели перемены друг в друге, они, конечно, переменились внешне, ведь прошло два года, да ещё каких! Ещё больше перемен внутри них. Евгения не поднимала глаз, не стремилась встретиться с его взглядом. Всякого она ожидала от вызова в Особый отдел, но только не встречи с бывшим... С кем бывшим?.. С начальником лагеря? Это-то точно. С мужем или почти с мужем - ведь предлагал же выйти за него замуж? Нет, мужем его не признавала. Да, жила с ним, была его наложницей. Но никак не женой! Жила даже не из благодарности, а от нужды, от безысходности. Выбор у неё был не велик - или продолжай прозябать бесправной, медленно погибающей зэковкой или соблазни, сойдись с ним и этой ценой обрети свободу, человеческую жизнь, верни себе доченьку - самое родное существо на этом свете. - Вот отыскал тебя... На родине твоей побывал, дочку твою видел... Евгения резко вздрогнула, как от неожиданного удара. Не сделал ли это человек худого Фае, её доченьке? От них всякого можно ожидать, она думала о нём во множественном числе, сам по себе он ей не представлялся каким-то особенным, зато знала, где он работает, и представляла ту систему, беспощадную, неумолимую машину и, не дай бог, под неё попасть и её родненькой. - Что с ней?! Где она?! - Не беспокойся, с нею всё в порядке... Красивая у тебя дочь, на тебя похожа... От неё и узнал где ты. Евгения облегчённо вздохнула. - Рассчитывала на фронте не отыщу? - он усмехнулся. В его усмешке уверенность в безграничных возможностях его ведомства и упрёк - зачем же сбежала, куда не спрячешься, все равно отыщем, на дне морском и то откопаем... Женя с вызовом, с едким презрением взглянула в лицо Николаю 162 Иннокентьевичу. Тот оценил её взгляд, в нём исчезало ощущение радости, испытанное при появлении Жени, поднимались злость, желание, чуть ли не профессиональное, поставить её на место, дать почувствовать бессмысленность необъяснимой строптивости. - Напрасно так со мной обошлась. Стоит мне захотеть - ползком притащишься, умолять будешь о прощении. - Не пугайте, Николай Иннокентьевич. Уже достаточно пугана. И у вас и здесь на фронте. Такое пережила, что вы и представить себе не можете. Конечно, вы сила! Женя никак не хотела обострения, оно ей сейчас совсем ни к чему, только напортит. Напротив, умаслить бы лагерного начальника, поймёт, возможно, как ей страшно возвращаться в тот ад на земле. Но слова о прощении, связанные с нескрываемой угрозой, словно обожгли её и она, почти бессознательно, выплёскивала: - Сила! Да ещё какая! Люди воюют, кладут жизни за Родину, за народ! Вы же отсиживаетесь... Над людьми измываетесь. Малых девочек стращаете. На фронте не врага бьёте, а ради своей прихоти рыщете, отыскиваете... И пугаете... Знала, что вокруг вас полно подонков, но Вас, Николай Иннокентьевич, как-то отличала от прочих. Думала, вы на тех костоломов не похожи. Эх, одного поля ягода! В Николае Иннокентьевиче всё клокотало. Он ожидал - отыщет Женю, она с покорностью, и на всегда вернётся к нему. - Вон как ты заговорила... Забыла кто тебя от этих костоломов вырвал. Ты такого сейчас наговорила... Новое дело возбудить можно. Клевета на органы... Сколько наших чекистов погибло в тылу врага, ты и представить не можешь. А сколько выловили вражеских разведчиков, диверсантов - тысячи и тысячи. Только вчера удалось схватить группу, переброшенную для убийства командующего... Мелешь, чего не знаешь, сама себя в петлю загоняешь. Мы здесь отношения выясняем, а столько наших ребят в эти минуты на спецзаданиях... - Вижу собственными глазами, на каких заданиях, - Евгения не сдерживала себя, будь что будет! - Под непробиваемыми накатами, подальше от передовой... Как же это Вас оторвали от сибирских мест, разлучили с лагерной романтикой?!... Тоже, наверное, на спецзадание прислали?... Убежавшую бабу ловить... Ещё орден за это нацепят!.. - Не издевайся... Я не меньше десяти заявлений направил, чтобы на фронт вырваться. Только сейчас представителем наркомата сюда направили. Нужен мне тот лагерь... Мне он опротивел не меньше чем тебе. Но кому-то и там надо быть. Раз доверили,.. поручили и я исполнял долг... Попробовал бы отвертеться... Когда узнал по номеру полевой почты - у твоей дочки увидел, где ты воюешь - сюда и выпросился. - Напрасно, видать, с дочкой переписывалась. Да всё равно отыскали бы. Рукито у вас вон какие длинные... - Здесь ты права. Отыскали бы... Вот теперь и решай - или со мной поедешь или перевезут в известные тебе края... 163 - Не выйдет, Николай Иннокентьевич! Не возьмёте на испуг! В ваших лагерях все испуги изведала!.. И к Вам, сами знаете, не из любви превеликой прилепилась. А от того самого перепуга. Им вся душа моя пропиталась. Я тогда к самому дьяволу убежала бы, лишь бы вырваться из адского подобия жизни, злой пародии на неё. Что у Вас познала, какое счастье испытала - понимаете? Тот же страх, непрерывный испуг, поминутное ожидание новой беды! Каждый день и особенно ночь тряслась - как бы вновь не упекли в провонявший барак, в смрадную камеру или, ещё страшнее, в осклизлый бетонный карцер! По Вашей прихоти, по приказу Вашего начальства ли, из-за любого неугодного Вам поступка... Евгения выкрикивала злые слова, не вдумываясь в их смысл, справедливость, словно вылетела какая-то пробка, сдерживавшая долго копившийся напор. - Нет, не поеду с Вами! Стреляйте меня на месте - всё равно не поеду! И силой не возьмёте! Не дамся!!! Для меня смерть милей, чем лагерь! Она задыхалась от душившего её гнева, от злобы, истощавшей её силы, от напористого крика, накопившейся энергии сопротивления. - Ты,.. - она не могла подобрать нужных слов, - может и был... нормальным человеком... Обычная же женщина родила! Но исковеркало тебя,.. лагерный ты и не отмыться тебе никогда! Женя не заметила, как перешла на “ты”, этого она не позволяла, даже живя с ним, давно уже сорвалась со стула, металась в тесном блиндаже, как разъярённая волчица. Дверь в кабинет распахнулась. Вбежал водитель. - Товарищ полковник, воздушная тревога! Самолётов налетело - уйма! - Не паникуйте! Отправляйтесь в другой блиндаж! Я буду на месте. Тут кое-кто принимает нас за трусливых тыловых крыс... Раздался грохот близкого разрыва мощной бомбы. Евгения огляделась, по привычке, приобретённой на фронте, и в крепком блиндаже высматривала возможное укрытие, с трудом удержала себя от почти рефлекторного стремления броситься на пол к стенке, увидела, как с злорадством усмехнулся Евстигнеев. Потом раздался неимоверный грохот, треск, заложило уши, её оторвало от пола, сыпалась земля, разваливались брёвна наката. Это последнее, что она запомнила... 5 Фая обрадовалась, что Люба хозяйничала в доме одна, с этой девочкой, всего на два года её младше, общаться проще. - Здравствуй, проходи, раздевайся, пальтецо положи на скамейку. Любка прижалась к Фае, рада приходу хорошенькой дочки управляющего и той тети Жени, которая добровольно отправилась на фронт. - Здравствуй, Люба, Екатерины Егоровны еще нет? 164 Фая намеривалась поцеловать Любу, но та не поняла её порыва, в их семье расцеловываться не принято. Фаю несколько обидело устранение от её доброго намерения, но сообразила, девочка так поступила не со зла. О Екатерине Егоровне Фая спросила, чтобы убедиться в её отсутствии – на работе она или, возможно, ненадолго вышла. - Её до утра не будет, сегодня в ночь работает, - пояснила Люба, а сама не наглядится на Фаино пальто, - ой, какое шикарное! Дай, примерю... Не ожидая согласия, натянула на себя шикарную, по ее пониманию, вещь: - Смотри, смотри, мне как раз впору! - восхищалась девочка, никогда не носившая такой нарядной одежды. Люба закружилась, полы пальто раздулись колоколом. Пальтецо действительно по ней, фигурой и ростом они с Фаей почти одинаковы. При схожести фигур, всё же отделаны девочки по-разному, над Фаей потрудились тщательнее, она отшлифована до блеска, до чистовой же отделки Любыу создателя, видимо, руки не дошли. Фая смущенно улыбалась, ей льстило восхищение Любы, но она не терпела надевать на себя что-либо с чужого плеча, как и одалживать другим свою одежду. Некоторые одноклассницы из желания пофорсить иногда просили на вечер платье или блузку, Фая всегда находила предлог отказать в просьбе. Осторожненько, якобы, желая повесить пальто на гвоздь, Фая сняла его с Любы, радовавшейся приятному, хотя и краткому, обладанию прелестной вещицей. Пощебетав немного о школьных новостях, Фая решилась попросить: - Папа был у вас и говорил - твой брат с фронта прислал письмо, в котором пишет о мамочке. Дай, пожалуйста, почитать, - и с непонятной робостью добавила, - если можно... Люба как перышко сорвалась с места и вмиг отыскала треугольник с письмом брата: - На, читай! Санька всегда что-нибудь необычное напишет. А тут встретиться со знакомой, нет, не со знакомой, он твою маму не знает, с землячкой. Как интересно! Как хорошо, что Санька написал про тетю Женю, вон как жадно Фая письмо проглатывает, аж подбородок затрясся, гляди! - и слезки покатились. - Боже мой! Мамочка чуть не погибла! Какой у тебя замечательный брат - спас мамочку! Мамочка в письме к ней сообщала о контузии, но, что она столь опасна ни слова. Фая в порыве радости и благодарности бросилась к Любе, крепко обняла её и стала покрывать поцелуями растерявшуюся девочку - к таким бурным проявлениям чувств в их семье не прибегали. - А у меня брата нет и сестры тоже... 165 Фая произнесла это с горечью, сквозь слезы и всхлипывания, единственное дитя в семье, правда, в такой, что и назвать семьей трудно, она страдала от одиночества, тайно завидовала подружкам, имеющим и сестер и братьев, обожаемая в доме, радость и утешение мамочки и папы, всеми любимая, балуемая и между тем до ужаса одинокая. Школьные друзья даже в малейшей степени не могли восполнить недостающее, избавить от тоски сиротства, для них она не подруга, не просто одноклассница, а, прежде всего, дочь управляющего трестом, самого большого начальника в городе, ее отцу подчинялись, от него зависели родители многих ребят, их благополучие. Любая зависимость не располагает к тесной и бескорыстной близости, а у подростков порождает постоянно обостренную настороженность и не всегда сознаваемую отчужденность. Одиночество влекло Фаю к Вадиму, он единственный, думалось ей, способен смягчить это чувство. Люба по-своему восприняла грустные слова Фаи. Для неё, как и для матери, Екатерины Егоровны, и для сестрёнки Оли, брат Александр и любовь, и гордость, и надежда. - Санька у нас, вообще, парень что надо! - в голосе Любы откровенная гордость, ей хочется сказать о брате очень много хорошего, но она не находит подходящих слов, - он такой,.. такой,.. никого не подведет, за других всегда горой стоит. Он и нас с Ольгой никому в обиду не давал, даже, если перед мамой провинимся, заступался... От восторженности этой девочки Фае становилось легко, и она снова расцеловала Любу. - Какие вы хорошие, милые и ты, и мама твоя, и Оля, и брат! Любе радостно от Фаиных добрых слов, искренних слез и она, повинуясь вспыхнувшему прекрасному порыву, неожиданно для себя, расцеловала девочку, почувствовав отзывчивым и добрым сердцем, что этой красивой, ухоженной и сытой девушке недостает настоящего тепла и ласки. - Скоро войне конец, вернулся бы Санька живым и здоровым! Ты, его фотографию видела? - Нет... - Фае, разумеется, любопытно посмотреть, что за брат у Любы, спаситель её мамочки. Люба вынула из небольшой книги фотокарточку брата. Фая внимательно рассматривала снимок, сделанный, видимо, неопытным фотографом, несмотря на нечеткость изображения, ей показалось, что он на кого-то похож, но на кого именно припомнить не могла. - Он у нас интересный, хотя девчонок боялся, - засмеялась Люба, - сторонился их. После фронта, может смелее станет. Мама говорит, телёпа, мол, ты, Санька. - Как это телёпа? - Фая впервые слышала такое слово, хотя лексикон тети Насти включал много замысловатых, поначалу непонятных словечек. Привыкшей к жизни единственной доченькой, без других близких, Фае счастливо и радостно в этом простом доме, отступила утренняя хандра и домой она возвращалась в приподнятом настроении и с добрыми намерениями. 166 6 Управляющему трестом Алексею Николаевичу Зайцеву поступил вызов на совещание в Москву. О совещании сообщил по телефону заместитель наркома, говорил он как-то таинственно, намекая, что совещание будет необычным и на нём не исключено участие видных деятелей из ГКО - Государственного Комитета Обороны. - Подготовься, как следует, - предупреждал заместитель наркома, - тебя, скорее всего, выдернут докладывать. Проанализируй, но не хвастайся да не выпрашивай как нищий - давать-то все равно не из чего. В войну совещания в Центре редкость, а такое - с вызовом руководителей со всей страны - впервые. Конечно, когда отступали, эвакуировали, обустраивались на новых местах, наращивали там добычу, не до совещаний, неотложные нужды непрерывно толкали в спину, торопили своей срочностью, опасностями, нажимом сверху и снизу. Сейчас же все вошло в более или менее определённый ритм, хотя напряженности не стало меньше - угля требовалось всё больше и больше, вводились новые электростанции, заводы, надо поставлять топливо в освобожденные районы, основательно разгромленные немцами. Алексей Николаевич тотчас после звонка из Москвы, вызвал главного инженера Панжина, начальника технического отдела Махновского, начальника планового отдела Морозли, снабженца Дутова. - В Москве назначено большое совещание руководителей предприятий угольной промышленности, - объявил Алексей Николаевич, когда все разместились за длинным массивным столом с зеленым шерстяным верхом, требуется подготовить необходимые материалы, но такие, чтобы не стыдно за них было. - Подготовим, Алексей Николаевич, - немедля откликнулся Махновский, сколько времени даёте? Главный инженер Панжин бросил на Махновского недовольный взгляд. - Не торопись, Евсей Яковлевич, послушаем, что еще скажет Алексей Николаевич... - Да, я еще не закончил, а ты, сиди и записывай, - Зайцева тоже раздражал Махновский, и сынок такой же, в папашу пошел, пришло ему на ум, - надо подробнее проанализировать развитие у нас открытых работ. Николай Павлович, обратился он к Морозли, - покажи в цифрах выгодность открытого способа по производительности, по себестоимости... А, ты, - Алексей Николаевич ладонью ткнул в сторону Махновского, - вместе с Дутовым сделайте расчет заявок на оборудование, на материалы для разрезов. Махновский быстро водил карандашом в толстой книге. Эта книга - журнал для оперативных записей показателей работы электростанций, её Махновский всегда носил с собой и скрупулёзно заносил туда все указания начальства, пусть видит руководство, как он почтителен к его распоряжениям. - Тебя, Дмитрий Васильевич, прошу проследить. На все дается три дня, проверь каждую цифру, с тобой над этими цифрами помаракуем, - Алексей 167 Николаевич прошелся взглядом по присутствующим, как бы прикидывал, можно ли на них надеяться, - за подготовкой к совещанию не упускайте текущую работу шахт и разрезов, все должны выйти с плюсом. На таких сборах об отставании не докладывают. Ясно? - Ясно, ясно, проследим, Алексей Николаевич, - опять за всех ответил Махновский. Панжин поморщился. Что возьмёшь с этого прощелыги? Лишь бы выслужиться, угодить начальству. Морозли и Дутов направились к выходу. Махновский не торопился, может, управляющий задержит, поделится мыслями, пооткровенничает. Но Зайцев и Панжин с заметным нетерпением ожидали, когда же он, наконец, их оставит. - Обстановка на фронте, похоже, окончательно изменилась к лучшему, Панжин встал из-за стола, едва за Махновским закрылась дверь, - появились возможности не только военными делами заниматься. - После Сталинграда немцы, пожалуй, не способны к большим наступательным действиям, - поддержал главного инженера Алексей Николаевич. - Они обречены, - Панжин говорил твердо, уверенно, - не по себе взялись рубить сук. - Как это не по себе? - Зайцев пододвинул к столу стул, не поставленный на место Махновским. Главный инженер треста единственный оставшийся из прежнего руководства, эвакуированные, практически, вытеснили старожилов. В наркомате советовали: - В первую очередь позаботься о трудоустройстве приехавших с тобой специалистов. На обиды местных слишком не оглядывайся, растолкай их по шахтам, трестовским предприятиям. Им проще приспособиться, эвакуированные же без твоей помощи не обойдутся. Только не трогай главного инженера Панжина, он тебе преемственность обеспечит, авторитет у него в бассейне большой. И вообще мужик толковый. Панжин мужчина видный, представительный. Как убедился Зайцев, главный инженер дело знал крепко и авторитет у него не дутый, подчиненные его уважали, даже любили, к некоторой зависти управляющего. - Какая у нас была численность населения к началу войны? - задал вопрос Панжин и сам же ответил, - сто девяносто четыре миллиона. Понимаешь? - Пока не улавливаю, - признался Зайцев, - к чему клонишь?.. - А вот к чему. У Германии населения восемьдесят миллионов. - В два с лишним раза меньше, но у неё значительные технические возможности, вся Европа на неё вкалывает, - Алексей Николаевич следит за нитью размышлений главного инженера. - Допустим, - Панжин взмахом указательного пальца как бы подчеркивал сказанное, - допустим, мы выставим против них шесть, максимум десять процентов населения страны - это двенадцать-двадцать миллионов человек. Немцам, чтобы противостоять нашей армии, одолеть нас требуется призвать на военную службу, по крайней мере, не меньше. 168 - Это правда. Где-то читал, что наступающие войска должны превышать численность обороняющихся. - Верно. Но для нас десять-двенадцать и даже пятнадцать-двадцать миллионов выставить, хотя и не просто, но реально. А Германии? - При их численности населения это, по-моему, сверхнапряжение, - Алексей Николаевич, вникал в суть рассуждений Панжина, - ты хочешь сказать, что нападение на Советский Союз откровенная авантюра Гитлера. Но они же наступали да ещё как! Больше половины Европейской части страны отхватили. Дмитрий Васильевич подошёл к карте страны, висевшей на стене и обвёл на ней пальцем обширную площадь. - Они рассчитывали во-первых, на внезапность, на то что застанут нас врасплох, от первого их удара у нас начнется паника, развал. Не понимали сущности нашей страны, нутра нашего народа. Во-вторых, надеялись на нашу неподготовленность к большой войне, на отсталость нашей промышленности. Но это же липовый расчет. Им стоило бы почитать материалы восемнадцатой конференции ВКП(б). Там почти напрямую говорилось о переводе страны в режим подготовки на случай войны. - Уверен, читали, - усмехнулся Зайцев, - но пытались действовать на опережение. Полагали, что мы не выдержим повышенных темпов экономического роста. - Значит, все-таки плохо читали, липовые у них аналитики,- иронизировал Панжин, - иначе заметили бы, что в сороковом году производство продукции нашей оборонной промышленности возросло на тридцать процентов! На одну треть! - Война в Европе подтолкнула нас к ускоренному созданию в Восточных районах страны мощного промышленного потенциала. Зайцев собственными глазами видел этот процесс, когда добирался до Сибири, вся дорога была забита эшелонами, заводы перебрасывались на восток. - Далеко за примерами ходить не требуется, - подхватил Панжин, - посмотри, сколько новых предприятий появилось в нашем городе. Из Ленинграда к нам переместили завод горного оборудования. Эвакуированный завод теперь выпускает мины. Из Одессы даже швейную фабрику перебазировали. Вызов управляющего на совещание в Москву незаурядное событие и породил мысли, далекие от их обычных дел. Поговорив еще немного “во всесоюзном масштабе”, вернулись к трестовским будням. - Не знаю как там на прежнем месте работал Махновский, но здесь он прививается туго, - после некоторого молчания заметил Панжин. Его давно раздражает этот заезжий гусь. Развязный до предела, постоянно тычет прошлым опытом, дескать, у них в Подмосковье все не похоже на здешнюю захолустную жизнь. Панжин подобные наскоки воспринимал как претензии на более высокое положение в трестовской иерархии, уже почти два года портит ему нервы, сегодняшние выскакивания Махновского на совещании добавило неприязни. Пустил пробный шар, чтобы выяснить истинное позицию управляющего насчёт Махновского. Рискованно, конечно, мало ли какие у них 169 существовали отношения, проскользнувшая резкость управляющего в ответ на неуместные реплики Махновского придала Дмитрию Васильевичу решительности. - Да-а-а, - протянул Алексей Николаевич, - бестактен, не помнит известное: ”со своим уставом в чужой монастырь не суйся”. Со скромностью не всё у него в порядке. И сынок в отца удался, снова возникло у Алексея Николаевича, такой же наглый, беспардонный. Панжин удовлетворен реакцией управляющего. - Бестактность, нескромность полбеды, не хватает организованности, кабинетный работничек, чтобы поехал на шахту, выгонять приходится. 0бстановки как следует не представляет, главные инженеры шахт жалуются - даёт распоряжения невпопад, а жмёт как упрямый осёл. Панжин говорит спокойно, вроде бы, между делом. - После освобождения от немцев Подмосковья некоторые эвакуированные поговаривают о возвращении в родные края. Можно бы стимулировать подобное стремление и у Махновского, - как бы вскользь бросает мысль Зайцев. На такое Панжин и не рассчитывал. Что ж, будем поддерживать любовь Махновского к родным краям, усилим желание покинуть сибирскую даль. 7 Где она?.. Что это с ней?.. Кто это?.. Он - Николай Иннокентьевич?! Наваливается на неё!.. Солнце... Как жжёт,.. прикройте солнце... - Нет!.. Нет!.. Не хочу!.. Не поеду!.. Прикрой солнце... - Да тише ты! Не шуми! Успокойся. Дай, посмотрю, куда тебя шарахнуло... Женя чувствовала - расстёгивают гимнастёрку, мягкими тёплыми руками ощупывают спину, ягодицы, ноги, голову, живот. Нет, это не Николай Иннокентьевич... Кто же?.. С трудом разомкнула веки, голова кружилась, в глазах расплывалось. Усиленно напрягалась, чтобы прояснение не исчезало, постепенно, как на фотоплёнке, проклюнулось - над ней склонился молоденький солдатик. Что ему надо? Сопляк ещё, а туда же... Да нет, он ищет кровь, не ранена ли она. Влаги и она не чувствует, но навалилась какая-то невыносимая тяжесть. И голова... - Не тронь меня... Отвяжись... Помоги встать... - Куда тебе вставать. Лежи и не дёргайся. Говорить и то не можешь... Сейчас доктора поищу. Только где его найдёшь?.. Столько наворочено... Прямое попадание... Вокруг одни куски тел, руки, ноги... Как ты уцелела!?... Не пойму, куда тебя задело, крови не видать... Не дрыгайся, сказал!.. Может, контузия, а это иногда ещё хуже... Ты меня слышишь, видишь? - Слышу... Вижу... Голова... Больно, кружится... Ты кто такой? Позови когонибудь... женщину... - Сам знаю... Кого в этом содоме найдёшь?.. Придётся одному вытаскивать... - Отвези в медсанбат... Я оттуда... - Отвезу, отвезу... Только не дёргайся. Видишь, какая лесина над тобой?.. Стронешь её, так долбанёт, что мокрого места не останется... Контуженных 170 потихонечку извлекать надо, голова же, не тыква огородная... На всю жизнь чокнутой или глухой останешься... Вот это бревно отведу... Вот так... Теперь можно вытягивать тебя... Я осторожненько, потерпи... Так,.. теперь ноги освободить, сапоги остаются, да ну их, девку вытащить бы. Как бы эта лесина не свалилась, обоих прихлопнет. Так, так,.. идет потихоньку,.. не торопиться,.. не торопиться. Какая мягкая, теплая. Ух-х, кажется, выволок!.. Солдатик тянул, а точнее выворачивал Женю. Вроде освободил... Чего он ногито поднимает? А-а, сапоги натягивает... Боль в голове нестерпимая, сознание то прояснялось, то всё темнело, она впадала в беспамятство. Очнулась на траве, сияло солнце, слышался гул автомобильных моторов, издали доносились стоны, плач, какие-то выкрики. - Ты лежи и ни куда не трогайся. Поищу, где тебя пристроить. - Мне в мой медсанбат... - Узнаю и об этом, потерпи, полежи спокойненько... Женя осталась одна. Попробовала приподняться, в голове помутилось, подступила тошнота... Сотрясение, вспомнила наставления на курсах медсестёр, прав мальчишка, не надо шевелиться... Сколько же ждать... Ведь я не одна же... Другие тоже ждут... Вернулся бы, а то... Что с Николаем Иннокентьевичем? Тоже придавило или ищет ее? Голова кружилась, память провалилась... Загромыхало, вроде, повозка. - Ну как, жива? Никого не нашёл, ни врача, ни медсестры - все спасают живых, раненых. Весь штаб фрицы раздолбали... Сколько офицеров порешили... Разведка у фрицев сработала или отсюда шпион проклятый наводил... Солдат говорил, а сам подлаживался, как уложить медсестру на повозку, что она из медсестёр понял из её невнятного бормотания. - Обхвати меня за шею, полегче будет, раненые всегда тяжелеют. Сейчас пристроимся... Вот так, вот так. Машины не дождёшься, первыми тяжёлых отправлять будут. Голова кружилась, но сознание сохранялось. Наконец, примостилась. Вытянуться на повозке невозможно, навалены катушки с телефонным проводом, сухие батареи для рации, телефонные аппараты. - Успел до бомбёжки на складе получить. От склада теперь одна воронка осталась. Уже поехал к себе в часть, как налетела орава - “юнкерсов” двадцать, не меньше. До налёта доехал к ложбинке, там ни одной бомбы не упало. Как улетели, сразу назад - вдруг помочь кому надо. Вот на тебя и наткнулся. Тебя как зовут-то? Откуда ты? - Женя я, Евгения... Станкевич... Из Сибири... - Землячка, значит... Знакомая фамилия... Где-то слышал... Потерпи, до твоего медсанбата часа полтора-два ехать. Лошадь не машина, быстрее ехать нельзя, растрясу тебя, хуже не стало бы. Под негромкий говор солдата Женя припоминала, что с ней приключилось. Она как бы продолжала прерванный разговор. Ему, Николаю Иннокентьевичу, очень просто жить под пяти, а то и под шестью накатами в блиндаже, попробовал бы вытаскивать раненых под обстрелом. Пули свистят, взрывы снарядов, а ты 171 тащи на себе здоровенного детину, они, раненые-то, тяжелеют, что песок с водой. В блиндаже же ни пуль ни снарядов... Какую-то чепуху горожу, спохватывалась Евгения, откуда же меня выволакивал солдат... И блиндаж не укрыл... Что же с Николаем Иннокентьевичем?.. Неужели разнесло?.. Евгении страшно от такого предположения - человек же всё-таки и из такого ада её выручил... А, может, и к лучшему - никто её снова в тот ад не отправит. И сама ужаснулась - прости Господи, не желаю никому беды. Саму судьба накажет... А если и ему повезло, может, спасся?.. Ой, какая боль! Что же этот солдатишко так везёт, ни ухабов, ни кочек не разбирает... Она провалилась куда-то, но через какое-то время до неё доносится чуть хрипящий голос солдата: - Ты, Панорама, не шарахайся, не куль картошки везём. Контузия вещь тонкая, поначалу может и обойтись, а потом всё отнимется, лежи пластом, или оглохнешь и без голоса останешься... Осторожней, Панорама, назвали же артиллеристы, людям на смех - Панорама... Типун тебе на язык, возмущалась, превозмогая боль, Евгения, я ещё молодая, чтобы пластом лежать или слуха лишиться, ей здоровье ох как нужно, у нее же Фая... Николай Иннокентьевич её видел. Красивая, говорит, на меня похожа. Это плохо, если на мать, несчастная будет, лучше бы на отца походила, Толик хотя и легкомысленный, но красивый был... - В блиндаж, видно, двухсоткилограммовая угодила или тяжелее.., - доносился голос солдата. - Прямое попадание... Вон как разворотило! При таком попадании и остаться живой... В сорочке родилась! Если, конечно, последствий не будет... Чего он про последствия заладил... Она сильная, всё превозможет, лагерь вынесла, на воле и вовсе всё выдюжит... Зачем её сюда из медсанбата занесло?.. Там сейчас раненых столько, лишь успевай, а она по штабам разъезжает... Красивая... Какой-то начальник, видать, позарился... Знал бы наивный солдатик кто и как позарился... Осторожнее бы вёз... Зря она его ругает - спас же ее. Какие же брёвна там! Как не раздавили? Сто лет теперь жить... Такое поверье... Ох, опять тряхануло. Да не по асфальту же везёт... Что-то знакомая местность. Подъезжаем, кажется... - Тпру... Ну вот и довёз я тебя, везучая. Поищу, кому сдать... - Спасибо, милый... - Милый!?... Да за это - “милый” - на руках дотащил бы... - Как твоя фамилия-то? – спросила Евгения слабым голосом. - Муратов я, Александр Муратов. Я пошёл, а ты пока лежи... 8 Алексей Николаевич позвонил домой, трубку сняла домработница. - Настасья Павловна, я подойду обедать домой….. Тетя Настя любила, когда хозяин обедает дома и с радостью затараторила: обед уже готов и пусть не задерживается, разогретый обед все равно, что снятая простокваша - ни вкуса, ни сытости. 172 Едва переступил порог, тетя Настя засуетилась с тарелками, ложками, смахнула неизвестно что с накрахмаленной скатерти и вроде бы оправдывалась: - Уж думала опять не заявишься. Борщ сварила, вареников с творогом наготовила, из ОРСа свеженькой сметанки с творожком подвезли. Не пришел бы, нам с Фаей с этим добром не управиться. Тетя Настя сноровисто хлопотала, уставила стол закусками, их хватило бы на добрую компанию. Одновременно посвящала хозяина в домашние дела. Алексей Николаевич, приученный еще в отчем доме, тщательно вымыл руки, уселся за стол. Возбуждающий аромат наваристого борща усиливал аппетит. Кругом всё дышало безмятежным спокойствием, уютной домашностью. У Алексея Николаевича возникло желание не идти после обеда в трест, хотя бы немного передохнуть от служебных передряг. - А Фая где? - спросил он, усаживаясь за стол. - Зашел этот франт Махновский Вадька и куда-то сманил, - ворчливо отвечала тетя Настя. Алексея Николаевича передернуло. Опять Махновский. На работе и дома одни Махновские, раздраженно подумал он. Сынок от папаши недалеко ушел. Такой же развязный, самодовольный антропос. Очень уж нахален, подбивает клинья к Фае она же совсем еще девочка! Надо бы с ней поговорить. Но как? Девочка создание нежное, чувствительное. Напрямую, что попало говорить не станешь, на всю жизнь врага наживешь. У него сейчас дороже Фаи никого нет. Женя? Она, чувствует он, отрезанный ломоть, знать его не хочет. Чёрт дернул написать то письмо. Да что говорить - и без этой писанины её все равно забрали бы, в горкоме почти никто не уцелел. Подмели всех под чистую. А, может, и не забрали бы, не напиши он... - Фая от матери письмо-треугольник получила, - почти пропела тетя Настя. Она убрала суповую тарелку и подала бифштекс, такой, какой он любил, с кровью, луком и яйцом. Будет ли вареники кушать? Так старалась их лепить. - Принести письмо? Оно у нее на столике лежит. - Пообедаю, сам возьму, - Алексей Николаевич отрезал кусочек бифштекса. - Вареники обязательно попробую, они у тебя отличные получаются. У них с Фаей без всяких просьб и уговоров сложился порядок - письма Жени для него всегда открыты, он может их брать, перечитывать. В этом письме Женя сообщала, что угодила под страшную бомбежку и получила контузию, полностью еще не оправилась. Правда, писала она, возможно, эта бомбежка окажется для неё благотворной и даже счастливой. Почему счастливой, недоумевал он, с каких это пор бомбы приносят счастье? Вернется Фая, расспросит её. Коли написала, значит, надеялась, домашние поймут её намёк. За каждодневной работой, с шести утра до полуночи и позднее, - это если не случалось несчастного случая или аварии - Алексей Николаевич почти не занимался устройством личной жизни. Конечно, он позаботился о Фае. Нанял тетю Настю, теперь девочка под присмотром, вовремя накормлена, как надо одета, по сезону. Домработнице выдавал деньги на разные покупки для Фаи. Что у девочки могут быть и другие заботы Алексей Николаевич как-то не задумывался. 173 О его мужских потребностях снова позаботилась Галина Никифоровна Попова. Эвакуировавшаяся из Подмосковья, инженер по углеобогащению внешне примирилась с изгнанием из квартиры управляющего трестом. Наблюдательная солдатка уловила момент, когда тоска по женщине достигла у Алексея Николаевича уровня, близкого к критическому, и оказалась тут как тут. Только успел Алексей Николаевич уютно расположиться на диване, надеясь немного вздремнуть, как раздался телефонный звонок. - Алексей Николаевич, ты на четыре назначил совещание. Мы ждем, напористо верещал Махновский. Черт бы его побрал с этим совещанием! Но Алексей Николаевич человек порядка, системы и не допустит, чтобы кто-нибудь, включая его самого, посмел хотя бы в малейшей степени отступить от установленного порядка. 9 Загремела тарахтелка и остановилась возле дома. Екатерина знает, это опять управляющий, Женькин муж. Только придет письмо от неё, как сердцем чует, он как муха на мед. Сегодня письмо от Саньки, но все равно о ней строчка есть - её ведь бомбой чуть не убило. Вот и заявился, мужик непутевый, не запылился, как обычно со свертком в руках, продукты разные и бутылка водки, сам же потом и вылакает. Насчет продуктов ему, конечно, не в тягость, как же - управляющий трестом, под ним ОРС, отдел рабочего снабжения, ходит, карточки у него первой категории, шахтерские, а едоков он, Фая да тётя Настя, в свертке не последнее из дому, не оголодают. Ей же, Екатерине, какая ни есть, подмога, Ольге с оказией посылку соорудит. Из-за незваного гостя не доведётся пораньше улечься в постель и, как следует передохнуть перед сменой. Из небогатых припасов и привезённого Алексеем сгоношила закуску, он ловко, ударом ладони по донышку, откупорил бутылку, полстакана сразу хлобыстнул, прежде, слышала, терпеть водки не мог, ну и она Екатерина - с четверть стакана выдула. Запаха водочного не выносила, постепенно попривыкла и даже приятность некоторую получает, от такой маяты жизненной все-таки водка лучше, чем петля на шею. Чует Екатерина, ждет Зайцев, когда она о Евгении заговорит, томить не стала, протянула Санькино письмо - как клещ в него впился, строчки о спасении Евгении не один раз прочел, а потом и вслух пробубнил. Она же - Екатерина - не один раз, хоть и по складам, а прочитала и Любка все письмо как стих продекламировала. Девчонка после гибели Леньки ссвоего брата так переживает, что каждую весточку с фронта дождаться не может, когда о Леньке известие пришло, так убивалась, чуть не задохнулась, уж опасаться за её разум стали. Возможно, этим и материнские слезы высушила - Леньку-то не воротишь, не возродишь, а девчонку спасать надо, она на глазах и её боль в сердце матери нестерпимо отзывается. 174 Еще не осилил Алексей Николаевич бутылку с помощью Екатерины, а уже раскис, расчувствовался, того и гляди, расплачется. Вспоминает, как они с Евгенией по-первости жили, счастливо и дружно, он на неё насмотреться не мог. А потом пошло-поехало, видная она, необыкновенно красивая была. Екатерина Егоровна не спорит, сама удивлялась, и лагеря её красоту не изувечили. А тогда на её красоту, ноет Алексей, всякий заглядывался, ему же жадные мужские взгляды на его жену нож острый, ревновал до безумия, бесился сверх всякой меры. Сейчас-то понимает, та ревность больше от дурости, от мнительности, от того и пошло у них наперекосяк. Потом её забрали, а он выручить её, заступиться не мог, годы такие были, каждый за свою шкуру дрожал, за связь с врагом народа прищучить могли, а его только что в управляющие двинули. Как ни удивительно и ни странно, но вернулась, вырвалась из цепких лап, ох, и обрадовался он, ног под собой не чуял! Забыл о всех их ссорах-распрях, теперь, думал, заживут душа в душу, в любви и согласии, дурнем прежним не будет, все сделает для неё, чтоб как в те первые годы стала его радостью, солнышком ясным, всякую пылинку с неё сдувал бы! А она вон как повернула - сбежала на фронт! Не так себе по наитию, по минутному капризу сиганула, а чтобы от него как можно дальше быть, не видеть и не знать его! Хорошо ещё, что Фаю при нём оставила. Какая девочка, умная, добрая! С возрастом красотой и мать - Евгению - превзойдёт. Только сейчас возле неё увивается лакированный лоботряс Вадим Махновский - сынуля трестовского начальника техотдела, хлыщ почище отца, пройдохи и нахала, от фронта здесь, в Сибири, за папашиной спиной упрятался от немцев, пусть другие за него с фашистами сражаются. Сводит с ума дурех безмозглых, поганит их, мешает чистыми и честными нормальных ребят с войны дождаться. Теперь вот Фаю дурит. Он - управляющий трестом - выпроводит их отсюда, пусть отправляются туда, откуда от войны драпанули. И Евсея Яковлевича и чадо его поганое! Не опоздать бы только, успеть спасти Фаю от этой язвы. Разжалобил несчастненький, Евгенией брошенный, доверчивую Екатерину Егоровну. Не способная по природе своей устроить кому бы ни было даже малейшую обиду, она от многословного нытья Алексея впала в сомнение, справедливо ли Евгения обошлась с мужем, решительно покинув, а вернее бросив его? Найди теперь такого, готового ради неё на всё, чего она кочевряжится - муж при должности, самой большой в этом городе, при деньгах и карточки у него самой сытной категории? Дочь, Евгенией брошенную, не просто любит, а обожает, переживает за девочку так, как не всякий родной отец. Остановись Алексей вовремя, не расхныкался бы дальше, вылив в себя остатки из принесённой бутылки, Екатерина так и осуждала бы Евгению за отношение к мужу. Но чем больше он ныл, тем сильнее она раздражалась. После пережитого Евгенией в распроклятых лагерях даже самый захудалый мужик выглядел бы ангелом-спасителем, зацепилась бы за него как хлипкий стебелёк за крепкий дубок и на всю жизнь оставалась с ним в верности и покорности. Евгения же не то что зацепиться за него не хочет, ей его дух противен. Соблазнительны ягодки у белены, а попробуешь их и разума лишишься. А этот, исподлобья сверкнула глазами Екатерина, речи разводит сладкие, как сироп 175 брусничный разливает, сам же “доносик” настрочил на собственную бабу, обрёк её на муки, каких, наверное, и в аду не придумали. Как же с ним после такого жить-то!? Вернуться к нему - это же самой стать ещё гаже его! Екатерина гневно обшаривала глазами размякшего от водки и собственных нудных слов Зайцева что же в нём такого, чтобы простить его подлость и оставаться с ним? Взять её Ивана - слёзы навернулись у Екатерины Егоровны, где же он страдает или отстрадался уже? - мужик видный, Екатерине пройтись с ним на виду у людей и то гордость, что такого отхватила. Этот же... Ни вида, ни пригляда. Ум? Кривой этот ум, коли жену ни за что, ни про что сдал! Сияние должности, бог весть как ему доставшейся, - и только, обряди барана и он, порой, за породистого быка сойдёт. Нет, она тоже от такого на край света улетела бы! Навернувшиеся у Екатерины слёзы Алексей Николаевич воспринял за сочувствие его горю-страданию, жалеет добрая старушка, она то ли по ранним морщинкам и сединам, то ли по особой сдержанности и рассудительности представлялась ему много пожившей и много познавшей женщиной. Если бы эта добрая женщина в своих письмах Евгении сказала нужное ему, дала совет простить его и даже извиниться перед ним, ведь он так любит ту капризную красавицу, так заботится о её доченьке, практически, все годы, что девочка живет на этом свете. Екатерина поднялась с табуретки, убрала опустошённую бутылку, смахнула крошки, накрыла полотенцем оставшийся хлеб и недоеденную закуску, затем начала разбирать небогатую постель. Алексей Николаевич, словно ничего не видел, до него не доходили более чем откровенные намёки - пора бы честь знать и убираться. Пришлось хозяйке преодолеть природную деликатность и уважительность к гостю. - Алексей Николаевич, - довольно сурово сказала она, - мне завтра рано на смену... - Да, да,.. - пролепетал Зайцев, - извините, я подзадержался... Я поехал... Если что будет от Евгении, Вы уж, пожалуйста, дайте знать... Да я сам на днях к Вам загляну... Прирожденное чувство понимания человеческих слабостей и способность быть снисходительной, если даже таким быть не следовало, проявилось в довольно спокойных словах прощания. - Ну, что ж заходите, когда Вам понадобится, мы от людей в доме не прячемся. 10 . Майор медицинской службы Мухаметшин, начальник медсанбата, увидев, что медсестра Евгения Станкевич за неделю почти отошла после контузии, приказал ей продолжать выхаживать командира дивизии, ежедневно менять перевязку на недолеченой ноге. Конечно, для старательной, серьезной медсестры работы полно и в медсанбате, но комдив проявлял явный интерес именно к этой сестре, справлялся о её состоянии и спрашивал, скоро ли она им займется. Присылаемые Мухаметшиным сестры достаточно умелые, он на них не жалуется, 176 но у Станкевич рука легкая и ноге после её перевязок становится лучше. Мухаметшин не без соображения и учитывает высказанное пожелание. Евгении же с комдивом вновь морока, он на одном месте не задерживается, постоянно в движении - то в полках, то в подразделениях штаба, а то его вызывают в корпус или в армию. Часто перевязки приходится делать на ходу, рана вроде бы начала заживать, но следить за нею надо неотступно, что при характере, образе жизни и действий полковника Мигулина далеко непросто. Прибыла к нему в штаб, а он занят с полковником из штаба фронта, пришлось ожидать пока останется один, наконец, комдив выходит с этим полковником и говорит: - Нам с полковником Васильевым необходимо отправляться на передовой пункт наблюдения. Там Ашурков и Чекулаев ждут. Садитесь с нами в машину, гденибудь на остановке сделаете перевязку, и шофер доставит Вас в медсанбат. Спорить не приходится, это же армия, а не колхоз. Поехали. Никакой остановки, понятно, не было. Потащилась за ними на тот самый пункт наблюдения, сначала и не разглядела, где он, оказалось, что остановились как раз возле него, так ловко замаскировано. По невидимой лестнице забрались на дерево, где пункт оборудован, там работа кипит, как у них в медсанбате при наплыве раненых, все при деле, команды отдают, по радио и по телефонам переговариваются. Увидела и спасителя своего, что Муратовым назвался, но поговорить с ним не удалось, к нему даже не подойти, он радист и ему одно задание за другим, то одного к микрофону позови, то другого, то команды передает, куда и как стрелять. По гудению пролетающих снарядов, по звукам разрывов догадываешься - команды дошли. Около часа пробыли, оттуда комдив с приезжим полковником поехали и её, конечно, прихватили. Надеялась, приостановятся где-нибудь и перевяжет ногу комдива, а он о ране, похоже, совсем забыл, у них с полковником из штаба фронта разговор завязался да такой, что прервать невозможно. - Как я полагаю, операция удалась, - комдив, как показалось Евгении, ничего не утверждая, как бы прощупывал какое мнение на этот счёт у полковника Васильева. - То, что я видел и слышал, - без промедления ответил тот, - подтверждает Ваше мнение, Иван Петрович. Конечно, в штабе фронта следят за ходом боевых действий. Я тотчас же свяжусь с командованием и доложу о своих наблюдениях и выводах. Скажу Вам, Иван Петрович, на меня, не смею скрывать, сильное впечатление произвёл передовой пункт наблюдения, организация управления огнем, обеспечение связью. - Николай Михайлович, у меня в дивизии подобрались очень грамотные, инициативные командиры полков, но командир артполка Ашурков, выделяется среди них основательностью, если за что берется, то исполняет капитально, надежно. Настоящий хозяин. Евгении удивительно и приятно слышать такие речи комдива, обычно он суров, ни разу не слышала, кого бы похвалил, требует жестко, а тут такие слова о подчиненном, почему же он им прямо в лицо об этом не говорит? Доброе слово оно же сильнее бранного! Не приучены к доброте. 177 - Мне, Иван Петрович, за эту войну многое довелось увидеть. Верховный буквально преобразил Генштаб. Хотя к нам на веки веков приклеен ярлык “штабные крысы”, он же заставил нас на передовой, в частях проводить в жизнь планируемые операции, в боевых частях штабистам Генштаба и фронтов приходится пребывать едва ли меньше строевых командиров. Так вот сегодня я увидел, как наша армия научилась воевать, тяжкой ценой далось нам эта наука, но суровые уроки начала войны пошли впрок. Мне до сих пор помнится Записка командования Западного фронта, направленная Сталину в первые месяцы войны, которую тот переслал в Генштаб. В ней говорилось, что в войсках не проводится в жизнь директива Ставки о закапывании в землю в передовых частях. Сейчас это вызывает улыбку, хотя и весьма грустную, теперь солдат нет необходимости принуждать к этому, тем более директивой Ставки, при любом перемещении все сразу же за лопаты и не одиночные ровики роют, а траншеи, блиндажи - укрыты от снарядов и пуль и на виду друг у друга. В словах полковника и грусть, и гордое удовлетворение. - Действительно, школу прошли суровую, - вздохнул Мигулин, - я, как Вы знаете, отступал от самой границы, ротным был. Не умели воевать не только солдаты, но и главные командиры, крик, угрозы - вот был их метод управления ротой или полком и даже армией. Угроза расстрела не сходила с языка командиров и политработников всех уровней. Знаете не хуже меня, что самые жесткие действия при неправильном применении обращаются по результатам в свою противоположность. Разумней расстрелять одного в назидание другим, чем непрерывно грозить этим всем, - жестко закончил комдив. Евгении понятно, что и Мигулину, судя по тону его рассказа, в те дни пришлось повоевать под угрозой страшной кары. На самом деле, зачем на фронте угрожать смертью, когда война и без того ведётся именно для лишения человека возможности жить. - Повидал я в начале войны такие порядки, - согласился полковник Васильев. Многое было оттого, что немцы продуманно готовились к войне. Первое, что они предприняли, атаковав наши границы, это разрушили все коммуникации, прежде всего связь. Без связи наши части, их командиры нередко чувствовали себя изолированными, обреченными, отсюда растерянность, паника. Теперь отношение к связи изменилось коренным образом. Приятно наблюдать, как тот же Ашурков толково пользуется радиосвязью. Грех и смех, но так было - бойцы гнали от себя радиста, боялись как бы рация не привлекла на их позиции огонь противника. Кстати, Вы заметили, Иван Петрович, какой шустрый, смышленый у Ашуркова радист. Совсем мальчишка. У меня почти такой же сын, семнадцатый год пошел, школу кончает. На фронт рвётся. Я, грешным делом, иногда думаю неплохо бы ему фронтовую науку пройти, лишнюю дурь выбило бы. Комдив рассмеялся. - Узнай, Николай Михайлович, Ваша супруга о таких мыслях насчет сына, боюсь, Вам не поздоровилось бы. - Это уж точно, живьем бы скушала, - поддержал шуточный тон Васильев. 178 Это они о её спасителе, о том солдатике говорили, подумала Евгения. Действительно, приятный парнишка и забавный, вез её контуженную, не умолкая говорил, боялся, видимо, за неё, разговором её дух поднимал. Вскоре машина остановилась в лесочке из молодых сосёнок. Полковники направились в один из блиндажей. - Сестра, подождите здесь, - распорядился комдив, - мы долго не задержимся. И впрямь, минут через десять они вышли. Евгения прохаживалась возле машины под пристальными взглядами оказавшихся неподалеку офицеров и солдат, подойти поближе к машине не решались, полагая, что столь интересную женщину начальство возит с собой не случайно. Доносились несколько приглушенные орудийные залпы и раскаты взрывов. - Сейчас завезем Вас, в медсанбат, - извиняющимся тоном обратился к ней комдив, - а мы отправимся в штаб дивизии, они близко друг от друга. - А как же с перевязкой, товарищ полковник? - забеспокоилась медсестра. - Ах, да... Хорошо, немного отъедем, свернём в кусты, и Вы займётесь ногой... Уселись в машину. Евгения на ходу вынимала бинты, вату, какую-то мазь, чтобы потом не терять лишнего времени. Вдруг машину тряхануло, совершив несколько кругов на месте, она опрокинулась, тяжело ударившись о землю.. Евгения почувствовала, что через открывшуюся дверь вылетает из машины, упала на что-то мягкое. Сразу же вскочила и увидела как крутятся колеса у перевернувшейся машины, оттуда доносились стоны. Водитель выбирался из машины бледный как мел и, похоже, не соображающий, что же произошло. К месту взрыва бежали солдаты и офицеры, они совсем недалеко отъехали от блиндажей. Подбежавшие помогали Евгении вытаскивать из машины полковников, оба были ранены. Евгения торопила отправлять их в медсанбат, боялась, потеряют много крови. Незнакомый Евгении майор, распоряжавшийся на месте происшествия, после погрузки раненых в подъехавшую машину приказал: - Вешнин и Коньков, будете вместе с сестрой сопровождать раненых полковников в медсанбат. Поторапливайтесь! Видите, комдив совсем плох. Здоровяк старший лейтенант и чуть помоложе, но тоже крепкий, лейтенант сели в машину. Офицеры держали на коленях головы раненых, Евгения на ходу занялась ранами комдива, - Я ему так и не сделала перевязку, - всхлипывала Евгения, - все время спешил... В медсанбате она насмотрелась на всяких раненых, но не могла притерпеться к их страданиям. Раненый полковник Мигулин вызывал у неё настолько сильную жалость, словно ей передавалась вся боль, которую он испытывал, издавая душераздирающие стоны. - Боже мой, - причитала Евгения, - сколько ему от войны досталось. Без глаза остался, нога искалечена и вот снова... 179 В медсанбате, куда уже дошла весть о ранении важных командиров, их немедля положили на операционные столы. Женя ни на миг не отлучалась пока оперировали командира дивизии, четко исполняла требования майора Мухаметшина, она, как и все в дивизии, знала виртуозное искусство этого хирурга. По его жестам, по обреченной выразительности лица нетрудно понять, насколько опасно ранение полковника Мигулина. Примерно через час майор Мухаметшин отложил скальпель и, тяжело шаркая ногами, направился к выходу из операционной. 11 Совещание руководящих работников угольной промышленности подходило к концу. Обсудили всё, что накопилось, накипело. Но как-то получалось, что разговоры в основном сводились не к прошлому пережитому и не к сегодняшнему, тоже нелегкому и непростому. Зайцев здесь в Москве, на совещании и за его пределами более ощутимо, реальнее, чем в далёкой Сибири, воспринимал, что войне скоро конец, поэтому и говорили всюду, как после войны жить, работать? Не менее часто говорилось с кем и с чем работать? На шахтах инженеров почти не было, в войну пополнения из ВУЗов практически не поступало, износились машины, оборудование, несмотря на изощренную смекалистость механиков, уже нечего было латать, ремонтировать, восстанавливать, заводы горного оборудования работали на войну, и угольщикам от них перепадало лишь на вновь вводимые шахты и разрезы. Приехавшие из всех угольных бассейнов руководители - менее двадцати человек - заметили в поведении наркома, его заместителей после перерыва на обед что-то необычное, они часто поодиночке выходили из зала заседаний коллегии наркомата, перешёптывались, чувствовалось, что кого-то ожидали. Начальники комбинатов и управляющие трестами предположили - кто-то должен подъехать из ГКО - Государственного Комитета Обороны - скорее всего Берия он, им это известно, отвечал за работу угольной промышленности. Куратор сильный, требовательный и опасный, из приезжих, да и наркоматовских, большинство “живьём” его не видели, и естественная человеческая любознательность подогревала их интерес. По времени закругляться с совещанием, уже десятый час вечера, но нарком, сменяя папиросу за папиросой, поднимал один вопрос за другим, требовал отчёта по делам, совсем не ожидаемым приезжими работниками. Возможно, предполагали наиболее прозорливые из них, он просто заполняет время в ожидании высокого руководителя. Дверь, соединяющая зал с приёмной наркома, отворилась, мягким, неслышным шагом, чуть согнувшись, стараясь по привычке быть незаметным, будто это возможно, к наркому приблизился его помощник, что-то совсем тихо, никто и ничего не услышал, прошептал своему шефу. Тот закивал головой, оглянул зал и, встав, объявил: 180 - Товарищи! Только что сообщили, меня, заместителей наркома, - он, ткнув недокуренную папиросу в пепельницу, назвал фамилии, - а также начальников комбинатов, управляющих трестами вызывают в Кремль. Машины ждут у подъезда. В зале возникла некоторая суетня, все наскоро собирали разложенные на столах бумаги и поспешили занять места в машинах. Зайцев, как впрочем и другие, подумал, что их вызвал Берия. Ехать до Кремля пара минут. Алексей Николаевич впервые очутился за кремлевской стеной. Рассматривать Кремль, расположенные там здания, соборы и хотя бы дорогу не удалось и не только из-за позднего тёмного времени. Через короткие, чрезмерно короткие промежутки вызванные, включая наркома, за которым гуськом вышагивали остальные, проходили пропускной контроль. На каждом посту предъявляли документы, у приезжих требовали паспорта, у наркома и его замов служебные удостоверения, офицер спецохраны брал документ в руки, раскрывал его, внимательно просматривал, потом сличал фотографию с оригиналом, устремляя на него пронизывающий взгляд. На каждом посту процедура повторялась без малейших отклонений. Наконец, вошли в просторную комнату, в ней много стульев и три разного размера стола. Нарком подошел к человеку с наголо обритой головой за большим письменным столом с аккуратными стопками книг, папок, бумаг. Рядом на небольшом квадратном столике стояло несколько телефонных аппаратов, большинство из них молочного цвета, нарком поздоровался за руку с бритоголовым и тихо доложил о прибытии угольщиков. Тот обратился к вошедшим: - Присаживайтесь, товарищи. Товарищ Сталин скоро освободится и примет вас. Для большинства сообщение, что их примет “товарищ Сталин”, настолько неожиданно, что на какое-то время они растерялись и не могли прийти в себя изза испытанного потрясения. Если бы в тот момент их заснять невидимой ими камерой, то их позы, выражения лиц запечатлелись бы более красочно, чем представил своих героев Гоголь в финале “Ревизора”. Сталин,.. Сталин,.. стучало в мозгу Алексея Николаевича. В его сознании Сталин уже давно утвердился как необычное существо, если не божество, то, как некто близкое к тому. Иногда он задумывался, а есть ли такой человек на самом деле, не придуман ли специально образ необыкновенного человека, чтобы от его имени вершить великие дела и не только великие? В жизни же действуют несколько, может быть, сотни, тысячи разных руководителей, которые именем созданного образа пользуются для достижения поставленных целей, ведь невероятно, чтобы одному человеку было под силу вести такую огромную страну. И куда вести! К целям, благороднее и величественнее которых ничего не может быть! И вот он - Алексей Зайцев - через несколько минут узрит этого необыкновенного человека. Так напряженно и трепетно, пожалуй, не ожидали выхода божественного фараона древние египтяне. 181 Дверь из кабинета Сталина отворилась и вышли двое военных, генерал с пышными усами и за ним молодой подполковник с папкой. Они ещё не вышли из приёмной как бритоголовый, а это был, как шепнул Зайцеву заместитель наркома, Поскрёбышев, объявил: - Проходите, товарищи. Товарищ Сталин ждет вас. Много раз Алексей Николаевич впоследствии укорял себя за то, что не был наблюдательным в кабинете Сталина, не увидел, какая мебель, не рассмотрел длинный стол и удобны ли стулья, на которых они разместились, не запомнил ни цвета, ни размера ковра, осталось лишь ощущение необычайной его мягкости, будто не наступаешь, а плавно скользишь по нему. И костюм Сталина не описал бы, почему-то сохранились в памяти только золотые погоны на плечах, причем не как воинское отличие, а нечто блеском своим подчеркивавшее исключительность того, к кому они почти загадочно попали. Ни на секунду не спускал глаз Алексей Николаевич с медленно и спокойно прохаживавшегося с трубкой в правой руке Сталина. Он слышал, как нарком перечислил всех, с кем он прибыл, услышал и свою фамилию, но она прозвучала для него отстранено, не выделяясь из ряда других, и слова о тресте, упоминанием которого сопровождалась его фамилия, он воспринимал тоже как его не задевающие. Это потом он не столько вспомнил, правильнее будет, представил, о чём докладывал нарком. Выступали заместители наркома, начальники комбинатов, и их он видел и слушал без восприятия смысла, содержания ими сказанного, для него отсчет времени и полноценное проникновение в суть происходящего начались с того момента, как заговорил Сталин. Каждое слово как бы врезалось в мозговые извилины и много лет спустя мог бы слово в слово повторить всё сказанное в этот раз Сталиным. - Мы понимаем, какую нагрузку война взвалила на шахтёров, - медленно, как бы давая возможность лучше запомнить его слова, говорил Сталин, - мы потеряли Донбасс, Подмосковный бассейн. Эти потери шахтерам пришлось возмещать в восточных районах, где условия работы и жизни неизмеримо сложнее. Мне доводилось бывать в Сибири, - он приостановился, нешироко развел руками, правда, не по своей воле, по губам Сталина промелькнула усмешка, - и я понимаю трудности шахтёров Кузбасса, Черемхова, Дальнего Востока. Манеру Сталина говорить Алексей Николаевич запомнил ещё с молодых лет, видел много фильмов с его выступлениями, дома, в Подмосковье, остались грампластинки с речами вождя. Как привычные для него видел характерные отмашки рукой наиболее значимых фраз, не резал ухо известный акцент. - Война, как вы понимаете, скоро победоносно завершится, - последние слова Сталин произнёс не выделяя ни жестом, ни голосом и такая обыденность их произношения усиливала эффект уверенности в исходе войны, - мы должны будем не только праздновать Победу, мы должны помнить, что спокойной жизни для нас не будет. 182 Сталин предупреждал о трудностях, которые неизбежны после такой войны. Зайцев, будь у него явно нереальное желание, не смог бы оспорить утверждения Сталина, что противники социализма, противники власти народа не исчезнут после разгрома фашизма, они вновь и вновь будут пытаться уничтожить нас. Уроки этой войны, особенно её начала, побуждают позаботиться, чтобы застраховать страну от любой случайности, от попытки всякой агрессии. Он соглашался со Сталиным о необходимости в короткие сроки создать солидную экономическую базу. Сталин поднял голову, обвел взглядом присутствующих, будто удостоверяясь, доходят ли до них его слова. - У нас два определяющих направления экономического развития страны. Первое определяющее направление развития экономики - это продовольствие. Зайцеву понятно, что к началу войны в стране сумели заложить основу устойчивой продовольственной базы - осуществили коллективизацию сельского хозяйства. Без этого немцы непременно разгромили бы нас, задушив голодом. Огромными усилиями создали основу индустриализации сельского хозяйства, мечту Ленина о ста тысячах тракторов удалось многократно превзойти. Страна вышла на устойчивые урожаи основных продовольственных культур. Перечисляя сделанное на селе, Сталин каждый тезис отчёркивал отмашкой руки с дымящей трубкой. Он шагал по мягкому ковру, склонив голову. Складывалось впечатление, что именно сейчас, размышляя на ходу, ищет и находит решения. - Немцы основательно разрушили созданное в сельском хозяйстве. Многое придется начинать сначала. Но восстанавливать с перспективой на отдалённое будущее. Он развернул почти фантастическую программу дальнейшего подъема сельского хозяйства. Большинство наших земель расположены в условиях, неблагоприятных для выращивания продовольственных культур. Видимо, придется вступить в схватку с природой, создать лесозащитные полосы, соорудить мощные водохранилища для ведения поливного земледелия. Наши ученые, сообщил Сталин, думают над возможностью поворота в южные районы рек, впадающих в Ледовитый океан. На юге, в Средней Азии благоприятные температурные факторы, но там острая нехватка воды. По сути, мы должны приступить к преобразованию природы. Такая грандиозная задача, не всем под силу. Но наше социалистическое государство способно взяться за решение подобных грандиозных задач. Сталин не только взмахом руки, но и голосом подчеркнул слово “социалистическое”. В его словах была такая сила убежденности, что в сознании Алексея Николаевича, как впрочем, и у остальных присутствующих, не возникало даже тени сомнения. Убеждённость говорившего, словно по сообщающимся сосудам, передавалась слушающим. Не останавливаясь, Сталин неторопливо продолжал: 183 - Второе определяющее направление нашего экономического развития - это энергетика. Энергетика в самом широком смысле. До войны нам удалось и здесь многого добиться. В основу лёг знаменитый план Ленина, план ГОЭЛРО, известная ленинская формула “Коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей страны”. Эти проблемы близки участникам совещания, уголь был основой энергетики, по крайней мере, на данном этапе её развития. Немцы не дали до конца выполнить задачи, завещанные Лениным. Но и здесь требуется пойти дальше, надо обеспечить опережающее наращивание энергетических мощностей. Тогда под экономическое развитие будет подведена серьёзная энергетическая база. Предстоит построить каскад гидростанций на Волге и Днепре. Но главное - это продвижение энергетики на Восток, освоение энергетических ресурсов Оби, Енисея и Ангары. - Мне пришлось побывать на Енисее в Курейке и на Ангаре в Новой Уде, Сталин опять усмехнулся, - это богатейший край. Там будет определяться будущее нашей страны, да, думаю, и всего мира. Зайцев едва успевал записывать. Он буквально задыхался от навалившихся на него идей, замыслов, планов. Сталин вёл разговор так, будто война уже завершена и всюду развернулось грандиозное мирное строительство. Припомнилось из Маяковского: “размаха шаги саженьи”. Сталин называл цифры экономического роста, к достижению которых должны стремиться различные отрасли народного хозяйства. - Если шахтёры доведут добычу каменного угля до пятисот миллионов тонн в год, - Сталин и голосом и отмашкой руки подчёркивал названную цифру, - это будет весомым вкладом в укрепление экономического, а, значит, и оборонного могущества нашей страны. Сама эта цифра - пятьсот миллионов - будет действовать отрезвляюще. Вот это размах! Зайцеву показалось, что и нарком удивился, какую ношу Сталин возлагает на его плечи. Действительно, по силам ли им, сидящим в этом кабинете, такое сталинское задание, не подведут ли они своего вождя? - Мы хорошо понимаем, задача непростая, невероятно трудная. Но не нам пасовать перед трудностями. Мы же большевики! Ваш нарком говорил, что здесь присутствует управляющий трестом товарищ Зайцев. Вы встаньте, товарищ Зайцев, пусть все видят какие у нас кадры в угольной промышленности. Если бы Алексей Николаевич задумался над происходящим в этом кабинете, то не исключено, что при обращении к нему Сталина с ним мог случиться удар. Такого он не ожидал - чтобы Сталин обратился прямо к нему! И это обращение он воспринял, словно наблюдая со стороны, при упоминании его фамилии вскочил и вытянулся как солдат перед генералом, хотя отроду в армии не служил. Сталин же продолжал: - Товарищ Зайцев был вынужден со своим трестом переместиться на Восток. Он не просто организовал работу треста на новом месте. Он организовал добычу угля открытым способом. Вы лучше меня знаете, насколько открытый способ прогрессивнее подземных работ. Но в то время, когда товарищ Зайцев 184 организовывал добычу угля открытым способом, главным было не это, не экономическая выгода. Главным был выигрыш времени. В тех условиях на счету был каждый день, каждый час. Мы думаем, что и в новых условиях вы найдёте верные пути, чтобы в кратчайшие сроки, за две-три пятилетки довести добычу угля до пятисот миллионов тонн в год. Вы садитесь, товарищ Зайцев, садитесь. Вас все запомнили. Зайцев грузно опустился на стул и не сразу включился в дальнейшие рассуждения Сталина. - Война нанесла тягчайшие удары по нашим кадрам. Среди миллионов погибших наши лучшие инженеры, наши лучшие врачи, наши лучшие агрономы и зоотехники, наши лучшие учителя. Лозунг “кадры решают всё” к концу войны обостряется до крайности. У нас с трудом, но найдутся денежные средства. У нас с трудом, но найдутся материальные ресурсы. Если же мы не решим задачу кадров, то ни денежные средства, ни материальные ресурсы не дадут нужного нам эффекта. Мы, в Правительстве, сейчас продумываем, как обеспечить наше экономическое развитие кадрами. Потребуется организовать ускоренное обучение инженеров. Допустим, направить в ВУЗы людей со средним специальным образованием, имеющих какой-то минимум практического и жизненного опыта. Их не зачем направлять на так называемую производственную практику. Таким образом, подготовку, например, инженеров можно сократить до трёх, трёх с половиной лет. Алексей Николаевич старательно записывал всё, о чём говорил Сталин, разумеется, кроме того, что было сказано во время его стояния навытяжку. Внешне спокойно досидел до конца, вместе со всеми прошёл повторившиеся процедуры у постов в Кремле. Только, выйдя за его пределы, начал по-прежнему, нормально воспринимать действительность. По команде наркома участники встречи со Сталиным прошли в наркоматовскую столовую, где для них накрыли столы. Ужин был весьма кстати, хотя и чрезмерно поздний - кремлёвские куранты, пробившие полуночный час, они слышали ещё в апартаментах председателя ГКО. Нарком не томил ожиданием. Предложил наполнить рюмки и фужеры, благо в напитках по количеству и по разнообразию недостатка не было. Тост, произнесённый наркомом, оригинальностью не отличался, в нем прозвучала здравица за предстоящую победу, за партию, за Родину и, само собой разумеющееся, за ”вождя и учителя, организатора всех наших побед, твердого рулевого, родного и любимого Иосифа Виссарионовича Сталина”. Стоя, дружно опустошили бокалы кто по привычке и пристрастию, а кто из опасения не оказаться белой вороной при таком тосте. Алексей Николаевич одним махом проглотил налитое, что-то довольно крепкое, “Старку” или “Петровскую”. Пил от всей души. Он, конечно, не проводил в этот вечер, точнее ночь, обзора своей жизни. Если же вздумал бы её обозреть, то обязательно вспомнил как от сына старого шахтёра с сомнительной биографией, от “штейгерёнка”, на которого шипели пацаны из шахтёрского посёлка, дожил до крупного хозяйственника и не просто крупного, а такого, 185 которого сам Сталин отличил публично перед его коллегами и начальниками как пример для других. Здесь в Москве он уже действительно вспомнил и очень страстно хотел, чтобы его торжество, его триумф победителя, хотя и на трудовом фронте, увидела она, его всегда желанная, упрямая и непреклонная Евгения, поубавилось бы у неё скепсиса, доходящего до презрения, поняла бы на кого затаила обиду. Не осознала она духа того времени, ни одна она стала жертвой беспощадных обстоятельств, он мог оказаться там же, куда угодила она. Да он, собственно, и был жертвой, и, бог знает, для кого после этого жизнь, душевные муки тяжелее. Она на фронте, отмывает грехи или завоёвывает славу и прощение, не знает, не чувствует, каково же ему оставаться в тылу без неё и с грузом, который она безжалостно взвалила на его сердце и душу. Евгения в этот вечер промелькнула в его сознании лишь как сожаление - не видит его в пиковый, возможно, для него момент. Его занимал сам вечер, присутствующие и, в первую очередь, нарком. Речи, тосты, разговоры, естественно, вращались вокруг главного события. Нарком, непрерывно куривший, продолжал вести вечер. После первого тоста он сделал приличную паузу, дабы все могли утолить голод и жажду. Постепенно шум ножей и вилок стал стихать, нарком, бросив недокуренную папиросу, снова поднялся. - Товарищи! - постукивая ножом по фужеру, он призвал к вниманию, - я не стану повторять, какой трудовой подвиг совершили шахтёры во имя победы, тем более в данной аудитории, - нарком поворотами мощной головы, многозначительной паузой дал понять, что присутствующие имеют непосредственное отношение к этому подвигу. - Партия и Правительство, как вы поняли из сегодняшнего приёма товарищем Сталиным, очень высоко оценивают наш труд. Вы заметили, как меня задержал товарищ Сталин, он дал поручение представить к высоким правительственным наградам, в том числе к званию Героя Социалистического труда, особо отличившихся руководителей и работников угольной промышленности. Аппарату наркомата уже дано задание готовить представления. Все мы слышали как тепло, я бы сказал душевно, товарищ Сталин отозвался о некоторых наших руководителях. Думаю, мы поступим справедливо, если предоставим слово товарищу Зайцеву. За тобой тост, Алексей Николаевич. Да что это такое!? Говорят, беда к беде идёт. А к нему одна удача за другой! Произносить тост да ещё в такой компании! Да вслед за наркомом! Есть от чего растеряться. Знал Алексей Николаевич за собой одну примечательную особенность, в нерядовой, острой ситуации на него нисходит необычайное успокоение, начинается ускоренная работа мозга, в доли секунд просчитываются варианты, и он принимает то решение, которое соответствует данной ситуации. Цену наступившего момента он определил мгновенно. Для него наступает или Тулон или Ватерлоо! Алексей Николаевич медленно, даже не очень торопясь, поднялся, оценивающе взглянул на наркома, перевёл глаза на остальных, вытер крахмальной салфеткой губы, одернул пиджак. 186 - Товарищи! - последовала короткая, но выразительная пауза, - мне сейчас очень трудно выступать, я не могу так быстро, с ходу подобрать нужные слова. Никогда не предполагал, что мне выпадет счастье видеть самого гениального человека на Земле - товарища Сталина. Мы часто говорим родной и любимый Сталин. Только сегодня в Кремле я понял, что это лишь робкая попытка оценить величие этого человека. Нашей великой стране, нашему великому народу, всем нам очень посчастливилось, что в это неимоверно тяжёлое, сложное время нашу партию, нашу страну, нашу армию возглавил такой величайший в истории человечества политический, государственный и военный деятель как Иосиф Виссарионович Сталин! Перед его делами в интересах нашей страны, во имя нашего народа меркнут самые высокие слова. И я не могу не выразить искреннюю благодарность, которую, надеюсь, разделяют все, нашему наркому. Без его активной роли не состоялось бы это историческое, навеки нам памятное событие. Мой тост прост и искренен. За нашего великого Сталина! За нашего наркома! Все поднялись, к Алексею Николаевичу потянулись с бокалами. Раздвигая обступивших его, к Зайцеву подошел нарком. Он высоко поднял рюмку, призывая к вниманию: - Товарищи! Тост Алексей Николаевич произнес замечательный, но я хотел бы внести одно уточнение. Никто на свете не может равняться с товарищем Сталиным. Поэтому, давайте, поднимем бокалы за него, за его здоровье, которое так нужно всему нашему народу, всем нам. А за наркома найдём другой повод провозгласить тост. Когда выполним задачи, поставленные товарищем Сталиным. Итак, за великого Сталина! Никто не пытался возражать. Кто не успел выпить тотчас, опустошил бокал, а кто поторопился, налил себе снова и одним глотком поддержал очередной тост. Вечер мог продолжаться до рассвета. Возбуждённые встречей на “высшем уровне” и изобилием напитков генералы угольной отрасли разгулялись. Подругому и быть не могло, почти все они вчерашние рабочие или крестьяне, не слишком обременённые образованием, без дистиллированного дворянского воспитания. Получивших высшее образование, как Зайцев, среди них было немного, в основном это ”выдвиженцы”, достигшие управленческих высот на волне стахановского движения, кто умел много “нарубать” уголька, тот имел шанс выдвинуться в руководители. Некоторые назначены управляющими трестами, начальниками комбинатов из-за вакансий на руководящие посты, возникших после чисток тридцать седьмого года. Высшее техническое образование было чрезмерно утилитарным, инженеры выходили из ВУЗов, из Промакадемии прекрасными специалистами, но их нравы и вкусы не были ещё отшлифованы. Нарком не был сторонником разгульных застолий. Кроме того, он отлично освоил кремлёвские порядки, график работы высшего руководства, поэтому заключительный тост прозвучал к огорчению многих довольно скоро. 187 - Товарищи! - провозгласил нарком, - уже наступил очередной рабочий день, всех нас ждут дела, ответственность за них теперь значительно возросла. Не откладывая ни на час, мы обязаны организовать энергичную работу по выполнению задач, поставленных товарищем Сталиным. За ваши успехи в этой работе! Нарком пригубил из своего бокала и направился к выходу. За ним потянулись его заместители, начальники главков. Приезжие быстрому, на их взгляд, завершению, не поймешь ужина или завтрака, не радовались. Против же начальства не попрёшь. Наскоро опрокинули свои бокалы, тост-то произнесён, кое-кто поспешил, не привлекая внимания, налить и выпить ещё бокал, уже без тоста. 12 Евгения вышла из операционной палатки поникшая, съежившаяся и обессиленная. Она плакала так, как всегда плачут русские женщины по скончавшемуся близкому человеку - с причитаниями, всхлипываниями, только слёзы утирала не уголками платка, накинутого на голову, а жёсткой солдатской пилоткой с красной звездочкой. - Какая же нелепая у него была жизнь, - слово “была” она как-то выделяла, будто подводила черту, - без радости, без человеческого счастья, одна война да ранения. Кроме войны, солдат, своей дивизии он ничего не знал, им только и служил, о себе и не задумывался. Поесть его заставляли, рану перевязать сплошная морока, времени на себя не находилось. За что же это его? Не заметила как к ней подошел сопровождавший раненых старший лейтенант Вешнин, осторожно коснулся её локтя, так легонько, словно его крупные огрубелые пальцы приближались к нежному лепестку цветочка. - Успокойся, сестра. Не надо так убиваться. Война же! На войне все бывает, как видишь, и убивают, - в последних словах такая горькая ирония, что стенания Евгении стали еще сильнее, - надо же, один случайный снаряд залетел и ни гденибудь, а рядом с машиной комдива взорвался! Будто специально его отыскивал. Как только ты уцелела?! Он говорил мягко, будто мурлыкал огромный сибирский кот. Монотонное мурлыкание обволакивало Женю, её всхлипывания становились реже, хотя слёзы по-прежнему текли по щекам и она их смахивала смятой пилоткой или рукавом гимнастерки. - Жалко комдива, - печально нанизывал сочувственные слова старший лейтенант, - строгий, конечно, был, но командир крепкий. Зря в пекло не посылал, а если и посылал то значит так и требовалось. Не скажу, любили ли его в дивизии, но что уважали - это точно! Ты с ним давно знакома? - Совсем недавно. У него рана на ноге не заживала и майор Мухаметшин приказал каждый день перевязывать. Да как его перевяжешь? Все время как маятник то туда, то сюда, он же других медсестёр не признавал. Потом сама долго не могла к нему попасть, от контузии отходила. 188 Вешнин немного помолчал, о чем-то раздумывая. Затем, как бы вступая в холодную воду, осторожно спросил: - У тебя с ним что-нибудь было? Евгения сначала не поняла о чем её спрашивают, затем смысл вопроса дошел до неё. Подняла голову - старший лейтенант робко, даже боязливо смотрел на неё тёмными, очень и очень грустными глазами, взгляд излучал мягкость, участие и вообще в его облике ей почудилось что-то близкое, родное, такой взгляд она часто улавливала у отца Алексея Максимовича, когда тот смотрел на неё, свою любимицу, также мягко и любовно бросал на неё взгляды шубутной братик Костя, робко и просяще заглядывался на неё Мишутка, младшенький братец Кати Муратовой. Мягкий взгляд старшего лейтенанта погасил назревавшую вспышку из-за его вопроса и она тоже мягким, даже самой непонятным, голосом тихо ответила: - Какое там! И в помыслах у меня не было, мне ведь не до него, ему же, по всему видно, тем более. Совсем его не знала, даже ни о чём с ним не разговаривала, кроме перевязки, но жалко его как никого другого. Не первую смерть здесь вижу, медсанбат не санаторий, мало знала полковника, но чувствовала добрый он человек, настоящий, хотя с виду и суровый. К ним подошел напарник Вешнина лейтенант Коньков и сказал, что пора возвращаться в полк, там может понадобиться машина. - Ты, Валентин, поезжай, я позднее как-нибудь доберусь, - и, приглушив голос, чтобы слышал только Коньков, добавил, - видишь, человек в каком состоянии, надо помочь. Коньков не стал допытываться и настаивать, развернулся и заработился к машине. Потрясение Жени, вызванное гибелью командира дивизии, не осталось незамеченным в медсанбате. Обычная медсанбатовская работа - операции, уход за выздоравливающими, приём и первичная обработка непрерывно поступавших раненых не оставляли возможности сопереживать, сочувствовать её потрясениям и тревогам, новые беды и страдания, которых было более чем в избытке, вытесняли предыдущие. Женю ожидало такое же напряжение, отвлекающее от горестных дум, переживаний за тех, кто, как непрерывный конвейер, проходил через руки, прежде всего именно через руки, и только затем через чувствительные как у всех нормальных людей сердца и души врачей и медсестер. Поздно вечером командующий фронтом докладывал Верховному Главнокомандующему об обстановке. Выслушав доклад маршала, Верховный не стал задавать вопросов, ставить очередные задачи, это и без того на этом фронте все ясно. Он, по-видимому, продолжал размышлять, не изменяя ни громкости, ни тона разговора сказал: - Мне доложили, что сегодня погиб командир дивизии Мигулин... - Так точно, товарищ Сталин, - гратко ответил командующий, но счел нужным добавить, - сильный был комдив, правда, иногда излишне суров, но очень храбрый. 189 - Мне известна его храбрость и преданность, не штабной шаркун, понастоящему боевой командир. Не щадил себя, без глаза, от последнего ранения до конца не оправился. Думаю, мы с Вами перед ним виноваты... - Не понял, товарищ Сталин... - Он давно и успешно командовал дивизией, мы, полагаю, передержали его. - Он от выдвижения отказывался, товарищ Сталин, дивизия - это его стихия. - Возможно. У каждого свой потолок, лучше сильный комдив, чем слабый комкор. Но мы опоздали с присвоением ему генеральского звания, он до него давно дорос... - В этом согласен с Вами, товарищ Сталин, - подхватил командующий, собирались представить, как видно, опоздали... - Хорошо, что согласны, - в голосе Верховного нотки сарказма, - но этого не поправить, генерала не присваивают посмертно. Единственное, что можем присвоить - это звание Героя Советского Союза. Посмертно. Сталин положил трубку. Командующий вызвал начальника штаба и начальника наградного отдела. - Немедленно оформить представление полковника Мигулина к званию Героя Советского Союза. К утру материал должен быть в Ставке! На следующий день в газетах опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза полковнику Мигулину Ивану Петровичу( посмертно). 13 Евгения Алексеевна Станкевич едва ли сможет когда-нибудь забыть, день, когда погиб полковник Мигулин. Запомнился пасмурный и небычайно длинный тот день не только и не столько потерей не родного человека, ставшего ей если не близким, то весьма почитаемым. Возможно, отплакав по нему, погоревав, она и не вспоминала бы себя тогдашнюю, остро переживавшую гибель комдива. День гибели комдива Мигулина навечно врезался в память от того, что в этот день судьба-распорядительница свела её с ним - с Василием Вешниным. Теперь, если вспоминается полковник Мигулин, она отметит для себя - он погиб в тот день, когда она в первый раз увидела ЕГО. Тяжело раненых полковников Мигулина, комдива, и другого, из штаба фронта, вынимали из искорёженной взрывом машины, укладывали на другую. Евгения видела много офицеров и бойцов, суетившихся вокруг, сама же полностью сосредоточилась на комдиве, но необъяснимо почему выделила из всех крупного, расторопного и спокойного старшего лейтенанта. Когда майор приказал ему сопровождать раненых у неё мимолётно и неосознанно снова мелькнуло - хорошо бы этому офицеру поручили сопровождать их. 190 Евгения ничуть не удивилась, почувствовав легкое прикосновение сильной руки к её локтю, это был старший лейтенант. В разговоре он представился Василий Вешнин, начальник связи полка. О чём говорили Евгения не всё и вспомнит, а.они долго в тот день ходили и разговаривали. Говорила больше она, кто её знал, удивились бы, обычно замкнутая в себе, скупая на слова - жизнь к этому приучила - Евгения может столь много и так откровенно разговориться. Ни перед одним человеком до него настолько не раскрывалась, даже то, что хотела бы навсегда забыть, выкинуть из памяти - тюремные и лагерные скитания - всё выложила Василию. Он ни о чём не расспрашивал, не торопил, а лишь слушал, так слушал, что из Евгении слова сами по себе выходили, раскрывали её перед совсем неизвестным человеком, чуть ли не перед первым встречным. Нет! Никакой он не первый встречный! Он тот, кого она ждала всю свою жизнь! Искать его по бескрайнему белому свету убежала из далекой сибирской деревушки. Даже при внешне безмятежной жизни с юным и легким Толиком, в её душе нет-нет да и всплывала мечта, мимолётная, туманная, о нем. Стала женой Алексея, но вскоре стремление найти, встретить, полюбить его снова возникло и жило в ней непрерывно. Даже тогда, когда, казалось, в жизни ничего не оставалось светлого, даже не было надежды на это, она часто в забытье, отходя от издевательств и унижений, вызывала в сознании его образ. Образ так ей нужного и настолько недосягаемого, что в спокойные минуты печально насмехалась над своей наивной мечтой. На фронте в бесчисленном окружении молодых здоровых мужчин выбирай кого душа желает! - она не видела среди них его, но ждала его, готовилась к встрече с ним, не представляя когда и какой он будет. Мужчины же не оставляли её без внимания, кто робко ловил её взгляд, а кто нахально пытался навязаться. Она выработала, инстинктивно конечно, стиль поведения, независимую манеру общения. Чрезмерно наглых поклонников сдерживал её дерзкий, презрительный взгляд, так взметнет бровями, что очередной домогатель, рассчитывавший на её внимание, терялся, им овладевало смущение и опасение поставить себя в ложное, унизительное положение. Евгения не могла без едкого смеха вспоминать как однажды в медсанбат наведался член Военного совета армии генерал***. При невысоком росте и не богатырском сложении он напыщенной внушительностью пытался произвести впечатление заботливого «отца-командира». В сопровождении начальников медслужб армии и дивизии, а также начальников политотделов этих же соединений он обошёл палатки, подойдя к койке раненого, вопрошал: - Как самочувствие, товарищ боец (или товарищ офицер)? Скоро ли вновь начнёте бить фашистов? Распознать кто занимает койку нетрудно, старательные медсанбатовцы сумели разместить таблички, на которых помимо температурных показателей, начертаны фамилии и прочие сведения о раненом. Далее из генеральских уст следовал другой столь же оригинальный вопрос: - Довольны ли, как Вас кормят, как обслуживают? 191 Ответ соответствовал вопросу и пониманию, что проверяющие приходят и уходят, а медсанбатовские начальство и обслуга остаются. В одной из палаток генерал несколько притормозил контролерский пыл, приметил сестру, выделявшуюся из одетых в одинаковую униформу женщин. Достаточно молодая, хотя и старше других, довольно привлекательная особа с загадочным блеском глаз не могла не пробудить его любопытства. При выходе из палатки генерал негромко, дабы не возбуждать нездоровый интерес у сопровождающих, спросил Мухаметшина: - Сестра, которая постарше других, давно у вас или это из привлечённых местных жительниц? - Товарищ генерал, - по уставному рапортовал начальник медсанбата, - её фамилия Станкевич Евгения Алексеевна. Она из Сибири, доброволец, добилась направления на фронт, прошла курсы медсестёр и направлена к нам. В короткий срок блестяще освоила служебные обязанности, пользуется большим уважением и авторитетом у больных и у персонала. - Вот как! Доброволец?! Интересно. Майор, после окончания осмотра представьте её мне. Интересно... После не затянувшегося смотра Евгения предстала пред генеральскими очами. Чинами её не смутить, но всё же немного волновалась, прежние, до фронта, встречи с людьми в форме не давали повода для оптимизма. Когда майор Мухаметшин сказал о вызове к генералу, первое что пришло на ум - не остался ли в живых Николай Иннокентьевич Евстигнеев и не с ним ли связан этот вызов. В палатке начальника медсанбата член Военного совета находился один. Весьма любезно откликнулся на доклад, что по его вызову сержант Станкевич прибыла, так докладывать её научил майор. - Здравствуйте, Евгения Алексеевна, - генерал встал, сделал шаг навстречу, пожал руку, - присаживайтесь, пожалуйста. По тону приветствия, по мягкому пожатию руки, по форме приглашения присаживаться Евгения поняла, что о полковнике Евстигнееве речи не будет, она уже достаточна опытная, кое-какое представление о некоторых особенностях мужской психологии имела и без труда раскусила истинные побуждения генеральского интереса к скромной медсестре. Генерал задал несколько вопросов, не слишком отличавшихся от тех, что звучали при обходе раненых. Евгения односложно отвечала, ожидая какой же очередной ход предпримет генерал. Без излишних словесных выкрутасов генерал решил перейти к главной цели: - Евгения Алексеевна, я полагаю, что такой женщине как Вы медсанбат не очень подходящее место для прохождения службы. Я предлагаю Вам перейти в штаб армии, будете помогать мне в некоторых вопросах, вести мое хозяйство и так далее. Уже завтра можно организовать Ваш переезд. Ай да мышиный жеребчик! Жене стало необыкновенно смешно от того, с каким апломбом и начальственной самоуверенностью сделано пошленькое предложение. Определённо, он не сомневался в её согласии. Опасаясь, что затягивание разговора превратится в сомнительную игру и она может сморозить опасную глупость, Евгения поспешила с ответом: 192 - Товарищ генерал, я обучалась на курсах медсестёр, а не ППЖ. Работа в полевом медсанбате с ранеными в боях за Родину меня вполне устраивает. Генерал опешил, подобной дерзости не ожидал. Резкий ответ напугал его, как бы нахальная сестрица не сделала конфиденциальный разговор всеобщим достоянием. Конечно, он генерал, у него большая власть и солидный авторитет, но отлично представлял последствия, если эта бабёнка растрезвонит о разговоре да ещё добавит что либо от себя... - Дело Ваше... Если же надумаете, все-таки штаб армии... - видя, что Евгения не пытается помочь ему достойно выйти из глупой ситуации, резко оборвал аудиенцию. - Я Вас не задерживаю! Евгения подчеркнуто четко откозыряла, точно по уставу развернулась кругом и твёрдым шагом удалилась. Разумеется, Евгения никогда ни кому не рассказывала о том, что произошло между нею и генералом. Но какими-то невероятными путями не детали, а смысл их встречи был понят многими, то ли по виду вышедшей от генерала раскрасневшейся Жени, то ли по тому, как заторопился, до того степенный, генерал из медсанбата, где собирался отобедать, у всех, кто видел в этот момент члена Военного совета возникли определённые догадки. После этого случая желающих домогаться внимания миловидной медсестры заметно поубавилось, укрепилась её репутация недотроги, острой на язык и способной на нежелательные действия. 14 После того, как удалились нарком и его приближённые, к Алексею Николаевичу подошел начальник комбината из Кузбасса Кожевнин. Они познакомились, когда по совету наркома Зайцев, направляясь к месту нового назначения, заезжал на шахты этого бассейна. - Наркому и его присным, конечно, надо быть в форме, начальство у них под боком, в любой момент может вызвать. Мы же сегодня, в какой-то мере, птицы вольные, до вечера едва ли понадобимся. Поедем ко мне в номер, посидим ещё, на сон что-то не тянет, тем более ты сегодня по всем статьям именинник. Алексей Николаевич предложение принял с радостью. Одному оставаться в гостиничном номере ему тоже не хотелось, уснуть после встряски этой ночью едва ли удастся, требовалось как-то разрядиться и успокоиться. В номере у Кожевнина, таком же двухкомнатном как и у Зайцева, он не без зависти наблюдал, с какой основательностью кузбассовские хояйственники подготовили начальника комбината в столичную командировку. Из объемистого чемодана Кожевнин вынул бутыль, литра на два, с темнокоричневым напитком там же оказалось сало беконных свиней, которых разводил местный ОРС, аппетитно смотрелась домашняя украинская колбаса, даже головки репчатого лука обнаружились. - Это водка с нашего кузбасская спиртзавода, отведай Алёша, - пригласил Кожевнин, налив по полному гранёному стакану темно-коричневой жидкости. 193 Алексей Николаевич смело отпил почти полстакана и закашлялся. - Ну и дерёт! - сквозь выступившие слёзы выговорил он. - К нам как-то приезжала делегация шахтёров от союзников. Как положено, приняли с шахтёрским размахом, угостили вот этой водочкой. Они, как и ты, закашлялись и спрашивают: «Из чего эта водка?» Наши на полном серьёзе отвечают: «из угля». Похоже, поверили и просят уточнить: «Почему такая крепкая?» Ребята не растерялись: «сильно давим». Шестьдесят три градуса! Делегацию после такого гостеприимства на руках выносили. Кожевнин с водкой не половинил, снова налил полный стакан себе, долил Зайцеву. - Попали мы с тобой, Алёша, куда и не мечтали. Я давно комбинатом заправляю. У многих бывал - у Молотова, у Берии, у Кагановича, но у Самого впервые. Те тоже не лыком шиты, спросить могут, да и помогали не раз. Но Сам это Сам! Вроде и не крепкий с виду, невысок, плечи не как у Ильи Муромца, говорит тихо, без нажима,- но какая силища из него прёт! Что ни слово то гвоздь, до печенки достаёт. И слова вроде бы простые произносит, а впечатление будто святую истину открывает. - Ты прав, Владимир Александрович. Что слова! Взгляд, жест, как будто завораживает, - почти с восторгом поддержал Зайцев. - Посмотри, что он со страной сделал? Вчера ещё лапотная, безграмотная Русь громит Германию! Германию!!! - подчеркивает Кожевнин. - Ты вдумайся, Алёша! Выше германской техники мы никакой не знали. Возьмём, наше горное дело немцы на столетие, казалось, вперёд ушли, термины горняцкие все от них штрек, квершлаг, штольня, бремсберг и прочее. И вот бьём немчуру! А союзнички перед нами какие кренделя вытанцовывают! Сталин заставил считаться и уважать! Кожевнин снова залпом опрокинул полный стакан водки, Алексей Николаевичу показалось, что он даже и не заметил как выпил, не без опаски Зайцев поднёс стакан ко рту и отхлебнул самую малость. - Конечно, дело идет к победе, - с осторожностью произнёс Алексей Николаевич, - но ведь отступали, полстраны оставили, а собирались воевать на чужой территории... - Ну и что?! Главное результат! Ты, видел, как борцы состязаются? Поочередно один другого давит, а победителем выходит сильнейший. Насчет воевать на чужой территории - это, брат, тоже чёткая, последовательная политика, линия по воспитанию, что же призывать сразу отступать при нападении, города сдавать без боя? Если бы так готовили народ к войне, немцы даже не до Урала дошли бы, а до нас, до Кузбасса. Нет, Сталин - это сила! Он народ знает и ведёт куда надо! Кожевнин потянулся к стакану, но увидел, что он пустой, отставил в сторону. - Всё! Я свою меру выпил. А, ты допивай. Лучше не пей, но если начал пить, допивай до конца, зла на дне не оставляй! Зайцев выпил содержимое большим глотком,вВодка на этот раз показалась помягче, видимо, её надо уметь пить. 194 - Спорить не приходится. Сталин безусловно сила! Правда, суров очень. Сколько пострадало в тридцать седьмом. У меня даже жену забрали, - с горечью заметил Алексей Николаевич. - Что было, то было. У нас в Кузбассе всё руководство шахт, трестов подмели. Я, считай, чуть ли не единственный уцелел. В чём тут дело мне не всё понятно, ему с его высоты видней. Он видел, к примеру, как в Испании республику сдали, выражение “пятая колонна” оттуда пошло. Кожевнин видел, у Зайцева есть что сказать в ответ, но или выпил для себя многовато, а, скорее всего, побаивается откровенности. Они ещё мало знают друг друга, ему же, Кожевнину, терять нечего, он давно известен грубоватой, прямолинейной откровенностью, это стало своего рода защитной позицией, другого могли призвать к порядку самым жёстким образом, но когда Кожевин высказывал близкие к крамоле мысли, собеседники лишь покачивали головой: дескать, что с него возьмешь, это же Кожевнин, с него взятки гладки. За внешне резкими высказываниями явно чувствовалась его беспредельная преданность, непоколебимая вера. - О больших политиках нельзя судить так же, как о шахтном табакотрусе или даже как о нас с тобой, их судят история, весь народ. Судят не по отдельным эпизодам, промахам или удачам, а по итогам, по конечным результатам. Возьми Петра Великого, тоже правитель был жёсткий, его преобразования обильно кровью политы, но помним-то Полтаву, Петербург, нынешний Ленинград, на костях крестьяских стоит. Когда состоится суд истории над Сталиным вспомнят и тридцать седьмой и сорок первый. Но всё негативное в его деятельности с лихвой перекрывается тем, что он воедино собрал Россию! Он, грузин, а для России, для Советского Союза, это одно и то же и до революции именовалось Российской империей, сделал больше, чем какой-либо деятель, русский из русских. Ты вот был у него, видел, слышал его, а пришло ли тебе на ум, хотя бы на мгновение, что это инородец, не русский человек!? Нет! И мне и другим такое и не может прийти, он и сам всегда употребляет выражение - мы, русские... За одно, что он собрал воедино Россию, возвеличил её, что теперь без России никто не смеет и пальцем пошевелить, на него должен молиться всякий россиянин! Алексей Николаевич не мог возражать и не потому, что Кожевнин не давал ему и рта раскрыть, диалог давно перешёл в монолог. Мысли, слова седовласого кузбассовца не отличались от его собственного отношения к Сталину и к его деятельности, он не автоматически кивал головой, а вполне искренне соглашался с рассуждениями Кожевнина. 195 - Ты, видишь, как он ведет войну? При неудачах, постигших нас в сорок первом и сорок втором, любое государство развалилось бы, а его правители сдались бы врагу или разбежались, куда глаза глядят. Он же, как будто сжимал тугую пружину, она, дойдя до определённого предела, так распрямилась, что от заставивших сжимать её, останется лишь мокрое место. Война страшная, изнурительная, с огромными потерями, а страна выходит из неё окрепшей, могущественной! И за это, за эту победу, которая светит уже совершенно ясно, ему - Сталину - будет вечная слава! Конечно, воевал весь народ, есть армия, маршалы, генералы, но без его централизованной воли, умного и терпеливого руководства, именно терпеливого, а не терпимого! - это великая разница - победы не достичь! Зайцеву спорить нет оснований. Он на себе испытал волю и силу сталинского руководства. Вспомнил, как эвакуировал шахты, перебрасывал в Сибирь горняков, как, казалось, при полной невозможности удалось развернуть практически на голом месте добычу угля в объёмах куда больших, чем до войны. Кожевнин, словно в нем бушевал вулкан, продолжал наступать, правда, неизвестно на кого, ведь Зайцев и не помышлял возражать. - Будет много крика-шума, мол, велики жертвы, потери. Да были! Не могли не быть при перетрясках подобного мирового масштаба. Все кто упрекал и упрекают Сталина, сами-то трусы, людишки мелкого пошиба, - с презрением сплюнул Кожевнин, - не способные ни организовать, ни сделать ничего путного, ни пойти на крутые меры и потери ради главного. Можно было обойтись без поистине бесчисленных жертв, защищая Ленинград, Сталинград? А где бы мы были сейчас? И были бы вообще? Кто кричит? Отнюдь не россияне, а те, кто не считают Советский Союз, Россию своей Родиной. Русские же люди ради Родины, России-матушки никогда ничего не жалели, вплоть до живота своего! Кожевнин резко ударил кулаком по столу, как бы усиливая свои слова. Зайцев воспользовался нечаянной паузой и вставил: - Чем же определить высокую результативность действий Сталина, если можно так выразиться? - А тут и гадать нечего, - Кожевнин поднял вверх указатедьный палец, - у Сталина есть чёткая и понятная цель. Цель всемирного масштаба. Он свято, фанатично убеждён в её достижимости, благородстве и неотвратимости, от этой цели он отступать не привык и горе тому, кто его попытается к этому побудить! Ты думаешь он нас собрал у себя, чтобы полюбоваться на наши физиономии? Нет! Он хочет, не просто хочет, жаждет, чтобы мы его поняли, поняли, что он всё продумал, просчитал и убеждён, что именно так должна набирать мощь наша страна. И мы обязаны проникнуться этим же убеждением и помочь ему в достижении им сформулированных целей, задач, отсюда и пятьсот миллионов тонн уголька на-гора ежегодно! И нам с тобой ничего не остаётся, как добыть эти миллионы и положить на алтарь достижения его цели. А это и моя тоже цель и цель, таких как я, как ты, цель всех нас! Кожевнин потянулся к стакану, но обнаружив, что он пуст, снова отставил. Спокойнее, рамышляя вслух, добавил: 196 - Сталин не бабочка однодневка. Таких баюочек можно найти немало дорвался до власти, ухватил для себя, а дальше хоть трава не расти, хоть новый всемирный потоп. Он настоящий политик, просчитывает на годы вперёд, что там на годы, на десятилетия! Война в разгаре, а он страну к мирной жизни готовит, отсюда и те предельные рубежи в экономике, о которых он нам говорил. А, помнишь, постановления о помощи матерям одиночкам, о наградах многодетным матерям, о налоге на холостяков? Целая программа как восполнить людские потери, сделать полнокровными будущие поколения. Вперёд смотреть и только вперёд - в этом весь Сталин! Зайцев взглянул на часы. - Ого, дело уже к полдню, мне ещё в наркомате надо побывать. - Мне тоже там надо быть. Давай, немного всхрапнём, а к вечеру подадимся по начальству. Нарком и его замы только сейчас на работе появляются. Такой здесь режим заведён. 15 197 На войне подходил к концу длинный июньский день. Где-то совсем близко ухали пушки, шумели “Катюши”, трещали пулеметы и автоматы, земля дрожала от взрывов снарядов и бомб. Не было бы счастья да несчастье помогло. Гибель комдива Мигулина стала для Евгении точкой отсчёта новой никогда до этого ею неизведанной любви. Майор Мухаметшин, не менее её потрясённый и смертью комдива и своей неспособностью спасти его удалился от вопрошающих, и, он не исключал, от осуждающих взглядов. Возле неё же продолжал оставаться Вешнин. Евгения и Василий продолжали жить вне войны, видели и слышали только друг друга. У Евгении это свойство, отвлекаться от всего окружающего, врождённое, она иногда так углублялась в свои чувства и мысли, что зови её, кричи во всю мощь голосовых связок она лишь удивится, если скажут давно, мол, кличут её. Его же сегодня она слышала настолько отчетливо, что улавливала звуки учащенно бьющегося сердца, прерывистого, порой замирающего дыхания, он начинал и не договаривал фразы, но она по первым звукам голоса чувствовала, что он хочет сказать. Евгения рассказывала ему то, чего никому после отъезда на фронт не говорила, он узнал о существовании мужа и этот у неё не первый, первого сгубили бандюги, второй предал её, по его доносу перенесла невыносимое. И на фронт отправилась вовсе не добровольно, а сбежала от мужа, от тяжкого прошлого, так страшно с таким грузом оставаться там, где всё это ежесекундно напоминает о себе. - Ты с ним порвала насовсем?.. - спросил Василий. В вопросе звучала робкая надежда, что она совершенно свободна, никому не обязана и вольна поступать по собственному соображению. - Как тебе сказать,.. - Евгения на минуту замолчала, видимо, и самой не ясно какие у неё отношения с оставленным мужем, Алексем Николаевичем Зайцевым, но к нему не вернусь это абсолютно точно. Порвать же с ним не могу, там осталась, моя дочь Фаечка. - Так у вас с ним есть дочь? - почему-то удивился Василий. - Это моя дочь, - твердо, словно он подвергал этот факт сомнению, заявила Евгения, - моя и Толика. Когда меня забрали она осталась с Алексеем, больше никого из близких не было,.он о ней заботился, да так, как никто другой, даже я, не позаботился бы. Он её очень любит, а она его обожает, он ей как родной, и это на самом деле так и есть, кроме него она никого не знала. Полностью поррвать с ним означает порвать с Фаей, что выше моих сил. Убежала сюда не только от него, но получается и от доченьки. 198 Горько, ох как горько ей! Василий её состояние чувствовал так, будто такое случилось с ним самим, её муки-терзания передались ему и эти её боли заставили обнять и прижать Женю к груди. Женя, прильнув к теплой, необъятной груди, с учащенно стучащимся сердцем, мгновенно успокоилась, так бы и не отрывала головы, покоилась бы на родной, надёжной груди. Родной! Вот она вторая её половинка! Наконец-то нашла недостающее ей, и ей по праву, по высшему предназначению принадлежащее! Догадывается ли он, какое открытие снизошло на неё?! Они недолго постояли прижавшись друг к другу. Ещё немного походили по лесочку, озарённому косыми прощальными лучами солнца. Василий взял Евгению за обе руки: - Мне давно пора быть в полку, как бы не потеряли. Всякое могут подумать война ведь... - Да, да,.. - лепетала Женя и думала «неужели сейчас уйдет и навсегда... нет, не хочу!» Он, будто услышал беззвучные вопли в её душе и как-то неподходяще к его фигуре робко и тихо, почти прошептал: - Ты, не будешь возражать, если я завтра к вечеру сюда подъеду? Евгения засветилась - нет, покинет меня не навсегда! Завтра он будет! - Что ты, какое там возражать... Приезжай, буду тебя ждать...очень... Сколько человечество существует столько же и исследует такое явление как любовь. От примитивных побасёнок - способ размножения вида - от затасканного «любовь и голод правят миром» до многотомных трактатов с нагромождением гипотез и теорий о любви. Ничто не получило столь многогранного освещения через высшее проявление человеческого духа, каковыми являются литература и искусство, как отношения мужчины и женщины. При всём разнообразии подходов к исследованию этого явления вывод довольно однозначен, почти банальный - любовь у каждого человека своя и для каждого она особенная, неповторимая, и потому любовь неисчерпаема и никогда до конца непознаваема. О возвышенной, даже об обычной любви Евгения уже не мечтала, подобное не повторяется. Она едва оправилась от контузии, полученной ею в один из несчастных или, напротив, самых удачных для её судьбы дней, до сих пор не уверена - погиб или все-таки остался в живых Николай Иннокентьевич Евстигнеев. Тот, кто избавил её от лагерных мук и унижений и который хотел взять бывшую арестантку в жены, так хотел, что даже шел на должностное преступление. После беспощадной бомбежки штаба армии, куда её в Особый отдел вызвал Николай Иннокентьевич, она, спасённая мальчишкой солдатиком, ни разу не поинтересовалась судьбой бывшего начальника лагеря. Если погиб, то бог ему судья, а, если же остался в живых, то она, затаится как мышка от безжалостной кошки, ни в коем случае не будет напоминать о своём существовании. 199 Легко представить, насколько томителен был следующий день, заполненный до отказа, нет возможности выкроить хотя бы десяток минут передохнуть, перевести дух. Евгения с привычной четкостью и аккуратностью исполняла сестринские обязанности, наступление развивалось, раненые непрерывно прибывали, выздоравливающих срочно отвозили на станцию в эвакогоспиталь, куда уже доходили поезда. Для всех занятых трудами, тяжести неимоверной и страданий беспредельных, день пролетал как одно мгновение, для Евгении же он тянулся бесконечно долго. Она терзалась, и от того, что время двигалось слишком медленно, и от того, что в её сознание не один раз врывалось сомнение, а вдруг он не появится? С глаз долой из сердца вон! Он лишь успокаивал её, страдавшую по погибшему комдиву, всего-навсего выполнял приказ артиллерийского майора сопровождать её с ранеными. Да нет! Он не такой! Не может вдруг забыть её. Тогда ей приходило на ум, а не случилось ли с ним чего-либо, сам говорил - война же идёт. В глубине же души, невзирая на сомнения и муки ожидания, теплилось придёт! Непременно придёт! Когда же, наконец, сестра-хозяйка Рая Лебедева подошла к ней и шепнула, что её ждет вчерашний старший лейтенант, Евгения как назло не могла тотчас же оторваться от только что поступившего раненого, не меньше получаса томился Вешнин в ожидании. Он тоже терзался сомнениями, не напрасно ли примчался в медсанбат? Вчера она лишь по простоте душевной, из деликатности согласилась на его просьбу о встрече. Наконец, Евгения появилась, вытирая на ходу медицинской салфеткой вымытые руки. Стоило им взглянуть друг на друга, как их сомнения показались обоим в какой-то мере недостойными её и его, а в какой-то и смешными. Как они могли не встретиться, если предназначены один другому! Сомнениями и ожиданиями были насыщены, даже перенасыщены, все месяцы их любви, их упоения взаимным предназначением. Муки и ожидания иногда были невыносимо мучительными. Фронтовая любовь тем и отличается, что, внезапно возникнув, также внезапно может и оборваться. Если Евгения в основном привязана к медсанбату, отлучки редки и кратковременны, то Вешнину приходилось выполнять боевые задания, связанные с длительным отсутствием в штабе полка. Правда, у него же было профессиональное удобство, как связист он и при отлучках мог дать знать о себе. При длительных перерывах в свиданиях Евгения так изматывалась, что почти лишалась сил. Между тем, война приближалась к завершению. Берлинская операция, в ней участвовал корпус, в котором служили Евгения и Василий, должна была поставить последнюю точку в страшной летописи человеческих трагедий. На это надеялось большинство воевавших и изнемогавших от ее тяжести в тылу. 16 Дома Фаю с нетерпением ждала тётя Настя, вид у неё расстроенный, в глазах слёзы. 200 - Где же так долго пропадала? - Напустилась она, - разве можно болезной столько часов проводить на улице, осложнение еще заработаешь. Фая уже позабыла о своей «болезни», не оправдываясь, откровенно поведала о посещении Муратовых: - У Муратовых была. Письмо про мамочку прочла. Она могла погибнуть от бомбёжки. Их Александр ее из-под завала откопал и в госпиталь отвёз. - Ох, боже мой, страсти-то какие! - всплеснула руками тётя Настя, - так и сгинуть недолго, сиротинушкой тебя оставить. Какой только леший понес её на окаянную войну!? Не бабское это дело. Слёзы у тёти Насти капля за каплей катились по гладким и румяным щекам. Плач домработницы нарастал, перешёл в громкие рыдания и причитания: - Фаечка, моя лапушка, горе-то какое, беда-то какая свалилась! Фая не могла уразуметь, отчего тётя Настя так убивается, ведь с мамочкой всё обошлось благополучно: - Тётя Настя, не надо так расстраиваться? Я же говорю, что её Саня Муратов спас, уже поправилась. - Горе-то, горюшко какое навалилось! - рыдала тётя Настя, - как это можно пережить? Он же у нас один-единственный... Фая недоумевала, о ком так страдает её наставница. - Мама теперь совсем одинёшенька, сквозь слёзы говорила она, - похоронку получила и сразу хлопнулась на пол, едва-едва отходили. - На кого похоронку?.. - Как на кого? На брата моего, на Пашу, ему сердечному ещё девятнадцать не исполнилось. Как же теперь жить-то!? - рыдала несчастная женщина. Фая в испуге, не стало бы тёте Насте совсем плохо, принялась её утешать, гладила голову, спину, сжимала своими маленькими ручками её шершавые руки. Сама тоже зарыдала, из глаз полились слёзы, обычная для военных лет сцена плачущие женщины. Привыкнуть к беде, к горю может лишь дегенерат, извращенец, для нормальных людей это всегда страшное испытание, тяжкое, порой навеки запоминающееся, но все-таки временное, ибо остается надежда, не ясная, часто не имеющая никаких оснований, но без надежды, явной или подспудной, человеческая жизнь немыслима. Сквозь плач и рыдания женщины услышали настойчивый зов телефонного звонка. - Опять хлыщ длинноволосый Вадька названивает, надоел своим трезвоном, проворчала тётя Настя. Фая с неохотой подошла к телефону, действительно, в трубке раздался обрадованный голос Вадика. Фая многозначительно взглянула на домработницу. - Ухожу, ухожу, - попятилась из комнаты тётя Настя, - давно бы отшила прощелыгу, дурит несмышленую девчонку, ухажёр нашелся... Вадим жаловался на тётю Настю, целый день названивает, а та не хочет позвать Фаю, якобы, куда-то ушла. Фая попыталась объясниться, рассказать как обстояло на самом деле, но Вадим не стал слушать, у него срочное и важное предложение: 201 - Завтра восьмое марта, женский праздник, не забыла? - Вадим говорил торопливо, вроде, боялся, что Фая не дослушает, - намечается отпраздновать его как положено. - Какой праздник, война же? - Фая не слишком расположена к разговору, пытается прервать Вадика. - При чём здесь война? Она может тянуться вечно, а нам вздыхать да плакать? Вадик подыскивал убедительные слова, выражения, чтобы убедить Фаю, для него показаться на людях с такой милашкой, дочкой управляющего своеобразный шик. - Война, сама понимаешь, скоро закончится, пора привыкать к мирной жизни. На фронте никому хуже не станет, если мы на трудовом фронте сделаем приятное девушкам, они тоже куют победу, не будем их обижать. Девчата из парикмахерской устраивают вечеринку, придут ребята из техникума, еще кого-то пригласили. Я сказал - без тебя не приду! Не сразу до сознания Фаи дошел смысл Вадиковых уговоров, её мысли всё еще сосредоточены на мамочке и на брате Настасьи Павловны. Мамочка могла погибнуть и она никогда бы её не увидела! Вадик говорит о празднике, о девчатах. О каких девчатах?.. Вадик и девчата?.. Возникло ощущение опасности, какой она не представляла, но оно все больше заполняло, если не ум, то уж чувства это точно. Вадим мальчик видный, девочки к нему липнут, терять его не намерена, с кем же в кино пойти и вообще, почему он будет там с девчатами, а она нюни разводить?! Нет, этому не бывать! Фая до сих пор не ощущала состояния человека, именуемого ревностью, но инстинкт собственницы, отстаивавшей своего самца, в ней просыпался. - Где будет эта вечеринка? - осторожно спросила она. - В парикмахерской на Большой улице, там других нет, - Вадик почувствовал сдвиг в настроении Фаи, ещё немного и она согласится, - пойдём посмотрим, не понравится смотаемся. Я за тобой зайду в шесть часов, только бы твоя надсмотрщица не застопорила. - Хорошо, заходи, - ответила Фая и положила трубку. Как оставлять в таком состоянии тётю Настю? Домработница, утирая передником слезы, подошла к Фае. - Звонила Алексею Николаевичу, хотела рассказать ему о Паше. Но сказали, уехал на шахту «Забитуй», вернётся к утру. Тебе придётся ночевать одной, я поеду к маме - Пашу-то надо помянуть по-людски. 17 202 Ожидание стало постоянным непрерывающимся состоянием Евгении Станкевич. Перевязывала ли раненого, находилась ли в операционной, отдыхала ли на жесткой койке в палатке медсестер она всегда в ожидании продолжения свалившегося на неё счастья в образе Василия Вешнина. Их встречи никогда не назначались, ни он, ни она не могли назвать ни точного часа нового свидания, ни места встречи. Войска непрерывно в движении, наступление нашей армии перешло в повсеместное и безостановочное, вслед за продвигавшимися на запад ротами и батареями передвигались штабы, службы боепитания, ПФС продовольственно-фуражного снабжения и, конечно, медсанбаты и полевые госпитали. Как связист, Вешнин располагал возможностями в любое время выяснить, где в данный момент расположился медсанбат, телефонисток медсанбата он знал по имени, по голосу, а некоторых и в лицо. Сёстры и молоденькие врачи откровенно завидовали необыкновенно расцветшей Евгении, счастье так и светилось в её глазах. - Женя, какая Вы счастливая! - восторгалась недавно прибывшая в медсанбат после окончания мединститута Люда Горлина, - встретить такую любовь! И на фронте! Хотя бы разочек испытать подобное и умирать можно! - Ты уж лучше поживи, - смеялась в ответ гордая и радостная Евгения, смеялась не без самодовольства от вызываемой зависти, - не торопись ни со смертью, ни с любовью. Не лезь под всякого, а то растрясёшь любовь по мелочам. Настоящая любовь бывает лишь один раз, остальное как семечки - сколько не щелкай, а не насытишься! Даже при вечном ожидании встречи она может оказаться совершенно неожиданной. В этот апрельский день раненых поступало значительно меньше, чем в предыдущие дни, занятий же врачам и сестрам все равно невпроворот, помимо повседневного ухода за больными, эвакуации в госпитали, выписки выздоравливающих, с большой тщательностью готовились к ожидаемому большому наплыву раненых. Никто не объявлял о дате начала наступления на Берлин и в медсанбате вслух об этом не говорили, но все прекрасно понимали наступление созрело, всё для него подготовлено, в войсках создался настрой, требующий действия и оно вот-вот начнётся. В медсанбате освобождали койки, устанавливали дополнительные, проверяли наличие инструментария и медикаментов, завозили недостающее, электрики возились с освещением, хозяйственники накапливали продукты, водители готовили автомашины для ускоренного передвижения за наступающими частями. В суетливой, изматывающей толкотне Евгения настолько устала, что как только выдалась свободная минута, она добралась до койки и мгновенно уснула. Проснулась от толчков. - Женя, проснись! - перед ней стояла Рая Лебедева, самая близкая ей из медсанбатовских, - смотри, кто приехал! 203 Сна как не бывало, объяснять кто и зачем приехал не требовалось, исчезла свалившая её усталость, соскочила с койки и бегом за дверь. Василий распростёр руки и, как чудесную птицу, подхватил подлетевшую Женю, крепко прижал к себе и впился в её губы, не обращая внимания на оказавшихся поблизости сестёр, врачей и ходячих раненых. Медсанбат располагался на опушке небольшого аккуратного, по-немецки прибранного лесочка. На деревьях проклюнулись первые листочки, издавая сладко-терпкий аромат, от земли, прогретой за день, источалось возбуждающее испарение. Куда податься влюбленным на фронте, да еще на участке, перенасыщенном военным населением, как не в укромный лесок. Конечно, ухоженный немецкий лес не то, что русский, особенно буреломный сибирский, он не укроет, не утаит, на помощь пришла тёмная апрельская ночь, наступавшая довольно рано. Страстная жадность Василия, не менее сильная отзывчивость Евгении превращали каждую их встречу в незабываемую и яркую, всё, что накапливалось в их душах и телах за долгие дни томительных ожиданий, изливалось могучим потоком любви, обожания, наслаждений, они много говорили, стремились не только познать, но и многое узнать друг о друге. Евгения нисколько не удивилась, услышав, что Василий женат. Он с юмором и с горьковатым сожалением рассказал о неожиданном и довольно глупом превращении свободного, независимого и в чём-то легкомысленного паренька в мужа. - Людмила моя однокурсница, - отвечал он на любопытство Евгении, - оба мы москвичи. Так получалось, что часто оказывались вместе: ходили в кино, танцевали в институтском клубе. Однажды, как обычно, балагуря, в полушутку разыгрывая друг друга, проходили мимо ЗАГСа, продолжая подшучивать, я предложил: «Зайдём, зарегистрируемся», она, смеясь, подхватила: «Ну что ж, зайдём». Процедура регистрации более чем простая, показали паспорта, о нас записали в толстую книгу, указали, где надо расписаться, посмеиваясь, играючи, расписались. Когда вышли из ЗАГСа, пригласил её зайти в кафе – «Обмыть, говорю, надо», она не возражала. Кафе было дешёвое, можно приятно посидеть и на студенческую стипендию, выпили какого-то сладкого вина, закусили. Вдруг она расплакалась, «В чём дело?» - спрашиваю, «Так я же замуж вышла», запричитала Люда. С трудом успокоил её, пошли к моей маме, всё рассказали. Что у неё было на душе, мама ничем не выдала, показала на мою кровать и сказала: «Ну, что ж, живите, совет вам да любовь, как говорили раньше». Учились мы в институте связи, я получил направление в научно-исследовательский институт, Людмила - на завод. Вскоре началась война и я попал в противотанковый дивизион командиром взвода связи. Потом из наших бригад сформировали дивизию, в ней - артполк и меня сделали начальником связи полка. Евгения слушала, навострив уши, ни разу не перебила, лишь в конце спросила: - Она тебе пишет? 204 - Поначалу писала, - до обидного равнодушно ответил Василий, - затем письма перестали приходить. Может, потому, что я отвечал не аккуратно, возможно чтолибо другое. Мама в своих письмах о ней ни слова, она у меня деликатная. Я маме о тебе написал. Она ответила: ты, мол, уже взрослый, офицер, не мне тебя учить, как жить, как поступать. Евгения слушает, а у самой мысли одна с другой сталкиваются, почти слепо верит в откровенную искренность Василия, но коварное сомнение пробивается через эту веру - не получится ли у него и с ней подобие скороспелой женитьбы с Людмилой. Василий ведёт повествование о прошедшем, а сам примеривается наперёд, очень уж притягивает его Женя, он чувствует, да что там чувствует видит, она перед ним будто на ладони, мягкая, ласковая, но чуть ощутит неладное, не так сказанное слово, неуместный жест и даже вздох, тотчас же насторожится, словно боится чего-то спугнуть или напротив страшится оказаться навязчивой обузой. Её задела реакция его матери на её появление в жизни Василия, казавшаяся ей равнодушной. По долгому молчанию он понял, что Евгения не хотела бы очутиться в роли Людмилы, в положении проходной женщины сегодня появилась, завтра исчезла и вся недолга. Почувствовал себя виноватым перед нею и не мог оставлять её в неведении, решил вполне определенно показать, что её и его судьбы неразрывны. - Война скоро закончится, - у Василия голос прерывается и это совсем не подходит к такому сильному и доброму человеку, - возьмём Берлин сразу же подам заявление с просьбой о разрешении жениться, такой порядок установлен для офицеров, - робкой оправдывающейся улыбкой сопровождает последнюю фразу, мы с тобой распишемся, уже по-настоящему и навсегда. Это я тебе твёрдо говорю! Без тебя своей жизни не представляю! Или ты против? - Что ты! - Женя прижалась к его крепкому телу. Потом снова разговоры, прерванные обоюдным порывом, ответы и вопросы, как разведка боем, раскрывали их сущность для каждого из них. Со стороны в этих разговорах ничего особенного не увидеть, она больше говорила о дочери, как суматошное время их постоянно разводит, пора дочери и матери, наконец, соединиться. Неожиданно и как-то невпопад спросила: - Вася, ты такой умный, знающий, институт окончил, давно воюешь, а почему до сих пор только старший лейтенант? Вот у нас начальник медсанбата майор майор Мухаметшин. - А тебе генерал требуется? - рассмеялся Вешнин, в коротком смешке едва уловимая горечь. - Генерал, конечно, не так уж плохо, хотя генералы всякие бывают, - тоже рассмеялась Женя и закрыла его рот поцелуем, - мне ты такой, какой есть и нужен. Без званий и чинов. Ты мой, ты мне предназначен! Помнишь - браки свершаются в небесах. Наш брак давно предрешён, только вот встреча наша очень уж задержалась, долго плутали по извилистым тропкам-дорожкам, да по ухабам и ямам. Страшно подумать, могли и разминуться! Но теперь ты от меня не вырвешься! 205 - А я и не пытаюсь вырываться, - Василий так мягко и сильно притянул её к себе, будто кто-то действительно стремится её отнять, вырвать у него. Послышались автомобильные гудки, три раза. Это был условленный сигнал, его подавала Рая Лебедева. Свидание и на этот раз оказалось коротким. Но когда же у истинно влюбленных свидание не бывает коротким! 18 Как не сочувствовала Фая тёте Насте, намерение домработницы поехать к матери оказалось кстати, она может отправляться на вечеринку без каких-либо помех. Парикмахерская, громко именуемая Центральной, располагалась в большом старом здании на главной улице города, эту улицу много раз переименовывали, а жители города, не обращая внимания на смену официальных названий, во все времена и при всех властях именовали ее Большой. Здание было именно старым, а не старинным, вокруг него наросло много того, что историки и археологи определяют понятием «культурный слой», не измерено сколько было наслоений культуры и какой, но окна и ставни давно находились на уровне земли, а проложенные по Большой улице деревянные тротуары заметно возвышались над нижней частью оконных рам. При неказистости наружного вида, внутри парикмахерская выглядела довольно помпезно, зал, где размещалось восемь кресел с высокими спинками, был внушительных размеров по длине и ширине, высота, однако, не соответствовала этим пространственным измерениям и большие зеркала в массивных рамах, их здесь называли трюмо, конусными верхами упирались в потолок. Обилие зеркал создавало представление о внушительности зала и придавало ему если не торжественность, то некое ощущение парадной нарядности. Фая, которую Вадим Махновский заманил в этот зал, не без робости разглядывала зеркальный блеск зала. В центре стены, напротив двери с большого портрета в громоздкой раме на всех входящих, прищурмвшись, взирал Сталин, на другой стене прикреплен кнопками известный всей стране плакат «Родина-мать зовет», как бы напоминавший, что где-то далеко отсюда миллионам мужчин и немалому числу женщин совсем не до Международного женского дня. Оправданием сборищу мало служил протянувшийся во всю стену плакат «Слава советским женщинам-труженницам!». Парикмахерские кресла, чтобы расширить пространство для столов, насколько возможно придвинуты к стенам. За столами шумный говор, звяканье стаканов, гнутых алюминиевых вилок, в столовых ножах собравшаяся публика потребности не испытывала. Опоздавшие к началу торжества Вадим и Фая стеснительно выглядывали, где пристроиться, на помощь поспешила женщина лет под тридцать, повидимому, одна из распорядительниц, увела Вадима за дверь, прикрытую матерчатой портьерой. Он вернулся оттуда с двумя жесткими стульями, распорядительница “уплотнила” восседавших гостей и усадила опоздавших. 206 Пробежал шепоток – «дочь управляющего трестом», женщины, их большинство, тотчас определили, что девушка, точнее девочка, им далеко не ровня - изящная, с тонкими и нежными чертами лица, она не вписывалась в их среду, как стройная и гибкая газель не смогла бы очутиться в разномастном стаде коров. Не вполне ещё оформившуюся её фигурку облегало неброское платье стального оттенка, оно подчеркивало наметившийся девичий бюст, осиную талию и нераздавшиеся бедра, на стройных, но не тонких как спички, ножках тонкие телесного цвета чулки, невысокий рост девушки компенсировали высокие каблуки серых туфелек. Вполне понятно, столь прелестную девушку не может сопровождать простоватый увалень. Вадима, которого в разноликой компании многие знали, предстал под стать очаровательной партнерше - достаточно рослый, с немного проглядывавшей интеллигентностью, с вызывающей самоуверенностью, переходящей в самодовольство. Женщины, конечно, оценили на молодом человеке добротный костюм, яркий галстук. За длинным столом человек тридцать, немногочисленную мужскую часть составляли в основном ученики старших классов и техникумовцы, чуть постарше Фаи, трое из “шахтной интеллигенции” - Виталий Белин, главный энергетик шахты № 5-бис; Гошка Киппер, инженер из треста; третий непонятно кто такой, но по отношению к нему женщин можно было предположить, что он из торговых работников или из снабженцев. Женщины в основном не первой молодости, солдатки, заждавшиеся, истомившиеся без мужей, добывавших победу, трое уже вдовы, недавно отошедшие от шокового состояния после получения казенных конвертов. Молодые бабёнки в самой поре женской спелости,.которая в полном соответствии с законами природы, толкает их на подобные вечеринки с надеждой, хотя бы немножко, пусть на мгновение, но вновь вкусить так часто вспоминаемое в долгие одинокие ночи наслаждение, почувствовать себя женщиной, обыкновенной бабой, а не женщиной-труженницей, славить которую призывал плакат на стене, война украла у них самый яркий, самый плодотворный период женской жизни. В душном зале терялись немногие девушки, ровесницы Фаи или чуть постарше, одних в неподходящую для них по возрасту и девичей чистоте компанию привел случай, любопытство, другие же инстинктивно пугались как бы из-за проклинаемой ими войны не пробежало бесплодно их время и не пришлось бы всю жизнь терпеть безликое и унизительное обращение: «девушка»… Фая не могла отвести глаз от женщины, как-то не совсем подходящей для этой компании. Ярко-чёрные с блеском волосы и горящие энергией глаза несколько приглушались мягкими, овальными чертами лица. Она преподавала в техникуме, но в этой уставленной массивными зеркалами комнате, стремилась подладиться под здешнюю публику, стать своею, веселилась вынуждено, а потому преувеличенно раскованно, почти до бесстыдства, выступала хищницей, выискивающей жертву. Она нахально прижималась к совсем юному пареньку, не исключено, из тех, кого учила, в этот вечер он для неё мужчина, только мужчина без понятий возраста, положения и прочих качеств, отличающих людей мужского пола друг от друга. 207 В граненые стаканы налили водку, пить из рюмок мысли не возникало. Мужчина, который из торговцев или снабженцев, попытался произнести тост, но из-за общего шума гвалта сделать это не удалось, и он лишь прокричал: - С праздником, дорогие наши женщины! За вас, любимые и желанные! Любимые и желанные откликнулись на не слишком оригинальный призыв и потянулись к соседям, чтобы чокнуться, наиболее чувствительные - с поцелуями. Водка, точней разбавленный спирт, отвратительного качества с дурным запахом, считалась хорошей от того, что здорово пробирала, быстро приносила опьянение, а с ним раскованность, смелость. - Смотрите, смотрите, - кричала Зоя Коряцкая, немолодая женщина с развязными и вызывающими манерами, - мужчины-то нажимают на яйца! Из довольно скудной закуски самой представительной были яйца, в городе редко кто не держал кур, все рассмеялись, услышав пикантный намёк Зои. Распорядительница, что усаживала за стол Фаю и Вадима, объявила: - Перерыв на танцы! Кавалеры, приглашайте дам! Кавалеров на всех дам недоставало, женщины постарше и менее привлекательные составили однополые пары. Танцевальная музыка представлена баяном, на котором самозабвенно играл одноногий паренек, опытные организаторы строго регулировали преподношение ему спиртного, справедливо опасаясь оставить танцующих без музыкального сопровождения. Танцы разнообразием не отличались, сначала танцевали спокойный и, как всеми признавалось, “красивый” вальс, за ним непременно следовал быстрый фокстрот, замыкал неизменную триаду плавный и томный выходец из знойной Южной Америки - танго. Фая и Вадим с радостью покинули начинавший надоедать праздничный стол, танцоры и не танцующие, таких оказалось добрая половина, кто с искренним интересом, а некоторые и с завистливыми чувствами, рассматривали прелестную девушку и элегантного молодого человека. Вадим выступал вальяжно, неторопливо, немного откинувшись назад, будто хотел лучше рассмотреть девушку, отдавшуюся обаянию музыки и партнера, Фая, полностью отдавшись воле Вадима, неплохого танцора, будто плыла, изящно кружилась в такт музыке и, повинуясь легким усилиям рук и ног партнера, наслаждалась и музыкой, и гибкостью собственного тела, и мягкими, но цепкими объятиями партнера, в фокстроте, весело и задорно ускоряла движение ног, чуть-чуть касаясь пола, наконец, наступил черед танго, полузакрыв глаза, она словно на тихих качелях то поднималась, то опускалась. Поглощенные танцем и друг другом Фая и Вадим не заметили приблизившуюся к ним Зою Коряцкую, она, подняв руки, захлопала в ладоши: - Девушка, нельзя же быть такой собственницей! Видите, мужчины в дефиците! Захватила, как помещица какая-нибудь, интересного молодого человека и не выпускает его, будто приковала к себе. Дайте же и другим попользоваться. 208 Зоя плечом бесцеремонно оттеснила Фаю, взяла руку Вадима, обхватила его талию и повела опешившего от стремительного наскока кавалера, Фая, опустив голову, едва сдерживая рыдания, поплелась к столу, ей казалось, что все видели, как её отшили, и теперь злорадствуют над ней. Обида, конечно, на Вадика душила её, кроме него злиться не на кого, все вокруг незнакомые, шумные, скучные и наглые, как эта мегера, вырвавшая у неё Вадика. А он хорош! Затащил её сюда, умудрился опоздать - она уже забыла, что виновата в опоздании сама - посадили на край стола, вокруг задержать глаз не на ком, потащил танцевать - опять не вспомнила с каким наслаждением кружилась в танце - позволил наглой бабище оттолкнуть - её, Фаю! - заставил изнывать от одиночества посреди пьяного гвалта. Зоя недолго тешилась Вадиком, совершив пару кругов, она почти оттолкнула его от себя и направилась к Фае, расселась на стуле и с усмешкой уставилась на оторопевшую от её натиска девочку. - Страдаешь, милашка, - в голосе даже нотки сочувствия, - небось, проклинаешь меня. Дескать, какая-то старушенция покусилась на твоего красавца, не переживай, больно-то мне нужен твой сосунок. Презрительная гримаса исказила и без того довольно затасканное лицо Зои. Когда-то она, видать, выглядела вполне прилично и нравилась мужчинам, сейчас же с обвислой пьяной физиономией, неопрятно одетая, была отвратительна. Фая опасалась как бы Зоя не заметила её брезгливости, попыталась отодвинуться от неё, но та прикрикнула на неё: - Сиди и не ёрзай, как на горячих углях, и зенки не отводи! Не укушу и не съем. Зачем тебя затащил сюда этот слизняк!? Зоя кивнула в сторону Вадима, который топтался неподалеку и не знал, как ему быть, место за столом занято, а усаживаться вдали от Фаи ему не хотелось. - Ты здесь смотришься как тёлочка-двухлетка в стаде голодных коров, того и гляди забодают. Зоя говорила, а глазами как бы ощупывала девушку, оценивала её действительно ли чистая и непорочная, как кажется? Фае неуютно от нахального обшаривания, но не могла сообразить как воспрепятствовать этому - или встать и уйти или возмутиться? И боялась даже пошевелиться. - Смотришь на меня какая, мол, дурная, - криво усмехнулась Зоя, - а я, между прочим, не так уж давно не хуже тебя была, не из последнего десятка, и за мной ухлёстывали парни почище твоего сморчка. Да и Коля у меня - это муж мой - не из худших был, не одна девчонка засматривалась на него. Что-то на подобие грустной улыбки мелькнуло на лице Зои и мгновенно, как остывающий уголёк, погасло. 209 - Нет, не недавно, давным-давнёхонько это было. Красота моя и молодость гаснуть, увядать стали как Колю в армию забрали, забрали, не спрашивая ни меня, ни его. Не люди мы, вроде, всучили повестку и конец человеку, точка жирная нашему счастью! В тридцать девятом его забрали. Покатилась жизнь под откос! Ну, что за времечко выпало на нашу долю?! Война за войной! Никакого передыху. Колю, мужа моего, молодого, перспективного инженера, призвали ещё в 1939 году, и выпали ему «все бои и войны». Участвовал в защите единокровных братьев в западных районах Украины и Белоруссии, а там - то Халхин-Гол, то Финская, а теперь вот четвертый год Отечественная... А ещё перемалывали, корёжили коллективизация, высылки, переселения, бараки, дороги непролазные, эшелонные муки. А проклятущий тридцать седьмой! У меня отец исчез, у Коли двое дядьёв. Худого-то выпадало охапками, хорошего-то и щепоть не наберётся. Зоя не говорила, а причитала, словно на похоронах или поминках, рукавом не свежей серой блузки смахивала слезинки, выкатывавшиеся из ее выцветших глаз. - А жена его, то есть я, все эти годы одна без любви и ласки, страдаю, как рыба, выброшенная на песок, и увядаю с каждым днем, как цветок при засухе. Ждала мужа терпеливо, даже кичилась своей верностью, наконец, до того устала от бесконечного ожидания, от опостылевшего терпения, от удушающей кичливости, от сковывающей верности, что готова пасть перед любым, лишь бы имел признаки мужчины. И пошло-поехало - стала навязчивой, прилипчивой, бесстыдной до отвращения, словно в дерьме вываленная!. Лицо Зои, рыхлое, истасканное, искажали неприятные гримасы, Фае противна до брезгливости эта ещё довольно молодая, опустившаяся женщина, но, слушая её резкие, почти отчаянные слова, она проникалась жалостью, слёзы, против её воли навёртывались на глаза. Зоя рукавом что-то смахнула со своих дряблеющих щёк, мотнула подбородком в сторону Вадима, стоявшего возле стены в окружении девчонок-школьниц, каким-то непутевым ветром занесённых в парикмахерскую. - Твой-то, почему не на фронте? Вон, какая дубинушка вымахал, папашиными стараньями, видать, бронью прикрылся? Гнида! Фая ни разу до этого момента не задумывалась, почему же Вадик не в армии? Все его сверстники по фронтам мыкаются, на некоторых уже похоронки пришли. Она хорошо осведомлена, что Вадим Махновский после окончания десятилетки поступил в институт, эвакуированный в сибирский город. у неё не возникало никаких сомнений в правомерности его стремления получить высшее образованиеБ н не перегруженной мыслями головке девочки война и Вадик как-то не совмещались. Для неё подлинное открытие, что кто-то, как эта неприятная, странная женщина, может возмущаться пребыванием молодого, здорового юноши в тылу. Зоя, бросив презрительный взгляд в сторону выламывавшегося перед девочками-несмышленышами Вадима, вновь обратилась к Фае: 210 - Зря ты по таким клоакам таскаешься, до добра они ещё никого не доводили. Я ведь не в одну секунду беспутной шалавой стала. Года три держалась, терпела, ждала своего Колю, война же всё идёт и идёт и конца её не видно. Уговорила однажды подружка, впрочем, не подружка, а соседка, тоже безмужняя терпеливица, посетить такую же компанию. Я ещё не была общипанной курицей, было на что посмотреть. Ну и высмотрел один забронированный техник из ВГСЧ. Много ли понадобилось, чтобы сломить изголодавшуюся до изнеможения женщину, умаслить былую гордость, и забыть бабью верность. Только один раз попробуй, а там закрутилось-завертелось, до сих пор не остановлюсь, попивать стала, водка-то совесть приглушает, всё доступным становится, смелости хоть отбавляй. Вот и докатилась. - Зоя смахнула слезу-горошину, - говорят, война всё спишет. Не слушай эту чушь! Война все наши грехи, всякую пакость только ярче высвечивает, наружу выводит. Она истинное лицо обнажает, всякую мишуру, помаду и пудру сдует, как пыль ветром! Итог всех удовольствий минутных, пьяных оргий хуже некуда! Никому теперь не нужна, отворачиваются от меня, словно я в парше вся. Рада сопляку техникумовскому или калеке. Беги отсюда, пока на скользкую дорожку не вышла! Зоя порывисто притянула Фаю к себе, крепко обняла. Так же рывком схватила Фаин нетронутый стакан с водкой и одним глотком влила в себя. Вадим, как только Зоя освободила его место, вернулся к Фае, ошеломлённой Зоиной исповедью. Танцы продолжались недолго, все вновь заняли места за столом. Перебивая друг друга, женщины призывали выпить, напоминая праздничный повод для вечеринки. Бестолковый гвалт нарастал, многие из стадии «козлика» легкой иронии и весёлости, перешли в стадию «сатира» - угрюмых придирок, злых подковырок, кое-где назревал скандал. Проявлявший начальственную строптивость то ли торговец то ли снабженец приставал к военному, вырвавшемуся из госпиталя, обосновавшегося в городе с началом войны, выздоравливающего лейтенанта привела, видимо, девушка, работавшая в госпитале. - Вы, товарищ лейтенант, - грозил торговец указательным пальцем, поспокойнее ведите себя. Не великое геройство драпать от границы до самой Москвы. «Мы защищали, мы защищали», - передразнивал он, - знаем как защищали! У нас полгорода защищенных вами, куда не плюнь, сплошь эвакуированные. Так их уберегли, что едва ноги от немцев унесли!.. Военный побагровел, вскочил со стула, схватил вилку и тычет ею в сторону обидчика. - Заткнись ты, падаль тыловая! Окопался за пять тысяч километров от передовой! Липовой броней прикрылся, а у самого морда кирпича просит, наел харю на ворованных харчах! С бабами воюешь! У них мужики жизни не жалеют, фашистам глотки вырывают, а ты их тут развращаешь, гад ползучий! Девчоноксоплячек заманиваешь, у молодых солдат, что за Родину бьются, невест портишь, объедки им оставляешь! 211 Лейтенант с яростью бросил вилку на тарелку, та со звоном треснула, выхватил из кармана небольшой пистолет, как он у него очутился, похоже, только он один знал, направил дуло на обидчика. Тот вмиг побелел, затрясся, словно его лихорадка била, брякнулся на колени: - Прости, ради бога!.. Я пошутил... Не так меня понял... Раздался выстрел. Кто-то успел ударить лейтенанта под локоть, пуля, не задев трясущегося снабженца, попала в массивное зеркало, наделав много звона, оставила в зеркале большое отверстие, от которого лучами разошлись трещины. В зале рёв, пронзительный визг женщин. 19 В полку события развивались совершенно предсказуемо в соответстви со складывавшейся на фронте обстановкой, появился как всегда свежий и энергичный капитан Расторгуев и приказал ординарцу, разведчикам и радисту быть готовыми к выступлению на НП - наблюдательный пункт - стрелкового полка. Майор Чекулаев, командир стрелкового полка, прислал связного для сопровождения командира артполка. Капитан Расторгуев считал нецелесообразным терять время на передвижение ночью вслепую, он словно сгусток сконцентрированной в нем энергии, не может найти ей выхода и всё время в движении, в действии. Александр привык, что предыдущие передвижения командиров происходили молча, лишь изредко отдавались негромкие команды, Расторгуев же, сгусток клокочущей энергии, молчать не мог. - Сейчас на батареях, в ротах читают Обращение Военного совета Первого Белорусского фронта, маршала Советского Союза Жукова и генерала Телегина. В нем объявляется, что сегодня начинается наступление на Берлин, вы, поймите - на Берлин! - восклицал капитан, как будто кто-то в этом сомневался,- в Обращении знаменательно напоминается, я запомнил слово в слово: “...в ХУ111 веке у Кунерсдорфа русские богатыри разбили пруссаков и взяли Берлин. Мы не хуже наших предков и прославим наше советское оружие - смелей на врага!” Как здорово, замечательно сказано! Мы, советские, снова здесь же! Шагайте быстрее, ребята, скоро начнётся артподготовка! Подгонять солдат не было нужды, необычное возбуждение Расторгуева передавалось и им. Через несколько минут втиснулись в блиндаж Чекулаева, врытый в траншеи передовой линии. Траншеи забиты бойцами, изготовившимися к предстоящей атаке. Капитан Расторгуев прильнул к окулярам стереотрубы, установленной расторопными разведчиками. - Муратов, - позвал капитан, - вызывай на связь командиров дивизионов. Эфир на удивление спокоен, не слышно шума, треска, атмосферных помех, рации ещё не работали, видимо, чтобы не настораживать немцев повышенной активностью. Разговор командира артполка с дивизионами был кратким и четким: - Огонь открывать вслед за залпами “Катюш” по заранее пристреленным целям. Как тронутся танки немедленно сниматься с позиций и вперёд! В дальнейшем огонь вести по указаниям пехотных командиров! 212 Александр не удержался от любопытства, выскочил из блиндажа, оставив у рации напарника Костина. Стояла непривычная и от того, казалось, звенящая тишина, лишь изредка раздавался тревожный посвист всполошенных в предрассветной мгле птиц, затишье перед бурей, вспомнилось Александру. Взглянул на фосфоресцирующий циферблат трофейных часов, почти пять часов утра шестнадцатого апреля одна тысяча девятьсот сорок пятого года. Едва успела большая стрелка сравнялась с цифрой двенадцать, как напряженную тишину прорезали урчащие залпы “Катюш”, небо расштриховали оранжевые полосы следов ракетных снарядов, дружный залп сотен “Катюш” - это сигнал, боевая запевка артиллерийской подготовки. Следом заухали мощные минометы, загрохотали пушки и гаубицы, над немецкими траншеями вздымалась огненная стена мощных взрывов. Из блиндажей, траншей, укрытий высыпали и стояли в полный рост множество офицеров и солдат, не занятых управлением огнем и стрельбой, они завороженно наблюдали феерическую картину артиллерийского наступления. Вдруг поле боя залило ярким светом, это направили мощные световые потоки тысячи прожекторов, расположенных вдоль передовой линии. - Ого-го! - воскликнул стоявший рядом с Александром разведчик Горшков, немцев совсем ослепили, не смогут прицельно стрелять, им не видно атакующих. - Не только немцев ослепили, нашим нельзя оглядываться, - только вперёд!смотри, какой резкий свет! - уточнил Александр. Такого грандиозного начала наступления он ни разу не видел. Над головами сотен тысяч солдат и офицеров, приготовившихся на Одерском плацдарме к последнему решительному рывку, с огромной скоростью проносился мощный поток металлического града, он обрушивался на сотни тысяч защитников этого плацдарма - немцев. На мгновение Александр Муратов представил, что этот смертоносный поток развернулся в обратную сторону и навалился бы на них советских солдат и офицеров, ужаснулся от самой этой мысли. Такое предположение мелькнуло лишь на мгновение, его вытеснило ощущение необыкновенного торжества, необычной силы и даже самодовольства. Вы немцы - беспощадной, бессмысленной силой навалились на нас, свирепо пытались сломать нас, заставить униженно прогибаться перед вашим высокомерием, мы же - русские, советские - выстояли, выдержали вашу силу и ваше высокомерие, отстояли свою честь, российское достоинство, русскую, советскую гордость и пришли к вам с неотвратимым возмездием, заставили вас вгрызаться в собственную землю и дрожать от ужаса громоносного потока, перед неумолимой гибелью. Кто он, Александр Муратов, в этой огромной массе людей среди неудержимого разгула огненной, металлической стихии? Мельчайшая песчинка, даже молекула, которая в любой миг может исчезнуть в буйстве смертоносной стихии и он же СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК - воплощение всесокрушающей силы, неотвратимого возмездия! Он выступал в эти минуты как грозное воплощение очистительной бури, которая карала посеевших ветер! 213 Через полчаса бойцы стрелковых полков выскочили из траншей и ринулись в сторону немцев, артиллеристы переносили огонь в глубину вражеских позиций. Александр видел, как внимательно шарили глазами по карте командиры полков Чекулаев и Расторгуев, на ней ломаные линии нескольких полос траншей борющихся сторон и расположения войск по обе стороны передовых позиций, четко выделялись длинные колонны наших танковых соединений, втиснувшихся, словно зубья огромной гребенки между боевыми порядками стрелковых полков и дивизий. Александр Муратов поражался преображению строгих линий, очертаний на карте в грохочущие, извергающие раскалённые снаряды танковые армады. Мощный бронированный кулак, набирая скорость, устремился вперед за плотной стеной разрывов передвигающегося огневого вала. В пылающем излучении прожекторов танки и самоходные орудия двигались как огромные чудовища, прогоняющие прочь огненных драконов. На бруствер траншеи выскочил капитан Расторгуев, за ним устремились полковые разведчики и пытался не отстать, сгибаясь под тяжестью обеих упаковок рации, Витька Костин. С досадой Александр отвлекся от наблюдения за красочной грохочущей феерией разворачивающегося сражения, подбежал к Костину подхватил одну из упаковок и, опасаясь потерять из виду командира полка, бросился догонять его. Расторгуев приостановился, его глаза сверкали, щеки пылали от возбуждения. - Поедем на танке! - старался перекричать грохот и лязг капитан, - на ходу будем корректировать огонь наших батарей. Каким-то образом энергичному командиру удалось приостановить танк, он легко вскочил на башню, следом запрыгнули разведчики и радисты, танк рванул вперед, отстать, нарушить ритм движения он не мог. Муратов ни один раз ругнул Расторгуева, придумавшего подобный способ передвижения, танк колыхался по всем направлениям, двигался, разумеется, не по гладкому шоссе. Александру, мертвой хваткой вцепившемуся в поручни, казалось, что при очередной рытвине непременно сорвётся с башни и угодит под гусеницы мчавшейся громадины. - Вот это здорово! - кричал Расторгуев, - моргнуть не успеем, как ворвемся в Берлин! С танка очень хорошо видны результаты артподготовки и продвижения передовых частей. Множество немецких трупов в траншеях, через которые переваливался танк, всюду искорёженные пушки, горящие танки, попадались колоны пленённых немцев, ошалевших от мощного натиска советских войск. Проскочив аккуратненькую деревушку, никогда до сих пор воочую не видевшую и не слышавшую войну, с нетронутыми её пламенем крышами из красной черепицы, домчавшиеся сюда от далеких сожженных дотла немцами российских деревень и городов танки остановились. Немцы, похоже, приходили в себя после первого шокового состояния, начинали огрызаться, вокруг танков то и дело взрывались снаряды. 214 Выглянувший из люка командир танка доложил Расторгуеву - танковая разведка доносит, что немцы сосредотачивают танки и пехоту для контратаки. Капитан Расторгуев приказал разведчику Горшкову уточнить координаты мест скопления противника, другие разведчики, соскочив с танка, отправились на крышу одного из домов попытаться засечь вражеские огневые точки. Муратову приказано возобновить радиосвязь с командирами дивизионов. Через несколько минут Расторгуев и командир танкового батальона отметили на картах цели для нанесения ударов артиллерией. Муратов протянул командиру полка микрофон, доложив, что командиры дивизионов на связи. - Слушай мою команду, - голос у Расторгуева подлинно командирский, его команды звучат чётко, твёрдо и понятно, - первому и второму дивизиону по квадратам ... Задача - сорвать контратаку противника! Использовать половину разрешённого на этот день боекомплекта. Огонь открывать немедленно! Третьему гаубичному подавить огневые точки - квадрат ... . Всеми орудиями по три снаряда! Если батареи противника возобновят огонь, удар повторить! Об исполнении доложить! Прошло несколько минут и капитан Расторгуев, неотрывно следивший в бинокль за эффективностью артогня, увидел, как в указанном квадрате взметнулся частокол взрывов, замолкли невидимые из-за высотки немецкие орудия и минометы - гаубичному дивизиону удалось полностью выполнить приказ командира полка. - Отлично артиллерия! - пожал руку Расторгуеву командир танкистов, сработано на совесть! Можно двигаться вперёд, нам ждать пехоту и надеяться только на артиллерию теперь не положено. Командующий маршал Жуков, приказывает танкистам и самоходчикам не ждать пока артиллерия перебьет всех немцев и предоставит удовольствие двигаться по очищенному от врага пространству. Капитан, дальше с нами или будете ждать подхода своих? - C вами, товарищ подполковник! - бодро отвечал Расторгуев и не сдержался, не без самодовольства, спросить, если не возражаете? - Где уж возражать! Вы только что продемонстрировали блестящий пример взаимодействия танков и артиллерии. Поехали, капитан, нам ещё не раз понадобится ваш огонёк! - Что ж, тогда по танкам! - радостно приказал капитан своим людям. Радист Муратов взобрался на танк без каких-либо признаков удовольствия, у него энтузиазма и воодушевления от того, что, наконец, добрались до вражеского логова - Берлина - ничуть не меньше, чем у капитана, но ему на танке недостаточно лишь уцепиться за поручень, требуется ещё бережно держать на коленях рацию, беречь её до следующего включения. Если до этого продвигались вперед чуть ли не триумфальным маршем, то дальше темп движения замедлился, немцы сопротивлялись всё злее и отчаяннее, их снаряды чаще разрывались между двигавшимися советскими танками, засвистели осколки, некоторые из них, ударившись в броню танка, отскакивали со зловещим завыванием. 215 Вдруг танк с артиллеристами на броне, подпрыгнул и как бы уткнулся в непробиваемое препятствие. Руку Александра сорвало с поручня и он вместе с рацией полетел, как ему казалось, под гусеницы танка, сильно ударился оземлю и от боли не сразу понял, был ли без сознания, а если был то сколько времени. Когда в голове немного прояснилось, почудилось, не в преисподней ли он или в подобном ей скопище изуродованных, обезображенных человеческих тел? Совсем близко от него в дорожной пыли лежал раздавленный танком Расторгуев, неподалёку страшно и удивленно уставилась голова Витьки Костина. Среди удаляющегося грохота и лязга расслышал тяжкий стон, с трудом разглядел в кровавом месиве разведчика Горшкова, он лежал в луже крови, похоже, без сознания, а что жив показывали редкие конвульсивные вздрагивания сжавшегося тела. Александр попытался прийти на помощь Горшкову, но едва приподнялся закружилась голова, и тут же рухнул на землю, через мгновение повторил попытку подняться, голова кружилась, тело, словно ватное, ноги дрожали, но устоял. Сделал шаг, другой, тело пронзала боль, ощупал себя, крови вроде бы нет. Наклонился над Горшковым, кое-как устоял, преодолев новый приступ головокружения, куда ранен Горшков не рассмотрел, тот весь в крови и в грязи. Александр обвел взглядом вокруг, надеясь увидеть кого-либо живым и двигающимся. Повезло! Несколько пар санитаров поднимали неподалеку раненых. Муратов закричал им, замахал руками. Крики, очевидно, были очень слабые, а машущего руками солдата всё-таки заметили, трое санитаров двинулись к нему. Увиденная возможность спасения расслабила, Александр обмяк и рухнул на землю, упав, на этот раз не потерял сознания, подбежавшим к нему санитарам указал на Горшкова. - Сейчас подойдет наша машина, она близко. Не волнуйся, заберем твоего приятеля, майор Мухаметщин не таких с того света вытаскивал. А ты, поднимайся, обопрись на меня, на своих двоих доберёмся к перевязочному пункту, это недалеко, обработаем твою рану и снова воюй солдат, добивай проклятую гадину, - словно с маленьким разговаривал пожилой санитар, видать, из нестроевиков. - А как же Горшков? Он же без сознания, - забеспокоился Александр. - Не бросят твоего Горшкова, сказал, не волнуйся, значит, не волнуйся, оклемается он и тоже ещё повоюет. Хотя война-то, по всему видно, клонится к замирению. Рана у Александра, как выяснилось на перевязочном пункте, не опасная, задеты лишь мягкие ткани бедра, правда, потеря крови есть, но организм молодой, восстановится быстро. Молоденькая девушка-врач, распоряжавшаяся на перевязке, стащила со смущающегося солдатика брюки, ловко извллекла из ран два небольших осколка, обработала раны каким-то щиплющим раствором. 216 - Раны у тебя ерундовые, - успокаивала она и не без удовольствия замечала восхищенный взгляд солдатика, явно относящийся не к её профессиональным качествам, а больше к обаянию свеженького личика, гибкой фигурке, - фартовый ты, всего лишь царапины, я их обработала, сестричка повязочку наложит. Но в медсанбат отправиться придётся - шлепнулся ты всё же с танка и здорово, не повредил ли внутренние органы, в медсанбате определят. Подоспела полуторка, подбиравшая раненых. Александр, по-прежнему шатаясь от головокружения, помогал забираться на машину более слабым, чем он. - Не храбрись, - остановила его санитарка, прикреплённая к этой машине, едва на ногах стоишь, вон побледнел-то как, лучше забирайся в кузов, пока там место есть. Сколько времени везли раненых до медсанбата Александр не представлял, пронзительная боль в спине и в ноге напоминала о ранении всякий раз при встрясках на колдобинах и воронках, грохот пушечных выстрелов и взрывов, обычно вызывавший тревожную реакцию, сейчас слышался приглушенно и не порождал страха, чувства опасности, охватывало безвольное равнодушие ко всему происходящему, наваливалась изнуряющая, безмерная слабость и он с трудом удерживал голову в обычном положении, всё время хотелось куда-то её приложить. Под конец пути Александр совсем изнемог, сознание отключалось, а, возможно, он засыпал, и немудрено, слабость от падения с танка и ранения усиливалась из-за бессонной ночи. Первым, а точнее первой, кого он увидел, очнувшись при остановке машины, оказалась Евгения Станкевич, узнал её мгновенно, не взирая на замедленную реакцию сознания. Да как её не узнать! Она врезалась ему в память с того момента, когда он осторожно и боязливо вызволял оглушённую контузией медсестру из-под завала после жестокой бомбёжки, опасаясь как бы неосторожным движением не обрушить на неё нависавшие толстенные брёвна, ое же доставил её в этот самый медсанбат. И надо же такому произойти! При протяжённости фронта в тысячи километров, при заполненности его сотнями тысяч и даже миллионами людей, они то и дело сталкивались на фронтовых путях-дорогах, как это могло быть, если бы они жили на одной заимке, где стёжек-дорожек раз, два и обчёлся. Она первый раз внезапно появилась на НП их полка с погибшим в тот же день командиром дивизии, потом часто стала мелькать в полку, хотя её никто не присылал и не вызывал. Изобретательность и предприимчивость известные спутники любви, Евгения и Василий Вешнин, благодаря этому свойству, наслаждались встречами довольно часто, хотя и не столь часто, как они того хотели. Увидев земляка-спасителя, Евгения бросилась к нему, её не встревожило появление Александра в медсанбате - коли на своих двоих держится, значит, ранение не слишком опасное. Волновалась она за другого: - Где Вася? Что с ним? Будь Александр в нормальном состоянии, он ответил бы какой-нибудь шуточкой и даже попытался подрозыграть её, но раны, не обеспокоившие опытную медсестру, его допекали-таки и он без всяких выдумок успокоил Женю: 217 - Он остался в штабе, - тревожные искорки в её глазах погасли, - мы с капитаном Расторгуевым были на НП у пехоты, когда танки двинулись, мы заскочили на один из них. Передавали по радио цели, где фрицы были. Потом попали под сильный огонь, и слетели с танка. Я вот уцелел, хотя думал каюк мне, очухался, вижу, капитан погиб, под танк попал. Костин, мой напарник, тоже. Там был ещё Горшков, разведчик, его здорово шарахнуло, выживет ли? Узнай, где он, что с ним, привезли ли? Евгения только успевала вздыхать при отрывистом рассказе Александра. - Обязательно узнаю и скажу. Только постарайся успокоиться, при волнении раны сильнее болят. Не спеши, потихонечку иди, обопрись на меня, не таких на себе волокла. Тебя постараюсь показать самому доктору Мухаметшину, он мигом на ноги поставит, лучше его никого нет. Как она пробилась в суматошной колготне при нарастающем потоке раненых к майору Мухаметшину, чем его заинтересовала для Александра осталось тайной, но через несколько минут доктор ощупывал его. Майор дотошно допытывался, как слетел с танка, обо что и каким местом ударился, расспрашивал какие ощущения были поначалу и как он чувствует себя в данный момент. Солдату даже показалось, что доктор забыл о множестве других раненых, так внимательно и детально занимаясь с ним, руки у Мухаметшина крупные, сильные, но прикасались к телу мягко, словно снимали теплыми пальцами терзавшую боль. - Раны твои, солдат, пустяковые, с ними хоть сейчас в бой. Но вот падать на полном ходу с танка и не на мягкую перину советской медицинской наукой не рекомендуется. Внешне кроме ссадин ничего не заметно, но удары вещь коварная, денька два поваляйся у нас, отоспись, а мы за тобой понаблюдаем. Вы, сестра, последите, чтобы он вольный режим себе не устроил. Осложнений не будет, отпустим в полк подобру, поздорову, а то чего доброго Берлин без такого героя возьмут, - ободряюще улыбнулся майор медслужбы. Александр впоследствии самому себе не мог объяснить почему он в ответ брякнул: - Так точно, товарищ майор! Задерживаться не имею никакого права, и впрямь Берлин без меня могут взять! По-видимому, доктор Мухаметшин был из тех военных лекарей, от доброго, приветливого слова которого раненому становилось легче, его слово как бы вливало в солдатское многострадальное тело необыкновенную жизненную силу и ускоряло его поправку. Мухаметшин ушел, возможно, для него осмотр Муратова стал короткой разрядкой, мгновением отдыха перед продолжением сложнейшей работы с более тяжелыми ранеными. Все в медсанбате утверждали, что Мухаметшин со всеми, вне зависимости от степени ранения, занимался тщательно и требовательно. 218 Проводив начальника, Евгения не поспешила к другим раненым. Она позаботилась покормить земляка, угостила на славу, полкружки разведенного спирта принесла, - медицина всегда при спирте - Александр на этот раз выпил залпом и полностью, организм требовал таким образом успокоиться и отвлечься. Борщ показался Александру особенно наваристым, не то что у батарейного повара Тимохина, ещё принесла гречневой каши, её Александр недолюбливал с измальства, но в этой оказалось столько масла, что котелок дочиста вылизал, и, как в памятные времена, в пионерлагере, угостила компотом, а в нем сплошь урюк. - Ты, немного здесь у меня отдохни, - сказала добрая хозяйка, забирая опустошённые котелки и кружку, - сейчас принесу лекарство, что майор назначил. Потом подумаем, куда тебя на ночь определить, у нас сегодня всё переполнено. Когда Евгения вернулась в палатку земляк, растянувшись на её койке, спал, да так крепко и сладко, что она не решилась его тревожить. Поздно ночью Евгения заскочила в палатку хотя бы немного передохнуть - раненые всё поступали и поступали, последняя операция - Берлинская - не намного отличалась обильным кровопролитием от предыдущих, и медики, как и при других наступлениях, валились с ног от усталости. Пришлось ей примоститься рядом с юношей, не будить же его, сон для раненого лучшее лекарство, от греха подальше, улеглась валетиком. Предосторожность Евгении напрасна. Александр не почувствовал рядом с собой женского тела. Крепким, оздоровляющим сном набирался сил до утра, проснулся, не зная, что Евгения, вздремнув совсем немного, снова впряглась в тяжкое ярмо медицинской помощи воинам, медсанбатовский конвейер действовал безостановочно. Александр не мог оставаться, отлеживаться в медсанбате не в его натуре, тем более что работы радистам в полку во время наступления более чем достаточно. Проститься бы с Евгенией и снова вперед на запад, увидел табличку со стрелкой-указателем “Операционная”, заглянул туда, увидел Женю и майора Мухаметшина, понял, в эти минуты им абсолютно не до него. 20 Когда на злополучной вечеринке лейтенант выхватил пистолет, Вадик потянул за руку Фаю: - Пойдём отсюда поскорее. Не хватало ещё влипнуть в скандал. Фая взглянула на Вадика, его побледневшее лицо, растерянный вид оживили в памяти страшную бомбёжку при поспешной эвакуации, из-под которой их удачно вывез смелый машинист паровоза. Выстрел и звон разбитого зеркала они услышали в прихожей, отыскивая пальто среди сваленной в кучу одежды. 219 Вадим в эту ночь оказался в доме Фаи совершенно неожиданно. Они не стремились к быстрому расставанию, Фая мимоходом обмолвилась с печальным вздохом то ли досады, то ли боязни, что придется в эту ночь оставаться в доме одной. Отец - Алексей Николаевич - уехал на дальную шахту, а у домработницы, тёти Насти, несчастье, пришла похоронка на брата и она поехала утешать страдающую мать. Эта девичья обмолвка застряла в голове Вадима, не шанс ли это для него, неплохо бы позабавиться с наивной и милой девочкой. Фая всю дорогу щебетала, вечеринка для неё не испытываемое до сих пор приключение, хорошо, что удалось благополучно выбраться от разразившегося скандала со стрельбой. Какие забавные собрались женщины и насколько не интересные, бесцветные мужчины, она высмеивала Зою Коряцкую, так бесцеремонно отнявшую у неё партнёра, а сама и танцевать-то не умеет. На мгновение промелькнула жалость к опустившейся женщине, поведавшей грустную историю грехопадения, но жалость не задерживалась, все это происходило когда-то, с кемто и ей до Коряцкой и прочих нет никакого дела. Покончив перемывать косточки участникам незадавшегося сборища, Фая поведала Вадику о письме Александра Муратова с фронта - мамочка наверняка погибла бы, к счастью, вовремя рядом очутился сын тёти Кати, она видела его фотографию, Люба показала, кого-то напоминает ей, но не может припомнить. За разговором незаметно очутились возле дома управляющего трестом. - Как не хочется идти домой, - грустно протянула Фая, - одной оставаться в такой большой квартире... Фая произнесла это без какого-либо намёка, действительно, одной страшновато в большой квартире, отгороженной от других домов, до неё доходили слухи о разных неприятных случаях. Вадим радовался - такой случай не стоит упускать. - Что ж, посижу немножко с тобой, успокоишься и отправлюсь домой, - Вадим произнёс это равнодушным тоном, вынужден, мол, жертвовать спокойствием и мамы и собственным, лишь бы ей угодить, - мама всегда тревожится, если задерживаюсь. Фае же в голову не приходило, какие замыслы таятся в его курчавой голове, сводившей с ума неискушённых девочек. В доме нашлось чем угостить ночного гостя, тётя Настя не могла оставить бедного ребёнка без приготовленной впрок еды. С помощью Вадима девочка разогрела котлеты, вскипятила чай. - Я с удовольствием пропустил бы рюмашку, - Вадим зябко передёрнул плечами, - немного продрог. Сибирский март теплом не балует, зима не спешит передавать эстафету весне и Фая просьбу Вадима восприняла на полном серьёзе. - У папы всегда есть что-нибудь выпить. Она достала из буфета графинчик с водкой и рюмку. - Молодец, - похвалил Вадим, - только почему одна рюмка? Я же не пьянчужка какой-нибудь, чтобы одному водку глушить. - А я не,..- Фая хотела сказать, что ни разу не пробовала спиртного, но застеснялась и пояснила, - я не пью и мне сейчас не хочется. 220 - Тогда и я пить не стану, - замахал руками Вадим, - убирай графин назад в буфет.... А сам опять зябко передёрнул плечами, ну как не пожалеть русской женщине, будь она даже наивной девочкой, страдающего мужика. - Хорошо, - сдалась Фая, - только чуточку-чуточку... Она поставила вторую рюмку, всё же любопытство одолевало - чем столь привлекателен этот напиток, если к нему многие так тянутся? После первой рюмки, Вадим настоял в несколько приёмов опустошить ещё одну. Фае стало приятнее, теплее, и без того не смолкавшая, заговорила еще оживлённее, веселее, Вадим в ответ заразительно смеялся, сам рассказывал смешные истории, как бы нечаянно, касался её рук, обхватывал за талию, прижимался к Фае, ей весело и радостно, какой Вадим интересный, с ним не скучно, он такой ласковый, он все плотнее прижимал её к себе, проводил руками по телу, от его прикосновений Фае приятно, даже сладостно. И внешне неожиданно, на самом же деле закономерно, хотя и не совсем понятно и неожиданно, прежде всего, для неё, свершилось то неотвратимое, что ей порой виделось во сне, нескромные мысли о чем часто тревожили её, как не пыталась их отгонять. У всякого нормального человека бывает в жизни своя первая ночь, среди отведенных ему судьбой дней и ночей, «своя ночь» впоследствии вспоминается как самая сладкая, насладительная и неповторимая. Бывает, «своя ночь» - это ночь несбывшихся ожиданий, разочарований, горькой обиды. Все равно, именно та ночь, которую томительно ожидаешь, сладостно предвкушаешь, навсегда остается незабываемой до последнего дня пребывания на этой земле. Испытала и Фая «свою ночь», какой она сохранится в ее памяти? Перед рассветом Вадим заспешил домой. Конечно, его мама беспокоилась, но ему вовсе не улыбалось попасть на глаза какой-нибудь кумушке. Одетый он стоял у двери, полуодетая Фая провожала его долгим, сладостным поцелуем. По ушам резко ударил дребезг дверного звонка. На пороге стояла тётя Настя. 21 Бывалому фронтовику отыскать свою часть простое дело, взору Александра Муратова то и дело попадались таблички с указаниями: “Хозяйство Бахтина”, “Хозяйство Недорезова”, вот и знакомая фамилия - “Хозяйство Воскресенского” это уже его дивизия, теперь нужно найти свой провод в переплетении множества линий связи. К концу дня, изрядно устав, преодолевая приступы слабости, ранение всё-таки давало о себе знать, добрался до штаба, из которого отправился вместе с капитаном Расторгуевым немногим более суток тому назад - Ты, откуда? - удивлённо спросил Муратова командир взвода связи старший сержант Ревнивцев, - донесли, что тебя здорово шарахнуло и, вроде бы, отправили в госпиталь. - С моей раной жить можно, боялся без меня Берлин возьмёте, поэтому и драпанул из медсанбата, - бодрился Александр. - Как драпанул? Без разрешения?.. 221 - Конечно. - Как бы это тебе боком не вышло. Самоволку пришьют. Иди на кухню пока Тимохин не завалился на боковую, ему хоть весь мир провались, но храпануть минуты не упустит. Всё-таки доложу о тебе. О том, что радист Муратов сбежал из медсанбата начальник штаба капитан Репей как бы не услышал. - Муратов, налаживай связь с дивизионами и приданными подразделениями, Репей говорил так, словно Муратов никуда из штаба не отлучался, - к командиру полка отправлен Мыльников, здесь пока оставался Аванесов, направь его в помощь Мыльникову. Обойдёшься пока один. И занялся своими бесконечными и срочными делами. Ночью к Александру в закуток, где он держал связь по американской рации, заглянул старший лейтенант Вешнин, только что вернувшийся с очерёдного задания начальника штаба. - Знаю, что сбежал из медсанбата, Женя позвонила. При упоминании имени любимой по лицу Вешнина пробежала светлая улыбка, старший лейтенант разговаривал с рядовым Муратовым на равных, он давно расположен к исполнительному и, по его представлению, грамотному и толковому солдату. Поведал о происшедших в полку переменах, командиром полка назначен майор Воронов, он командовал противотанковым истребительным дивизионом, тело Расторгуева вывезли на территорию Польши, там на славянской земле, хоронят советских офицеров. - Немцы после первого удара несколько оправились. Пытаются удержать Берлин, не допустить Советскую армию раньше наших союзников. Нашкодили, как псы поганые, трясутся, боясь возмездия, на свой аршин мерят, - в голосе Вешнина ненависть и презрение. - Предсмертные судорги, только жертвы лишние, все равно дожмём гадов! К исходу следующего дня стало очевидным, что усилия немцев затормозить советское наступление не приносят им ожидаемого результата, продвижение войск на Берлин ускорялось, нарастало и победное воодушевление наступавших каждый высчитывал, сколько километров остаётся до фашисткого логова, в батареях полка развернулось необъявленное соперничество, кто первым из орудия своего калибра выстрелит непосредственно по Берлину, оно охватило всех: от наводчиков до командира полка. После обеда 22 апреля командир полка майор Воронов, он передвигался в этот день вместе со своим штабом, приказал радисту: - Передавай в пушечные батареи: приготовиться к артналёту по Берлину, вот координаты. Муратов крутил ручки настройки, налаживал связь с командирами дивизионов, сквозь шумное разноголосье, помехи и треск прорывались ликующие возгласы: - Мы в Берлине! Мы в Берлине! 222 Как так?! Неужели опоздали? Берлин возьмут без нас? Потом сообразил ликуют танкисты, первыми ворвавшиеся в город - им сам бог велел обогнать пехоту и даже артиллерию. Александр высунул голову из закутка и что есть мочи закричал: - Товарищ майор!.. Подойдите к рации! Майор оказался поблизости. - Что стряслось? - тревожно спросил он. Радист до отказа повернул ручку настройки громкости. - Мы в Берлине! - неслись из эфира ликующие голоса, - советские танкисты в Берлине! - Ура-а-а! Наши в Берлине! Майор Воронов был ещё достаточно молод, чтобы сдерживать бурные эмоции из-за своего высокого начальственного положения, да и любой через столько лет боевых походов, собственных трудов и страданий, страданий и трудов всего российского народа едва ли смог равнодушно встретить столь долгожданное известие. - Передавай, отбой! - приказал командир полка. - Ускоренным маршем вперёд на Берлин! Поздно вечером полк втягивался во вражескую столицу, именно втягивался, шоссе, по которому двигался полк, было сплошь забито танками, орудиями самых разных калибров, “Катюшами” и бесконечными колонами пехоты. Многие солдаты въезжали в Берлин на трофейных автомашинах, мотоциклах и велосипедах. До сих пор Александр не видел, пожалуй, и впредь не увидит такой огромной напористой силы. С трудом воспринималось, что после почти четырех лет кровопролитной упорной борьбы, после миллионных потерь в Берлин входила столь могучая, поистине неисчислимая армада! После упорных и жестоких сражений Советская армия не только не ослабла, напротив, накопила непреодолимую мощь и верилось - нет на свете никого и ничего способного противостоять ей! Иногда над вытянувшимися на много километров колоннами людей и техники показывались вражеские самолеты, на них реагировали вяло, никто не искал укрытия, убежища, из всех видов оружия: из маленьких пистолетов, ружей ПТР и зениток палили по не осмеливающимся снижаться когда-то наглым и беспощадным стервятникам. Вся огромная боевая масса людей в конце концов рассредоточилась по пригородам и окраинам огромного города. Солдаты, как и командование, не особенно уверенно, но всё же предполагали возможность попыток немцев превратить свою столицу в «Германский Сталинград», подобное намерение противника в какой-то степени подтверждалось упорным сопротивлением, многие кварталы Берлина забаррикадированы, каждый или почти каждый дом приспособлен для длительной обороны, центральные улицы города и все перекрёстки контролировались и держались под обстрелом ДОТов долговременных огневых точек - вкопанных в землю танков и самоходных установок. 223 22 На этот раз управляющий трестом Алексей Николаевич Зайцев возвращался из столицы с военными, на Дальний Восток летели эскадрилья за эскадрильей, а по суше в том же направлении двигались воинские эшелоны. Ему, как и многим другим, было понятно, что не для парада идёт переброска войск с Западного театра военных действий, всю войну Зайцев, как и все на востоке СССР, жили в постоянном напряжении - ударят японцы или не посмеют? В памяти сохранялись наглые японские провокации в предвоенные годы. Час возмездия приближался и ясно, что вторая мировая война завершится здесь и не нужно быть оракулом, чтобы гадать, кто поставит последнюю победную точку. В самолете в основном генералы и офицеры, откомандированные в штаб маршала Василевского, настроение у всех приподнятое - не сорок первый же год и сомнений в исходе Дальневосточной операции ни у кого из них не возникало. Лететь от Москвы до Хабаровска достаточно долго и времени хватало на шутки, на деловые разговоры и на легкую выпивку с последующей дремотой, Алексей Николаевич не уклонялся от общения с военными, тем более, что и его настроение после незабываемых московских встреч не слишком отличалось от царившего в самолете, оставалось время уединиться со своими чувствами и раздумьями. Вспоминая о таком неординарном для него событии - встрече со Сталиным, он одновременно как бы пролистывал страницы собственной книги жизни, словно грозный и справедливый судья, спрашивал себя, как складывается его судьба в военные годы и каким он предстанет перед людьми и перед самим собой в величественный час Победы? Жизнь его, представлялось Алексею Николаевичу, шла да и продолжает катиться будто бы по двум направлениям и они расходятся все дальше одно от другого, он петляет по ним и не может свести их в одну неразрывную колею. Служебная стезя постепенно выравнивается и облегчает ему продвижение вперёд и вверх, Сталин не напрасно поднял его и прилюдно такую оценку дал, что до сих пор опомниться не может. Другая же - его личная жизнь, по сути, эта прерывистая, пунктирная тропка, никак не превращается в непрерывную твердую дорогу: Клавдия - обрыв, Женя - обрыв, а дальше - снова горькое одиночество, лишь присутствие Фаи сохраняло подобие семьи, дома, с Евгенией, по всему выходит, покончено.. Вот, подумал, и прилетел домой, но тут же одернул себя - разве это дом? Дом там в Подмосковье, впрочем, и там после ареста Жени дом стал лишь холостяцким пристанищем. Родительский дом в Донбассе, который тоже трудно назвать своим, расстался с тем домом не по-людски, не попрощался с отцом, они в размолвке были, мать, переживая их разлад, при прощании упрекала: - Какой ты сухарь, Алексей! Отец мучается, страдает из-за тебя, а ты даже не подойдёшь, прощения и благословения отцовского не попросишь. Из дому же уезжаешь и, бог ведает, вернёшься ли в него. 224 Вернулся, но через столько лет, что и сосчитать не просто, когда Донбасс освободили, выпросился у наркома съездить узнать о судьбе родителей, совесть, что ли, заела или недоброе предчувствие одолевало. Добрался с трудом, но быстро, авиаторы и в тот раз помогли, не увидел родного дома - сожгли фашисты не встретился с отцом, не повинился перед ним, его расстреляли фашисты, не пошел упрямый старый штейгер в услужение к врагу родной страны. Мать пережила его лишь на несколько недель, рассказали встретившиеся знакомые, от горя ли скончалась несчастная или голод свёл в могилу. Печальный и не прощенный вернулся сюда. Так что дом его, пожалуй, всё-таки здесь, и не понял, по какому наитию на него нашло - уезжать из Сибири ему совсем не хочется, хотя Подмосковье давно освобождено, приворожила его что ли, здешняя земля? Или столько вложил труда, нервов, ума и сердца, что не вырваться из этих мест, не сломав собственную хребтовину? На аэродроме его встречал главный инженер треста Панжин - Совпало почти как в сказке, - вроде бы оправдывался Панжин, - в обком партии вызвали, конечно, вызывали управляющего трестом, вот мне за тебя и пришлось отдуваться. Рад твоему возвращению - удачное совпадение, по дороге поговорим. Говорил больше Зайцев, главному инженеру всё интересно, когда узнал, что управляющий побывал у Сталина, то его расспросам не было предела. - Пятьсот миллионов тонн! - несколько раз повторил Панжин, услышав о рубеже, обозначенном Сталиным для угольщиков - это он из нас выдавит! Сталин слов на ветер не бросает! Держись, Алексей Николаевич! Весь уголь-то у нас на Востоке, из этих пятисот миллионов на нас такой пай навалят, только разворачивайся! 23 В районе Розенталь, по которому продвигался артполк, немцы сопротивлялись с фанатичным упорством, Советские стрелковые подразделения с трудом одолевали рубеж за рубежом, их продвижение сдерживал мощный огневой щит, но наши офицеры и бойцы прошли беспощадное «обучение» у немцев, бои в Берлине подтвердили - немецкая «наука» пошла впрок, в собственном доме и на собственной шкуре немцы принимали «экзамен» от способных «учеников». 225 Инициативные офицеры не ограничивались рутинным исполнением своих прямых обязанностей лишь “от” и “до”. Начальник связи артиллерийского полка старший лейтенант Вешнин, начальник разведки полка старший лейтенант Дубинин, сменивший в свое время капитана Расторгуева вместе с начальником разведки стрелкового полка старшим лейтенантом Гарбузовым образовали оперативную группу, пробирались в тыл противника по проломам и проходам и, найдя подходящее место с почти круговым обзором, точно корректировали огонь артиллерийских и минометных батарей. Александр напряженно вслушивался, нервно и осторожно манипулировал ручкой настройки, стараясь не потерять в эфирном хаосе связь с группой Вешнина, в ту ночь эфир словно взбесился помехи, разряды, треск непрерывно забивали рацию Вешнина, из-за помех многие его сообщения вообще не доходили до штаба. Только позднее удалось восстановить картину событий той ночи. Группа старших лейтенантов обосновалась на башне кирхи и передавала обо всём, что наблюдали - откуда ведется огонь, где засели фрицы с фаустпатронами, где накапливается пехота, по засеченным ими огневым точкам батареями полка и приданных частей наносились разящие огневые удары. Немцы, сообразив, что рядом действуют советские корректировщики, устроили охоту на смельчаков, их пеленгаторы закрутились по всем направлениям и, в конце концов, им удалось засечь радиостанцию Вешнина, теперь, уверены они, советским корректировщикам «капут», окружили кирху и бросились на штурм башни. Русских офицеров так просто штурмами, даже самыми яростными, не испугаешь, Вешнин успел вызвать огонь на себя, командир полка Воронов приказал гаубичным батареям заткнуть глотку немецкой батарее, поддерживавшей штурмующих и попросил командиров двух приданных ему батарей “Катюш” ударить по кирхе. От настильного огня гвардейских минометов от немцев, окружавших кирху, осталась гора трупов, мало кому удалось спастись. Мудрость суворовской науки, подтвердилась – «смелого пуля боится, смелого штык не берёт», ни один советский снаряд, ни одна реактивная мина не угодили в башню кирхи, с которой Вешнин со товарищи корректировали огонь. Переволновавшийся до крайности Александр, доложил командиру полка о сообщении Вешнина, что атака гитлеровцев отбита, и он вместе с другими офицерами оперативной группы передвигается на новое место. В штабе полка нетерпеливо ожидали следующего появления на связи боевых офицеров, Муратов, проклиная помехи, напряженно вслушивался в суматошные звуки разбушевавшегося эфира, пытаясь в хаосе помех уловить позывные корректировщиков. Истекали минута за минутой, час за часом, рация Вешнина на связь не выходила. К утру в расположение штаба полка Дубинин и Гарбузов на плащпалатке принесли тело Вешнина, старшие лейтенанты стояли не бритые, понурые, не смотрели ни кому в глаза, будто виноваты, что сами вернулись живыми, а товарища не уберегли. 226 - С башни выбрались удачно, увидели результаты артналёта, фрицев навалено не сосчитать, - Дубинин вытирает пилоткой пот, нести тело крупного Вешнина нелегко, - отошли метров на триста от кирхи и, вдруг, три выстрела, видимо, снайпер фолькштурмовец из окна палил. Первая же пуля попала Василию в голову, вторая угодила уже лежачему в грудь, а третья, - он показал на старшего лейтенанта Гарбузова, - ему скользом плечо задела. Вот как получается, от Москвы отшагал и даже ранен ни разу не был, а тут до Победы рукой подать и ... Дубинин, не смущаясь, плакал. Никто не удивился, никто не осудил двадцатидвухлетнего офицера, на войне смерть и слёзы мимолётны, погиб отплакали и снова воюй, не знаешь кто следующий - ты или другой. Ничего хорошего нет, если тебе причинили боль, если ты ранен, тем более, если тяжело - больно, тяжко, порой нетерпимо, но хуже нет страдания, если тебе выпадает участь приносить весть о несчастье, касающегося близкого, уважаемого тобой человека. Александр считал себя обязанным сообщить и как можно скорее в медсанбат, Жене о гибели Василия, как это сделать? Какие подобрать слова? Как она перенесёт эту весть? Только в этот момент до Александра, наконец, дошло, отчего в былые времена убивали гонцов, приносящих дурную весть. С трудом, через несколько коммутаторов Муратов дозвонился до узла связи медсанбата, ещё сложнее было подозвать Евгению к полевому телефону. «Она занята», твердит телефонистка, «Она выполняет срочное задание!», «Она на операции». После чуть ли не получасовых уговоров, угроз удается убедить, что у него к медсестре Станкевич действительно неотложное дело, истинную причину назвать комулибо на другом конце провода не осмелился. Наконец, за Евгенией кто-то отправился. - Слушаю, - раздался через несколько минут её грудной с небольшой хрипотцой голос, в нем тревога, понимает, не для праздного разговора оторвали от спешных дел. - Евгения Алексеевна, это я, Саша Муратов... Александр инстинктивно, от страха перед предстоящим нанесением страшного удара всё ещё пытается сообразить, как смягчить его, тянет время, говорит медленно, с невыносимо длинными паузами. - Со старшим лейтенантом несчастье, - словно выдыхает долго задерживаемый воздух. - Какое?!.. - кричит в трубку Евгения и не столько из-за никудышной слышимости, ей уже почти понятно какую беду ей принесли, но она не хочет её воспринять и криком как бы отгоняет случившееся подальше от себя. - Несчастье,.. - обречено повторяет печальный вестник. Женя требует сообщить истину, уже абсолютно понятную и всё же невероятную, не воспринимаемую, знает, но не хочет, не может верить и потому снова и снова требует: - Какое?.. А он, как испорченная граммофонная пластинка, повторяет одно и то же: - Несчастье... 227 Злость и тревога у Евгении перемешаны, не добившись от Муратова правды, бросает трубку, словно та виновата в случившемся. 24 Где бы ни был Алексей Николаевич в Москве: на совещании в наркомате, в гостиничном номере, не говоря уже о кабинете Сталина, он обдумывал, как донесёт весь ворох разнообразнейшей информации, свалившейся на него в Москве, до своих подчинённых, в этом меньше всего было от стремления представить себя в лучшем свете, каждое слово о поездке в Москву должно помогать ему выжимать из начальников шахт, из трестовцев как можно больше угля, его настоящая цена ныне определялась тоннами угля, плановыми и, особенно, сверхплановыми, добытого на шахтах и на разрезах его треста. Он так преподнесёт всё, услышанное и увиденное, что каждый станет крутиться намного быстрее и соображать, как бы еще лишнюю тонну угля выцарапать из подземных дебрей, сталинский наказ будет для него как бальзам, укрепляющий его силы, придающий неиссякаемую энергию, способную преодолеть любое препятствие. На другой день после возвращения управляющий трестом собрал начальников шахт и парторгов, пусть видят шахтные зубры какой, важности событие произошло, и у них нет другого выбора, как всё больше и больше вытаскивать на свет божий черного золота. Пригласил на трестовское совещание первого секретаря горкома и председателя горисполкома, городское начальство заняло места за столом президиума не от избытка в их распоряжении свободного времени, Зайцев сразу же после появления в городе направился к ним, выказав этим уважение, и постарался вдолбить в их головы, что Сталин ни одному ему определил задачи и рубежи, от них тоже требуется внести определённую лепту, на первый случай хотя бы восседанием на трестовском совещании придадут большую значимость и вес повышенным требованиям управляющего трестом. Добиться их согласия на участие в совещании слишком больших усилий не потребовало, стоило Зайцеву упомянуть о приеме у САМОГО, как они готовы вскочить, взять под козырёк и рвануть туда, куда он им подскажет. Когда же управляющий трестом, как бы мимоходом, упомянул, что Сталин на историческом приёме особо выделил лично его, то эффект оказался ошеломляющим, им уже представлялось, что через Зайцева, вождь отдал должное и им, воспитавшим особо ценного для партии и страны руководителя, их почтительное отношение к Алексею Николаевичу тотчас подскочило на несколько пунктов, и они уже прикидывали, как далеко теперь пойдет Зайцев и какая для них может выйти польза от его возвышения. Участники совещания и без того всегда чувствовали твёрдую и увесистую руку управляющего. Теперь же он давил на них более уверенно, и воля его представлялась им непреклонной, никем и ничем неограниченной. 228 - Указания товарища Сталина - это чёткая и неукоснительная программа наших предстоящих практических действий, - словно вколачивал гвозди управляющий, - мы обязаны во-первых, каждые сутки, подчёркиваю каждые сутки, безусловно и беспрекословно выполнять установленные задания. Иного ответа на выступление товарища Сталина перед руководителями угольной промышленности быть не может! Алексей Николаевич строгим и волевым взглядом прошёлся по притихшим начальникам шахт и разрезов, как бы спрашивая, дошло ли до их мозгов понимание сказанного им. - Во-вторых, - в голосе Зайцева несколько уменьшилось металла, но его слова от этого не стали менее значимыми, - во-вторых, от нас требуется буквально с сегодняшнего дня начать работать над проблемами резкого наращивания добычи угля и коренного улучшения всех технико-экономических показателей. Мы с вами находимся на передовой линии борьбы за технический прогресс в угольной промышленности, помимо ускоренного строительства новых разрезов, мы должны на каждой шахте создать участки открытых работ, горно-геологические условия позволяют это сделать - это будет нашим конкретным вкладом в реализацию задачи, поставленной товарищем Сталиным о доведении добычи угля в стране до пятисот миллионов тонн в год. Надо не забывать, что мы приступаем к такой сложной работе в условиях тяжёлой войны и возможности государства помочь шахтерам техникой, оборудованием и другими ресурсами крайне ограничены, мы обязаны ориентироваться в основном на собственные ресурсы, на внутренние резервы. Начальники шахт вздрогнули. Какие уж тут собственные резервы! И без того сплошная нехватка крепёжного леса, канатов, транспортёрной ленты, электрокабелей, даже простая электролампочка и та дефицит! Как не вздрагивай, не ломай голову, всё же участки открытых работ на шахтах организовывать придётся - хватку управляющего трестом они ощущали каждодневно на своем горбу, до сумасшествия доведёт их, но эти участки, пропади они пропадом, из них непременно выдавит - вон как в лад его требованиям кивает головами городское руководство, они теперь в руках у Зайцева, сам же Сталин его напутствовал! Попробуй не выполни, сразу пощупают, прочно ли лежит в нагрудном кармане партийный билет, да ещё обвинят чуть ли не в саботаже генеральной линии. После совещания городское начальство не задерживалось, оно своё отсидело, партийную поддержку продемонстрировало, теперь быстрее в свои кабинеты, у них и других забот хватает. У Зайцева же обычный при подобных сборах приём начальников шахт и парторгов, по пустякам обращаться к управляющему трестом давно отучил, не терпел пустословия, требовал вопросы, просьбы и предложения излагать кратко и чётко. За какой-то час все жаждавшие встречи с ним приняты и Алексей Николаевич, облегчённо вздохнув, намеревался заняться внутритрестовскими делами. 229 Его опередила Галина Никифоровна Попова, стремительно ворвавшаяся в кабинет. Зайцев успел заметить, как беспомощно разводила руками секретарша, пытавшаяся противостоять её натиску. - Наконец-то пробилась к тебе, - на ходу возмущалась Галина Никифоровна, эта соплячка упирается как коза упрямая. Занят, занят, верещит, словно попугай зачуханый. Мне-то какое дело, занят ты или нет. У меня безотлагательный вопрос! Чёрт принёс эту бабищу, только её ему в этот момент и не хватало увидеть, утешительница мужиков-одиночек, ещё в Москве решил оборвать эту глупую и пошлую связь, хотя отлично понимал, что наглая липучка так просто от него не отвяжется. В его взгляде на шумно вторгшуюся заменительницу мужского счастья отчетливо видно нескрываемое возмущение и презрение, правда, не без боязни не учинила бы грязный скандал, с неё станется. Ледяной строгостью веяло от его вопроса: - Что у тебя стряслось? Не видишь что ли? Не до тебя, занят под завязку. - Не петушись, не погибнешь, потерпишь, - заявила она будто и не заметила холодной недоброжелательности шефа-любовника, - говорю, мой вопрос не терпит отлагательства, значит, не увертывайся, как гусак трусливый, решай, не откладывая, решай мой вопрос. - Что за срочность такая иль терпежа нет? - с ехидцей скривил губы Зайцев. Галина Никифоровна плюхнулась в кресло возле приставного столика, не подумав одернуть юбку, чрезмерно обнажившую пухлую коленку. Алексей Николаевич с трудом сдерживался, чтобы не прогнать назойливую бабёнку, ожидая когда же она выложит «безотлагательный вопрос». - Оформляй мне перевод на прежнее место, поеду домой, хватит маяться, надоела эта каторжная Сибирь! - говорила она тоном, каким ротный старшина отдает команду новобранцу. Зайцев почти не скрывал вздоха облегчения, Галина Никифоровна, пожалуй, взбесилась бы, почувствуй радость управляющего, ещё бы, можно безболезненно сбросить хомут, давно уже до боли натиравший шею. Внешне же, не подав вида, насколько рад избавиться от неё, и как бы озадаченный внезапной просьбой, спросил: - Отчего же подобная срочность, там всё в разрухе, ничего не устроено. Только-только приступили к восстановлению шахт. Алексей Николаевич знал до деталей обстановку с восстановлением шахт Подмосковья, в наркомате встречался с назначенным на бывшее его место управляющим трестом, кое в чём просветил наркоматовский куратор Тимошевич. Брякнул о подмосковной неустроенности, а потом подумал, не повернула бы Галина Никифоровна оглобли назад, испугавшись нарисованной им картины. - Мне на эту неустроенность ровным счётом наплевать, - решительно развеяла она его опасения, - главное, что вернулся, муженёк мой Валерий и ждёт меня в родных местах. - Как вернулся? Удивление Зайцева искреннее, давно ли уверяла, что муж сгинул на фронте и она совершенно свободна. 230 - Кто тебе о возвращении мужа сообщил? - Никто. Сам написал. Был ранен, долго бедненький по госпиталям мотался. Его комиссовали и отпустили подчистую. Услышал бог мои моленья, вернулся родимый. Я ему там нужна! Так что быстрее оформляй перевод, пусть выдают подъёмные и видели вы меня здесь как прошлогодний снег. Алексей Николаевич слушал и диву давался, откуда такая трогательная забота о муже, совсем недавно не ощущал её беспокойства о судьбе Валерия. - Ты, хотя бы представляешь, как он тебя примет? О тебе же многие знают,.. ну, о том как как ты его ждала?.. - Ещё как примет! Что там обо мне знают?! Я всю войну мучилась, страдала, ждала его, верила, что вернётся. Ему меня не в чем упрекнуть! Вот это фокус, какая самоуверенность! Она ждала?! Кто-кто, а он-то знает, как она ждала. - Не боишься, кумушки нашепчут ему о,.. - Алексей Николаевич замялся, подумав как бы деликатнее выразиться, но ничего не подобрал и выпалил напрямую, - ну, о нас., что у нас с тобой было и с другими... Галина Никифоровна охолонула его презрительным взглядом. - А, что, собственно, между нами было? - она одернула юбку на коленке, - я разве замуж за тебя собиралась? Больно ты мне нужен! Ничего у нас не было, что бы разные кумушки погаными языками не трепали. Никто за ноги не держал! Валерий мне поверит, а не грязным сплетням. А потом это не твоего ума заботы! Ну, дает бабенция! Какая наглая самоуверенность! Но такое её намерение Зайцева вполне устраивала, он тоже не станет распространяться на скользкую тему. - Война это страшная и сложная штука, Алеша, - неожиданно тепло и грустно сказала Галина, не дай бог, ещё слезу пустит, - война сводит и разводит и нечего искать правых и виноватых. С искренним удовлетворением позвонил начальнику отдела кадров и сурово приказал немедленно оформить эвакуированной Поповой перевод на прежнее место работы, с радостной надеждой на скорое избавление от отягчавшей его особы поручил главному бухгалтеру без малейшей задержки выдать отъезжающей подъёмные и деньги на проезд, как установлено постановлением ГКО. Расстались через несколько дней Алексей Николаевич и Галина Никифоровна, если не по-дружески, то к взаимному удовлетворению. Алексей Николаевич взял из принесенных секретаршей газет «Правду», по сложившейся за войну привычке, в первую очередь, заглянул в сводку Совинформбюро, за последние дни сообщения с фронта шли только победные. Скоро можно ждать домой Евгению… 25 Немедля ехать к нему! Спасать! Помогать! Боже мой, у неё же операция! Как же поступить?! Побежала в свою палатку, растолкала только что прилегшую передохнуть Раю Лебедеву: 231 - Рая, выручай! С Васей несчастье! - повторила тревожное словечко Александра, - мне непременно надо к нему! А я занята на операции. Выручи!!! умоляет Евгения. В другой раз Рая могла бы и турнуть её, да так, что навсегда бы отвязалась, но, взглянув на мертвецки бледное, искажённое болью лицо Жени, поняла - на неё обрушившилась страшная беда, и не могла и помыслить отказаться. Волоча за собой Раю, на ходу застёгивающую пуговицы халата, вбежала в операционную: - Я не могу! - она говорила шепотом доктору, но это звучало как крик подбитой птицы, - Рая подменит! И тотчас бегом вон из операционной, задержать её в этот момент едва ли кто посмел. Увидела стоящий неподалеку “Виллис” из штаба дивизии. Шофер, он возил погибшего командира дивизии и потому знал медсестру, выслушав её просьбу, а главное, увидев её, мечущуюся, невыносимо страдающую, не стал препираться, объяснять какого высокого дивизионного чина он привёз и чем ему грозит самовольная отлучка, вставил ключ зажигания и повёз Женю на новое тяжкое жизненное испытание. Во внутреннем дворе, образованном большими полуразбитыми домами, Евгению встречал Александр, он не произнёс ни слова, повернулся и повёл её по лестнице, ведущей в подвал, где размещался штаб артполка, освещения, естественно, не было и солдат слегка поддерживал под локоть молодую женщину, чтобы она не оступилась. Присутствие Александра, единственного в какой-то мере близкого человека, дало ей неосознанную, но так необходимую опору. Вешнин лежал на длинном столе. Выстрелы орудий и разрывы снарядов глухо доносились до подвала, при близких взрывах ощущалось нервное дрожание земляной тверди, напоминавшее о жестокой битве, продолжающейся на улицах города. Дошли до Берлина! Как много нас дошло! А сколько оставили по дороге в снегах Подмосковья, в степях Украины, в болотах Белоруссии и Прибалтики, на польских и немецких землях! Увидев Василия, лежащего на столе и зачем-то прикрытого красной материей, у Евгении обмякли ноги, потемнело в глазах и она упала бы, не будь рядом Муратова. Почувствовав тяжесть её тела, Александр невольно обхватил медсестру обеими руками, как бы обнял. Какая она мягкая и теплая, мелькнуло в голове у мальчишки, никогда ещё не обнимавшего женщину. 232 Убит!.. Убили!.. Женя с силой отбросила от себя руки Александра, выпрямилась и направилась к длинному столу, где возвышалась голова его. Нет, она сегодня не та почти девчонка, которая, увидев как бандюги зарезали её первого мужа, бедного юного Толика, в беспамятстве рухнула наземь и раньше срока разрешилась дочерью, с тех пор Евгения Станкевич прошла жестокую выучку жизнью, свалить её с ног, сломать, а тем более удивить уже невозможно! Нет, не предстанет она перед сильными, здоровыми и храбрыми мужчинами униженной и оскорблённой горем! Она женщина солдата и сама солдат! И от солдатской доли сражаться и умирать она уклоняться бабьей истерикой, слезливыми потоками не станет! Гордо и твёрдо шла она, хотя это и стоило неимоверных усилий и крепко сжатой воли. Подошла к Вешнину, забросила левую руку за его голову, правой обняла за плечо и зашептала тихо-тихо, чтобы никто не слышал: - Вася, Вася, что же ты наделал?!! Зачем оставляешь меня одну?!1 Ей никто не мешал, офицеры штаба и, понятно, новый командир полка майор Воронов знали об её отношениях с Вешниным, они не были такими же романтичными как восторгавшиеся и завидовавшие медсанбатовские девочки, по переменам в поведении и настроении старшего лейтенанта в последние месяцы, по довольно частым отлучкам в медсанбат, по услышанным отрывочным его телефонным разговорам с Женей офицеры суровыми, изголодавшимися мужскими сердцами чувствовали, что наблюдают не случайную связь, каких немало происходило на их глазах, а воочию видят подлинную любовь, глубокую, крепкую, верную, без восклицаний и восторгов и в то же время светло и радостно воспринимали они это чудо среди страшной и бесчувственной вакханалии войны. Женя долго, даже чрезмерно долго - в штабе шла обыденная, напряженная боевая работа, война не останавливается от гибели или чьего-либо - стояла над бледным, бескровным, застывшим лицом любимого и всё шептала: - Что же, ты, наделал? Как мне жить дальше, без тебя? Она шептала одни и те же слова, другие в этот момент не возникали, почти физически ощущала, что от неё отделилась какая-то неотъемлимая часть, и она осталась без цели, без смысла, без желания жить, сколько ждала, сколько искала его и вот снова одна! Как мало времени она была полноценным существом! Он же её! Ей предназначен! Так зачем же его у неё отняли?! Как коротко было её счастье! 233 Всю её жизнь кто-то корёжит, ломает и она сама не может определить, направить данную ей жизнь так и туда, как и куда ей, именно ей, хотелось бы! Нет, тут же одёргивает себя Евгения, это не совсем правда! Дважды попыталась управлять сама своей жизнью, своей судьбой, управлять собой, как часто выражался её, до ныне числящийся мужем, Алексей Николаевич Зайцев. Первый раз по собственной воле, так ей тогда казалось, а получилось по девичьей, не соображающей глупости, по дури удрала с заимки от отца, от матери искать счастья в жизни, это бегство завершилось муками и лагерными терзаниями, другой раз - добровольно ушла на фронт - да не ушла! Нечего саму себя обманывать! Убежала, как надеялась, от всех страхов, мытарств, от предательской, ненадёжной любви, убежала искать его! Нашла-таки! Миг, всего лишь миг, была сама собой! Наконец-то, думала, предназначенные друг другу половинки соединились и навсегда! И опять всё произошло вопреки её воле, стремлению. - Что же, ты, наделал? Опять одной?1 Она не знала, не чувствовала, что плачет, что из глаз обильно текут слёзы, ощутила соль во рту, лизнула языком рукав гимнастерки, им машинально смахивала слезинки, вкус соли не исчезал, догадалась - непрошенные слёзы, подняла голову в поисках, чем бы их вытереть, заметила, вокруг солдаты и офицеры терпеливо и сочувственно ждут, когда она позволит и им проститься с боевым товарищем. Насколько же она эгоистична! Не соображала, что кроме неё у него были друзья, подчинённые, начальники, ждёт мать, наконец, видишь, сколько их! - пришли проститься с ним, есть и женщины, связистки, наверное. Как она это допустила, будто самовлюблённая мокрая курица?! Пусть все его друзья, товарищи по-человечески с ним попрощаются. Евгения на шаг отступила от стола, к ней подошел майор и зашептал: - Вы, успокойтесь, война же! Присядьте, пожалуйста, успокойтесь. Всмотрелась в лицо майора, очень уж знакомое - вспомнила! Это тот самый, на которого не совсем ловко однажды свалилась в ровике, укрываясь от артобстрела, он ещё порывался к ней, когда её увозили в Особый отдел, воспоминание лишь скользнуло в её сознании, увидела недалеко понуро стоящего Муратова, легким движением отстранилась от майора, подошла к Александру. - Куда его ударило? - Одна пуля в затылок, а другая под лопатку, снайпер стрелял сзади, - сипло проговорил радист, из глаз его катились слёзы, - жалко старшего лейтенанта, простой, отзывчивый был. Был... Как это жутко! От сочувствия солдата, от его слёз ей если не легче, но теплее стало, она прижалась к нему грудью и он, как там, на тёмной лестнице, опять ощутил мягкость и тепло её тела. Вновь подошел майор Воронов. - Вы, не беспокойтесь, в медсанбат мы Вас доставим,- ему необходимо, считал он, что-то ей сказать и это единственное на что он решился. - Спасибо. Когда хоронить будут? - слёзы продолжали катиться по её лицу, она смахивала их рукавом. 234 - Офицеров хороним в Польше, в полку за эти сутки погибли пятеро, сейчас их размещают на машине. Прощайтесь, будем выносить,- майор отошёл, очевидно, отдавать распоряжения. - Этот майор как у вас оказался? - спросила Женя у земляка, смахивая слёзы. - Его назначили командиром полка. Капитан Расторгуев погиб, когда меня ранило. Майор напомнил, что погибшего скоро увозят, у бедной Евгении вырвался стон - насовсем, в Польшу и никто, ни она, ни мать его не проводят, не увидят, где и как его похоронят. Боже мой! Всё! Вынесут его, и она одна! Что же делать, как быть?! 26 Алексей Николаевич выкладывался, что называется, на полную мощность, день и ночь мотался по шахтам и разрезам, не жалел ни сил, ни здоровья, печалился лишь об одном - постоянно не хватало времени и на работу и, особенно, на личные нужды и заботы. По возвращени из Москвы над ним довлело ощущение незавершённости, недоделанности, всё время ему казалось, что не оправдывает надежд, не расплачивается за аванс, выданный ему в Кремле. Работа всё больше поглощала его физические силы и интеллектуальные возможности, хотя всегда признавал работу, служебную карьеру за главный смысл своей жизни добровольный раб наложенного на себя обета Алексей Николаевич под него подгонял и режим трудового дня, как бы поздно накануне не возвращался домой все равно каждое утро за час до официального начала рабочего дня появлялся в своем кабинете, в это время в тресте кроме дежурного никого не было и он спокойно, без суеты, не отвлекаясь на приём посетителей, мог поговорить по телефону или на свежую голову вникнуть в содержание деловых бумаг. В это утро, солнечное с умеренным морозцем, управляющий трестом немало удивился внезапному появлению в его кабинете группы трестовцев во главе с главным инженером Панжиным, в руках у блиставшего улыбкой во весь рот Дмитрия Васильевича выделялась широкой красной полосой правительственная телеграмма, рядом с ним с огромным букетом цветов секретарша. Панжин проникновенно и даже выспренно начал речь: - Дорогой, Алексей Николаевич, разрешите от всей души поздравить Вас с присвоением высокого звания Героя Социалистического Труда. 235 Он громко, по-левитановски, с благоговением, как к адресату, так и к отправителю, прочитал телеграмму наркома, в которой приводился текст Указа Президиума Верховного Совета СССР. Телеграмма поступила ночью - разница во времени с Москвой солидная - дежуривший по тресту инженер техотдела Синани, опытный аппаратчик, безбоязненно потревожил безмятежный сон главного инженера треста и елейным голосом обратился с вопросом, как поступить с важным сообщением - потревожить ли ради этого управляющего, или же потерпеть до утра. Как и предполагал пронырливый служака, Панжин распорядился ни звука о телеграмме до утра, до его, Панжина, прихода в трест и вызвать к восьми часам к нему начальников отделов и секретаршу. Алексей Николаевич руководитель достаточно искушённый и после встречи со Сталиным рассчитывал на определённую награду, ведь объявил же нарком о поручении представить к награждению особо отличившихся работников, притом, что его при всех отличил сам вождь, расчёты были небезосновательны. Но столь высокое отличие ему даже не снилось и он в какой-то мере ошеломлён, не меньшее потрясение испытал и от раннего появления трестовцев. До него разными путями, и прежде всего через Галину Никифоровну, не только ублажавшую его, но и обеспечивавшую доверительной информацией, доходило, что в тресте и на предприятиях он снискал о себе мнение, как о жестком, требовательном руководителе и его многие побаиваются. Зайцев воспринимал подобные отзывы как естественные и для него не обидные, руководитель, полагал он, не может быть для всех приятным и добрым, ради интересов дела, как он их понимал, не должен жалеть ни себя ни других. Поздравления трестовцев, к его удивлению, звучали искренне и доброжелательно, без видимых признаков страха или угодничества. Обычный ритм рабочего дня нарушен. Известие о присвоении управляющему почетного наивысшего звания распространялось если не со скоростью света, то уж наверняка со скоростью звука, на утренней трестовской перекличке итоги суток отдвинулись в сторону, руководители предприятий начинали суточный рапорт с поздравлений. Секретарша едва успевала соединять ошеломлённого Героя с бесчисленными поздравителями. Позвонил первый секретарь областного комитета Коммунистической партии - высшее начальство в области, к теплым поздравлениям партийный лидер добавил: - Думаю, вскоре представится возможность лично поздравить Вас, здесь, в областном центре. Сказано с неким намёком, но расшифровать его Алексей Николаевич не пытался, поздравления следовали одно за другим. Наслаждаясь переливами своего бархатного баритона, первый секретарь горкома партии Долгин не спешил положить трубку: - Алексей Николаевич, на очередном заседании бюро горкома думаем принять благодарственное письмо товарищу Сталину. Присвоение тебе звания Героя, разумеется, оценка, прежде всего, твоих заслуг, но это и награда всем шахтерам города, этим отмечены и усилия городской парторганизации. Согласен? 236 - Само собой, Вениамин Николаевич! - поспешил согласиться Зайцев, хотя в сознании проскользнуло «и мы пахали», но придавил неуместную иронию - без партийной поддержки ни самих успехов, ни их доброй оценки не получишь. Председатель горсовета Константин Васильевич Чернигов выражался проще, но душевнее: - Алексей, я рад за тебя и думаю, такое событие следует обмыть с размахом, по-шахтерски... Обмыть... Как он сам не додумался? Повод самый подходящий и худа от этого ни кому не будет, напротив, это солидная гиря на весы его авторитета, публичное признание его заслуг. Идея плодотворная, зацепился за неё, а на душе погано, не слишком ли стал увлекаться выпивкой? Прежде почти не употреблял поганого зелья, после бегства Евгеньи на фронт начал искать забвения в рюмке, так, чёрт знает, до чего докатиться можно! Сколько наблюдал случаев, как из-за водки гибли умные и дельные люди, далеко ходить за примерами не стоит, на шахте “Комсомольская” толковый главный инженер Журавлёв гибнет прямо на глазах, правда, как и все пьянчужки, не считает себя алкоголиком, даже “теории” по этому поводу выдумывает. Зайцеву рассказали об одном “эксперименте” Журавлёва. Однажды тот заспорил с главным механиком шахты Мосеевым, кем же хуже быть - пьяницей или алкоголиком? - Ты, Николай, пропащий человек, настоящий алкоголик, - укорял Журавлёв главного механика, - за рюмку водки мать родную продашь. - Сам-то чем лучше? - обижался Мосеев, - глушишь куда хлеще меня. - Может, и больше тебя могу выпить, но ради водки дело не погублю, знаю, когда остановиться. Тебя же только помани выпить и ты уже обо всём забыл. Я всего лишь пьяница, не отрицаю, водится за мной такой грех, но про таких как я говорят - пьян да умён два угодья в нём. А ты окончательно опустившийся алкоголик! - Чем же пьяница тебе слаще алкоголика, что черт, что дьявол – все равно сатана, - не соглашался механик. Долго спорили в таком духе. Только удалился рассерженный Мосеев от главного инженера, как с участка позвонили, что вода прорвалась в забои, а насос не качает, вышел из строя. Журавлёв по телефону отдал распоряжение главному механику срочно заменить насос, в это время к нему зашел плановик Недашковский. Главный инженер задумал провести небольшое испытание. - Слушай, Борис Мироныч, пойди к Мосееву, позови его в столовую и угости покрепче, вот тебе деньги. Журавлёв посвятил плановика в суть спора с Мосеевым, тот сообразил, что от него требуется, и включился в розыгрыш, тем более за чужой счёт. Через несколько минут соблазнял главного механика. - Николай Карпыч, мне нечаянно премия подвалила, пойдем в столовую отметим. - Не могу, - не слишком твердо отнекивался Мосеев, - надо срочно поменять насос на участке. 237 - Подумаешь насос... Что без тебя не найдется, кому им заняться? - дожимал плановик,- мы же по быстрому, по стакану дёрнем и возвращайся к своему насосу. Через несколько минут Мосеев напрочь забыл о затопленных забоях. Утром следующего дня Журавлёв вызвал провинившегося главного механика. - Ну, понял чем отличается пьяница от алкоголика? Ты вчера так нализался, хоть всю шахту затопи или гори она синим пламенем, от тебя все равно никакого толку. Я вчера тоже выпивал, но дело не забросил, проследил за доставкой насоса и не дал затопить забои. С тобой будем немедленно решать, нельзя же доверять серьёзное дело спившемуся алкоголику. Зайцев верил в правдивость этой байки. Хотя, по его представлению, хрен редьки не слаще, что пьяница, что алкоголик для серьёзного дела непригодны и с Журавлёвым придётся тоже решать. С главным инженером на “Комсомольской” всё ясно. Неужели и он, Зайцев, по той же дорожке катится? Нет! Кончать с этим надо! Не позволит, чтобы водка им управляла! Зайцев первый Герой Соцтруда в городе, боевые Герои Советского Союза здесь появились еще во времена Хал-Хин Гола. Чествовать нового Героя собрались в столовой шахты №5-бис, которая ещё со времен начальствования Ивана Александровича Муратова, попавшего во враги народа, славилась добрыми порядками и приличной едой. Заместитель управляющего трестом Мосеев, родной брат незадачливого механика, и начальник ОРСа Тюменцев постарались не осрамиться и перед виновником торжества и перед гостями, городскими властями. Открыл торжество первый секретарь горкома ВКП(б) Долгин, присутствующие хорошо его знали и, пожалуй, гордились, что их городскую партийную организацию, а среди них беспартийных не было, возглавляет столь внушительная личность, всё при нём - высок и статен, по-мужски красив, мог обворожить доверительным, казавшимся откровенным разговором и начальника шахты и простого забойщика, и все знали - Вениамин Николаевич может крепко спросить, быть жестким, беспощадно требовательным, если обстоятельства того требуют, он лучше многих понимал насколько твердая и большая сила стоит за ним и потому был уверен и непреклонен в своих действиях. Длительное пребывание на руководящих партийных постах помогло ему выработать умение довольно безошибочно оценивать людей, их достоинства и недостатки, способность наладить дело. 238 - Дорогие товарищи! - его приятный баритон, словно первые звуки увертюры, заглушил разговоры и шум рассаживающихся гостей, все взоры и уши оборотились в его сторону. - За войну мы несколько отвыкли встречаться вот так по-человечески, чтобы не нажимать, чего-либо требовать, к чему-либо призывать, у войны свои законы и обычаи и они определяют соответствующую систему взаимоотношений. Собраться вот за таким товарищеским столом людям, объединённым общими целями, общими задачами и общим делом, мы обязаны необычному событию, которое навеки останется в истории городской партийной организации и нашего города. Я имею в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении высокого звания Героя Социалистического Труда нашему другу, товарищу по борьбе и работе, выдающемуся руководителю и замечательному человеку Алексею Николаевичу Зайцеву! Дружные аплодисменты прервали вступительное слово. Первый секретарь горкома аплодировал вместе со всеми, полуобернувшись к виновнику торжества, мягко и беззвучно хлопая ладонями. Решив, что продолжительность аплодисментов вполне достаточна для данного случая, он опустил руки, и аплодисменты тотчас смолкли. - Алексей Николаевич в нашем городе сравнительно недавно, - тональность выступления с торжественно-официальной переключилась на душевную, товарищескую,- эвакуировавшись с шахтерами Подмосковья, он не занял позицию временщика, пережидающего вдали от фронта тяжёлое время. Мы с вами свидетели того, с какой неукротимой энергией Алексей Николаевич включился в труднейшую работу по переводу угольной промышленности города на военные рельсы. В тяжелейших условиях, когда страна не могла обеспечить самым необходимым, хотя бы в минимальных объемах, благодаря напористости, организаторскому мастерству и твёрдости руководства шахты и разрезы города с каждым месяцем наращивали добычу, обеспечивали нужды фронта, железнодорожного транспорта и Тихоокеанского флота. В этом главная заслуга Алексея Николаевича. Сегодня в городе едва ли кто вспомнит, что Алексей Николаевич не местный, настолько органически он вписался в наши ряды, признан шахтёрами и всеми горожанами. Это тоже характеристика Алексея Николаевича как современного руководителя-коммуниста. Прозвучавшие аплодисменты выразили согласие с оценками заслуг управляющего трестом, секретарь горкома, окинув взглядом зал, понял - пора закругляться, на подобных встречах перебор в славословии может стать ложкой дёгтя. 239 - Недавно Алексей Николаевич был участником важного, можно назвать, исторического события. Я имею в виду приём товарищем Сталиным руководящих работников угольной промышленности. Этот приём продемонстрировал насколько высоко наша партия, правительство и лично товарищ Сталин оценивают роль угольщиков в разгроме немецко-фашистских захватчиков и какое важное значение придаётся угольной промышленности в предстоящем послевоенном развитии страны. Поэтому я предлагаю первый тост за гениального вождя и учителя, организатора всех наших побед, великого Сталина, за нашу родную Коммунистическую партию большевиков! Все вскочили, щумные овации, возгласы и здравицы, громыхание отодвигаемых стулев, чокание наполненными стаканами прорвалось как вода через размытую запруду. Старт чествованию Алексея Николаевича дан. Осмелься в этот момент ктонибудь высказать сомнения в искренности вступительного слова секретаря горкома, в искренности его здравицы в честь вождя и партии, в искренности дружных оваций и одобрительных возгласов он, наверняка получил бы жесткий отпор - в этом зале, как и за его пределами, почти все каждодневно своими помыслами и трудом подтверждали веру в партию и в Сталина. Этой верой они жили, эта вера заставляла совершать казавшееся невозможным, она помогала им превозмогать самое трудное, вера не была слепой и безоглядной, как религиозная, и её никто из их душ не смог бы вытравить, благодаря этой вере народ, а они его неотъемлемая частица, уже не бестолковое стадо, направляемое строгим пастырем. Отхлопав, прокричав здравицы, выплеснув вызванную речью секретаря горкома эмоциональную энергию, приобщенные к торжеству с не меньшим усердием принялись за насыщение, многие с раннего утра не держали во рту даже маковки, шахтные треволнения не оставляли минуты, чтобы проглотить кусок хлеба и выпить стакан кипятка. Они по разному относились к управляющему трестом, некоторым из них он досаждал неотступной настырностью, непреклонной постоянной требовательностью, нудными нотациями, накачками, но все, независимо от отношения к Зайцеву, считали государственную награду заслуженной, они видели его в конкретной работе, как он, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, вкалывал день и ночь, как и они, - чего-чего, а мелочной, мещанской зависти на этом вечере места не нашлось бы. Снова поднялся секретарь горкома. - Товарищи! - на лице Долгина хитроватая улыбка, - думается, мне следует сложить почётную обязанность председательствующего. Как вы отнесётесь, если мы попросим исполнять роль тамады Дмитрия Васильевича Панжина. В ответ гром аплодисментов, управлять застольем, знали большинство из присутствующих, главный инженер треста умел. - Что ж, считаем вопрос решённым. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич. Долгин уселся за стол довольный, как исполнил свою роль, и теперь может со спокойной совестью отдаться праздничной утехе, понимал, что одно его присутствие определит и порядок, и направленность чествования. 240 Зайцев чувствовал себя как на чужом пиру, всё слышал, понимал о ком и о чём идет речь, но слышал и понимал также как в Кремле, когда Сталин поднял его с места - отстранено, обезличенно, вроде не касающееся непосредственно его, Зайцева. Речь первого секретаря он воспринимал безотносительно к своей персоне, чуть ли не воспеваниее его заслуг посчитал чрезмерным преувеличением, другие трудились не менее добросовестно и энергично. Не всё же ему удавалось, взять отгрузку угля - тысячи тонн горят в штабелях, а он не может добиться от железнодорожников поставки порожняка точно по графику, оправдывает это сложностями военного времени, хотя понимает, можно дооправдывать до такой степени, что не только порожняка не получишь, но и всё пойдет в развал. Вот и его главный инженер пустился в славословие. - Я воспользуюсь тем, что на короткое время стал начальником над Алексеем Николаевичем. Не позавидую тому, кому доведётся работать непосредственно под началом нашего управляющего. Он умеет давить, да ещё как! Наш управляющий буквально напичкан новыми идеями, замыслами, только успевай их решать, трудно, ох как трудно работать под началом Алексея Николаевича! Трудно, но интересно! Шутками-прибаутками и анекдотами тамада превратил казённое “мероприятие” в непринуждённый весёлый праздник, некоторые, чего скрывать, ехали сюда не с великой охотой, на шахтах забот по самую завязку, времени даже на сон и еду недостает, а тут отправляйся и выражай восторг по поводу начальственной удачи, радости. Панжин же, отлично зная собравшихся коллег и подчинённых, постарался, чтобы часы, проведённые в этой столовой, стали разрядкой для замотанных шахтных начальников, хотя бы на короткое время их души и головы отвлеклись от изматывающей многие годы нервотрёпки. Война войной, а они живые люди и не грех напомнить об этом. Давно заметил всевидящий тамада, как поднимает руку жаждущий выразить свои чувства Махновский. Дмитрий Васильевич делал вид, что не замечает его нетерпения и давал слово работникам предприятий, полагая, что у аппаратного чиновника больше, чем у шахтовых трудяг, возможностей для общения с управляющим. Придерживать Махновского дольше становилось неприличным. - Товарищи! Среди нас есть человек, который знаком с Алексеем Николаевичем раньше кого-либо из нас, - провозгласил тамада, - вместе с ним работал в Подмосковье, вместе эвакуировался и приехал к нам. Пожалуйста, Евсей Яковлевич, тебе слово. Панжин с удовольствием прогнал бы подальше от себя этого выскочку, но приходится терпеть, личную неприязнь не выкажешь, будь ты трижды начальник, но выше прижившегося обычая не прыгнешь. Махновсий стремительно сорвался с места и двинулся к главному столу, за которым восседали Зайцев и городское руководство, первый порыв Евсей Яковлевич быстро остудил, и далее по залу степенно продвигался импозантный мужчина, пытавшийся внушительной напыщенностью подчеркнуть свою значимость. 241 - Товарищи, я действительно давно знаю Алексея Николаевича, - как бы снисходительно начал Махновский, - ещё с тех времён, когда он был начальником вентиляции на шахте. Зайцев поморщился, вспомнил бы ещё о его детстве голопузом, да, слава богу, не ведал Махновский о его существовании в те лета. - Потом его взяли в техотдел треста, - произнесено таким тоном, что можно подумать, именно он, Махновский, причастен к тому событию, - мы, опытные трестовцы, доброжелательно встретили молодого специалиста и я, лично, оказывал ему всяческую поддержку, благодаря которой он вырос до начальника отдела. Что-то не помнится ни его, ни чья-либо другая поддержка, только Чеканников строго наставлял и начальником техотдела стал после его ареста, Евсея же почти не знал, он тогда плановым отделом заправлял. - В тридцать седьмом в тресте была разоблачена группа окопавшихся вредителей. Алексея Николаевича выдвинули управляющим трестом. Первое, что он сделал на этом посту - назначил меня начальником технического отдела треста. С тех пор мы вот так и вместе тянем нелёгкий груз. Знал бы, какой это прощелыга, близко бы к техотделу не подпустил, раздражался Зайцев, что-то совсем незаметно, какой груз он тянет. Махновский же перешёл на повествование о сложностях Подмосковного бассейна, и какие усилия вложил он, начальник техотдела, в добычу бурого угля, обогревавшему саму столицу. Речь явно затягивалась, подвыпившие шахтеры от пресыщения этим самопрославлением стали выкрикивать: - Закругляйся, Яковлевич! - За что пить будем? - Я кончаю, товарищи, - выкрики, похоже, Махновского не смущали, - Алексей Николаевич это такая выдающаяся личность, что двумя словами не обойдёшься. Когда трест был вынужден эвакуироваться, Алексей Николаевич назначил меня старшим, и я с честью оправдал его доверие. Евсей Яковлевич с подробностями посвящал изнывавших от нетерпения слушателей в перепетии эвакуационной одиссеи, возгласы из зала становились всё громче и настойчивее. - Я закругляюсь, хотя мог бы высветить Алексея Николаевича более ярко. Позвольте провозгласить тост за новые успехи Алексея Николаевича здесь и по возвращении домой, в Подмосковье! Последовали жиденькие аплодисменты, многих озадачил намёк Махновского на возможный отъезд Зайцева. 242 Зайцев давно давал понять тамаде, что пора, мол, кончать затянувшееся чествование, превращавшееся в заурядную гулянку, Панжин, возможно, не замечал намёков, а, скорее всего, ему не очень-то хотелось свёртывать удавшуюся, по его мнению, приятную и полезную встречу. После выступления Махновского терпение Алексея Николаевича иссякло, он решительно поднялся с места и, не обращая внимания на попытки тамады протестовать, взял бразды правления в свои руки. Главный инженер почти на голову выше управляющего, шире его в плечах, на которых прочно удерживалась крупная голова с почти прямоугольным лицом. Взглянув на них, рядом стоявших за главным столом, никто не ошибётся и сразу определит кто из них первое лицо, а кто ходит у него в подчинении, невысокий, но плотно сбитый Зайцев направил на присутствующих прямой, твёрдый взгляд тёмно-карих глаз, излучавших сильную волю и непререкаемую решительность, под этим взглядом примолкла шумная разноголосица. - Думаю, пора кончать, всех нас ждут дела, - голос Зайцева твёрдый, требовательный, - искренне благодарю всех за тёплые поздравления. Что касается похвальбы в мой адрес, то к этому отношусь трезво. Уже говорил и ещё раз повторю - в этой награде меньше всего моих личных заслуг, в ней ваш труд, ваши бессонные ночи, ваша изобретательность, ваши ум и нервы, вот за это вам самое искреннее спасибо! Во все сладкие и гладкие славословия вношу поправочный коэффициент, он не более одной десятой, вот вы, как инженеры, и высчитайте их истинную цену. Говоря же серьёзно, я просил бы всех вас рассматривать эту награду как чрезвычайно большой аванс, который предстоит нам отрабатывать. Ещё одно замечание, если бы я послушно выпивал за все пожелания, то мне потребовалось бы выпить ни одну бочку водки и за награду, и за здоровье, и за успехи, и так далее. В вашем присутствии, при руководстве города, при Вениамине Николаевиче я принимаю на себя следующее обязательство, - Алексей Николаевич поднял стакан с водкой, - вот этот стакан водки будет последним в моей жизни. За ваше здоровье, за ваши успехи! Алексей Николаевич залпом опустошил стакан, резко отставил его на противоположную сторону стола. В зале смех, аплодисменты, первый секретарь долго трясет руку Зайцева. - Что касается моего отъезда куда-либо, - Зайцев поднял руку, призывая к вниманию, - то плюньте на это и разотрите. Никуда уезжать отсюда не помышляю, здесь мой дом, здесь моя работа! Алексей Николаевич даже вздрогнул от грома разразившихся аплодисментов, на глаза навернулась не прошенная слеза. Вот это, подумал он, настоящая, подлинная награда! - Тех же, кто куда-то собрался уезжать, домой или в иное место, не задерживаем, как говорится, скатертью дорога! - Сам не понял откуда такая злость. Последовавшие дружные аплодисменты всеми понимались однозначно. - А теперь за работу! 243 Загремели отодвигаемые стулья, кто-то успевал опустошить ещё стакан. Алексей Николаевич, увидев продвигавшегося между столами начальника шахты № 5 Федоренко, крикнул: - Петр Тимофеевич, едем к тебе, как уговаривались! Все давно приучены - управляющий трестом решения, договоренности не при каких обстоятельствах не меняет. 27 Жизнь Алексея Николаевича продолжала набирать ускорение, каждый день, а точнее, каждые сутки заполнены работой до предела, он напоминал человека, мчавшегося в скором поезде, который мчит его по жизни, а по сторонам в окнах вагона мелькают лес, поляны, дома, люди, различные события, обстоятельства, он видит одно мелькание и не больше. Жизнь же требовала его вмешательства в текущую повседневность, отвлечения от нарастающих претензий его главной повелительницы - работы. Махновский своим раздражающим выступлением напомнил Зайцеву о своём существовании, не ведал хитроумный начальник техотдела, что воскресил намерения управляющего избавиться от него. На том вечере Зайцев принял окончательное решение, не откладывая, начать действовать в этом направлении. Поздно вечером, когда в тресте уже никого не было, позвонил заместителю наркома, ведавшему кадрами, разговор начал отнюдь не с Махновского, прямолинейная атака насторожила бы наркоматовское руководство. Для обсуждения с Москвой вопросов было более чем достаточно, обратился с просьбой подкрепить предприятия треста рабочей силой - на шахтах, разрезах и, особенно, на строительстве острая нехватка людей. Вновь поднял вопрос об увеличении лимита на привилегированные продовольственные карточки, из-за низких заработков и во много раз уменьшенного, по сравнению с подземными рабочими, обеспечения продуктами питания по карточкам рабочие с поверхностных участков бегут. Переговорив, даже поспорив с заместителем наркома по этим, прямо-таки горящим вопросам, управляющий, наконец, подступился к основной цели обращения в наркомат. - Александр Мефодьевич, как наркомат предполагает решать вопросы с возвращением на прежние места проживания работников, эвакуированных к нам? - Особой проблемы не вижу, - почти без заминки ответил заместитель наркома, - рабочих следует удержать на месте, у вас, как ты только что говорил, дефицит рабочей силы. Чем заново завозить людей лучше закрепить эвакуированных. Из ИТР тоже большинство следовало бы удержать, о тех, кто слишком настаивает на возвращении, будем решать в индивидуальном порядке. У тебя есть такие? Вот теперь решать о Махновском настал черёд, Алексей Николаевич пододвинул к себе папку с личным делом начальника техотдела, затребованную из отдела кадров, хотя и без этой папки знал Махновского как облупленного. Но к разговорам с Москвой Алексей Николаевич всегда готовился основательно. 244 - У нас уже несколько человек уехали, с их возвращением сложностей не возникало, - Алексей Николаевич вспомнил отъезд Поповой, - остается ещё начальник техотдела Махновский, он поговаривает об отъезде. Работника этого уровня, как я понимаю, просто так не отправишь... - Ты прав, но начальник техотдела там уже назначен из местных. Насколько помню, имеется лишь одна вакансия - главный инженер. Заместитель наркома даже и не подозревал, какими сведениями снабдил собеседника, Алексей Николаевич встрепенулся - вот блестящая возможность совершенно безболезненно избавиться от Махновского, такой оборот дела нельзя упустить. - Вот вам и подходящая кандидатура! - чуть ли не с восторгом предложил Зайцев, пытаясь всё же не обнаруживать радости. - А потянет? - в голосе зам наркома вместе с понятным сомнением проскальзывал интерес. - Он же тамошние условия должен превосходно знать, - Алексей Николаевич готов любой ценой сбыть Махновского, но не высказывает твердое утверждение о готовности рекомендуемого, о способности потянуть сложное дело, оттого и словечко «должен», потянет или нет Махновсуий эту лямку, его в данном случае абсолютно не интересовало, - столько лет проработал в тресте! Не быть же ему вечно начальником техотдела?! - Хорошо. Подумаем, посоветуемся, только пока Махновскому ничего не говори, неизвестно как нарком на это предложение посмотрит. - Понятно, но я денька через два перезвоню. Заместитель наркома не раз испытал настырный характер управляющего сибирским трестом, не отстанет, надоест звонками, пока своего не выжмет. И решение не затянулось, через неделю поступила телеграмма, извещающая, что приказом народного комиссара угольной промышленности СССР - Махновский Евсей Яковлевич назначен главным инженером Подмосковного треста. Не поручая секретарше, Алексей Николаевич по прямому телефону пригласил Махновского. Как обычно, с видом весьма занятого человека Евсей Яковлевич энергично ворвался в кабинет управляющего. - Пришлось серьёзно поскандалить с Монастыршиным (Монастыршин работал главным инженером шахты № 5), - до сих пор не представил мероприятия по подготовке к весеннему паводку, - изображал возмущение Махновский, протягивая руку вышедшему навстречу Зайцеву. Управляющий подчеркнуто крепко пожал руку Евсея Яковлевича и пригласил сесть за большой стол. Сам разместился напротив. - Как настроение, самочувствие? - спросил он. Махновский удивлён подобным обращением обычно сухого и строгого управляющего трестом, от удивления замедлил с ответом, этого промедления хватило Алексею Николаевичу, чтобы сообразить, какое словоизвержение начнется, и поторопился опередить: - Должен тебя поздравить, вот, смотри, - сказал он, протягивая Махновскому телеграмму с красным грифом “правительственная”. 245 Махновский бегло пробежал по тексту. Реакция была мгновенной, сначала брови поднялись к верху, потом вперил взгляд в наклеенный телеграфный текст и вопросительно уставился на Зайцева: - Как же это? Почему? Со мной никто же не разговаривал,.. - растерянно бормотал он. На какое-то время Махновский утратил контроль над собой, у него обмякли щеки, покраснел нос, опустился подбородок. Растерянность явно не вязалась с его внушительной солидностью, перебрасывая взгляд с телеграммы на Зайцева, несколько секунд он молчал, но вот замешательство прошло, Махновский выпрямил спину, вся его фигура вновь напряглась, словно в неё вкачали солидную порцию сжатого воздуха, блаженное самодовольство разлилось на лице, обретшем обычную наглую самоуверенность. Главный инженер треста, да ещё в родном городе! Он на коне! Возвращается из эвакуации не жалким беженцем, а набравшим силу и власть руководителем! Зайцев с почти нескрываемым презрением наблюдал за переменами в лице и фигуре Махновского, оказывается не трудно ублажить тщеславного чинушу, слава богу, так легко и просто отделался от него. - Кто же с тобой сейчас переговорами займётся? - усмехнулся Алексей Николаевич, - Москва не под боком, туда и обратно за полмесяца не обернёшься. Время военное, приказ подписан и, как говорится, обсуждению не подлежит. - Все равно как-то надо было предупредить. Ты же наверняка знал, мог бы сориентировать, не так бы внезапно, - Махновский говорил больше для приличия, чтобы не слишком бросалось в глаза управляющему его переполненное удовлетворением состояние. - Меня никто, разумеется, о твоём назначении не уведомлял, - прищурился Зайцев, - правда, некоторое время назад из наркомата звонили, расспрашивали о тебе. В каком духе я отвечал, думаю, из приказа понятно. Махновский понимал, что Зайцев говорит неправду или, во всяком случае, не всю правду. Да и о какой правде может идти речь - главное в новом назначении! Вот теперь он себя покажет! Хватит ходить на лапках перед всякими Зайцевыми! Вслух же сказал: - Мне же надо закончить дела, - изобразил он озабоченность, - план подготовки к весеннему паводку не закончен и другие дела... - Не беспокойся, теперь это не твоя забота, - не без иронии утешал радетеля за дело Зайцев, - найдется, кому доделывать. - У меня сын здесь в институте учится. Как с ним быть не представляю?.. - Он уже не ребёнок. Вернёшься домой, осмотришься, оформишь перевод в Москву в горный институт. Про себя же Алексей Николаевич подумал, быстрее бы убирался и сынок, не дурил головку юной Фае. Евсей Яковлевич из кабинета управляющего выходил степенно с высоко задраной головой, с довольной, сияющей улыбкой. 28 246 Вот и наступил праздник на нашей улице! Все, кто мог ходить высыпали на улицы Берлина, победителям теперь нет нужды укрываться от вражеского огня, и они предстают на улицах столицы фашистского рейха перед поверженными претендентами на мировое господство в скромном и величественном облике. Во всем городе на парадных и чёрных подъездах, на балконах, в окнах вывешены белые простыни, скатерти и другие белые тряпицы – самодельными белыми флагами берлинцы сигнализируют о своей полной капитуляции, о признании безоговорочной и блистательной победы советского народа. Немцы тоже на улицах, одни, в военной форме - обвисло, мешковато болтающейся на плечах - бредут в нестройных, в длинных колоннах по некогда славящимся образцовой чистотой улицам, другие, в основном женщины и ребятишки, стоят на тротуарах и обочинах, вытягивают шеи и всматриваются в лица шаркающих в колоннах, радости для них в этот день никакой, но и у них на душе облегчение, прекратился грохот канонады и мощных взрывов, треск пулемётов и автоматов, не требуется, согнувшись от страха, перебегать из подвала в подвал, ежесекундно дрожать за ребятишек, рвущихся на грохочащие улицы, страдать от голода и холода. Высматривают, нет ли среди пленённых родного, знакомого лица, и многие умудряются увидеть, подбегают, суют в руки свёрток или кошёлку с продуктами и бельём и какое-то время идут вместе. Советские солдаты - их поразительно мало, один от другого на десятки метров и, разумеется, никаких овчарок. - вразвалку шагают по обеим сторонам колонны, небрежно, наперевес держат карабины или автоматы, не препятствуют общению пленных с родными. В медсанбате в этот день - второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года работы не убавилось, раненые продолжают поступать, правда, не сплошным потоком, больше по одиночке, много забот с ранее поступившими, но разве можно удержаться и не посмотреть на белые флаги поверженных агрессоров? Врачи, сестры попеременно выбегают на ликующие улицы и с наслаждением вдыхают берлинский воздух, сегодня это сладкий воздух Победы! Евгения, глядя на бесконечное белофлажье, не отнимает от лица салфетки, слёзы непрерывно льются из глаз, не может понять отчего эти слёзы, от того, что дожила до Победы и видит счастливых, уцелевших в страшнейшей мясорубке людей или от того, что многих нет на этом празднике жизни. - Эх, Вася, Вася! - беззвучно шевелятся её губы, - всего несколько дней не дожил до этого торжества. Обидно, ох, как обидно! Сгинуть за шаг до Победы! Понимает она, кому-то достается погибать и в последнюю секунду войны, но почему именно ему?! Как это несправедливо! Как будто погибать когда-либо бывает справедливо, сегодня счастье сталкивается с несчастьем, а слёзы счастья и несчастья имеют одинаковый вкус. В тот день, день прощания с Василием, последнего свидания с ним, горького до боли сердечной, пока ее везли из артполка до медсанбата, она неимоверными усилиями удерживала разрывавшие грудь рыдания, с трудом удерживаемые слезы, изредка перекидывалась словами с водителем и Сашей Муратовым, которого командир полка отрядил сопроводить ее до места расположения . Не помнит, простилась ли с доставившими ее солдатами, 247 пробкой выскочила из машины и бегом в дом, где разместились врачи и медсестры, первой увидела Раю Лебедеву и бросилась ей на шею, тяжело навалилаясь на хрупкую девушку, у нее словно прорвало плотину - непрерывным потоком полились слезы, все тело затрясло, как при ударе электрическим током, от вырвавшихся, наконец, рыданий. Она плакала по бабьи, по русски со обильными слезами и причитаниями: - Погиб! Убила проклятущая немчура, нет больше моего Васеньки, сокола милого, солнышка ясного, не дали дожить до светлого дня, до Победы! Думала, половиночка моя, неотделимая, неразрывная, а ее родимую, кровиночку родную оторвали вместе с моей душой! Как мне дальше жить, эачем жить!? Фашисты поганые, еародились на нашу голову, сколько сильных, умных, самых лучших людей угробили! И моего Васю, кады ползучие! Какой это человек был – сердце необъятное, открытое, душа светлая, ласковая, таких, как он нет и больше не будет! Евгения почувствовала, кто-то дотронулся до её локтя, осторожно, боясь напугать или быть отпугнутым. Оглянулась, рядом стоял майор Воронов, потом разглядела, уже не майор, на новых золотистых погонах блистали по две звездочки подполковника. Появись Воронов в другой день, ни в момент победного восторга, возможно, нелюдимой хмуростью, не сходившей после гибели Вешнина с её прекрасного лица, или резким словом отпугнула бы его, но сегодняшнее её если не радостное, но вполне точно возбужденное настроение, как и подобное состояние всех русских в Берлине, пересилило гнетущую горечь, страдание и она, не задумываясь, пожала руку молодого подполковника, прислонилась к нему, радуясь, что в такой момент рядом с ней, если не родная душа, то всё-таки знакомый ей человек. - Здравствуйте, товарищ май,.. простите, товарищ подполковник, - смущенной улыбкой как бы оправдывала невольную оговорку, - Вас можно поздравить не только с Победой? - Здравствуйте! - радостно и нежно шепчет он, громко выражать чувства и поздравления в толпе, толкающей и сжимающей их, ему как-то неловко, спасибо за поздравление, недавно присвоили, а сегодня друзья из бывшего моего дивизиона, привезли новые погоны, парадные, их впервые ношу, до сих пор полевыми обходился, - словно оправдывался он, хотя, чувствовалось, что радость клокочет в нём и от Победы, и от получения нового воинского звания, понятно, знаменательного для столь молодого офицера. Евгения пытается выбираться из толпы, Воронов принялся локтями прокладывать ей дорогу, выбирались довольно долго, люди напирали со всех сторон, гражданские немцы и военные русские смешались, кое-где они уже заговаривали друг с другом, не зная чужого языка, умудрялись общаться. - Мне пора возвращаться, - Евгения поправила юбку и гимнастерку, сбитые на её чудесной фигуре при протискивании через возбуждённую толпу. Они расстались. Евгения заспешила в медсанбат, а подполковнику Воронову ничего не оставалось, как сесть в “виллис” и отправиться в полк. Она эту встречу не выделила из череды событий, происходивших вокруг в эти дни, что же 248 особенного в том, что встретила в толпе человека, разделившего её чувства в светлый миг Победы. Он же, Воронов, не разочарован встречей с Евгенией, в этот день он был как бы во взвешенном состоянии, война, которая до чёртиков опротивела ему, в конце концов завершалась - он выжил! Это главное! Конец войны – это возрождение явно осязаемого будущего, вновь обуревают надежды, а они у молодого, перспективного подполковника простирались далеко. Этим чувством - выжил и у него есть будущее! - он переполнен, не терпелось с кемлибо это разделить, в этот день он необычно много говорил, щедро выплёскивал свои чувства на бойцов и офицеров. Почти ничего не думая, заранее не планируя, по сошедшему на него подспудно желаемому наитию отправился в медсанбат, там ему сказали, что Евгения Станкевич на улице, туда убегают все, у кого выдается свободная минутка, день-то ведь какой! Он втиснулся в толпу и, словно по локатору, вышел прямо на неё, они ничего не сказали друг другу, кроме общих фраз приветствия и поздравлений, но он остался доволен, не отогнала от себя, а её порыв, когда прижалась к нему, ощущение её тепла, для него добрый знак надежды, знак на будущее. 29 Управление современным промышленным производством, по убеждению Алексея Николаевича, не может быть произвольным, полностью зависящим от того, кто им управляет. Выработать четкую систему управления, приобретающую со временем самодовлеющий, самоорганизующий характер, главная задача управленца. Он же, в его случае управляющий угледобывающим трестом, будучи органической частью этой системы, даже её сердцевиной, чтобы не выпасть из системы или не привести её к саморазрушению обязан дённо и ночно следить за исправностью управленческой машины, регулировать, подправлять, отлаживать в зависимости от складывающихся условий, внешних обстоятельств и возникающих внутри системы тенденций и проблем. Каждое практическое действие Зайцева определялось таким пониманием функций управления. Посещения шахт Алексей Николаевич совершал не по настроению или по чь ему-либо требованию, у него расписан план-график, в котором точно указано на каком предприятии, в какой день и в какую смену он должен быть. Предприятий же у треста, то есть под его началом, немало. Прежде всего это шахты и разрезы, осуществляющие главное предназначение - добычу угля. Каждая шахта и разрез в принципе могли бы обойтись без треста, на деле же, чтобы добыть, вывезти и сбыть уголь требуется выполнить уйму операций и действий, от которых напрямую или косвенно зависит нормальная работа шахтёров. Для этого в тресте имеются геологические, ремонтные, транспортные, коммунальные предприятия, в войну потребовалось создать продовольственное хозяйство, названное отдел рабочего снабжения - ОРС - с совхозами, переработкой продутов питания, хранением и торговлей, в тресте своя служба спасения: на шахтах нередки пожары, взрывы, обвалы, прорывы воды, существует даже специальное предприятие по тушению подземных пожаров. 249 Соблюдение графика посещений предприятий для Алексея Николаевича неукоснительный закон, который он строго соблюдает и никому не позволяет его нарушить, случись на шахте беда, несчастный случай или авария, и Алексею Николаевичу приходится по этому поводу туда выезжать, он все равно не отменит планового посещения данной шахты. “Обмывание” звания Героя не внесло корректив в график, намеченное посещение в ночную смену шахты №5 состоялось. Начальнику шахты Петру Тимофеевичу Федоренко, активно поддерживавшему все тосты, ночной визит управляющего, в этот день, что кость в горле. Алексей Николаевич смилостивился, и не потащил его с собой в шахту, но лучше бы обойтись без этой милости. - В шахту пойду с главным инженером, - заявил Зайцев. - Николай Тимофеевич, если не умеешь пить водку, то переходи на молоко. Настоящий руководитель не потерпит, чтобы это зелье управляло им. На следующий день, в полном соответствии с графиком, управляющий трестом отправился на шахту “Забитуй”, расположенную на территории сельского района. По ходу разбора выяснилась необходимость встречи с районным руководством, оно уж слишком чрезмерно сваливает на шахту некоторые из своих забот. Начальник шахты неказистый, но юркий Сатохин взмолился: - Людей и без того не хватает, а шахте установили задание посадить почти сто гектаров картошки. Ребята из мехцеха сработали специальную машину, чтобы меньше людей отрывать. Так райком новое задание преподнёс - выделить полсотни человек на посев зерновых, а райисполком выдал разнарядку на вывоз заготовленной древесины, у леспромхозов, дескать, своего транспорта не хватает, на шахте же за войну не только машины, но и телеги чинены-перечинены, на каждом метре разваливаются!. Давят так - хоть в петлю лезь! Целую ночь Алексей Николаевич провоевал в райцентре, добился немногого, секретарь райкома партии и председатель райисполкома, в свою очередь, пытались его приезд использовать, чтобы ещё поднагрузить и шахтёнку и трест. Не смог втолковать им, что и горком партии, где размещён трест, и другие районы на него тоже наседают, на трест сейчас такие требования по увеличению добычи угля взвалили, только успевай поворачиваться. Районному начальству на проблемы треста наплевать, у них своих забот предостаточно, в том числе и шахтёров кормить надо. Зайцев понимает, война по селу ударила сильнее всех, но невозможно же без конца доить трест. Дома, тоже оказывается, его ждали с нетерпением. - Где же запропастился? - чуть ли не с порога напустилась тетя Настя, секретарша одно талдычит, скоро должен возвратиться, у него дела. Как будто в доме у тебя никого не осталось. 250 Привычку тёти Насти поворчать Алексей Николаевич знал, это ему порой надоедало, иногда не без резкости обрывал ворчунью. По бегающим глазам, по чрезмерной суетливости почувствовал, на этот раз она ворчит не по привычке, похоже, что-то её грызёт, решил не торопить расспросами, сама выложит, скорее всего, какая-нибудь бабья чепуха. Ужин ожидать не пришлось, тётя Настя готова накормить хозяина в любое время. Пока он расправлялся с холодной курицей она, усевшись напротив, уперев голову на подставленные ладони, время то времени тяжко вздыхала. - Выкладывай, тётя Настя, что у тебя, - принимаясь за первое блюдо, прервал Алексей Николаевич очередное её воздыхание. Тётя Настя заёрзала на стуле, убрала голову с ладоней, навалилась грудью на стол. - Не знаю, как и сказать тебе, - выдохнула она. - Говори прямо, не крути и не вздыхай, словно воз везёшь. Терпение у него на исходе, в кои веки удалось вырваться домой, пообедать по человечески, вкусить настоящкй человеческой пищи, а не столовской бурды, а тут вздохи-охи, намеки, недомолвки. - С Фаей, мне кажется, неладное,.. - тётя Настя подбирала слова, боялась вымолвить это самое неладное. Алексей Николаевич строго взглянул на неё, такого взгляда из-под лобья, когда из глаз в неё вонзались, будто длинные жгучие лучи-стрелы, она боялась пуще самых строгих слов. - Всё этот Вадька Махновский, будь он трижды проклят… - Что он натворил? – за молниями раздался раскатистый гром. - Пришла похоронка,.. моего брата убили проклятые фашисты,.. – жалостливо всхлипнула тётя Настя, - я поехала к маме... - При чём тут похоронка? – гром нарастал. - Как при чём? Брат, всё же. Так вот к утру возвратилась, а он, Вадька, у нас, она в одном халатике,.. - причитала домоправительница. Алексей Николаевич со злостью бросил нож и вилку, как ужаленный вскочил из-за стола и, разъяренно заметался по кухне. В этот момент кухня тёте Насте напомнила клетку в зверинце, что приезжал в город ещё до войны, в той клетке вот также зло, с пугающим рыком метался страшный в гневе тигр. - Всех добрых людей на войну забрали, а этого, как бугая колхозного, на развод оставили,.. - продолжала причитать тётя Настя, утирая фартуком слёзы. - Где Фая?! В голосе Алексея Николаевича было столько металла и злости, что бедная женщина в страхе вскочила со стула. - Да он же Вадька... по телефону... сманил её. Сказала, что в кино... Надо бы прийти,.. сеанс-то кончился,.. – беспомощно, заходясь в страхе, лепетала тётя Настя. 251 Окажись Фая в эту минуту дома, трудно представить, что мог натворить Алексей Николаевич, накричать на неё, даже прибить, слава богу, её под рукой не оказалось, клокотавший в нём гнев медленно спадал, в голове сплошная муть, не может уловить ни одной разумной мысли, одно самобичевание. Как он теперь взглянет в глаза Евгении? Не уберёг, не сохранил девочку! Ещё один тяжкий груз на его душу! Не прощён прежний грех, а этот навсегда оттолкнёт её от него, хотя и без того надежды на возвращение Евгении почти улетучились. Фая ему до сих пор светила, как яркий маячок, но и этот шанс он упустил, прохлопал! Подлое Махновское отродье! Попадись ему этот Вадька! Кстати, действительно, почему он не там, где все? Студент? Папаша от войны прикрыл? В институте одни девчонки и он среди них как индюк между индюшек! Завтра же разберусь! Он долго метался, укрощая гнев и бешенство. Тётя Настя, постаралась незаметно выскользнуть из кухни и затаилась, от греха подальше, в своей каморке. Успокоение наступало не очищающее, после которого на душе становится чище, легче, а мысли проясняются, напротив, спокойствие приходило вместе с давящей тяжестью, чувством греха и вины. Кто он для Фаи? Отец? Какие у него права на неё? Она уже достаточно выросла, чтобы понимать его истинное положение в этой семье, которой, собственно, никогда не существовало, жила с ним рядом, он этому радовался, она была ему нужна, пожалуй, больше чем он ей. А был ли грех? Что же всё-таки случилось с Фаей? И случилось ли вообще? Мало ли что померещилось глупой бабе? Эта мысль осенила его как успокоительное средство, хотя в глубине сознания он чувствовал её иллюзорность. Фая появилась ближе к полуночи. Дверь открывала тётя Настя, Алексей Николаевич заметил, что они не обменялись не единым словом. Это подтверждало, что сообщение домработницы всё-таки не бабья выдумка. По свету из кухни Фая поняла, что Алексей Николаевич там. Она не бросилась, как бывало всегда, на шею папочке, а подошла к нему насторожено и чмокнула в щеку, словно исполняя ритуал и не больше. Алексей Николаевич наблюдал за каждым её движением, ему всё больше и больше казалось, что он видит не Фаю, а другую девочку и, скорее, не девочку, а вполне взрослую девушку. В плавных и осторожных движениях Фаи, в строгом и ускользающем взгляде её серых с прозеленью глазах напряженная решительность, она, ощетинившаяся, ожидающая нападения, накалена до предела, словно перегретый утюг, плюнь и зашипит,. 252 Алексей Николаевич, между тем, не сводил с неё глаз. Куда исчезла та милая, наивная девочка, укрощавшая его усталого, замотанного беспощадной работой милым щебетаньем, ласковыми прикосновениями, радостью видеть его? Сегодня он видел изумительно прелестную девушку. Когда произошло перевоплощение и как он этого не заметил? Вдруг обнаружил, что смотрит на Фаю, на эту юную и прекрасную женщину, глазами мужчины и ужаснулся кощунственности своего ощущения, но смотреть на это юное существо по-прежнему не мог. До чего же прелестна! Евгения, пришло на ум, безусловно, красавица, но эта - её дочь намного превзошла мать! Тонкие, аристократичные черты лица - небольшой, прямой небольшой носик, чуть припухлые губки, заострённый, словно отточенный подбородок, аккуратненькая головка с высоко уложенными волосами, открывающими чистый мраморный лоб. А как двигается - легко, изящно, волнующе. Подумал- волнующе - и смутился, она же дочь его! Боже мой! Какая же дочь, она, если точно определить, а Алексей Николаевич всегда формулирует ясно и чётко, она для него такая же девушка, женщина, каких он встречает в городе, на шахтах, в институте, словом, повсюду. Такая же и не иначе, кровного родства у них нет! Фая подогрела чайник, налила чай в большой фарфоровый бокал, спросила: - Тебе налить? – спросила равнодушно, больше из такта, а не из желания, как редко, но бывало, посидеть с ним и поговорить по душам. Не слова не сказав, он бросил на неё тяжёлый взгляд и поспешно удалился к себе в спальню. Не выспавшийся, разбитый и опустошённый Алексей Николаевич появился на работе, как обычно, к восьми утра, чтобы не случилось, заведённый порядок не должен нарушаться. Происшедшее с Фаей потрясло его, потрясло не самим фактом, в женской безупречности он давно разочаровался - Клавдия, его первая жена, своей изменой нанесла незабываемый удар по его, когда-то восхищённому, доверчивому отношению к женщинам. После нее он не верил и Евгении, всегда подозревал её в неверности, хотя застать, как Клавдию, с кем-либо не сумел, именно не сумел, так как в глубине сознания жила уверенность, что его подозрения не безосновательны. Пошленькая связь с циничной Галиной Поповой окончательно расшатала его веру в женские добродетели. Проступок Фаи, так он называл её грехопадение, боясь даже перед самим собой дать истинное определение, потряс его тем, что он упустил из сознания неотвратимую возможность её повзросления, и обречённую предназначенность рано или поздно стать женщиной. Оказался не готовым признать это как естественное течение жизни. Фаю он ни в чём не обвинял, винил в происшедшем только самого себя, не предусмотрел, он же Зайцев, все и всегда просчитывающий на много шагов вперед, не уберег, не оправдал надежд, собственных и Евгении. Он виновен, что не пресёк вовремя похотливые преследования Фаи этим мерзавцем Вадькой, как с презрением называла его тётя Настя - этот поганый дезертир, запрятавшийся от фронта в сибирской дали, за всё ответит! 253 В памяти всплыли злые слова тёти Насти - всех, мол, добрых людей на фронт отправили, а этого бугая на развод оставили. На самом деле, здоров, как бык и не на фронте? Как сумел спрятаться от войны, удрав от неё сюда, чуть ли не на край света, в Сибирь? Болен? Не похоже, действительно бугай краснощёкий! Студент? Сейчас полно студенток, а из парней одни покалеченные, не всем же дают бронь от армии. Папашины замысловатые ходы? С Махновским-старшим он решил очень удачно, на днях отправится к чертям собачьим, вернее, к себе, в Подмосковный рай. и сынка поганого увезёт, слава богу. А почему, собственно, должен увезти? Армия пятилась назад и он махнул на другой конец русской земли, армия двинулась вперёд на запад и он в ту же сторону за ней. Будет добывать диплом инженера здесь, пока сердобольный папаша не приготовит своему чадо тёпленькое местечко. И по-прежнему будет с Фаей?! Этого допустить нельзя! Следующим утром Алексей Николаевич, сразу по приходе в служебный кабинет, набрал номер городского военкома. Длинные гудки, ещё не заявился на службу майор Кабанов, прохлаждается, наверное, в постели? Другие в окопах мерзнут, под пули лезут, а он к теплой женушке прижимается! Господи, боже мой! Что же он, Зайцев, с ума сходит, подобную напраслину городит, майор уже досыта навоевался, изувечен, оттого в военкомы попал, что к фронтовым тяготам не пригоден, от досады на собственные поганые домыслы Алексей Николаевич с силой сплюнул, тьфу, ты! Точно в девять часов снова набрал номер военкома, тот, как и надеялся, на месте…. - Сергей Ильич! Доброе утро! - приветствовал управляющий трестом военкома, в голосе спокойствие, даже приветливость, - узнал? Да, это Зайцев. Как твои успехи? С майором Кабановым он хорошо знаком, оба члены бюро горкома партии в силу своих должностей. В ответ на вопрос управляющего, майор пожаловался на нелёгкую свою участь, каждый день на него жмут новыми разнорядками, заданьями, фронт непрерывно требует пополнения, а у него весь резерв исчерпан, некого призывать на военную службу, одни старики да пацаны не доросшие остались. Вот и к месту вставить словечко о сыночке Махновского. - Не всех подчистил, Сергей Ильич. Ты, видимо, в городе редко бываешь, по улицам не ходишь? Взгляни, какие там молодцы разгуливают, хоть сейчас в гвардию зачисляй! Вот, к примеру, Вадим Махновский - цветущий, кровь с молоком, давно пора Родине послужить, а он в тылу баклуши бьёт... Посмотри, посмотри... Любопытно, что обнаружишь. Поговорив с майором о том о сём, Алексей Николаевич положил трубку, уверен, при безлюдье военком доберётся до бугая и отправит его туда, где ему давно пора быть. 254 Долго хандрить из-за бессонной ночи, из-за тяжких дум-раздумий о своей и Фаиной судьбе-печали Зайцеву не пришлось, только включился в круговертьработу, как все недомогания исчезли, вроде их и не бывало. Телефонный разговор с военкомом всего лишь лёгкая разминка, поговорил и забыл о нём, хотя отлично представлял, что последствия от разговора будут те, на которые рассчитывает. К девяти часам трестовские кабинеты заполнились чиновным людом и жизнь, как вода в самоваре, закипела, зашипела, забулькала. По утрам каждодневная перекличка - отчёты по проводам начальников шахт и разрезов, как правило, перекличку ведет Дмитрий Васильевич Панжин. При острых моментах микрофон перехватывает Алексей Николаевич и шахтовые начальники шарахаются от невидимого, но тем не менее грозного управляющего, спрос у него такой, что у многих поджилки трясутся. - Мацовкин, - вопрошает управляющий, - опять удивлять всех решил? Накопил минус с начала месяца более пяти тысяч тонн, что Ермолай-забойщик за тебя будет на фронт работать? Так не надейся, его косточки, как и самого Рассушина давно истлели. Рассушин - это дореволюционный шахтовладелец, разрабатывавший угольные копи как раз там, где ныне шахта № 8, на которой начальствует опытнейший и спокойнейший, уверенный в себе Павел Васильевич Мацовкин, его пронять труднее, чем других, потому и хватает его управляющий за самые чувствительные места, притягивает никогда не существовавшего Ермолая-забойщика. План! План! План! Молится на него управляющий, поклоняется ему и ради выполнения плана добычи угля выматывает души и вытряхивает потроха у своих подопечных. Его приучили выколачивать план с грозно-памятного тридцать седьмого, а теперь к преклонению перед планом он жёстко и неотступно приучает других. План - это неумолимый закон! Закон, от которого не отступить и не убежать, от плана, от его выполнения зависит абсолютно всё: и фонды на оборудование, и зарплата, и премии, и продовольственные карточки, и Красные Знамена победителям за перевыполнение планов. В этот день главный инженер проводил перекличку без подключения Зайцева, не потому, что тот отсутствовал или не было повода для его вмешательства,.управляющего отвлёк к аппарату ВЧ - особая правительственная связь - первый секретарь областного комитета ВКП(б). - Алексей Николаевич, подъезжай, пожалуйста, завтра в обком партии, есть необходимость посоветоваться, обсудить некоторые весьма важные вопросы, поступило постановление ГКО по совершенствованию управления угольной промышленностью. Не исключено, что придется слетать в Москву. Звонок необычный. То, что сказал первый секретарь обкома мог передать любой работник аппарата, тем более, что за войну расплодилось одних секретарей обкома чуть ли не до дюжины: по военным делам, по кадрам, по лесу, по транспорту и так почти по каждой отрасли, значит, за обращением первого таится что-то из ряда вон выходящее. 255 Ехать к областному руководству не к соседу сходить рюмку выпить или в бане помыться, требуется быть во всеоружии, готовым ответить на любой вопрос. Потому и сборы Алексея Николаевича к завтрашней поездке были весьма обстоятельными. В приёмной первого секретаря областного комитета ВКП(б) ожидали своей очереди предстать перед высшим руководителем области около десяти человек и Алексей Николаевич чертыхнулся - сколько времени пропадёт, пока переждёшь притихшее здесь начальство, пока каждый не получит свою долю похвал или нагоняя.. Однако, не успел отрекомендоваться немолодой, нахохлившейся секретарше, регулировавшей эту очередь, как его заметил заведующий общим отделом обкома Емельянов. - Алексей Николаевич, я приветствую Вас, - высокий сухопарый старик быстро шаркал к нему, протягивая истончённую руку, - Николай Николаевич ждёт Вас, сейчас я ему доложу. Зайцев практически не знал этого старика, довольно редко обращался к областному партийному руководству, с него достаточно и местного, городского. Емельянов же работал в обкоме чуть ли не с гражданской войны и по должности своей и по личностному складу всё и о всех помнил. Он, по-старчески сутулясь, вышел из приёмной и вскоре вернулся с тонкой красной папочкой, на которой чёрным выделялось “для доклада”. Емельянов, как бы не видя сидящих очередников, открыл массивную дверь в кабинет первого и скрылся за ней. Не прошло и минуты, как из этой двери вывалился невысокий тучный человек, вытиравший рукавом пиджака блестевший от пота лоб. - Ох-х, - облегчённо вздыхал он, - слава богу, кто-то выручил, отпустил с миром, а то, кто знает, чем обернулось бы. Он робко, бочком, изображая нечто напоминавшее поклоны, выбирался из приёмной. Зазвонил телефон, как сообразил Зайцев, напрямую соединявший первого с приёмной. - Товарищ Зайцев, - обратилась секретарша, - проходите, пожалуйста, - она кивком указала на дверь кабинета. Уходящего через заветную дверь внезапно появившегося посетителя провожали вздохи, у одних это вздох облегчения, они не спешили к первому, радовались, что ожидаемая не из приятных встреча на какой-то миг откладывается, другие же тяжело вздохнули от огорчения, что томительное ожидание продливается. Навстречу Зайцеву из-за большего письменного стола степенно, с небольшой развалкой вышел первый секретарь обкома партии Николай Николаевич Качалин. На крупном мясистом лице приветливая улыбка, означавшая и покровительственное уважение к Алексею Николаевичу и удовлетворение от его появления. Пригласив усаживаться за приставной столик, с одной стороны которого сидел Емельянов, первый объявил: - Прочитай постановление ГКО, - Емельянов пододвинул к Алексею Николаевичу красную папку. 256 Текст в постановлении был короткий и первый, увидев, что Зайцев с ним ознакомился, продолжал: - Как ты понял, образуется комбинат, объединяющий угледобывающие тресты нескольких восточных регионов, размещаться будет у нас в областном центре. Все организационные вопросы обком партии по согласованию с наркомом возлагает на тебя. Первый пристально наблюдал как Зайцев реагирует на его слова, но Алексей Николаевич давно освоил науку не выказывать наружу свои эмоции, хотя в данном случае для их проявления повод более чем достаточный. - Сегодня же отправляйся в Москву, там будет принято окончательное решение и дадут необходимые инструкции. Александр Васильевич, - первый показал на Емельянова, - оформит командировку. - Не знал о такой срочности, - с долей недоумения отвечал Зайцев, совершенно не подготовился для поездки в Москву. - Тебе незачем заботится об этом, - отмахнулся первый, - Александр Васильевич скажет Москвитину, тот обеспечит всем необходимым. Москвитин, насколько осведомлен Зайцев, в обкоме занимался хозяйственными делами. Вечером этого дня Алексей Николаевич уже подрёмывал в самолете ИЛ-14, доставлявшем его в столицу. Заботливый Москвитин обеспечил запасом свежих сорочек, продуктов и некоторыми предметами для вручения кому потребуется. Москвитин своё дело знал твердо. 30 Над Берлином ясное голубое, как всюду, небо с редкими, скучно плывущими белыми облаками. Как и везде в России, здесь тоже сияло яркое майское солнце, оно и поверженном городу отдавало положенную дозу тепла и света. Всю войну радио и газеты вбивали солдатам в головы, что германская столица это мрачный и серый город. Ещё до нападения немцев на Советский Союз Александр об этом же читал в некоторых книгах - у Тургенева, Федина.. - Товарищ, комвзвода, - обратился к Муратову телефонист Тютюнников, ребята хотят немного побродить по улицам, Берлин взяли, а города не видели, по подвалам рыскали да к стенам домов прижимались. С назначением Александра командиром взвода связи форма обращения к нему несколько изменилась, хотя он и моложе многих своих связистов, не будут же они его по-прежнему кликать - Сашка или по фамилии - не принято солдатам так общаться с командиром любого ранга. И, как бывало в подобных случаях, к нему стали применять сокращённое название по должности – комвзвода, коротко, звучно и понятно. Конечно, командир взвода сам не прочь посмотреть покорённый город, за который отдано столько жизней, ради чего терзались в беспокойные дни и бессонные ночи? Забежал в комнатушку, где разместился командир штабной батареи доложить об отлучке. Старшему лейтенанту Юдину не до рапорта 257 командира взвода, он с старшиной Михеевым с ночного стихийного салюта отмечает капитуляцию противника, повод выпить он всегда находил, старшина этим его пристрастием умело пользовался и держал для комбата неснижаемый запас спирта. Солдатам, понятно же, хотелось пройтись по центральным улицам германской столицы, добираться от Сименсштадта пешим образом ухлопаешь весь день, - Берлин всё-таки не райцентр, Начитанный Муратов просвещал своих спутников: - Берлин занимает площадь в восемьсот девяносто квадратных километров, до войны в нём проживало почти четыре с половиной миллиона жителей, город разделялся на двадцать районов. Александр и весело шагавшие с ним солдаты до этого не видели крупных городов. Путь их полка пролегал через Варшаву, но польскую столицу они увидели в жутких руинах, над разрушением её немцы поработали с беспощадной основательностью, по-варварски, полк вошел Варшаву и простояли там несколько пасмурных январских дней с моросящим в тумане дождём, что придавало разрушенному городу ещё большую мрачность и производило на его освободителей города гнетущее впечатление. Сияющее майское небо, свежая зелень изрезанных осколками деревьев сливались с победным настроением, с душевным подъёмом, восторженной радостью солдат, ещё не до конца осознавших реальность - наконец-то, наступившего, мира, поэтому, или это было на самом деле, Берлин даже в разрухе казался Александру не только крупным, но и величественным городом, и не от одного вида улиц, по которым они шли, внимательно осматривая всё попадавшееся на глаза по дороге. В Сименсштадте русский солдат видел внушительную мощь германской индустрии, среди развалин возвышались длинные заводские корпуса с огромными закопчёнными окнами и полуразбитыми фонарными крышами, вид заводских корпусов и высоких каменных труб вызывал у Александра уважительное отношение, сейчас он не задумывался, что в этих корпусах изготовлялось оружие против его страны и он только чудом уцелел от применения этой смертоносной силы, пробивалось чувство своеобразной гордости, что мы устояли против немецкого индустриального могущества и даже заставили признать советское превосходство, капитулировать перед ним. - Муратов! Саша! - вдруг услышал женский крик. Обернулся, увидел как сквозь завалы разрушенного и перекрывшего большую часть улицы здания медленно пробирается полуторка. В её кузове стояли женщины в военной форме, кричала Евгения Станкевич. - Привет, землячка, - поднятой рукой приветствовал Александр её, - куда вас везут? Не Гитлера ли ловить? - Без нас схватят. Мы к рейхстагу! Надо же посмотреть что это за чудище, в последние дни раненые поступали в основном оттуда. - Нас не прихватите? - в шутку спросил Муратов, за минуту до этого он даже не помышлял добраться в этот день до центра. Красноармейки дружно застучали по верху кабины, машина остановилась. Солдаты, не мешкая, одним рывком оказались в кузове, в девичьем окружении. 258 Пробравшись через завалы, машина прибавила скорость, молоденькие врачи и сёстры ни минуты не молчали, шумно реагировали на увиденное, верещали как весенние птицы на вспаханной пашне. - Смотрите, - показала девчушка с солдатскими погонами на пробирающихся по остаткам тротуара людей, - это же не немцы? - Это, наверное, освобожденные из лагерей, - отвечала лейтенант медслужбы, по виду не намного старше кричавшей девчонки. - Видите, полевые кухни выкатили на улицы - какие очереди! - Если бы не эти кухни все берлинцы концы бы отдали... - Майор Мухаметшин говорил, что прилетел Микоян специально для организации продовольственной помощи немецкому населению, - негромко сказала Евгения, за талию которой схватился Александр. Чтобы сохранять устойчивость и равновесие в кузове пробирающейся по развалинам машины все держались друг за друга. Вдали от дома, в Берлине как-то особенно произносились слова Родина, земляки, Советские люди выступали чаще как русские, не зависимо от того, какой они были национальности, из каких республик, краёв и областей их выдернула война. В то же время усталость от измучившей всех людей войны, запредельная тоска по привычным родным местам, по любимым и близким людям проявлялась в обострённом чувстве землячества, земляки тянулись один к другому, радовались случаю, сведшему их в чужих краях, между ними устанавливались особые отношения. Евгения и Александр не были прежде даже знакомы, но, встретившись на фронте, почувствовали взаимное притяжение, невзирая на разницу в возрасте, на различие их судеб, на то и дело сводившие их события, ещё больше ощущали земляческие чувства. Близко подъехать к рейхстагу не удалось, улицы запружены машинами, толпами военных и гражданских, пришлось выпрыгнуть из машины за несколько кварталов от него. Капитан медслужбы, как понял Александр, старшая в шумной команде, предупредила: - Через два часа быть возле машины, ждать никого не будем! Медсанбатовцы и связисты тотчас растворились в массе непрерывно двигавшихся, шумных и любопытных людей, устремлявшихся в сторону рейхстага. Александра с его спутницей в военной форме, задержала группа гражданских, не трудно распознать, что это были не немцы. - Работали здесь на заводах, а вон те девушки из Бельгии жили в деревне у бюргеров. В качестве переводчика выступал щупленький паренек в тёмном застираном свитере, как выяснилось, он хорват, работал на заводе вместе с русскими и говорит по-русски довольно сносно, вставляя хорватские слова, которые по созвучию Александр и Евгения могли понять без труда. Красивая женщина в военной форме весьма заинтересовала случайных разноплемённых собеседников. - За... бо-е-вые... зас-луги,.. - по буквам разбирали они слова на медали, как будто специально уложенной на Жениной мягкой груди, и каждый благоговейно 259 старался прикоснуться к награде. Название медали хорват перевел на польский язык, а на остальные представленные здесь языки перевод шёл как бы по цепочке, в глазах, в тональности слов, которыми обменивались друг с другом незнакомые люди, виделось и слышалось восторженное удивление. Еще бы! Встретить героическую и красивую русскую женщину в числе их освободителей! Не меньшее любопытство проявлялось и к медалям “За отвагу!” и к их владельцу, очень уж молоденькому солдатику. Слова Россия, Советский, Красная армия, произносимые с различными акцентами и искренним восхищением и молоденькому солдату и русской красавице-военной казались относящимися не к ним - Евгении и Александру - а ко всему советскому, русскому. Полупонятными, идущими от души и сердца словами, восхищёнными, сердечными улыбками, осторожными прикосновениями, непрерывными рукопожатиями «люди разных народов» пытались выразить восторженные чувства нечаянным полпредам советского народа. Двигаясь вместе с толпой, сибиряки добрались, наконец, до рейхстага. Было видно, как много снарядов и пуль досталось зданию от артиллерийского и миномётного обстрела, от огня стрелковых подразделений. Разрушенные стены, израненные колонны поддерживали многократно продырявленный сферический купол, над ним гордо реяло Советское Красное Знамя! Виднелось ещё несколько красных флагов, установленных в различных местах в ходе боёв. На стенах и колоннах выцарапаны или наскоро начертаны надписи: “Победа!”, “Мы в Берлине!”, “Да здравствует СССР!”, множество других слов и не сосчитать имен и фамилий, представляющие почти все народы страны-победительницы. - Увековечимся?! - прошептал Александр своей землячке. Евгения не успела сообразить, о чем говорил Муратов, как он, схватив осколок красного кирпича, уже вскарабкивался на стену рейхстага, хватаясь за выступы и пробоины. Добираться пришлось довольно высоко, ниже не оставалось места для надписи, Евгения видела, как одна за другой выцарапывались буквы “С-т-а-н-к-ев-и-ч”, она смеялась и размахивала руками - зачем, мол, - и в то же время с радостью разглядывала свою фамилию. Александр, оставив рядом свою фамилию, осторожно спускался со стены рейхстага. Женя и окружавшие её иностранцы смеялись, что-то выкрикивали, хлопали в ладоши. Женя прижалась к вернувшемуся Александру, мягкая и теплая, и шептала, смеясь: - Ну, зачем на стену полез, дурачок, сфотографировать бы тебя на стене... На обратном пути машина оказалась переполненной, водителю пришлось почти силой устранять перегруз. Солдаты, поехавшие с комвзвода, оказались расторопными и после удаления лишних, произведённого водителем, остались в машине, Александр заметил, что у каждого из них рядом спутница из медсанбата. Подъехали к расположению полка. Евгения решила сойти с машины. - До медсанбата недалеко, дойду пешком, - объяснила она. Александр, взглянув на землячку, понял, что у неё нет стремления спешить в медсанбат, разве там дадут отдыхать, ещё много раненых и все требуют ухода, внимания, из медсанбатов и госпиталей война уходить не торопится и останется 260 там пока не выпишется последний пострадавший в боях. В артполку война закончилась разом, её, как отрезало, и солдаты начинают по-новому исчислять время - на войне и после войны. Земляки медленно прохаживались вдоль барачной улицы Сименсштадта. Грустная Евгения шла с пилоткой в руках, опустив голову, слабый ветерок пробегал по её волосам, приводя их в беспорядок, она машинально, легким взмахом водворяла выбивающуюся прядь на место, но ветерок, словно заигрывая с молодой женщиной, вновь растрепывал русые пряди. Александр тоже не спешил в полк, к своему взводу, хотя отлично представлял, что занятий там вполне достаточно, надо по-хозяйски разобраться с коммутаторами, телефонными аппаратами, рациями, катушками с проводом, и ребята в такой день нуждались в присмотре. Весёлое, даже восторженное его настроение, вызванное объявлением Сталиным конца войны, не исчезло, но печальный вид Евгении вносил в это настроение грустную нотку, глядя на неё, он представлял старшего лейтенанта Вешнина, а дальше сознание выносило, как выносит буквы телеграфная лента из кладовых памяти одного за другим тех, кто с ним шагал по длинным и путаным дорогам войны и не дошёл до победного финиша. - Вася всего неделю не дожил, как бы сегодня радовался, - не поднимая головы, проговорила Евгения, - он так часто говорил, как будем жить после войны, намеревался заняться наукой, у него такая склонность была. Евгения говорила больше для себя, хотя в присутствии Александра вспоминать о Василии ей было легче, он ведь знал его и какую-то часть тяжести, обременявшей её, как бы брал на себя, голос у Жени грудной, идущий из глубины и она не просто говорила, а будто нашёптывала молитву, успокаивая ею отошедшую душу Василия и вносила успокоение в свою душу, осиротевшую, изнемогающую. - Понимаешь, Саня, - от того, что она обратилась к нему не по фамилии, назвала не Александр и не Саша, а так как его дома звала мать и родные, Евгения стала ему ближе, роднее и он, не замечая этого, взял её за руку, - его нет, а всё вокруг такое же как было и при нём - и солнце, и чистое небо, и листья зелёные, и ветерок также дует, будто Васи и не было на этом свете. Все радуются и я не меньше других радуюсь - война всех измотала. Всё есть, все радуются,.. кроме него!.. Неужели только для того и приходил в эту жизнь, чтобы полюбить и исчезнуть, словно лосось. Лосось хотя бы потомство после себя оставляет, а от него? Она произносила печальные слова, не повышая голоса, поэтому слова продолжали звучать молитвой, с которой она к кому-то обращается. Александру очень хотелось сказать ей что-то доброе, успокаивающее, но подходящие к случаю и к её настроению слова, не приходили на ум, он приподнял её руку, и она поняла, что он проник в её чувства, её мысли и тоже думает о Василии. - Какая штука жизнь! - Женя сжала его руку, - всё, кажется, рушится, гибнет, а жизнь продолжается и требует своего. Сегодня в медсанбате будет праздничный ужин, так отметим Победу... - У нас тоже праздник собираются устроить, - вставил Муратов. 261 - И никому нет никакого дела, что его и многих не будет на этом празднике Победы, его, их Победы! - не обращая внимания на слова Александра, печально говорила Евгения, - и я буду праздновать, буду радоваться, буду петь и плясать. Вот такая она жизнь! Даже в самый тяжкий момент нужно жить, радоваться, любить!! Александр не мог уловить, чего же больше в словах Евгении, печали или радости? Он внимал её словам, как школьник слушает учительницу, объясняющие неизвестные до этого понятия. - Война, слава богу, наконец-то, в прошлом, с ней многое уходит, но мы еще не представляем, что на нас теперь наваливается то, что война отодвинула от нас. Для таких мальчиков, как ты, что почти из школы прямо в это пекло, мирная жизнь вроде сплошная радость, одни удовольствия. Бедненькие, что вас ожидает? - Что же такое нас ожидает, чем ты пугаешь? - Нас, такую ораву здоровых, работящих людей не будут же вечно держать в армии, - усмехнулась медсестра, - мы привыкли в армии жить на готовеньком, о нас думают, нас кормят, одевают, обувают, конечно, не за красивые глаза, за всё это расплачивались чаще всего жизнью. Если эту “мелочь” отбросить, то в армии мы как у Христа за пазухой, утром едва разодрал глаза и уже спрашиваешь, как там, на кухне, готовы ли тебя накормить? - Ну и что же? - Вот то-то же, - Евгения подняла голову и каким-то оценивающим взглядом окинула солдата, будто прикидывала на что он способен, - на гражданке придется самому о себе заботиться, самому, как выражаются, добывать и хлеб и кров. Возьми, к примеру, меня, куда мне податься? Специальности, считай, никакой. Секретарь-машинистка?! Но не хочу прислуживать кому-то, угождать, лакействовать! Не в том возрасте и войну прошла. На чёрную работу или в колхоз тоже не тянет. А у меня дочь Фая, на ноги надо её поставить. Александру понятны мысли Евгении, не один раз задумывался, чем же займётся после войны, о том же, что доживёт до её окончания никогда и мысли не возникало. Живому - живое и здесь сознание действовало автоматически, а если не доживет до Победы, тогда ни думать, ни сожалеть не придётся. - У меня специальность есть, успел горный техникум закончить, - почти задорно по-мальчишески сказал Муратов, - я хочу дальше учиться. Мне обязательно надо учиться! Слова “обязательно надо учиться” звучали и как сильное желание, и как вызов кому-то, кто мог воспрепятствовать его стремлениям. - Ты еще совсем молоденький, - по-матерински трогательно произнесла Евгения, - и учиться будешь, и женишься, семья будет... Она говорила это так, будто сожалея, что у неё такого будущего уже нет. - Ты тоже не старушка, - улыбнулся Александр, весело глядя на её удивительно молодое красивое лицо. - Что ты понимаешь в возрасте, - вздохнула Женя, - у женщин своё летоисчисление, мои лучшие годы растеряны через всякие мытарства и как 262 дальше моя жизнь устроится одному богу ведомо. У тебя дом есть, мать ждёт, сёстры, а мне куда податься? C Васей и не думала об этом, а теперь? - У тебя же, говоришь, есть дочь, - удивлялся её беспокойству Александр, - к ней и поедешь. - Это проще сказать, чем сделать, - с горечью сказала Евгения и снисходительно посмотрела на собеседника, трудно, мол, ему, юноше ещё, судить о её жизни, - дочка у меня выросла, наверное, на мальчиков уже заглядывается. Какой ей жребий выпадет, что суждено? Будет ли она счастлива? - а это для женщины главное, в её возрасте и обжечься можно, уберечь-то некому. Сейчас она с Алексеем, это мой бывший муж, переехала с ним в областной центр, он стал большим начальником. Как её от него оторвать? Он её в тепле и холе содержит, а что я ей дам? У неё наверняка появились свои привычки, запросы. - Зато будет с матерью, - для Александра это бесспорный довод, для него быть рядом с матерью пока самое заветное желание. - Эх, Саня, Саня, - грустно заметила она, - какая для неё я мать? Она меня понастоящему-то не знает, всю жизнь вдали от неё. Как встретит, поймёт ли меня? Это вопрос, да ещё какой! Александр всматривался в неё и диву давался. Красивая, умная женщина, перед ее обаянием любой мужчина преклонится, женщине такой красоты всё должно доступно, только помани. А она ходит по Берлину печальная, грусть тенью легла на прекрасное лицо, мысли, разговоры тоже грустные, конечно, она ещё не отошла от удара, коварно нанесённого безжалостной судьбой, последней штормовой волной войны. Хотя и прежде - во времена Ромео и Джульетты великая любовь иногда заканчивалась обоюдной гибелью влюблённых. Оправится ли Евгения, выживет ли после потери Вешнина? Не испытавший любви ни в каком виде, не познавший в своей короткой жизни ни одной женщины, Александр оставался невольным романтиком. Он то обожествлял женщин, как сейчас Евгению, бездумно верил в вечную любовь, в женское постоянство и абсолютную верность, в мужское благородство, то также бесспорно, категорически осуждал женщин, не доверял им, всем без разбора, наблюдая за частой сменой партнёров девчатами-связистками в их полку, некоторые, не успев утереть слёзы по погибшему другу, обзаводились другим, не отвела ему судьба пока ни времени, ни возможности познать прелести и коварство любви. Мальчишки его поколения как вступили в войну, так и вышли из неё, не познав этого большого человеческого чувства, война, по сути, обокрала их, лишив самого прекрасного периода в человеческой жизни, отняла у них юность. Грустный вид прекрасной Евгении как бы укреплял романтизм Александра, его наивную веру в силу и вечность любви. Ему очень хотелось отвлечь её от страданий (он полагал, что она страдает только из-за разрушенной любви), и пытался занять разговорами о полковых событиях, о назначении его командиром взвода и другими, как сам понимал, пустяками. Евгения кивала головой, иногда поддакивала, но доходил ли до неё смысл его слов, не был уверен. Возле них заскрипели тормоза остановившегося “виллиса”. Из него энергично выскочил командир артполка подполковник Воронов. Рядовой Муратов 263 вытянулся, лихо подбросил ладонь правой руки к виску. Евгения стояла рядом, несколько удивлённая неожиданным появлением молодого командира полка, по действующей субординации и медсестре следовало вытянуться перед офицером и откозырять. Она же, приветливо улыбнувшись, протянула изящную ручку, которую подполковник суетливо и осторожно пожал. После этого Воронову ничего не оставалось, как подать руку солдату, тот снова откозырял и так усердно пожал протянутую руку, что подполковник поморщился от боли. - В штаб дивизии вызывали, - объяснялся перед Евгенией комполка, - вечером комдив генерал Васильев посетит полк. Дадим в честь Победы салют всеми батареями, - подполковник повернулся в сторону Муратова, - тщательно проверь связь, проводную и радио, чтобы никакого сбоя не допустить! Воронов, отдавая, только что пришедший ему в голову приказ, столь выразительно взглянул на командира взвода связи, что тот мгновенно подбросил руку к виску: - Есть товарищ подполковник, будет выполнено. Повернувшись кругом, как требовалось по Уставу, Александр сделал шаг вперед и обернулся к Евгении. - Ну, до свидания землячка, - таким обращением к ней давал понять своему начальству почему он оказался с медсестрой. - До свидания, Саня! Будешь писать домой, передавай привет и поздравления с Победой твоей маме, Кате… Женя порывисто обняла Александра, объятие было неожиданным для стеснительного парня, он, густо покраснев, почти бегом направился в полк, к своему взводу, оставив медсестру наедине с подполковником Вороновым. 31 У Екатерины Егоровны Муратовой этот день выдался почти выходным, накануне поздно вечером, как обычно, мокрая и усталая возвратилась с дневной смены, нынче целый день будет дома, отправляться на шахту предстоит в ночь. По заведённому в войну порядку репродуктор в доме не выключался, последние же дни подкручен, чтобы не пропустить, ожидаемого сообщения, что это произойдет со дня на день или даже с часа на час ни у кого не вызывало сомнений, Берлин уже неделя как взят, с союзниками соединились и теперь добивают остатки фашистов. По радио передавали бодрые песни, боевые марши, такая музыка звучала добрым предвестником. Екатерина с трудом заставляла себя подниматься, разлеживаться нет возможности, день пробежит быстро, а до ухода на шахту надо успеть многое сделать, в доме забот лишь успевай управляться. Насторожилась, радио приумолкло, а потом заговорил Юрий Левитан, к его голосу привыкли, ожидали, обязательно последует важное сообщение - так и есть, голосом, хватающим за душу, торжественно объявляет: - Передаем важное сообщение. Дальше совсем необыкновенное, хотя тоже ожидаемое: 264 - У нашего микрофона, - провозглашал диктор, - Председатель Государственного Комитета Обороны СССР, Председатель Совета Народных Комиссаров СССР, маршал Советского Союза товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. - Любка! Любушка! - расталкивает Екатерина заспавшуюся дочку, - вставай! Сталин будет выступать! Слушай! Сон у юной Любы исчез моментально, обе навострили уши, в репродукторе умолк треск и вот размеренный, спокойный, знакомый голос. - Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день победы над Германией... Сталин говорил в обычной своей манере - неторопливо, с четкими паузами, с грузинским акцентом. Паузы нетерпеливо слушающим Екатерине с дочерью казались очень долгими, разве можно так спокойно, без трепета и волнения объявлять о событии, которого бесконечно долго ждали, дни и ночи. - Теперь мы можем с полным основанием заявить, - в том же темпе продолжал Сталин, - что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом... Значительные и весомые слова о великой победе произносились спокойным, уверенным голосом, без нажима и без изменения ритма и тембра, и в сознании, в душах слушавших возникало ощущение, более того, уверенность, что иначе и быть не могло, война не могла завершиться по другому, наша победа была предопределена как неизбежная неотвратимость. Спокойствие до обыденности, абсолютная уверенность превращали это великое событие в само собой разумеющееся. Екатерина слушала и кивала головой, будто Сталин говорил не свои слова, а те, какие она русская крестьянка, работница велела ему сказать и кивками как бы подтверждала, что её слова произносятся абсолютно точно, без искажений и добавлений. - С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Даже теплое, чувствительное поздравление Сталин произносил потрясающе обыденно, не выделяя ни единого слова, не меняя ни тембра, ни интонации. - Мама! Мама! Люба обхватила мать в крепком объятии, тело её вздрагивало, по нежным детским щекам светлыми бусинками сбегали слёзы, мать, прижавшись головой к плечу дочери, тоже затрепетала, плач вырывался из её груди, словно открылся клапан, его сдерживавший и он вырывался на свободу не гнетущим и опустошающим, а очищающим душу и осветляющим сознание. Мать и дочь плакали громко и долго, не сдерживаясь, не тревожась, что этот душевный всплеск, радостная встряска кому-либо из них повредит, нанесёт неизлечимую рану, как наносили почти смертельные удары, приносимые в дома казённые письма и солдатские треугольники. - Любка! Чего же мы расселись, расхлюпались? Надо прибраться, на стол собирать, - встрепенулась вдруг Екатерина, вскочила с постели, - возьми тряпку, протри пол, стряхни пыль с половика. 265 - Ты чего засуетилась? - удивилась соскочившая с материной постели Люба, но тряпку в руки взяла, - для кого стол собирать? - Как же! В такой день и чтобы никто не зашёл?! И действительно, не успели до конца прибраться, как в избу вбежала Анастасия, жена Прокопия, брата Ивана Александровича, несчастного Екатерининого мужа, видно, торопилась, отдышаться не может, плюхнулась на лавку возле двери. - Слышали?! Войне конец! Сам Сталин объявил! Екатерина ещё подкрутила громкость у репродуктора, выступление Сталина торжественно повторял Левитан. Если Сталин спокойным и уверенным тоном объявил о завершении грандиозного дела, окончании войны, то Левитан, красиво отчеканивая каждое слово, провозглашал всемирно-историческую Победу советского народа и его армии над грозным и беспощадным врагом, Сталин сообщил о выполненной работе, голос Левитана превращал свершившееся событие в ликующий праздник. - Я корову доила, когда Сталин выступал, - скороговоркой рассказывала Анастасия, - захожу в дом, слышу - конец войне. Ведро на стол, процеживать молоко не стала и к вам, не могу одной оставаться! Слава богу, отмаялись. Анастасия всё ещё тяжело дышала, обычно равнодушная, казалось, безразличная ко всему, что происходит вокруг, сегодня на себя не похожа, взволнована, говорлива. - Мой-то на работе, третьи сутки домой не заявляется, на восток идут состав за составом, войска везут, пушки, танки - говорят, с японцами кончать будут, чтоб больше не допекали. Прокопий-то за путями следит. С японцем быстро справятся, это не немцы и наших везут столько - задавят узкоглазых. Муж Анастасии Прокопий путеец, считался мобилизованным в железнодоржные войска. - Упаси бог, с одной войной только покончили, - испугалась Екатерина, - а тут другая на носу! - Японец, говорит мой Прокопий, уже выдыхается, китайцы да американцы который год его молотят, так что войну с ним не затянут, оставлять их себе в опаску - помнишь, то Хасан, то Халхин-гол, никогда покоя с ними не знали. Тяжкий вздох Екатерины выразил, что объяснения Анастасии не слишком развеяли её страхи перед новой войной. Высказать же их не успела, на пороге появилась Елена-почтальонша да в таком виде, что Екатерина в один миг забыла о своих сомнениях, обычно Елена приходила в её дом в телогрейке, нагруженная тяжеленной сумкой, сгибавшей невысокую женщину в три погибели, а тут в дом впорхнула молодая, стройная женщина. Хотя на дворе сибирский май с ощутимой прохладцей, Елена в легком цветном платье, оно подчеркивало её тонкую талию, а, точнее её молодость, которую всю войну прятала от окружающих неуклюжая одеженка и сгибавшая её неподъемная ноша с пугающими казёнными конвертами, модные туфельки на высоких каблуках, далеко упрятанные в эти годы, легко носили, словно заново родившуюся Елену, по небольшому екатерининому дому. 266 - Катя! - с порога закричала она, - кончилась проклятая! Люба, Настасья, отчего не поёте, не пляшете?! Вот он праздник на нашей улице! - Елена! - бросилась к ней Екатерина и заключила в крепкие объятия, - какая ты сегодня красивая, нарядная! Точно девчонка, хоть сейчас замуж выдавай! Сказала и осеклась, как же можно такое ей говорить, бередить сердце и душу? Это же все равно, что обворованному рассказывать о богатстве. Выходила Елена замуж за любимого ею до отчаяния парня, да недолго наслаждалась его любовью, подоспела война окаянная, и Диму в первый же месяц забрали в армию, а к осени сорок первого пришел казённый конверт – «погиб смертью храбрых». Наревелась, напереживалась хохотушка Ленка, а потом нахлобучила на себя поношенную телогрейку, тёмный полушалок, взвалила на плечо тяжкую сумку и, как могла, утешала, а иногда и спасала получателей казённых конвертов. Не заметила или не захотела замечать Елена неосторожно вырвавшееся слово и закружилась как в упоительном танце. - Хватит согбенной и прибитой ходить! Пора распрямляться! Не ради этого наши мужики погибали! Не напрасно сказано - воевали ради жизни на земле! Не всех же фашисты перебили! Вернутся наши парни с фронта! Мы ещё поживём, да ещё как поживём! Правильно я говорю, Катя?! Екатерина обнимает, целует разудалую сегодня Елену, досталось бабёнке за войну, мало ей своей беды, ещё море чужого горя до отказа нахлебалась, пропустила через себя, через хрупкую бабью судьбу. Как терпеливо и бережно она отхаживала её, Екатерину, когда несчастная мать брякнулась наземь от похоронки на младшего сына! Раскалывается на части Екатеринино сознание, её тоже захлёстывает общая радость, может, вздохнут в полную грудь на шахтах, не будут по цельным суткам надрываться в лавах и забоях. Война у неё сына - Леньку - отобрала, и на шахте ей досталось, а все-таки она не может не ликовать в этот день, но, словно тугой пробкой удерживается её радость, не дает ей бездумно, как другим, ликовать. Вот подошла к концу, и война, длиннющая, кровью перенасыщенная, ее за множество тяжких и кровавых дней и ночей утекло, что воды в Ангаре, о Иване же, муже её, ни слуха, ни духа из лагерной провальной пропасти. Уже и знакомые перестают любопытствовать, нет ли весточки о нём, дочки её, замечает Екатерина, привыкать стали к безотцовщине, только она не решается даже подумать, что не видать ей больше своего суженного, за долгие годы могла оборваться его дорожка в этой жизни. Хотела бы сегодня порадоваться от всей души, вытряхнуть из себя беды и невзгоды, пропитавшие каждую её клеточку за роковые годы, но не получается, словно рядом невидимым призраком стоит Иван и не позволяет забыться в радости, потому и откидывает, как мячик, задорные слова Елены. - Это как бог рассудит. Ты-то поживёшь, совсем ещё молоденькая, - и снова Екатерина обнимает целует её, - как цветочек майский расцвела сегодня, будут у тебя и счастье и радость. Елена, хотя и намного моложе Екатерины, но за войну её так обтёрло, так прониклась в души людские, что по промедлению Екатерины с ответом, по 267 пробежавшим на её лице тучкам без подсказки поняла, что для этой шахтёрки нынешний праздник не со всех сторон светит. - Не кручинься, Катя! Теперь всё по другому пойдёт! Вернутся фронтовики и... другие, - на секунду запинается на слове Елена, - тоже доберутся до своего дома. После такой войны невозможно по-старому жить! Должны же на земле правда и справедливость взять верх и разгуляться как сегодняшний день! Возбужденная и радостная Елена крутанулась на месте, цветастое платье раздулось колоколом, красиво и ловко мелькали стройные ножки в туфельках на высоких каблуках. Права оказалась умудрённая жизнью Екатерина Егоровна, предупреждая дочь, что в такой день не обойтись без гостей. Зашли соседи старики Зуевы, дед Захар за войну совсем согнулся, но работает где-то сторожем, у бабули тоже скоро ноги и голова почти на одном уровне будут и слышит плохо, всё время кивает головой, дескать, понятно, не хочет старая в глухоте признаваться. У них один сын служил на флоте, как-то до войны бравый моряк приезжал на побывку, за ним неотрывно гурьбой бегали ребятишки, всё-таки у моряков форма привлекательная и зуевский сынок хоть куда, другой, младший сын, где-то сгинул, пришла бумага, без вести, мол, пропал, а что за этим кроется никакого пояснения. Следом вошли молодые соседи Курочкины, Серега с войны вернулся быстро, но с пустым рукавом, а его жена Люся, только-только вышедшая из девчоночьего возраста, на пятой-бис в подносчицах ходит. Прибежал запыхавшийся Прокопий, он в последнее время облысел окончательно, на висках по небольшому серебристому клочку. - Кое-как уломал начальство, до вечера отпустили, - усталым голосом объясняет он, - Победа, праздник, а работы ещё больше, вся транссибирская дорога эшелонами забита, видать, скоро на японца навалятся. Екатерина возле плиты орудует, бабы около неё суетятся, одна картошку чистит, другая селёдку разделывает, третья посуду на столе расставляет. Почти все прихватили по бутылочке и в доме не без запаса. В тесноте да не в обиде, плотненько уместились за столом и дед Захар, как самый старший из присутствующих, провозгласил тост. - Значит, так бабоньки и мужики, которые есть. Надо, значит, за Победу нашу выпить. Дождались, слава богу, и, значит, за сыночков наших, за тех, которые до светлого дня выжили, чтобы быстрее до дому добирались, бабы совсем без мужиков измучились. Помянем и за парней наших, вот у Катерины Ленька и наш Васька, полегли далеко от родимого дома, - дед рукавом провел по глазам, - и, значит, за него надо тоже-ти выпить. Такую войну провернул, и, значит, супостатафашиста повалил и нас сегодня поздравил. Это, за нашего Иосифа, значит, Виссарионовича, дай бог ему здоровьица! Как ни сумбурно говорил старик Зуев, тост произнесён, все поняли, что он сказал и чего хотел сказать, поднялись, хотя при тесноте вставать не просто, а садиться ещё трудней, чокнулись и дружно выпили, только старуха Зуева выспрашивала у соседки Настасьи о чём её дед сказал, та что-то отвечала, старуха кивала головой, хотя Настасью и не расслышала. 268 - Вообще, конечно, ему досталось, - проговорил Прокопий, он с устатку выпил с немалым удовольствием и говорил, похрустывая соленым огурчиком, - как только он управляется? У меня всего десять человек, конечно, бабы и то не всегда ладу добьёшься, к каждой подход требуется, а тут миллионы и все разные, национальностей одних сколько! И фашист зверь беспощадный. А он и народ в узде держит и фашиста под ноготь прижал. Затараторили бабы, хотя они думали о своих мужьях, сыновьях, у одних скоро будут дома, другим же ждать некого, а все говорили о нём. Народ простой, все в трудах не очень умственных, но тяжких, а понятием были сильны и крепки - без твердой руки в такой войне не осилить бы, не перебороть злую вражину, и если бы кто сейчас позволил против вождя сказать недоброе слово, они, пожалуй бы, по-добру, по-здорову не отпустили. Верили в Сталина, на этой вере держались немыслимо тяжкие годы, с той верой намеревались жить и дальше. Подумывали уже о второй рюмочке, она от первой далеко отдаляться не должна, Екатерина, как хозяюшка, высматривала, кому подсказать произнести следующий тост, без тостов не праздник, а примитивная попойка. В это время под окнами зарокотал автомобиль, в раскрытые окошки увидели как из машины вылез управляющий, точнее бывший управляющий, Зайцев, кому-то в машине кивнул головой, махнул рукой, автомобиль отъехал, а он со свёртком в руке направился в дом к Екатерине. - Батюшки! Какого гостя принесло! - не знала радоваться ей или огорчаться. Бабы вскочили с мест, начали прибирать на столе, хотя прибирать ещё ничего не нужно. Мужики принялись уплотнять табуретки и стулья, куда бы посадить нежданного, но для всех высокого гостя. Почтальонша Елена как бы вспорхнула и полетела в сени встречать Зайцева. - Проходите, проходите, Алексей Николаевич, - приглашала она гостя, - у нас, видите, великий, долгожданный праздник, день Победы отмечаем!.. Екатерина, подрезавшая еще закуски, отложила ножик и с объятиями: - Проходи, проходи, окончилась война, - она расцеловала Алексея Николаевича, ей лестно, все видят, как она по-свойски обращается с самым большим начальником в городе, а теперь, слышала, и не только в их городе. - С праздником всех! - с порога почти прокричал Зайцев, - с великой Победой! Он вручил Екатерине свёрток, она осторожно положила его на маленький столик возле плиты, заглянула, в свёртке бутылки с вином, колбаса, рыба, другая снедь. - Елена, подойди сюда, - позвала она, - подрежь из этого, он всякой всячины привёз. Постепенно ажиотаж, вызванный появлением Зайцева, улёгся. - За тобой тост, Алексей Николаевич, - по-хозяйски распоряжалась Екатерина, - мы уже по одной выпили. Алексей Николаевич разлил из привезённой им бутылки портвейн, по рюмкам и стаканам женщинам, из другой бутылки мужикам налил пшеничной казённой водки, а не разведённого спирта, как было заведено в военные годы, плеснул и себе в рюмку, остальные мужчины пили из стаканов, на что, разумеется, не 269 роптали. Плотный и внушительный Алексей Николаевич поднялся с места. Глаза его по-доброму блестели, то ли их обмыли слезинки, то ли в них отражалось майское солнце, проникавшее через раскрытые окна, на груди блистала, облитая солнечным светом, Золотая звезда Героя Социалистического Труда. - Дорогие товарищи! - торжественно начал Зайцев, - дождались, наконец, светлого дня! Он не слышал тоста старика Зуева, но повторился бы в любом случае, война и его измотала и он чуть ли не ежедневно высчитывал долго ли ей ещё длиться, ему, как и всем, казалось, что с окончанием войны с его плеч свалится тяжкое бремя, спадёт изнуряющая напряжённость, он напоминал легочного больного, мечтающего продохнуть полной грудью, ощутить оздоровляющую свежесть чистого воздуха. В глубине же его сознания, особенно после последних поездок в Москву, всё более укреплялось предчувствие, что с окончанием войны работы у него не убавится, напряжение не ослабнет. - Дождались! - словно выдохнул Алексей Николаевич, - как долго она продолжалась и как много было потерь! Давайте, по русскому обычаю помянем всех, кто уже не вернётся, кто своими жизнями заслонил страну от врагов, отстоял её и всех нас, и благодаря кому мы дожили до этого великого и светлого дня. Сидели плотно прижавшись друг к другу, как заклиненные, но поднялись както бесшумно и так же тихо, не чокаясь, как принято на поминках, выпили до дна. Зайцев поднёс рюмку ко рту, думал пригубить и на том остановиться, свой зарок не пить он соблюдал строго, но, увидев, как наблюдают за ним - он здесь начальство - и резко, одним глотком пример всем показал. Все вновь втиснулись на места, а Зайцев продолжал стоять. - В войну досталось всем. Но, думаю, не преувеличу, если скажу, что больше всех досталось женщинам. У нас на шахтах женщины составляют больше половины работающих, Вдумайтесь в это! Они и навалоотбойщики, и проходчики, и крепильщики, или, как вот Екатерина Егоровна, взрывники. Екатерина смахнула слёзу. - На них же и дом и ребятишки. Я говорю о всех советских женщинах, но прошу поднять бокалы за женщину, которая для меня олицетворяет лучшие человеческие качества, которая всю войну проработала в шахте, отдала войне одного сына, а другой воюет в Германии,.она награждена медалью “За трудовую доблесть”. Я имею в виду нашу дорогую хозяйку Екатерину Егоровну - выпьемте за эту простую и великую русскую женщину! Он подошёл к Екатерине Егоровне, расцеловал её. Она обняла Алексея Николаевича и выпила водку со слезами, обильно капавшими в её стакан. - Спасибо, спасибо дорогой, я же не одна, все так и работали и жили... Алексей Николаевич чокался и целовался с остальными женщинами. Возле Елены он задержался и поцелуй её, показалось ему, был длительнее и приятнее других. Занятые своими стаканами и закуской, гости не сумели определить виновника краткой задержки. Наблюдательной же Екатерине Егоровне почудилось, что попридержала его все же Елена. Чокался Зайцев и с мужчинами, но без поцелуев, считая подобное изъявление чувств не мужским делом. 270 Разгуляться бы людям шумно, весело, безоглядно, чтобы навечно запомнилось это событие, да не могут, жизнь даже из-за такого события не остановилась, у каждого свои заботы, что-то осталось недоделанным, что-то необходимо заново сделать. Прокопий вышел из-за стола, прилёг на Екатеринину кровать немного вздремнуть, ему вечером вновь быть на работе, казарменное положение не отменено и, если бы отменили, все равно дел не убавится, пока война и на Востоке не придёт к такому же, как и на Западе, завершению. Екатерина была в радостном возбуждении, как же не радоваться! - закончилась война-душемотальщица, а тут еще Алексей Зайцев про неё такое сказал, хоть стой, хоть падай, при всех возвеличил её и остальные так добры к ней, каждый старается уважить. Но радость радостью, а скоро на работу отправляться, ночная смена за ней, шахту и в победный-распобедный день не остановят, крутится она круглые сутки и круглый год. От того и за гостями следит, чтобы каждый выпил и закусил, и на часы украдкой поглядывает Не выказывали усталости, не поглядывали на часы и ни куда не торопились лишь старики Зуевы, дед не пропускал ни одного тоста, выпив, хорошо закусывал и становился всё оживлённее, перебрался ближе к Зайцеву. - Говорят, Николаич, ты от нас уехал, заправляешь теперь, значит, новым делом? - прокричал он на ухо Алексею Николаевичу. Кричать он привык, разговаривая со своей глуховатой старушкой. - Новый комбинат образовали, объединяет все шахты и разрезы восточнее Енисея, меня назначили его начальником, пришлось переехать в область, лаконично отвечал Зайцев. - Наш трест, значит, все равно под тобой будет? - Да, он входит в комбинат. - Это, значит, хорошо,.. - удовлетворённо заключил старик. Алексей Николаевич вышел из-за стола, засиделся до ломоты в костях, хотелось подразмяться и с Екатериной Егоровной хотя бы на ходу поговорить. Она, заметив, что Зайцев поглядывает в окно, видимо, ожидая машину, тоже вышла из-за стола. - От Александра моего давно письма не приходили, тревожусь, дожил бы до конца войны, - она говорила так, будто Алексей Николаевич в силах рассеять её тревоги. - Потерпите ещё немного, Екатерина Егоровна, скоро, наверняка, получите весточку, - успокаивал Зайцев. - Хорошо, что подъехал, Алексей Николаевич, как переехал отсюда так ничего не знаю ни о тебе, ни о Фае. О Евгении тоже мало что знаю, на днях письмо пришло, ничего в нём вроде и нет, а, кажется, что-то случилось, не ранило ли её опять или что другое. Вроде поделиться чем-то собиралась, а не получилось. Зайцев насторожился, он не замечал, чтобы Фая в последнее время получала от матери письмо или стала скрытной и ему ничего не говорит. Но Екатерина замолчала, ждала его ответа. 271 - Третий день езжу по шахтам, проверяю, как участки открытых работ строятся. А тут сообщение о конце войны, захотелось с кем-либо близким в этот день оказаться. А кто для меня сейчас здесь ближе Вас? - Спасибо, большое спасибо, так уважил и гости мои довольны, что ты простыми людьми не брезгуешь. Спасибо тебе! Екатерина заметила, что Зайцев в последнее время стал другим. Она не могла точно сказать, каким другим, но он ей на этот раз казался мягче, собраннее, нет того мечущегося взгляда, обречённости и неустроенности, которые она наблюдала в прежние его посещения, и выпивать вроде бы перестал, пару рюмок пропустил и всё, нельзя в такой день особенно на людях не выпить, а потом лишь подносил рюмку ко рту и пригублял. Война, похоже, и его обкатала. - Перебила тебя, о себе и Фае-то не успел рассказать, - снова поинтересовалась Екатерина. Алексей Николаевич молчал, да так долго, что Екатерина подумала, не хочет говорить, что-то мешает ему. - Мои дела на работе идут более или менее нормально, - медленно и тихо заговорил он. Не по работе у него не всё гладко, подумала Екатерина, - Фая? Трудно сказать, возраст у неё такой... Он не пояснил, что имел ввиду, но говорил и так смотрел на Екатерину Егоровну, что ей не трудно понять, с Фаей у него проблемы, упоминанием о возрасте намекает на определённые перемены в её поведении. Через окно увидели, к дому подкатил автомобиль, который привёз Зайцева. - Пойду, позову шофёра, попою чайком, - засуетилась Екатерина. - Не надо, Екатерина Егоровна, - остановил её Зайцев, - мне пора ехать. Спасибо за гостеприимство. Он подошёл к каждому гостю, всем пожал руки и сказал доброе, приятное слово. - Молодец, значит, Алёха, что заехал, не забываешь, нос не воротишь, - сказал старик Зуев, - мы люди простые, но понимаем, когда начальство, значит, доброе, а когда... Он не закончил фразу и обеими руками потряс руку Зайцева. Елена выскочила из-за стола ему навстречу. - Вы, как отсюда поедете? - спросила она, лукаво улыбаясь. - Здесь одна дорога, другой ещё не проложили, - улыбнулся и Зайцев. - Меня попутно домой не подбросите? Хотела на минутку к Кате забежать да вот разгулялась... Елена говорила торопливо, как бы опасаясь, что он откажет. - Почему бы ни завезти? - снова улыбнулся Алексей Николаевич, чувствуя, что вступает в какую-то игру со смазливой бабёнкой. - Я готова, - и пошла на выход, обогнав его. Ехали недолго, остановились возле одного из длинных засыпных бараков. В нос ударял отвратительный запах, в котором перемешаны специфичные ароматы квашеной капусты, собачьего и кошачьего помёта, жареной картошки. Барак 272 разделялся на две половины длинным коридором с незакрывающимися с обеих сторон дверями. Почти посередине коридора Елена длинным ключом отомкнула обитую кошмой дверь. Квартира, в которую Зайцева пригласила хозяйка, представляла собой довольно просторную комнату, в ней и кухня, и спальня, и гостиная это единое, ничем неразделённое пространство. После неопрятного вонючего коридора чистота и аккуратность Елениной квартира выглядела ошеломляющей, стены сияли свежестью побелки. Алексей Николаевич знал, как достаётся подобное сияние в городе, где печи топят каменным углём с пятидесяти процентным содержанием летучих веществ, все дома, заборы и даже стоящие над городом облака насквозь пропитаны маслянистой сажей, побелка не менее двух раз в год не могла противостоять её въедливости, как умудрялась Елена содержать своё жильё в такой сияющей чистоте он не мог представить, два нешироких окна как бы упивались хрустальной чистотой, их солнечные блики, не затеняя свет, смягчали чистейшие накрахмаленные ситцевые занавески. Это усиливало привлекательность чистых стен, прибранного кухонного уголка возле побелённой плиты, рядом с плитой небольшой буфетик, в красном углу на полочке, застланной вышитым холстенным полотенцем, на комнату и находящихся в ней людей взирали сияющие лики богоматери и её сына. У стены стояла широкая металлическая двуспальная кровать с доблеска начищенными конусами, высокая постель накрыта бордовым, обрамленным вышивкой покрывалом, в изголовье лежали подушки в белых наволочках, из-под них выглядывала толстая книга с закладкой. На небольшом комодике овальное зеркало, в безупречном блеске которого отражались безукоризненная чистота и приветливый уют скромной квартирки. - Проходите, проходите, Алексей Николаевич, - приглашала Елена, явно ошарашенного поразительной чистотой гостя, боявшегося ступить на чистые домотканные половики, - присаживайтесь вот на этот стул. Стулья и небольшой стол тоже блестели то ли от лака, то ли от тщательной полировки. - Одна здесь живете? - спросил Зайцев. Он ещё не сообразил, о чём и как будет с ней говорить и оттого задал этот вопрос, хотя ответ ему уже ясен. - А с кем же? - усмехнулась Елена, - Дима погиб, - она кивнула головой в сторону овального портрета в деревянной рамке, висевшего на стене рядом с таким же с её фотографическим изображением, - других родственников у меня здесь нет, и не было. - Как не было? - удивился Зайцев, - родители же были. - Папу в тридцать шестом арестовали, - удерживая слёзы, отвечала Елена, только что сиявшая улыбкой и праздничным настроением, - мама через несколько дней умерла, не смогла перенести горя. Алексей Николаевич сам пережил арест жены, не раз сталкивался с подобными обстоятельствами впоследствии, прежде таких встреч опасался, остерегался общаться с репрессированными и членами их семей. Будучи по 273 природе человеком осторожным, теперь он больше сочувствовал, чем подвергал осуждению пострадавших людей. - Его здесь арестовали? - Да нет, в Москве, папа был большой начальник, не меньше, чем Вы сейчас, квартира хорошая и большая была, на машине его возили. Когда арестовали, нам сказали, что нас вышлют из Москвы в Сибирь, мама не выдержала всех потрясений и внезапно скончалась. Меня в специальный интернат, неподалеку отсюда, там десятилетку окончила, прямо оттуда за Диму замуж вышла, у него изза меня неприятности были. Эта квартира его. Вот тебе и весёленькая бабёнка! Отца, матери лишилась, а потом и муж погиб, какая же у неё жизненная сила! Екатерина Егоровна рассказывала ему, как эта почтальонша самоотверженно поддерживает других. И эти узенькие плечики, и осинная талия всё ей ниспосланное выдержали?! Вот уж поистине «есть женщины в русских селеньях»... Вот она жизнь, какие только номера не откалывает! В голове промелькнула Евгения, тоже судьба не сладкая ягода, но та жёсткая, упрямая, не примирившаяся. А эта или святая или дурочка? Но на такую она не похожа. - Я чайку вскипячу, где-то застоялась бутылочка, - засуетилась Елена, ей хотелось предстать перед гостем наилучшим образом, хотя для неё это не совсем просто. - Бутылочки не надо, - твердо отрезал Зайцев, - вообще-то я не пью, но по сегодняшнему случаю в такой компании не мог отказаться, но впредь меня не заставить. Чайку, разумеется, можно, хотя только что из-за стола, что ж, с чаем разговор живее. - Это верно, - согласилась хозяйка, - пьющих мужчин, сказать по правде, не терплю. Она сунула в печку несколько полешек, нащипала ножом лучины и подожгла их, вынула из нижнего отделения буфетика блестевший эмалированный чайник, налила из не менее начищенного ведра свежей воды, всё это она проделала настолько сноровисто, что Алексей Николаевич, восхищался, наблюдая за ней. Чайник вскипел быстро и Елена подала свежезаваренный чай в аккуратненьких фарфоровых кружках, поставила на стол фарфоровую вазочку с сахаром. С ласковой робостью спросила, не хочется ли ему чего-либо к чаю, но гость решительно отказался и попросил её перестать суетиться, пусть лучше посидит рядом. Он откровенно любовался ею, Елена это видела, а ещё больше чувствовала добрым сердцем, чутким подсознанием, его мысли она знать не могла, загляни же в них, поняла бы его, разгадала бы эту личность, его желания и узнала бы, как прекрасно она перед ним раскрывается. Подлинная красота всегда утилитарна, приносит наслаждение и радость другим, думал он при любовании молодой, такой простой женщиной, а на самом деле далеко непростой. Что толку, если женщина всего лишь красива, у неё изящный носик, обольстительные губки, прекрасный цвет лица и кожи - её истинная красота, подлинная женственность в постоянной способности быть нужной, когда она милая и заботливая хозяйка, созидающая вокруг чистоту и уют, она по настоящему красива приятным обликом 274 и хорошей воспитанностью детей – нормальная женщина не может не иметь детей - ухоженностью и ровным настроением мужа. Алексею Николаевичу в эти минуты припоминались женщины, бывшие близкими ему и, к его запоздалой горечи, Елена была куда прекраснее и привлекательнее их, жила она стеснённо, даже очень бедно, с первых минут определил Зайцев, но ненавязчивая доброта, безукоризненный порядок и иеплый уют в доме её органическое качество, свойство её натуры. Их разговор перебрасывался с темы на тему, постепенно становился легким, если не игривым, Алексей Николаевич, сдерживаемый поначалу краткостью их знакомства и необыкновенным блеском чистоты и уюта, вскоре освоился и, восторгаясь молодой женщиной, так естественно вписывавшейся в эту обстановку, все больше увлекался её обаянием. Вроде бы нечаянно коснулся своей коленкой её коленки, она не слишком решительно, как ему показалось, отодвинула свою, спустя немного, он повторил нехитрый приём, её коленка не отреагировала. Постепенно набирался смелости, наголадавшемуся по женщине мужчине нелегко сдерживаться, когда почти вплотную находится столь очаровательное существо, его руки становились сначала шаловливее, потом настойчивее и вот- вот начинают прикасаться к её телу. Она мягко, возможно, чересчур мягко, словно кошечка, отстраняет шаловливые руки и, смеясь, произносит: - Остудись немного, сиди спокойнее. Мягкость, смешливость Елены он воспринимает как женское кокетство, своеобразное поощрение его нетерпения, пытается действовать настойчивее, решительнее. - Я сказала, остудись! - в голосе более твёрдые нотки. Алексей Николаевич ощущает, как она дрожит от нарастающего возбуждения и как напрягается, борясь с собой, ещё усилие и она сдастся, но Елена резко отстраняется, закрыв лицо руками, отходит от него. - Я, что стенке говорю? Остудись! - произносит каждое слово твердо и с раздражением, - ты, видно не туда попал. - её раздражение нарастает и она уже злится, неизвестно на кого больше, на него или на себя, - здесь не бордель, а честная вдова проживает, честь мужеву, хотя и в битве сражённого, блюду и буду блюсти! Подстилкой под любого меня никто не сделает! Он в недоумении, в растерянности, ему так хочется этой женщины, жестким усилием непреклонной воли останавливает себя. - Неужели всю жизнь честной вдовушкой и проживешь? - слова «честной вдовушкой» произносит с едким сарказмом. - Жизнь покажет, - хмуро отвечает она, - может, придёт время вдовью долю на замужнюю жизнь сменить. Сделаю это честно, а не по-собачьи, я с Димой венчанная и никто с меня этот венец не снял! Елена перекрестилась на образа. Алексей Николаевич, несмотря на скепсис в отношении религии, воспринял это как естественное, нормальное для неё и от этого ещё больше проникался к ней теплым и чистым чувством. 275 - Когда же, надеешься, этот венец с тебя снимется? - уже без иронии спросил он. - Война закончилась, скоро всё уляжется, убитых, раненых и этих самых «без вести пропавших» пересчитают, разыщут. Кто знает, возможно, и Дима живым обернётся. Пройдёт срок, окончательно уверюсь, что возврата ему нет, тогда, может быть, позволю себе нового мужа обрести. Елена так твердо и уверенно говорила, что не оставалось сомнения в продуманности и непоколебимости сказанного. - Это, бог знает, сколько же ждать придётся, терпеть, от него же не убудет, если ты и позволишь... Елена вспыхнула, как ужаленная, глаза её засверкали гневом, вот-вот набросится с кулаками на непонимающего её возмущения Зайцева. - Свою постель, постель мужа моего поганить не позволю! Это женская постель, семейная постель, а не общественная ночлежка! Он уже ясно видел, эта женщина ему не отдастся, но его стремление покорить её столь велико, что он продолжает попытки. - Никто же не увидит, никто не узнает... - Я-то знаю! - горько и зло выкрикнула Елена, - у меня же душа есть и совестью бог одарил. Что же ради сладкого мгновения, ради своей и твоей похоти заставлю душу терзаться, стану совесть свою поганить? Бесчестной перед людьми, перед Димой, живым или мёртвым, быть и не могу и не хочу! А ещё больше перед собой! Никогда шлюхой не стану! По мне легче руки на себя наложить, прости господи за грешные мысли, чем с таким грузом на совести всю жизнь маяться! Как ни странно, не взирая на неудачу, Алексей Николаевич восторгался ею, он не думал, что может когда-либо встретить подобную женщину. Она бросала в него резкие и даже злые слова, а он все больше и страстнее желал её, возникало глубокое, неожиданное для него чувство к ней, так бы набросился на неё и подчинил её своей воле, своему желанию. Но он же Зайцев! У него разум всегда берёт верх над чувствами и порывами, огромным усилием, сдерживая желание насытиться ею, он встал, нервно зашагал по комнате и, круто обернувшись сказал: - Мне, пожалуй, лучше уехать... Извини, пожалуйста, но имей в виду, я к тебе еще заеду, непременно заеду! Елена осталась одна. Тяжкий и глубокий вздох вырвался из её груди, но это был вздох не облегчения, а сожаления, такую тоску по мужчине она еще никогда не испытывала, хотя острое желание мешало ей заснуть ни одну ночь. Как ей хотелось, чтобы рядом был мужчина с его лаской! Сегодня еще бы миг и она отозвалась бы на мужской зов, уступила бы Зайцеву, пожалела бы мужика побабьи, как жалеют нищего, отдавая ему краюху хлеба и кружку молока. Миг, только миг владела ею жалость к нему и к себе, но очнулась, отбросила её от себя, как сбрасывала одеяло в душную ночь. Всего лишь миг отделил её от падения и сейчас это больше всего угнетало молодую, полную жизненных сил и женской страсти женщину, миг и она могла оказаться падшей. В голове мелькнуло сказанное им - никто же не увидит, никто не узнает - и вновь она отвечала - я-то 276 знаю! Не увидит где-то витающая душа Димы (а вдруг увидит!), не увидит и не узнает Катя Муратова, не заметят всёвидящие соседи, но душа её потеряет покой, истерзают угрызения совести. Вот, вот - нашла эту силу и этот гнёт. Совесть! Собственная совесть! Совесть - это частица бога в её душе, в душе всякого нормального человека, она держит в жесткой узде человеческое тело, хранит в здравии человеческий разум, не дает разгуляться необузданным страстям, оберегает от дурных поступков и даже помыслов. А раз в ней всегда находится частица бога, так она будет всегда покорна ему, не осрамит имя божье! Елена упала на колени перед образом богоматери и её божественного сына и страстно зашептала молитву благодарности, что убережена от соблазна, от пагубного зова своего истрадавшегося тела. Жалко, ох как жалко, и себя вдовую и Зайцева неприкаянного. И как спасение покатились обильные слезы, и она затряслась от облегчающих душу рыданий. 32 Армейская жизнь в мирных условиях еще не отработана, четкого режима воинской службы не было. Перенапрягшиеся за войну офицеры явочным порядком взяли своеобразную передышку, не менее уставшие от войны солдаты не приминули этим воспользоваться. Отдельные попытки возродить довоенные порядки, строгую дисциплину оказывались не слишком удачными. Дисциплинирующие факторы боевой обстановки и осознание смертельной опасности исчезли, а новые, вернее старые довоенные методы управления подразделениями возрождались крайне медленно. Офицеры и солдаты пребывали в режиме ожидания - или демобилизации, или расформирования, или переформирования. В парке замке Платтенбург, по аллеям которого прохаживался Александр Муратов, показался ординарец командира полка Блохин, переживший четырех командиров и успешно услуживавший пятому. Он запыхался, на лоснящемся лице испарина. - Муратов! Едва тебя нашёл, - прохрипел он, утирая пилоткой пот, подполковник требует тебя к себе... - Что стряслось? - беспокойно спросил Муратов. Блохин, передав команду, поспешил назад. Александр предполагал, что понадобился командованию, как командир взвода связи, правда мелькнуло в голове, не связан ли вызов с его землячкой Евгенией Станкевич. Несомненный интерес к ней подполковника Воронова трудно было не заметить. Командир полка ждал Муратова в большой, относительно светлой комнате, отведенной штабу полка, он удобно развалился в мягком кресле, напротив возлежал в таком же кресле его заместитель по политчасти подполковник Сукачёв. - Товарищ подполковник, рядовой Муратов по Вашему приказанию прибыл, чётко по Уставу доложил вызванный солдат. - Садись, комвзвода, - указал подполковник Воронов на свободный стул. 277 Обращение как к командиру взвода укрепило Александра в предположении, что причина вызова его командирские обязанности, он уселся на стул, сохраняя в сидячем положении готовность вскочить в любой момент. - Ты, насколько помнится, шахтер? Из Кузбасса? - спросил командир полка, вынимая из пачки папиросу. Недоумевая, для чего задаётся подобный вопрос, Муратов уточнил: - Нет, товарищ подполковник, я из Восточной Сибири…. Далее подполковник поинтересовался у продолжающего недоумевать солдата, какое учебное заведение тот закончил, какая у него специальность, работал ли на шахтах. Муратов, не распространяясь, пытался лаконичными ответами удовлетворить непонятный ему интерес командира. - У тебя в Москве кто-нибудь из родственников есть? - вмешался замполит Сукачёв, переглянувшись с командиром полка. - Никого нет, - недоумение Александра нарастало. При этом ответе Муратова подполковники снова переглянулись и, как ему показалось, с каким-то ни то сомнением, ни то с недоумением. Командир полка встал с кресла, подошёл к большому старинному столу, за которым очевидно сиживало ни одно поколение прежних хозяев, немцев, взял лист бумаги с напечатанным на нём текстом. - Вот поступило приказание, - вернувшись в удобное мягкое кресло, сказал подполковник, развертывая взятый листок, - демобилизовать тебя, как специалиста угольной промышленности, на основании постановления ГКО... Он назвал номер постановления и дату его принятия. Вид у Муратова растеряный, он совершенно не ожидал подобного исхода от вызова к командиру полка, понятно, первое чувство это несомненная радость, наконец-то вернётся домой, к матери, к нормальной гражданской жизни. Он самым первым в полку демобилизуется, батарейные «старики», подлежавшие демобилизации в первую очередь, каждый день высчитывают, когда она подойдёт, и немало удивятся свалившейся на него удаче. Неожиданно горняцкое техникумовское образование проявилось еще одной стороной, нуждой в нём, как в специалисте, оказывается профессия, которую он приобрёл из-за сложившихся в семье обстоятельств, после ареста отца, не такая уж случайная и не интересная, хотя для него и вынужденная. Муратов беспокойно ёрзал на стуле, соображал, как ему поступать дальше, привык жить по команде. Возможно, следовало тотчас срываться с места и бежать собираться, правда, собирать ему нечего, кроме почти пустого вещмешка. Оба подполковника внимательно наблюдали за молодым солдатом, им тоже получение приказа о демобилизации рядового Муратова Александра Ивановича было непонятно и неожиданно, даже подумали, нет ли у парня влиятельной руки в Москве. Для них этот приказ предвестник, сигнал, распустят солдат по домам, встанет вопрос, что будет с ними, офицерами, особенно с военными профессионалами? Для демобилизованного из армии офицера это почти трагедия, а он далеко простирал свои размышления о будущей военной карьере, молодому, энергичному, честолюбивому офицеру, придётся на гражданке начинать с нуля. Подполковник Сукачёв волновался меньше, он не профессионал 278 и надеялся, что в мирное время продолжит продвижение по партийной линии, война, считал он, к его прежнему опыту прибавила веса и авторитета, возраст у него еще терпимый, здоровье пока не тревожит. - Можешь идти, - сказал командир полка, - документы тебе подготовят, проездные, продаттестат. Завтра можешь отправляться до Берлина, оттуда двинешься в Москву. Александр встал, намереваясь удалиться, но командир полка, понизив голос, ему не хотелось, чтобы слышал его заместитель, добавил: - Минут через десять зайди ко мне, на квартиру... - Есть товарищ подполковник, - козырнул Муратов и, ускоряя шаг, направился к выходу. Через десять минут он снова у Воронова - командир полка жил в этом же здании в небольшой келье -.подполковник был один, домашность его проявлялась лишь растегнутой пуговицей на вороте гимнастёрки. Встретив солдата, остановил его попытку рапортовать о прибытии, усадил на небольшой диван рядом с собой, немного порассуждав об отъезде Муратова из полка, несколько смущённо спросил: - Ты не собираешься сегодня к своей землячке? - Надо бы, товарищ подполковник, - отвечал Муратов, - она с моей мамой из одной деревни, что-нибудь передать захочет. - Так ты её пригласи сюда, на прощание вечерком чайку попьём, неудобно же тебя так насухую отпускать... 33 Новый управляющий трестом Дмитрий Васильевич Панжин надеялся, что его предшественник Зайцев не будет досаждать ему и руководителям шахт постоянным бдением за их деятельностью, дескать, ему не до них, его внимания ждут другие угледобывающие регионы, вошедшие в комбинат. Не надолго отвлекался Алексей Николаевич на новичков, попавших под его крепкую руку, вскоре его командировки в другие тресты заметно сократились, побудет там недельку, а ближе к воскресению жди его звонка. - Дмитрий Васильевич, хочу подъехать, посмотреть, как идёт строительство на участках открытых работ при шахтах, - сообщал начальник комбината, - ты пожалуйста, сам не отвлекайся, действуй по своему плану, дорогу найду. Разве настоящий управляющий допустит, чтобы вышестоящее руководство по его шахтам шастало и через его голову распоряжалось, потому и ждёт в официальный выходной, никогда им не соблюдаемый, строгого начальника комбината, а тот часам к девяти, а иногда и раньше подкатывает собственной персоной. Правда, долго своим спросом и руководящими указаниями не обременяет, почти сразу после обеда прощается: - Надо заскочить в одно место по личным делам, потом отправлюсь домой, завтра совещание в облисполкоме, так что до свидания. 279 Отъезду начальства тем более раннему радоваться бы, да кто его знает, в какие уголки он заглядывает и какие такие личные дела у него появились, прежде что-то не замечалось, не собирает ли отзывы, как он, Панжин, без него трестом управляет, слежку устраивать не станешь, а от сопровождения решительно отказывается. Знал бы беспокойный Дмитрий Васильевич что за личные дела у его начальника, немало бы удивился, а, может, и встревожился - в своём ли он уме? Алексей Николаевич сам порой на себя удивляется, не помутился ли у него разум? Человеку пятый десяток, должность солидная, на виду у всех, а позволяет себе такое... Неужели седина в бороду, а бес в ребро? Его “личное дело” - это Елена, та самая почтальонша или, как еще при первой встрече узнал, ее полное имя Елена Леонидовна Михайлова, это по мужу, а в девичестве Крестовская. День Победы столь знаменательный для всех, для него еще и день, положивший начало его нынешнему помутнению, день перелома и крутых перемен в нём и в его жизни, уехал от неё в тот день, точнее вечер, несколько разочарованным, пригласила к себе, думал, для того, для чего одинокие женщины приглашают мужчин, а уехать пришлось не солоно хлебавши, распалённым до предела. За длинную дорогу немного остыл, считал встречу с молодой женщиной, вроде бы, мимоходным приключением, хотя и неудачным. Оказалось же, Елена впилась в его сознание, как клещ энцефалитный, внесла такой неустранимый вирус-возбудитель, что лекарством не вытравишь и скальпелем не вырежешь, дошло до того, что иной раз совещание проводит или другим серьёзным делом занимается, а она в этот момент вдруг возникает перед ним, как живая - не бред ли это, не помутнение ли рассудка? Дел у него всегда больше чем у других, взваливать на себя нагрузку мастер, в областных организациях толкается, выбивает то одно, то другое, с Москвой на дню ни один раз переговорит, из подведомственных ему трестов и предприятий бумаги идут, телефонные звонки досаждают, все от него чего-нибудь требуют. Наркомат для того и создал комбинат, чтобы добрую долю своей руководящей обузы на него взвалить. Алексей Николаевич обид на обилие дел не выражает, даже несколько гордится, столько серьёзных и масштабных задач на него возлагается, работой всегда глушил всё личное, заполнял пустоту, вдруг возникавшую в сознании, душе, сердце или, бог знает, в каких еще органах, в анатомии он не силён. С того памятного майского дня ни совещания, ни посетители, ни деловые бумаги, ни телефонные звонки не могут отвлечь его, выбить непреодолимую жажду вновь увидеть эту женщину. Она почти вдвое моложе, хрупкая и нежная, не замутнённая ни проблемами, ни разными скучными помыслами, ни чрезмерными запросами. Война по ней прошлась беспощадно, отняла мужа, её первую чистую любовь, но выстояла, не надломилась, не поддалась мелкому и пошленькому девизу, война, мол, всё спишет, сберегла себя и так продолжает оберегать своё человеческое и женское достоинство, что Алексей Николаевич млеет от восхищения, хотя, порой, и злится на её недоступность. 280 Когда в первый раз после того вечера, после резкой отповеди, - осмелился появиться у неё встретила ощетинившись, как ёжик. Он прихватил с собой свёрток, какой обычно привозил Екатерине Егоровне. Она на это подношение так окрысилась, что испугался, навеки бы не прогнала. - Я не нищая, чтобы милостыней побираться, - из глаз вылетали молнии, испепелить готова, - и не продажная, чтобы на подачки покупаться! Потом немного отошла, хотя свёрток все равно пришлось завезти к Екатерине Егоровне. Проторчал у Елены до темна, о чём только не разговаривали, она, почувствовал, не так уж и проста, как можно подумать, много читает, речь строит так, что слово к слову, фраза к фразе пристроены, словно горошинки в стручке, ничего лишнего не втиснешь и не выбросишь. При испытанной им недоступности, Елена очень общительна, не бежит от людей, не отворачивается ни от кого, но и не беспечная простушка. Она не из-за великой любви выбирала себе работу, так сложилось, что стала почтальоном, но эта работа, как шлифовальный круг, тщательно, начистовую прошлась по ней, при всей примитивности, чего, мол, сложного разносить письма и газеты, работа на почтовом участке отшлифовывала её характер, придавала больше совершенства природным нравственным чертам, учила различать людей, видеть добрых и отзывчивых, безошибочно распознавать чёрствых себялюбцев, словом, от эгого и стала самостоятельной личностью Будучи по природе и по домашнему детскому воспитанию сострадательной, отзывчивой на человеческую беду, она прошла своеобразную проверку, в почтовой сумке часто, даже очень часто, в людские дома приносились страшные известия, валившие людей с ног, лишавшие спокойствия, иногда и разума. Она и подумать не посмела бы, чтобы вручив конверт с похоронкой, тотчас удалиться, оставить человека наедине с несчастьем, отхаживала вдруг овдовевших и осиротевших, не бросала без помощи, пока не отойдут от первого потрясения или кто-то не появится, чтобы оставить несчастных на их попечение. Отдаваясь людям, она, не осознавая этого, как бы приглушала собственные страдания, на какое-то время забывала о потере мужа, о своих несчастных родителях, легче переносила горькое одиночество. Алексей Николаевич порой задумывался, узнав её лучше, кто из них больше получает от взаимного общения и по его рассуждениям получалось, что для его души она делает намного больше, чем все остальные, с кем ему в этой жизни приходилось сталкиваться. 281 Елена, виделось Алексею Николаевичу, а, возможно, хотелось так видеть, привыкала к его посещениям, ждала его и радовалось каждой встрече. Он, из-за перегруженности работой, всякий раз объявлялся неожиданно для неё, а в какомто смысле и для себя. Постепенно привыкая друг к другу, они всё больше проясняли себя друг для друга, при врождённой скрытности, он вдруг раскрывался перед нею, рассказал, что у него есть жена и не скрыл своих отношений с нею и с её дочерью, которая всю жизнь живёт с ним и у него возникли проблемы с неожиданно для него выросшей девочкой. Елена поначалу с сомнением отнеслась к уверению, что с женой фактически покончено, потом почувствовала, что он хотя и не всё о себе рассказывает, но не способен на низкий обман. Вода камень точит, постепенно и терпеливо Алексей Николаевич добился, что Елена стала относится к нему более доверчиво, без особого нажима подводил её к мысли о неотвратимости их дальнейших отношений. Она перестала уклоняься от подобных разговоров и однажды даже заметила: - Это кем же я при тебе буду? - в вопросе едкая усмешка, - домработницей или наложницей? - Не говори глупости! - довольно резко ответил он, на “ты” они перешли почти с первой встречи, - женой будешь, нормальной, законной женой, домработница и без тебя найдётся. Сначала учиться пойдёшь, а потом работать будешь... - А детишки пойдут?.. - Вот это здорово! - обрадовался он, - но учиться все равно будешь, заочно или на вечернем отделении, но все равно будешь!... Разговор об учебе звучал как требование, и это радовало её, об учебе могла лишь мечтать, в её положении в этом городе самостоятельно выучиться невозможно. - Это хорошо! Ей хотелось броситься ему на шею, крепко расцеловать, но сдерживать свои порывы она могла не хуже Зайцева - нашла коса на камень. 34 282 Екатерина Егоровна возвратилась с ночной смены, снова пойдёт на работу лишь завтра утром, у неё пересменка, переход с ночной маяты на дневную. С окончанием войны у шахтёров таились большие надежды, ожидания перемен, смены станут короче, снабжать шахты всем нужным для добычи будут получше, а главное, скоро возвратятся в родные гнезда мужья и сыновья, выжившие на войне. Пока все остается по-прежнему - работы не убавилось, план наваливают такой, что без той же военной напряжёнки его не осилить. Поговаривают, что с возвращением отвоевавшихся мужиков женщин начнут выводить на поверхность, подземный труд для них, вроде бы, вреден. Такие разговоры Екатерину тревожат, работу ей в любом случае бросать нельзя, девчонки на ней, а сын Александр неизвестно когда ещё вернётся и как устроится у него с работой. Что трудиться на поверхности не в раю кантоваться она убедилась на собственном горбу, надрываясь над неподъёмными лесинами на лесном складе, до сих пор та работа страшным сном вспоминается, заработок же куда меньше, продуктовые карточки у подземных высшей категории, они ни в какое сравнение не идут со скудным пайком поверхностных рабочих. Привыкла она к шахтному подземелью, зимой и летом там одинаково, а наверху то дождь, то снег, да ветер пронизывающий. Провались ко свсем чертям такая забота о женщинах, дай бог, доработать на этом месте до лучших времён, когда-нибудь они всё же настанут. Отдыхать, разлёживаться пока не будет, ночь впереди, успеет отоспаться, сначала дождётся Елену-почтальоншу, может, письмо от Александра принесёт, последнее письмо от него давненько было, из самого Берлина, живой, целехонький остался сыночек! Дожил до Победы! Но мать, как и прежде, ждёт от него сообщения, когда пути-дорожки доведут парня до дому. Елена снова в старенькой телогрейке, согнувшаяся под тяжестью огромной сумки, пришла необычно рано, не хмурая как в войну, лицо ее сияет, с порога кричит: - Катя! Тебе телеграмма! С твоего дома начала разносить почту. Этого еще не хватало, отродясь телеграмм не получала, не приключилось ли чего-либо с Ольгой, всполошилась Екатерина. Елена сама развернула телеграмму и громко-громко прочитала, Санька сообщал, что его демобилизовали и он едет домой. Вот это радость! Не напрасно паук свою сеть сплёл возле калитки, это примета верная! - Когда же будет дома? В телеграмме ничего не сказано, - заволновалась обрадованная Екатерина. - Смотри, - тычет пальцем в телеграмму Елена, - отбил её из Бреста, это на границе, оттуда до Москвы суток двое, от неё до нас не меньше недели ехать. Вот и считай, дней за десять доберётся до дому. - Десять дней! Сколько же ещё ждать! - Забавная ты, Катя, - засмеялась Елена, - столько лет ждала, а тут десять дней не вытерпешь. 283 Расцветает от радости Екатерина, начала перечислять, чего ей закупить, а что самой настряпать, водочки бы подзапасти, небось, выпивать стал, большой ведь теперь. Елена смеётся. Екатерина и сама чувствует, что перебирает в своих хлопотах, но как же иначе, сын с такой войны возвращается! Не один раз чуть не помирала, когда письма задерживались или когда плохой сон принимала за вещий. Смеётся Елена, а посмотрела бы на неё, когда её сын на той бойне оказался бы, не понимает пока материнского сердца. Елена же уходить не торопится, у неё сегодня свои мысли, на лице загадочная улыбка, едва сдерживает нетерпение, пока Екатерина от своей радости немного отойдёт. - Катя, у меня такое сейчас, - улучила момент Елена между бестолковой и радостной суетней Екатерины, - такое, что не знаю как тебе и сказать,.. - в голосе и затаённая радость, и робкая надежда, и беспокойное сомнение. - А ты как есть, так прямо и говори, мы ж с тобой, чай, не чужие, всю войну вместе пережили. - Екатерина говорит ласково, по-матерински, для нее Елена и впрямь как дочь, ведь не намного старше Ольги. - Он, знаешь Катя, хочет, чтобы я за него пошла, - смущённо произносит Елена, уперев глаза в пол. - Кто он-то? Говори толком. - Как кто? - Елене представляется, что весь мир наслышан о её проблемах, Алексей,.. Алексей Николаевич, - боязливо, полушепотом произносит она. - Ох ты, батюшки мои! - всплеснула руками немало удивлённая Екатерина, как же ты его до этого довела? Он же солидный, недоступный, начальник - да еще какой! - а перед тобой распластался. Ох, Лена, Лена, не напрасно говорят, в тихом омуте все черти водятся. - Я-то причём? - искренне удивляется Елена, - он сам, я же ничего не сделала, насильно к себе не заманивала, - оправдывается она, - с кем же мне кроме тебя посоветоваться? Ближе никого нет. Екатерина задумалась, не родня она ей, но сиротинушка же круглая, вспомнила, как Елена всех, и её, всю войну поддерживала, за каждого переживала, всегда была с теми, кого беда настигала, действительно, куда и к кому ей податься, дело-то ведь непростое, вся жизнь определяется, вон как глазёнки на неё выпучила, словно на богоматерь, решения судьбы своей ждёт. Медленно, как бы рассуждая вслух, Екатерина подбирает слова. - Пойми, Лена, это такое дело, в котором лучше тебя никто не разберётся. Со стороны, говорят, виднее, но ведь в душу-то, в сердце твое не заглянешь,.бабское дело особое, что в душу втемяшится, никто оттуда этого не выбьет, ни чьи советы, даже свой ум не помогут. - Ты мне не чужая, Катя, - чуть не плачет Елена, - я сама себя не пойму, в голове сплошная сумятица, мысли мои как сумасшедшие мечутся. - Он старше тебя намного, хотя мой Иван Александрович тоже старше меня, когда сватал, мои сестры посмеивались, что за старика выхожу, а потом завидовали мне, мы с ним дружно жили. У тебя с Алексеем разница в годах гораздо больше, но не это главное, чего ты опасаешься? 284 - У него, Катя, жена на фронте, уверяет, что у них всё разладилось. Я же не знаю как на самом деле? - Он тебе правду говорит, жить они вместе не будут, вернее, она к нему не вернётся, промеж них такое, что никто их не сведёт. Екатерина подумала, не рассказать ли про «доносик», но прикусила язык, незачем ей в чужие дела лезти, Елену, если она по-серьёзному относится к его предложению, все равно не отворотить от него, только в её душу смятение внесёшь. Пусть уж об этом не ведает, сейчас другие времена. От заверений Екатерины насчет его жены, у Елены несколько отлегло от сердца. Екатерина же продолжала рассуждать. - Разница в возрасте с годами становится заметнее, натура мужицкая не то, что у баб,. у них всегда до женщин интерес есть, за ними глаз да глаз, ох как нужен, особенно по молодости. Будь своя писанная-расписанная, им ещё свеженинку подавай, как охотники, вечно зыркают, где бы еще отхватить, хотя и того, что есть, им по горло хватает, как жадная собака, схватит кость, а проглотить не может. Екатерина усмехнулась, видимо, что-то вспомнила. Елена слушала, словно перед ней раскрывались великие тайны. - У Алексея работа ответственна и кодготная, - рассуждала дальше Екатерина, - у моего Ивана всего одна шахта была и то иной раз приедет с работы как выжатый лимон, до постели едва доберется и захрапит, а то и совсем уснуть не может, до того нервы растревожит, что ни сном ни стаканом водки в норму не приведёт. Тут баба понятие должна иметь, как не ждала его, как не надеялась на сладкую ночку, терпи, приласкай его, успокой, тут воркотнёй, криком ничего не добьёшься, ещё хуже его нервишки издёргаешь, от крика ничто не успокаивается, не поднимается, лишь рушится. У Алексея таких шахт несколько десятков, значит здоровья и нервов еще больше требуется. - Для меня это не главное, сколько лет одна живу и не умерла, - перебила Елена, - мне бы ребёночка... - Это как сказать, Лена, - покачала головой Екатерина, - конечно, рожать детей это на бабу возложено, но и мужик ей даётся не только ради детей. Ты, я знаю, не распущенная, соблюдать себя умеешь, но все-таки подумай о чём я сказала. - Для того и пришла к тебе, ты же больше моего на свете живёшь. - Прожила уже немало, а вот который год без мужика маюсь, когда моего Ивана забрали я совсем молодой осталась. Могла бы найти себе, не один охотник нашёлся бы, даже кое-кто сватался, - Екатерина криво усмехнулась, - но у меня же орава, один меньше другого, это сейчас они подросли. Себе бы нашла, а им? Ради бабских утех поганить себя не осмелилась, совесть-то не лапоть поношенный, относил и выбросил. У Екатерины на глазах слёзы, Елена тоже протирает глаза платочком. - Ты мои разговоры слушай, а решай сама, как тебе твое сердце, совесть подсказывают, тебе жить. Сейчас мужик в дефиците, война столько их выбила, посмотри, в городе одни старики да калеки. - Война же кончилась, Катя, - Елена вопросительно глядит на старшую подругу, - скоро их много понаедет. 285 - Кто приедет-то, ты подумай, такие как мой Санька, ты для них уже перестарка. Они будут заглядываться на таких как Ольга и Любка, ой и достанется мне мороки с ними, выросли девчонки. Парней постарше почти всех выбили, кто выжил к своим семьям, к женам вернутся. - Да- а,.. - неопределённо протянула Елена. - За Алексеем ты, конечно, будешь как за каменной стеной, начальник, с положением, при деньгах, на машине будешь разъезжать и квартира у него не то, что у нас с тобой... - Это всё верно, но мне он сам нужен, а квартира меня и моя устраивает и без машины превосходно, как видишь, обхожусь, поначалу он тоже этим хотел неразумную бабенку приманить, но я его так на место поставила, что больше на эту тему не заикается. От меня же не отстает, говорит, жизнь без меня для него не интересна. - Этому, пожалуй, можно верить. Он же не молоденький, не балабон какойнибудь и не бабник, мужчина серьёзный, - Екатерина говорила совершенно убеждённо и справедливо. Долго еще проговорили подруги. Заждались почтальоншу соседи. Да и как ей не задержаться, жизнь свою не на один день определяла… 35 Не всё ли равно где жить, везде проживают вроде бы разные, но в чём-то и похожие люди. Улицы и площади, сады и бульвары, скверы и газоны, жилые дома и школы, магазины и больницы, заборы и ограды похожие, что в Подмосковье, что в Сибири. И всё же Фая на собственном, пока еще на небольшом опыте, убеждалась, что выглядят города все-таки разнятся и устройство жизни в каждом из них, присуще только этому месту. Там в России, а сибиряки всё пространство, простирающееся за Уралом, часто обозначают общим понятием Россия, жизнь тихая, спокойная, а будь она постарше и поопытнее, сказала бы, полусонная. 286 Даже в сибирском шахтёрском городке, откуда Фаю не так давно перевезли в областной центр, в почерневших от въедливой сажи домах жизнь, если не бурная, то далеко не спокойная. Возможно, короткое лето и суровая, студённая зима торопят людей, подталкивают, чтобы они не застыли от стужи и успевали сделать многое в немногие теплые дни, чтобы кровь в жилах разносилась быстрее, поддерживая в активном и даже бурном состоянии весь организм. Город, куда теперь Фаину забросила судьба, при видимой схожести с другими, имеет много отличий. По сибирским меркам он считается старинным, ему около трехсот лет. Появившиеся новые знакомые с немалым самодовольством знакомят прелестную девушку с местными достопримечательностями, вот на берегу Ангары красивый дом с колонами, его называют «Белым домом» и совсем не по подражанию комулибо, он несколько старше заокеанского тёзки, до Октябрьской революции в нём располагались губернаторы, фамилии некоторых из них были известны всей России - Иван Пестель, отец казнённого декабриста, Михаил Сперанский, опальный реформатор в царствование Александра первого, Николай МуравьёвАмурский, практически без стрельбы и насилия присоединивший к нашему Отечеству огромные территории от Байкала и до Тихого океана и многие другие деятельные люди, радевшие за этот край для блага и величия России. В городе много говорят о декабристах, они оставили неизгладимый след, Фая видела дома князей Волконских и Трубецких, ей рассказывали о проживавших здесь Панове, Муханове, Бечаснове, знаменитых женах декабристов, о многих других дворянах, не поладивших с царями. В ограде красивого Знаменского собора находятся могилы декабристов, их жён и детей, там же покоится известный землепроходец Григорий Иванович Шелихов, основавший первые русские поселения на Аляске и в Калифорнии, окрещённый Державиным «Коломбом росским». Люди на улицах города отличаются особым выражением лиц, будто на них отпечатались благородные черты представителей многих российских поколений умных и дерзких. Никогда не видя и доподлинно не зная эти далекие от столиц края, почти все правители в последние столетия бунтарей и других неугодных отправляли в Сибирь, начиная с неистового протопопа Аввакума и кончая твёрдокаменными большевиками, сибирскую закалку прошли Александр Радищев, Николай Чернышевский, декабристы, польские повстанцы, народовольцы, Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин и другие большевики. После революции многим «бывшим» из дворян и интеллигентов пришлось из столиц отправиться сюда, отнюдь не добровольно. Через город проходили торговые и иные связи с Китаем, Японией, Монголией. Солидный интеллектуальный потенциал города стал основой открытия в столице Восточной Смбири государственного университета в первый год Советской власти на фоне разгоравшейся гражданской войны. 287 На берегу быстротекущей, незамерзающей в этом месте реки, напротив Белого дома возвышается пьедестал, обнесённый красивой литой чугунной оградой, его украшают весьма любопытные барельефы выдающихся губернаторов, а также своеобразный герб города. На гербе изображён мифический зверь бабр, несущий в зубах гордость и богатство сибирской тайги, ее “пушное золото” - соболя. Послереволюционные градоправители додумались снести с пьедестала статую императора, но никак не могли сообразить кого водрузить вместо него. Оформление ограды и самого пьедестала, разумеется, сдерживают творческую фантазию в определённых пределах, но не в чрезмерно стеснительных. Город в основном деревянный, дома с печным отоплением и толстый слой сажи скрывает уникальные образцы деревянной сибирской архитектуры. Немногочисленные каменные строения восхищают изобретательностью и мастерством сибирских строителей того времени. Драматический театр, построенный удивительно скоро, по архитектуре, внутреннему убранству и превосходному подбору труппы на равных соперничает с столичными, уступая им разве что по габаритам. Достойно выглядят здания краеведческого музея и театра музыкальной комедии, некоторые частные дома, построенные богатыми сибирскими купцами и промышленниками. В таком вот городе проживает Фая Станкевич после назначения Алексея Николаевича Зайцева начальником угольного комбината. При переселении в эту квартиру он, с некоторых пор поддерживающий с ней прохладные отношения, объявил: - Тётя Настя с нами переезжать не может, вводить в дом совершенно незнакомого человека нет смысла, придётся самим вести хозяйство. На деле это обернулась тем, что домашние заботы обрушились на хрупкие Фаины плечики, прежде хозяйственные заботы всегда были далеки от дочки управляющего трестом, сколько она себя помнит, домработницы постоянно поддерживали чистоту и порядок в доме, они же занимались кухней. Молодой хозяйке пришлось осваивать науку домоведения фактически с нуля, она даже не подозревала каким трудом достигаются в доме блеск и уют, насколько непросто и хлопотно приготовить завтрак или обед. Почти ничего с первого раза не получалось, выручала требовавшая много времени работа Алексея Николаевича, его длительные отлучки, редкое присутствие в доме, особенно на первых порах, Фая успевала до его очередного появления чему-то научиться, что-то по несколько раз переделать. 288 Было бы явным преувеличением считать, что за овладение домашними делами она принялась с удовольствием. Зато почувствовала, наконец, своё истинное положение в доме, полную зависимость в материальном плане. Алексей Николаевич своим ровным поведением в отношениях с ней не давал повода к каким-либо умозаключениям о скупости или бережливости, скорее всего, это не приходило ему в голову. И всё же зависимость от него Фая поняла, прежде всего, через деньги, он показал начинающей хозяйке, где оставляет деньги, чтобы она брала их на хозяйственные нужды, но кроме общих домашних потребностей, у нее возникала необходимость в деньгах для её личных целей, она вырастала из старых платьев, требовалось заменить что-то из предметов девичьего туалета. Чего же проще, деньги в ее распоряжении, покупай, что надо, но тут-то выяснилось, что ее строптивая мать передала эти же качества характера любимой доченьке. Как же она, Фая, будет брать на личные нужды деньги от чужого человека?! В душе не считала Алексея Николаевича чужим для нее, но его отчуждение, связанное с Вадиком, отдаляло от него, и она невольно связывала это с тем, что он ей не родной. Объясниться напрямую друг с другом на эту тему они не решались, Алексей Николаевич требовательный и жесткий на работе был совершенно беспомощен в семейных делах, абсолютно не представлял, как вести прямой разговор с девочкой, неожиданно превратившейся в взрослую. Выход из некоторых материальных затруднений она, казалось, нашла, в одном из чемоданов много лет лежали платья и другие вещи, оставшиеся от Евгении после ее ареста. Фая вынула старые, но не изношенные платья, примерила, они были несколько великоваты, но если в одном месте подшить, в другом сделать вытачку, то будут вполне по ней, фасоны, конечно, не совсем современные, но и не настолько устарели, чтобы их нельзя было носить. Появившись дома, Алексей Николаевич заметил на Фае материнское платье, он трепетно относился к оставшимся после Жени вещам, это напоминало о счастливых днях и как бы подогревало его чувства и сохраняло надежды, хотя их отношения изменяются, ему неприятно было видеть кого-либо в Евгеньиных вещах, даже ее дочь. Выдержки ему хватило и на этот раз, он сделал вид, что не обратил внимания на Фаину обновку. На следующий день появился в доме с женой своего заместителя Каплана, с полноватой, сохранившей следы былой привлекательности Альбиной Иосифовной. Представив ее Фае, Алексей Николаевич сказал: - Прошу тебя, побеседуй с Альбиной Иосифовной, договоритесь, когда сможете поехать в ателье, которое обслуживает наше руководство, и закажите всё необходимое для тебя. Альбина Иосифовна, Вы, пожалуйста, сделайте всё, как договаривались, ни в чём не ограничивайтесь... Алексей Николаевич тотчас удалился, нашлись срочные дела, а Фая осталась с незнакомой женщиной. Альбина Иосифовна, видимо, была введена «в курс» Фаиной биографии, обладала достаточным тактом и умением общаться, превосходно понимала, что значит оказывать услугу начальнику мужа. Через час задушевной беседы она оставила Фаю, готовую заняться обновлением своего гардероба. 289 Прошло немного времени и прелестная студентка филологического факультета университета вызывала завистливое любопытство у однокурсниц модными платьями, красивыми туфельками и чарующим умением подать себя наилучшим образом, зависть девушек не меала им видеть некотору.ю преуведиченнсть, в пятьдесят с небольшим лет Альбина Иосифовна обладала вполне достаточным вкусом для города, часто называемого некоторыми тщеславными жителями «столицей Сибири», однако, предпочитая платья ярких расцветок, пышные блузки, расклешенные юбки. При несомненной полезности для служебного положения своего мужа эти заботы были для Альбины Иосифовны не обременительны и приятны. Имя крупнейшего в области и во всём сибирском регионе хозяйственного руководителя, как волшебный пароль, действовало на всю обслуживающую сферу. При сочетании с предельно мягкими манерами Альбины Иосифовны, сопровождавшей каждое обращение добавлениями «пожалуйста», «будьте добры», «большое спасибо», не слишком распространёнными в суровые годы, и «незаметно» опускаемыми в карманы небольшими добавками к открыто взимаемой оплате, побуждало работников ателье всё делать быстро и качественно. Заботы Альбины Иосифовны не ограничились формированием внешнего облика привлекательной девушки, при общении с нечаянной покровительницей и наставницей Фая как бы проходила учебный курс человеческих взаимоотношений. Поучиться было чему, не получив высшего образования, не обременнённая большими знаниями, вежливая и предупредительная, Альбина Иосифовна всегда кстати и уместно вставляла удачную фразу, нужное словечко, которые представляли ее в глазах собеседника знающей, весьма эрудированной женщиной. Она умела умно молчать, то есть держаться так, будто знает то, о чём говорится, но в данный момент не считает нужным вмешиваться в разговор. Альбина Иосифовна не испытывала затруднений в общении среди научных работников и влиятельных служащих, но и не смотрела свысока, общаясь с продавщицами, парикмахершами, словом со всеми, с кем приходилось контактировать при многообразных бытовых делах. - Фаечка, - обратилась она к девушке как бы по само собой разумеющемуся вопросу, - тебе очень пойдёт короткая стрижка. Завтра мы поедем к моему мастеру, нельзя же, чтобы платье было как у королевы, а прическа как у Золушки. В парикмахерской она, как дома, приветливо со всеми поздоровалась, а с немолодой парикмахершей, «своим» мастером, расцеловалась. - Розочка дорогая, будь добра, займись Фаечкой, к её чудесной головке, прелестному личику подойдёт, мне кажется, вот эта прическа, - она показала на картинку в журнале мод. Из парикмахерской выходила совсем лругая девушка, природная прелесть Фае приобрела ещё большее обаяние из-за красиво и современно отделанной головки. Однажды Фая встретила у Капланов, она стала вхожей в их дом, мужчину в возрасте между молодым и средним. - Фаечка, - обратилась к ней радушная хозяйка, - позволь познакомить тебя с молодым человеком. - Ваня, - несмело протянул руку представляемый. 290 Он, возможно, представился бы без признаков смущения, но невольно растерялся от изумительной красоты девушки, не без помощи Альбины Иосифовны справился с неожиданным для самого себя волнением, и вернулся к присущей ему непринужденности и разговорчивости, хотя говорил с заминкой, довольно примитивными и трафаретными фразами. Фая узнала, что Ваня Данин из Ленинграда, завод, где работали его отец и мать, а после окончания школы и он, в 1941 году эвакуирован сюда и всю войну производит самолеты. Ожидают, что их могут отозвать на прежнее место работы, так как его отец ценный специалист, и многие ленинградцы уже в родном городе. Нельзя сказать, что Фаю мог заинтересовать человек такого возраста и далеко не представительного вида, глядя на него не вспомнишь ни об Аполлоне, ни о Дон Жуане - невысок, не широк в плечах, сутуловат, но в городе мужчин подходящего возраста мало, а на факультете, почему-то считавшемся женским, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Все они по разным причинам не пригодны для войны, и, тем не менее, все расхвачены более расторопными студентками. Для Фаи оправившийся от смущения Ваня представлял мужчин в чисто биологическом смысле и в этом качестве мог пригодиться. Капланы проживали в нескольких кварталах от Зайцева и Ваня, с одобрения Альбины Иосифовны, вызвался проводить Фаю, шли не спеша, Ваня развлекал ее анекдотами, байками, ходившими в кругу его знакомых об известных артистах театра и кино. Прощаясь, условились в ближайшую субботу сходить на танцы во дворец культуры завода имени Куйбышева. Алексей Николаевич редко бывал дома, часто случалось, что Фая ночевала одна. Некоторые подчинённые ему тресты и предприятия располагались за тысячи километров от комбината и его командировки были длительными, появлялся в доме обычно в конце недели, на выходные почти всегда отправлялся в шахтёрский город. Фае иногда тоже хотелось там бывать, встретиться с бывшими одноклассниками, заглянуть к Муратовым, узнать, о чём им сообщает мамочка, но не решалась попросить Алексея Николаевича взять ее с собой. Он же готовился к этим поездкам тщательно, отутюживал костюмы, брал с собой несколько свежих сорочек, из ОРСа доставляли ему объёмистые свёртки. В университет Фая поступила на следующий год после переезда в этот город, поначалу после десятого класса продолжать учёбу не помышляла, считала, что нельзя и впредь сидеть на шее человека, как она внушала себе, ничем с ней не связанного, кроме многолетнего проживания на его иждивении. Что мамочка к нему не вернётся ей было совершенно ясно, так почему же Алексей Николаевич должен содержать её и дальше? После ее выпускного вечера в шеоле он сухим тоном, ставшим обычным при их общении, спросил куда она намерена пойти учиться? Она передёрнула плечиками и равнодушно произнесла: - Пойду искать работу... Алексей Николаевич вздрогнул, словно его ударили. 291 - Куда тебе идти работать? Ты же ничего не умеешь, ни специальности, ни навыков, об этом и речи не может быть. День, два подумай и скажи, в какой институт надумала. Через два дня, он спросил: - Ну, что надумала? В сдержанном тоне не было равнодушия, проскальзывали нотки строгости. Она, как и в прошлый раз, передёрнула плечиками, его это раздражало и он еще более строго сказал: - Пора быть серьёзнее и думать, как дальше жить. Тебя, насколько я знаю, в школе хвалили за сочинения, почему бы не пойти в университет на филологический? Фая промолчала, он же счёл, что возражений у неё нет, через несколько дней снова заговорил об её учёбе. - На филологический заявлений подано довольно много в основном от девушек, я разговаривал с ректором университета профессором Деуля. Подавай заявление и готовься к экзаменам. Вступительные экзамены сдала не блестяще, но ни по одному предмету двойки не получила и в вывешенном списке принятых обнаружила свою фамилию. Так «папенькина доченька», каковой её многие считали, стала студенткой. Основную пользу от студенческого положения видела в получении стипендии, пусть грошевая, но впервые у неё появились собственные деньги на мелкие расходы. Учёба не представляла для неё ни интереса, ни затруднений, студенческая жизнь катилась как бы сама собой, волоча её, с курса на курс, правда, чтобы не лишиться стипендии, приходилось об этом заботиться. В настроении и поведении Фаи произошли заметные изменения, стала замкнутой, казалась равнодушной к происходящему с ней и вокруг неё, бывали дни, когда не произносила ни единого слова. Иногда пропускала занятия - тёти Насти рядом не было - она в буквальном смысле стала одинокой. Её апатия возникла из-за Вадика, на которого одно время была готова молиться, после той ночи, «её ночи» он не звонил, не перехватывал по дороге из школы, не добивался новых встреч, не досаждал, как до этого, настырностью не любившей его тёте Насте. Фае самой приходилось находить поводы и способы, чтобы завлечь его, пригласить домой не могла и подумать, тётя Настя не подпустила бы его на пушечный выстрел. Звонила и то тайком, не дай бог услышат домработница или Алексей Николаевич, выручала подружка из их класса Валя Бурсова, которая иногда предоставляла комнатку в своей квартире,.она располагалась в барачном доме в поселке. На вечера, когда Фая и Вадик появлялись, Валя и её старшая сестра куда-то таинственно исчезали. Вадик при таких встречах ворчал, был всем недоволен. - Зачем в этот клоповник затащила, воняет как из помойки. 292 Вадим, конечно, прав, но куда было податься, на улице ещё холодно, к ней нельзя, к себе на квартиру он ни разу не пригласил. Вскоре его родители вернулись в Подмосковье, а сына пристроили у знакомых, тоже эвакуированных и проживавших в очень стеснённых условиях, Вадик терпел неудобства, надеясь, что отец не замедлит с переводом его в Московский горный. Не успел заботливый папаша развернуться, настигла Вадика повестка из военкомата. На вокзал остриженного под «военкомат», то есть наголо, Вадика привели в строю вместе с другими призывниками. Фая удивлена, что провожала его не одна, пришли несколько человек из школы, в основном девочки, с всеми Вадик прощался одинаково по-дружески, не выделяя ни одну из них, обнимал, целовал. Фая хотя и досадывала, но не тревожилась, принимая происходящее за обычный ритуал публичного прощания. С вокзала возвращалась с Люсей Рыбкиной, она училась в их же школе на класс старше и жила неподалёку от Фаи, по дороге Люся горько, даже подозрительно горько, печалилась об отъезде Вадика, прикладывала белоснежный платочек к глазам. - Война кончается, а его все равно взяли, теперь жди пока не отслужит. Фая насторожилась: - Тебя-то почему это волнует, что других ребят нет? - Зачем мне другие? Мы собирались на Троицу пожениться, боюсь не забеременила ли, не дай бог, родители заметят, - всхлипывала Люся. Фаю как обухом по голове ударили, едва на ногах устояла, чуть не закричала и не набросилась на Люську? Такое коварство! Такая измена! Только неизвестно кому измена, ей или этой Люське? Забеременила!? Вон чем решила приковать к себе, Фая возмущалась, про себя конечно, но не подумала, что и сама могла оказаться в том же положении. Свернула в ближайший переулок, бросив на Люську такой взгляд, что та и не спросила, куда она так неожиданно уходит. Потрясение Фаи было оглушительным, и никому не скажешь, никому не пожалуешься. Эх, мама, мамочка, зачем же ты меня опять бросила, почему от беды не уберегла? К кому прижаться, у кого попросить защиты, прощения, кому выплакаться? Фая долго бродила по тёмным, пустынным улицам, какие только мысли не приходили в голову, и первая, зачем ей жить, кому она теперь нужна? Пойти и под поезд! Нет, под поезд не хорошо, искромсает всю, лицо испортит, лучше повеситься! А где веревку взять, где лучше повеситься? Дома или перед его домом? Ах, его же там нет... Такая несуразица лезла в голову, одна мысль перебивала другую. И слава богу, не смогла Фая сгоряча на чём-то сосредоточиться, принять определённое решение, а позже эти мысли её пугали. Как же можно о таком даже думать! Пришла домой и сразу же, не раздеваясь, бросилась на кровать, тётя Настя ночью прислушивалась к звукам из Фаиной комнаты и удивлялась, почему девочка не ужинала, и, кажется, рыдает, хотя догадки у неё имелись, но не подозревала насколько они были близки к истине. 293 Недели через две от Вадима пришёл солдатский треугольник, письмо было коротенькое, сообщал номер полевой почты, просил писать, Фае оно показалось чёрствым, написанным словно под копирку, оно ещё больше обозлило её и она не написала в ответ. Больше писем не приходило, а когда много позже написала ему, в нём ни слова о Люське, то ответа не дождалась. Одна из горестных страниц в её биографии была написана, но не перевёрнута….. Девичьи беды и болезни лучше всего лечат время, жизнь, человеческое естество, Фая снова просыпалась возбуждённая сновидениями, на улице, в университете выделяла из мужчин самых интересных, снова жаждала встреч, они встречи не были такими же чистыми, как до связи с Вадиком, обжегшись первый раз, она стала отвергать любовь как высокое и прекрасное чувство, теперь это было для нее лишь прикрываемое красивыми словами, обыденное отправление одной из физиологических функций. В дворце культуры завода большинство танцующих пар были однополые, но возвращение фронтовиков становилось заметным. Многие девушки без стеснения прижимались, обнимались и даже целовались (это конец сороковых годов!) с парнями в стираных гимнастёрках. На молодых лицах фронтовиков сохранялся отблеск боевых дней, если не ухарство, то чувство наивного превосходства перед не воевавшей мелкотой или не попавшими во фронтовую переделку своими ровесниками и над крутившимися вокруг них девчонками. Иван оказался неплохим танцором и Фая испытывала определённое удовлетворение, что она при парне, хотя он не выделялся ни внушительностью комплекции, ни выразительностью лица, но то, что у неё постоянный партнёр вызывало завистливые взгляды девчат и сдерживало парней, обративших свои взоры на её выделявшуюся здесь внешность. Перед очередным фокстротом замешкавшегося Ивана опередил долговязый парень. Фая не жаловала подобных субъектов, избалованных вниманием невзыскательных девушек, в неотутюженных пиджаках и в брюках, заправленных в хромовые сапоги гармошкой, она с досадой посмотрела на нерасторопного Ваню и нехотя протянула руку парню, настойчиво, с вызывающей улыбкой приглашвшему её на танец, отказ, не раз наблюдала, мог привести к неприятным последствиям и пожалела, что согласилась сюда прийти. - Ты здесь первый раз? - спросил неожиданный партнер грубым тоном, её покоробило от “ты”, танцевать перень не умел, ноги у него заплетались, от него несло водкой,- что-то раньше не видел тебя... Парень стремился плотнее прижать её к себе, Фаино тело инстиктивно отзывалось на прямолинейную напористость сильного мужского тела, она, с немалым усилием управляя собой, пыталась как можно дальше отстраниться от его груди. - Я тебя провожу домой, - приказным тоном заявил парень. - Спасибо, не требуется, у меня есть провожатый. Удивленный её отказом, он презрительно кивнул в сторону Ивана, напряженно следившего за каждым движением танцующих. - Не тот ли дохлятик? 294 Как только умолкли звуки фокстрота,Фая с нескрываемым облегчением освободилась от неприятного партнёра, и поспешила к изнывавшему от возмущения и бессилия Ивану. При первых тактах танго она повела его в круг танцующих, не дай бог, ещё кто-нибудь её пригласит, не ожидая окончания танца, вывела Ивана из танца и потянула в гардероб, долговязый мог исполнить намерение проводить её, чем такие проводы кончаются она достаточно наслышана. Как-то само собой без лишних разговоров, приглашений и объяснений получилось, что Иван оказался в её квартире, Алексей Николаевич отсутствовал, как вошло у него в обычай, на выходной день отправился в шахтёрский город. Фая сообразила очень вкусный ужин, благо недостатка в продуктах в этом доме не было, не отказался Иван и от предложенной рюмки водки, а затем и от коньяка из запасов хозяина, который, как сказала Фая, совсем не употребляет спиртного. Иван оживился, интересно рассказывал о Ленинграде, чувствовалось, что он обожал город, где родился, жил до войны и куда намеривался в самое ближайшее время возвратиться. Город давно уже разблокирован. - Отцу сообщили, что запрос о его отзыве на прежнюю работу уже направлен в наркомат,..- Расписывая прелести Ленинграда, Иван намекнул, что неплохо бы и ей перебраться туда. Фая намёк поняла, но никаким образом своего отношения не выразила, хотя ни один раз возвращалась к мысли об отъезде в Ленинград, почему ей всю жизнь торчать в Сибири, да еще с чужими по сути людьми. По некоторым признакам в поведении Алексея Николаевича догадывалась, что в доме может объявиться подлинная хозяйка и не известно, как она отнесётся к ней. Насчёт мамочки всякие иллюзии у нее исчезли, бог знает когда она вновь объявится, в редких письмах из Германии всякий раз обещает вскоре приехать навестить её, намекает, что не одна. Сборы мамочки почему-то оказываются затянувшимися и когда они, наконец, увидятся Фая так и не знает. Иван далеко не идеал мужчины, но другого сейчас найти непросто. Она уже не наивная девочка, и соображает, что на Иване свет клином не сошёлся, ей знакомы женщины, хорошо устроившиеся при мужском дефиците, не испытывавшие никаких угрызений, нравственных мук от злоупотреблений доверием мужей. Вот, у мамочки после бедного папы Анатолия который уже муж, это только те, о которых она знает. Чем же она хуже?1 Ранним утром, провожая гостя, Фая увидела как соседка по лестничной клетке выводила на прогулку немецкую овчарку, без сплетен, подумала она, теперь не обойдётся. 36 По утрам Елена поднималась пораньше, надо успеть приготовить Алексею завтрак, посмотреть в каком состоянии рабочий костюм, если требуется подчистит, отутюжит, подберет галстук, сорочку, носки, почистит ботинки. Алексей ее хлопот не замечает, для него отутюженная и накрахмаленная сорочка, без единого пятнышка и пылинки пиджак, блестевшие ботинки положение 295 совершенно привычное, он не вдумывается чьим и каким трудом они приведены в состояние, соответствующее его нынешнему руководящему положению. Зато завтрак поглощает с огромным удовольствием, нахваливает ее кулинарные достоинства. Среди накупленных ею, Еленой, книг, а их приобретение было ее страстью, набралась целая библиотечка по рациональному питанию. Благодаря прочитанному, но все-таки больше по заложенному в нее инстинкту, подсознательно следовала заповеди - путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Немалых усилий стоило приучить мужа питаться в определенные часы и не как попало, на ходу, а почти по науке, сегодня за основу приняла «английский завтрак», точнее бы назвать «датский», основные его компоненты, яйца и бекон, что в Англию поставляет маленькая Дания, перед этим заставляет съесть пару кусочков слабо посоленной кеты, как-то прочла интервью с известным академиком Зелинским в день его девяностолетия, тот объяснял свое долголетие неуклонным соблюдением рациональной диеты, утверждал, что необходимо ежедневно съедать два-три кусочка лососины и гроздь винограда. У Зайцевых возможности хорошо питаться стали не меньше, чем у академика, и она заставляла Алексея следовать наставлениям великого ученого. И чай, который она приучила мужа пить по утрам готовился необычно - в вскипяченные сливки насыпает заварку и хорошо настоенный чай необыкновенно ароматен и вкусен. Она не слишком интересовалась, почему назывался «чай по-хомутовски», знала лишь, что неподалеку от города есть деревушка Хомутово, готовить такой чай научила Альбина Иосифовна Каплан, жена заместителя начальника комбината, попечительница Елены с первого дня ее появления в доме начальника комбината. Зайцева умиляло, как нежно и трогательно жена провожает его на работу, уже одетого внимательно с ног до головы придирчиво осматривает, убирает невидимую соринку с пальто, поправляет галстук, подает шляпу, предварительно троекратно поцеловав, если бы не сдерживало его партийное предубеждение, наверняка, перекрестила бы. - Ты, никуда отъезжать не собираешься? - спросила она, подав шляпу. - Пока не планировал, а что? - он тревожно взглянул на нее. - Ничего, но,.. - она выразительно провела по животу, очень заметно округлившему ее фигуру. - Что, скоро? - радостно и немного удивленно спросил он. - С часу на час может,.. - она улыбалась счастливо и настороженно, вдруг она ему неприятна такая, с непомерно вздувшимся, как ей казалось, животом. - Никуда, ни в коем случае из кабинета ни на шаг! В случае чего, звони немедля! После ухода мужа прилегла, намеревалась вздремнуть, но этого не удавалось, ее деятельная натура не приучена разлеживаться в дневное время. За делами, а их умела находить, не заметила как пролетело время и Алексей вновь появился в доме, а у нее обед не совсем готов. По привычке взглянула на часы, до наступления обеденного времени еще почти час, беспокоится о ней, радостно подумала Елена, боится надолго оставлять одну. 296 - Давай, чемодан, - прервал Алексей ее радостную суетню, - приказано срочно быть в Москве! - Как в Москве?.. Он понял, она спрашивала - как же останется без него в таком состоянии? - Просил, чуть ли не умолял отложить командировку, о тебе рассказал, ничего и слышать не хотят. Приказано тотчас вылетать! …В Москве еще не было восьми утра, как позвонил заместитель министра по кадрам и передал ему указание немедленно вылетать в Москву. - Что за спешка? - спрашивал Зайцев, - неужели нельзя повременить? - Приедешь все узнаешь! Подробно ввел «в курс» домашних дел, ответ твердый и непреклонный немедля вылетать! - По какому же вопросу, какие документы захватить, к чему быть готовым? - Начальник комбината всегда должен быть готов к любому вопросу! - не без подковырки разъяснено ему. Елена укладывала чемодан, стараясь незаметно убирать самопроизвольно выкатывающиеся слезы. - В случае чего звони Каплану, телефон знаешь. На ночь придет Альбина Иосифовна. Я из Москвы буду звонить. Через час он на самолете ИЛ-14 летел в столицу, три часа лету до Красноярска, поездом ушло бы более суток. Зашел в здание аэровокзала, он пустовал, авиаперевозки все еще были экзотическим и небезопасным способом передвижения. Безлюден и ресторан, зато выбор блюд и закусок был непривычно обильный. К бутылке пива Алексей Николаевич взял красной икры, осетрового балыка, котлету по-киевски, к чаю попросил любимое с довоенной поры пирожное “наполеон”. Так скоротал остановку и немного успокоился, когда полетели дальше. Через три часа очередная посадка в Новосибирске, Алексей Николаевич пытался подремать, но монотонный рокот моторов не успокаивал, в голове мелькали одна мысль за другою. О предстоящих встречах в Москве старался не задумываться, заниматься гаданием при любых обстоятельствах он себе не позволял, тревожило, что оставил Елену в почти предродовом состоянии, как бы не встретил его при возвращении из Москвы из сын. Что родится именно сын абсолютно не сомневался, Елена всегда старалась предупредить все его желания и на этот раз доставит ему радость. Как ему с ней повезло! Уже отчаивался, не останется ли бобылем до конца дней своих. После Клавдии и Галины Никифоровны в женщинах почти разуверился и связываться с ними навечно не слишком стремился. И вот выпало счастье, встретил такую, какая ему нужна! 297 А как Евгения? Ошибка? Любил же он ее, еще как! До самозабвения! Ради нее был готов на любой поступок, даже на самый отчаянный. Не раз ловил себя на мысли - если бы вдруг Евгения позвала его вновь, не ринулся бы он за нею, не покинул бы ради нее Елену? Умом, конечно, такой выбор отвергал, но в этих делах есть что-то другое, кроме ума, и это другое его, как и других, проводит по жизни такими путями, какие никаким, даже самым твердым разумом, не предугадаешь, не предупредишь, ни начем не объедешь. Они обе, Евгения и Елена, прекрасны, очень красивые, даже самый придирчивый знаток женской прелести этого не опровергнет, но прекрасны по разному. Красота Евгении влекущая, изменчивая, каждое мгновение ждешь, чем она для тебя обернется. Елена же светится спокойной, чистой и доброй красотой, вокруг нее витает безбрежная вера и надежность, она принимает его таким, какой есть, и незаметно, даже осторожно пытается помочь ему приобщиться к доброму, к светлому. Он сам воздвиг стену между ним и Евгением, ее не снесешь и не перепрыгнешь! Как вспомнит о той гадкой бумажонке, спихнувшей Евгению в пропасть, так дрожь охватывает, ум застывает от омерзения к самому себе! Неужели этот камень до конца его дней будет давить на его душу? Не напрасно утверждают, за все грехи людские рано или поздно настигает кара! По времени должны быть на подлете к Новосибирску, пора бы снижаться. Вдруг самолет тряхануло, Алексей Николаевич едва удержался в кресле. Из пилотской кабины вышла молоденькая женщина-бортпроводница. - В Новосибирске гроза, грозовой фронт не обойти, - объявила она, возвращаемся в Красноярск. Пассажиры заволновались, некоторые заворчали на Аэрофлот, как будто он устроил непогоду. Алексей Николаевич тоже волновался, ему приказано как можно быстрее добраться до министерства, не вызовет ли гнев начальства эта задержка. Примерно, через полчаса самолет стал кружиться над лесами, прерываемыми редкими прогалинами. Вновь появившаяся бортпроводница казенным голосом объявила, что заканчивается бензин, экипаж выбирает место для посадки. Пассажиры от этого сообщения близки к панике, многие слышали чем иногда завершаются подобные поиски. Вскоре самолет приземлился и тряско покатился по ощутимо неровной бетонке. Вышедший после остановки моторов командир понуро объявил, что посадка совершена на запасную полосу в Мариинске, которая в войну использовалась при перегонке американских самолетов через Аляску к нашему фронту. 298 Зайцев только сейчас оценил разумность посещения ресторана в Красноярском аэропорту, прочие пассажиры вынуждены голодать до утра, когда, возможно, подвезут горючее, довольствуясь лишь воспоминаниями об упущенной возможности подкрепиться. Хотя ожидание на сытый желудок предпочтительнее, Алексей Николаевич томился не меньше остальных, а, может, и больше из-за беспокойства - как там с Еленой, на нее навалились одновременно забота о будущем сыне и тревога о нем, ее муже, обещавшем позвонить тотчас по прилете в Москву. По ее и его расчетам время звонка наступило, а он торчит в этой дыре, где со связью хуже, чем на Северном полюсе. Его расспросы, где ближайшее жилье, чтобы позвонить, ни к чему не привели, никто не мог сказать, где они приземлились. И куда пойдешь, если на улице тьма кромешная и звезды скрыты тучами. Сиди теперь, терзайся муками бесплодного ожидания, не зная чем себя занять. Другие, казалось ему, спокойнее переживали нежданную задержку, как и во всякой компании случайно собравшихся людей, обнаружились «бывалые» люди. Вокруг них стояли, открыв рты, переполошенные пассажиры, многие впервые оказались на самолете, и наполнялись ужасом от историй, рассказываемых «бывалыми». Авиапутешествия, явствовало из их слов, в редких случаях завершаются благополучно, мало кому, как им, удается добраться до места назначения. После ночных, невеселых рассказов большинство предпочло бы дальше следовать каким угодно способом, только не самолетом, но, к несчастью, в этот момент такого выбора не существовало. Небольшая группа невольных пленников расселась на не до конца доломанных топчанах, и, нещадно выпуская из ртов табачный дым, рассуждала о высоких материях - о литературе, искусстве и, разумеется, о политике. - Конечно, возраст есть возраст, и война потрепала и нервы, и сердце. Переживать за страну, за народ ему пришлось больше, чем кому-либо другому, рассуждал пожилой, интеллигентного вида человек, - Это не может не сказаться на его здоровье. - Это верно, - подхватила тоже не молодая женщина, - я, как получила на своего похоронку, чуть разума не лишилась, почти полгода в больнице проторчала. На нем же все мы - и армия и те, что в тылу напрягались, и те, котрые под немцем оказались. Как он один такое вынес?! Правда, у него и помощники есть, Молотов, Жуков, много их. И сейчас им пора перенять часть груза с него. Надо беречь... Без него оставаться - не дай Бог, устоим ли?... Алексей Николаевич поначалу усмехнулся наивным, чисто женским рассуждениям, но потом вспомнил ту навеки для него памятную ночь в Кремле и впервые задумался. Не вечен же Сталин и без него жить придется. Кто же продолжит его?.. Возможно, и на этот раз попадет к нему? Не потому ли так торопили, не подвела бы авиация, кто знал, что застряну в чертовой глуши... На следующий день часа в три оказался в Москве. Рано утром подвезли горючее и без новых приключений полетели дальше. 299 В министерстве, как всегда, отправился на разведку к Тимошевичу. Пережил министерский чиновник военные превратности, вместе с министерством вернулся из эвакуации, и по-прежнему на своем месте в обшарпанном кабинете на троих. В этот раз все сослуживцы сидели за столами, обложенные бумагами. - Выйдем, покурим, - предложил Игорь Евсеевич, выразительно обведя глазами кабинет. Зайцев, как и Тимошевич, некурящий, но напоминать об этом не стал и покорно последовал за куратором. Примостившись на подоконнике, Тимошевич начал было «вводить в курс», но Зайцев приостановил, вынул из объемистого портфеля сверток: - Немного кедровых орехов и омулек, - как бы оправдываясь за скромность преподношения, вручил Тимошевичу обязательный для таких случаев «сувенир». - Что Вы, что Вы,.. - вроде бы смутился куратор, пряча подарок за спину. Алексей Николаевич отметил тонкий нюанс, Тимошевич обращался к нему на ”вы”, до этого в ходу было панибратски снисходительное “ты”. - Министр в Донбассе, там сложная обстановка и с восстановлением, и с добычей, - приступил к главному Тимошевич, - отправляйтесь к Федору Григорьевичу, - это был заместитель министра по кадрам, - он скажет зачем вызвали. У нас в министерстве такое творится... Одних снимают, других назначают, а ... (он назвал фамилию) посадили... Тимошевич рассказывал о совершившихся фактах, о различных слухах, о распространявшихся предположениях, Зайцев не перебивал, выслушивал прожженного аппаратчика, может что-нибудь и пригодится. - Не теряйте времени, может, придется и туда пойти,- Тимошевич поднял глаза к верху, - наше министерство курирует Лаврентий Павлович, возможно, и,.. - его глаза закатились еще выше под лоб, - потом, пожалуйста, зайдите ко мне. Алексей Николаевич послушался совета, отправился к руководству, был принят без проволочек, его ждали. Усадив в кресло за приставным столиком, заместитель министра набрал короткий номер телефона, скороговоркой произнес имя, отчество ответившего, Зайцев не уловил с кем он говорил: - Зайцев прибыл, находится у меня, - докладывал зам. Министра, - ясно,.. понял,.. хорошо,.. будет сделано. На этом телефонный разговор закончился. - Отправляйся в гостиницу “Москва”, - давал указания заместитель министра, - номер заказан. Жди, за тобой приедут. Больше ничего сказать не могу... Алексей Николаевич в руководящих кругах давно не новичок и досаждать вопросами не намеривался, несколько заинтригованный, не заходя к Тимошевичу, отправился в гостиницу. 300 Это был, пожалуй, самый длинный день в его жизни, ррочитаны все купленные в вестибюле газеты, несколько раз позвонил домой, Елена успокаивала, у нее, мол, все в порядке, вот и Альбина Иосифовна подтвердит, они уже в постели. Этим, видимо, намекает, что у них уже ночь и не стоит мешать выспаться, неизвестно, как завтрашний день обернется. Он тоже пытался подремать, но нервы напряжены до предела, вздрагивал от любого шороха, бросался к телефону, но звонки были или ничтожные, или ошибочные. Требовалось перекусить, но отлучаться не решался, упросил увиденную в коридоре уборщицу принести бутылку кефира и какую-нибудь булочку. Стемнело, в министерстве все уже наверняка разошлись по домам, а вызова или обещанного приезда за ним так и не было. Где-то в первом часу ночи в дверь постучали, как спущенная с крючка пружина, вскочил с койки, в дверях стоял майор внушительных габаритов. - Товарищ Зайцев? - строго спросил он, внимательно с головы до ног окинув Алексея Николаевича жестким взглядом. Услышав подтверждение, что перед ним тот, кто требуется, приказал: - Собирайтесь, я за Вами... У подъезда гостиницы стояла черная «победа», майор открыл заднюю дверцу, пропустил Зайцева и расположился рядом с ним. В Кремль проехали через Спасские ворота и направились к памятному для Алексея Николаевича зданию, вошли в подъезд, в тот же, через который в памятный военный год, ночью проходили к Сталину, пропусков не требовали, в этом качестве выступал сопровождавший майор. Остановились в просторном, но в довольно мрачном коридоре. Предложив Зайцеву подождать, майор скрылся за высокой тяжелой дверью из мореного ореха, через минуту возвратился, пропустил приведенного в дверь, сам же остался за нею. Алексей Николаевич очутился в весьма просторной комнате с высоким потолком, в ней, не загромождая, стояли два больших стола и несколько небольших столиков и этажерок, на которых размещались бумаги, телефоны, книги, в углах монументально возвышались сейфы, справа и слева две одинаковые двери, подобные входной. В комнате два генерала: генерал-лейтенант и генерал-майор, они разного роста, отличались комплекцией, формой лица, цветом глаз и волос, но для Алексея Николаевича они были абсолютное схожие. то ли форма одежды, то ли одной выучки четкие движения, скупые жесты, проницательно-жесткие взгляды делали их совершенно одинаковыми и как бы безликими. Козырнув и пожав ему руку, генерал-лейтенант пригласил усаживаться на жесткий стул с прямой спинкой, стоявший рядом со столиком, на котором аккуратными стопками уложены газеты и журналы. - Посмотрите пока газеты, - предложил генерал. В ответ на слова Зайцева, что успел прочитать их в гостинице, он ответил: - Это завтрашние,.. - но, взглянув на большие напольные часы, поправился, точнее, сегодняшние. Все трое молчали, на редкие телефонные звонки генералы отвечали односложно, не посвященному понять ничего невозможно. 301 Минут через сорок генералы зашевелились, видимо, по им одним понятным признакам определили приближение шефа, генерал-майор встал возле входной двери, генерал-лейтенант подошел к двери справа, поднялся с места и Зайцев, генерал распахнул входную дверь, одновременно открылась и другая дверь. Резким, быстрым шагом вошел Берия, он был в парадной маршальской форме, от золота на фуражке и шинели исходило яркое сияние, увидев в приемной постороннего, мгновенно преобразился в солидного правителя, шаг его стал степенным, вид важным и внушительным, так, вероятно, когда-то выступали вдоль шеренги склонивших головы князей и сановников грузинские цари. Берия шествовал, не глядя ни на кого, задрав к верху надменный подбородок, в пенсне сверкал отблеск ярко загоревших люстр. Генерал-лейтенант изнутри закрыл дверь и вслед за Берией вошел в кабинет. Через несколько минут, казавшихся Зайцеву вечностью, он вышел оттуда, подойдя к Зайцеву в полголоса инструктировал: - Говорите коротко и четко, на вопросы отвечайте точно и правдиво, не юлите, Лаврентий Павлович этого не терпит. Много времени не отнимайте, он только что с важного дипломатического приема, а после вас предстоят важные совещания, на нем, - генерал перешел на шепот, - как на Первом Заместителе Председателя Совета Министров СССР, самые сложные проблемы. Придирчиво осмотрев еще раз Зайцева, генерал скомандовал: - Проходите,.. Распахнул, как показалось Зайцеву не без торжественности, дверь, пропустил несколько оробевшего посетителя и бесшумно закрыл ее за ним. Берия, развалившись, восседал в огромном кресле за массивным большим столом, он успел переодеться, видимо, в комнате, в которую вела дверь, расположенная за его спиной, в костюм,темно-синий с полоской однобортный, тщательно отутюженный, исключительной белизны сорочка с твердым накрахмаленным воротничком, галстук в тон костюму с аккуратно повязанным модным узлом. Весь его облик - и тщательно уложенные остатки волос на голове, и пенсне с золотой прищепкой, и хорошо сидящая на нем одежда внушали, что перед Зайцевым современный высокопоставленный деятель. Он знал, что Берия курирует угольную отрасль и не один раз слышал, что это строгий и даже опасный руководитель. Увиденный воочию образ не совпадал со сложившемся у него стереотипом - Садись, - мягким жестом, указал Берия на кресло возле приставного столика, - я тебя вызвал, чтобы возложить новое большое, очень важное для страны дело. Он говорил негромко с небольшим акцентом, твердо, словно продолжая с Зайцевым какой-то прежний разговор. Что Берия, не поздоровавшись, прямо с ходу начал деловой разговор, подчеркивал значимость дела, для которого он, Зайцев, вызван из далекой Сибири. И он, Зайцев, часто при разговорах с подчиненными как-то произвольно отходил от элементарной вежливости, это был своеобразный стиль сурового времени. 302 - Мы готовим достойный ответ американцам на их атомный шантаж, пора их ставить на место. Дело новое, естественно, возникают новые проблемы. На очереди задача надежного и бесперебойного обеспечения сырьем, необходимо в кратчайшие сроки развернуть крупно масштабные геологоразведочные работы, параллельно организовать добычу и обогащение сырья. Увидев во взгляде Зайцева недоумение и чуть ли не страх, Берия, иронически усмехнулся: - Ты, в панику не бросайся, не первое дело на бегу осваиваем. Тебя хорошо знаем, товарищ Сталин твою кандидатуру поддержал. Свяжу с Курчатовым, вместе наметите программу действий и завтра, нет, уже сегодня, вечером с нею ко мне. Берия снял трубку с телефона без наборного диска. - Игорь Васильевич, у меня Зайцев, о котором я Вам говорил, займется сырьевыми проблемами. Горняк, в войну хорошо проявил... Потянет,.. а куда ему деваться... Когда ему к Вам подъехать? Хорошо... Решили! Положив трубку, Берия взглядом, казалось пронизывающим насквозь, уперся в Зайцева, как бы пытался убедиться дошло ли до него осознание чрезвычайной важности возлагаемой задачи и готов ли он к ее решению. - Будешь у Курчатова в десять утра. Он сформулирует конкретные задачи и поможет определиться с масштабами и сроками работ. Еще раз пронзив Зайцева взглядом, выпрямился в кресле и сказал. - Все! Приступай к делу. Точное время, когда быть у меня тебе скажут. Выходить будешь прямо на меня! Кого сочтешь нужным привлекай к этой работе без всяких ограничений, это задача всей страны, всего народа! У тебя вопросы есть? - спросил Берия, заметив недоумение в глазах Зайцева. - А как трест, Лаврентий Павлович? Берия насмешливо посмотрел на него. - Это не твой вопрос, им займется министр. Пойми, тебе оказано высочайшее доверие! Оправдаешь, ты на коне. Провалишь дело - ответишь головой! Он кивком головы закончил разговор. В приемной генерал-лейтенант вручил ему два небольших листочка: - Вот Вам ордер на квартиру, - он вручил маленький листок, - здесь телефоны Ваши и те, которые потребуются. Никто не должен знать ни адреса, ни телефонов, ни места работы, ни должности, повторяю, никто! Да, да и Ваша жена! Для всех Вы работаете в комиссии Совмина по топливу. Майор, который доставил Вас сюда, будет обеспечивать Вашу безопасность, круглосуточную охрану и соблюдение режима секретности, он поможет и в житейских делах, не стесняйтесь его использовать. От Вас требуется одно - все время, ум, силы, энергию полностью расходовать только на порученное дело! Он позвал, находившегося в коридоре майора. - Лаврентий Павлович беседовал с Алексеем Николаевичем и он получил назначение. Теперь Вы в его распоряжении. - Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант, - четко ответил майор, мощно возвышавшийся над Зайцевым. 303 Через час Алексей Николаевич позвонил домой со своей московской квартиры. Никто не отвечал. Не без труда дозвонился до заместителя начальника комбината Каплана. - Поздравляю Вас, Алексей Николаевич, - радостно умильным голосом заверещал Каплан, едва услышав голос Зайцева, - у Вас родился сын! КНИГА ТРЕТЬЯ Часть первая 1 В университете устраивался традиционный новогодний бал-маскарад и Фая предложила Ивану пойти с ней, другой кандидатуры у нее не оказалось, он безропотно согласился, противоречить не осмеливался. Идеальный будет муж, посмеивалась про себя Фая, можно вертеть им, как ей вздумается. Бал к их появлению уже начался. Публика здесь иная, не сравнить с заполнявшми зав 304 - Я, Муратов Александр, - робко, с надеждой, что девушка вспомнит о письмах ее матери. Евгении Алексеевны, наверное, хоть раз, но упомянула его фамилию.Фая встрепенулась, как же, мамочка писала о солдате который спас ее - это же сын тети Кати, братик Оли и Любы Как же она могла его узнать, если никогда не видела? Нет, видела на фотографии, но этот совсем не похож, правда, фото такое, что самого себя не признаешь. С этого момента для Фаи все находящиеся в зале куда-то отдалились, чуть ди не исчезли, ведь перед ней стоял человек из иного мира, где храбро сражались, бидись насмерть, спасали женщин, ее мамочку! Это возвелечивало стоящего перед ней, пожирающего ее восторженным ввзглялом паренька, как не привыкла она к жаждущим ее глазам мужчин, взгляд настоящего фронтовика гипнотизировал, поднимал в собственном мнении – это же не улынивающий от фронта Вадик, ни стоящий возле нее дохлятик Иван, тем более не долговязый из заводского клуба, да и среди студентов манеры ненамного лучше - подошёл, обхватил и сразу на “ты”. - Я встречал Вас на вокзале, - все еще старался напомнить о давней встрече Александр, -. когда эвакуированных привезли,.. потом разговаривал с Вами возле Дома техники... Фая смутно, но помнила паренька, встречавшего эвакуированных, но этот не похож на того. Неужели так изменился, три года или даже больше прошло? Сколько воды утекло, и война! Фая не знала отчего, но ей приятно видеть этого юношу, как он открыто и восторженно уставился на нее! Вот такого бы приручить, подумала она, это не Иван, какой вежливый, не избалованный! - как все Муратовы. Наверное, и женщин еще не знает, истолковала его застенчивость Фая, наивный мальчик, хотя и фронтовик. Оркестр заиграл танго, Александр обернулся к Ивану: - Разрешите, - он кивнул на Фаю, давая понять, что просит у Ивана разрешения пригласить его партнёршу на танец. На лице Фаи промелькнула удивлённая улыбка, позволения просит у её кавалера - мелочь, а приятно. - Вы, пожалуйста, извините, - говорил Александр, осторожно державший одной рукой кончики пальцев её руки, а другой с заметным трепетом обнимавший её талию, - я ведь не танцую, так что Вы водите меня, а то я Вам ноги оттопчу, на лице застенчивая улыбка, - мне с Вами надо поговорить, ведь я на фронте с Вашей мамой, Евгенией Алексеевной, встречался, мы с ней в Берлине были... Вот это Новый год, вот это встеча! - он всё расскажет о мамочке, надо его обязательно зазвать к себе. Её мысли словно передались ему. - Разрешите после танцев проводить Вас, по дороге я Вам такое расскажу... Танцевать он действительно не умел, ей приходилось протаскивать неуклюжего партнера сквозь тесно танцующие пары, все равно избежать столкновений не удалось. Возвратясь с Фаей к её кавалеру, он поблагодарил Ивана, чем еще поднял себя в ее глазах, и отправился к ребятам, с которыми пришёл сюда, сказав Фае: - Спасибо за танец, в конце вечера я к Вам подойду. 305 Фая с радостным и взволнованным выражением на лице, объяснила Ивану, что перень, с котрым она танцевала, это Александр, студент горного института, из шахтёрского города, где она до этого жила и этот мальчик сын лучшей подруги её мамочки. - Он встретил мамочку на фронте и однажды спас её, - торпливо от возбуждения говорила она, - они вместе в Берлине воевали. Он хочет меня проводить и по дороге всё рассказать. Ты, извини, пожалуйста, - она виновато улыбнулась, порывать с Иваном пока не входило в ее намерения. Ивану ничего не оставалось, как молча проготить сказанное. Александр удалился от девушки, с которой ему очень хотелось бы еще побыть, потому, что опасался как бы снова не пришлось танцевать, не в его характере.еще раз предстать перед ней смешным Заявив Фае, что узнал её, он говорил не совсем правду, выделявшуюся на вечере красивую, со вкусом одетую девушку заметил сразу как только она появилась, но попытаться подойти к ней и заговорить никогда бы не осмелился, она казалась абсолютно недоступной для него. Его однокурсник и земляк Володя Залешин тоже любовался первой красавицей бала. - Видишь девушку в светло-зелёном платье?- кивком он показал на привлекшую его внимание девушку,- наша землячка, дочь управляющего трестом, бывшего, Фая Станкевич. Вот это красавица! Ты, только посмотри! Так это дочка Евгении! Вот так встреча! Сколько раз слышал, как мать печалилась, что оторвана от дочери. Едва окончился танец он решительно, словно головой в омут, направился к ней. Впоследствие удивлялся своей решительности, откуда только всё взялось, боявшийся подойти к любой девушке, а ни то, чтобы заговорить с ней, в этом случае действовал быстро и наступательно. Вот тебе и телёпа, как до сих пор называет его мать. Подошёл, заговорил и даже решился пригласить на танец, не умея танцевать, считал себя неуклюжим и оттого не терпел танцы, тем более, что в школьные годы ему вбили в голову, что танцы это занятие для пошлых мещанок, а не для серьёзных мужчин. Ещё больше поражался своей почти наглой смелости напроситься в провожатые, в этот вечер проявилось свойство его характера, ставшее потом определяющим - он принимал решение, долго раздумывая и взвешивая, но уж если принял, то для исполнения его предпримет беспредельные усилия, добьется своего. Ребят на месте, где Александр их оставил, не было. У входной двери увидел свалку, а, возможно, и драку. Точно, Залешин расталкивал в разные стороны сцепившихся парней. - Что случилось? - с тревогой спросил он. - из-за чего драка? - Да вот жёлторотики не поделили девчат, университетские с физмата наскочили на наших, стараюсь растащить их, видишь, что получается, - Залешин прижимает к носу платок, пытается остановить кровотечение. Александр втиснулся между дерущимися. - Кончайте сейчас же! - прикрикнул он, - петухи безмозглые... Едва растащил, успев получить с обеих сторон чувствительные удары по спине, груди и даже по лицу. В конце концов вытолкали забияк за дверь. - Ну, как? Поговорил? - спросил Залешин, будто никакой драки не было. 306 - Не только поговорил, но получил позволение проводить до дому, - отвечал Муратов, он был возбуждён, но не от драки, - так что не жди меня... Они вернулись на прежнее место в зале, гремела восточная музыка, студенты, сбившись, стояли кругом, наблюдая за танцующей девушкой. - Так это же твоя знакомая, Фая Станкевич! - воскликнул Залешин, - смотри как чудесно танцует! Александр заворожено наблюдал за каждым движением девушки, она полностью поглощена танцем, губы слегка поджаты, руки и туловище изгибались в такт музыке, ноги плавно скользили по полу, подол платья красиво облегал их, грациозно изгибаясь, Фая как бы демонстрировало тонкую талию, приглашалая любоваться прелестными очертаниями плеч, изящными изгибами обнаженных рук. - Вот это да-а,.. - только и смог произнести Муратов. Перед окончанием танцев он более решительно, чем в первый раз, подошел к Фае, по-прежнему стеснительно попросил у неё номерок, чтобы не толкаться в огромной очереди и заблаговременно получить пальто. К изумлению одевавшихся приятелей, толкавшихся в в раздевалке в длинной очереди, приятному удивлению Фаи и даже собственному, Александр, как заправский джентельмен, галантно помог девушке надеть пальто и на виду у потрясенных приятелей этот тихоня, любовавшийся девушками только издали, пошел провожать самую прелестную из них! Иван какое-то время, понуря голову, двигался за бойко разговаривавшей парочкой, но убедившись, что поглощенная интересным разговором Фая, похоже, и не думает о нём, незаметно отстал. Говорил в основном Александр, исчезла наваливавшаяся на него в подобных случаях скованность, чувствовал себя легко, свободно и трудно поверить, что с этой девушкой он только сегодня встретился, вот вам и тонкости человеческой психологии. Рассказывал, что после демобилизации работал на шахте, а сейчас учится на Высших Инженерных Курсах (ВИК) при горном институте, созданных специально для имеющих средне-техническое образование, а также жизненный и производственный опыт. Попасть на эти курсы помог начальник комбината, который часто бывает у них дома, они с его матерью хорошие знакомые. Фая слушала с большим интересом, ей любопытно было как можно больше узнать о нём, непропстила его слова о ее отчиме, начальнике комбината, но еще больше ждала, когда же он поведает о ее далекой, как всегда, мамочке, расскажет, как её узнал, как вместе с нею воевал, а, главное почему она так долго не возвращается. Опасаясь, что скоро придётся расставаться он говорил об Евгении скороговоркой, также коротко объяснил, как впервые встретил её и контуженную, полуживую вытащил из-под завала, рассказал о медсанбате и её стараниях там. - Она всё время одна? У нее никого не было и нет? - дрожащим голосом спросила Фая и с непередаваемым волнением ждала ответа. - О-о-о! Такое было! Рассказать не поверишь! - с благоговением и печалью восклицал Александр. 307 От университетского здания, где состоялся бал, до Фаиного дома, если идти по набережной, достаточно пятнадцати минут, а он ещё почти ничего не рассказал о её мамочке, продолжать прогуливаться чувствительно холодно, а Александр одет, видела Фая, далеко не по погоде и она не намного теплее. Так не хочется отпускать его, не расспросив подробно о мамочке, она лихорадочно придумывала, как пригласить его, не нарвавшись на обидный отказ, он чувствительный к каждому ее слову, жесту, очень щепетильный, не Ивану чета, не будет нахально набиваться в гости.. Уговорить Александра, действительно, стоило ей больших усилий, застенчивость и стеснительность у него, по мнению Фаи, чуть ли не панические, лишь убедившись, что дома кроме Фаи никого нет и не ожидается, он не без боязни перешагнул заветный порог. Такой просторной с большими окнами квартиры и, по его представлениям, богато обставленной он никогда не видел, разумеется, не считая немецких, но в Германии ему было не до разглядывания убранства квартир и домашней роскоши. Озираясь по сторонам, будто зверь, попавший в новую клетку, он робко прошёл в большую гостиную и примостился на краешке мягкого дивана. Фая удалилась на кухню, потом ещё куда-то, вернулась в фланелевом халатике, подчеркивавшем ее изящную фигурку и при дижении обнажались стройные ножки, не задумываясь, радушно предложила поужинать, но Александр так бурно, испуганно запротестовал, что она испугалась, вдруг уйдет, а это не входило в её намерения. Чрезмерная стеснительность нечаянного и позднего гостя оставила без ужина их обоих, хотя утолить голод было бы желательно. Фая справедливо полагала, что со временем он обвыкнет, и эта проблема исчезнет сама собой, сейчас же надо постараться вновь его разговорить, и это ей удалось, его строптивость, не такая уж непреодолимая, не без сарказма подумала Фая, он с прежним энтузиазмом посвящал её в то, что знал об Евгении. - Такую любовь, какая была у Евгении Алексеевны со старшим лейтенантом Василием Алексеевичем Вешниным, - восторженно рассказывал Александр, трудно представить. Конец её трагический - за несколько дней до конца войны старший лейтенант погиб в Берлине. Я видел как она переживала, удивляюсь, как только выдержала! Фая потрясена. Какая могучая любовь! Только завидовать можно. А у неё?! Вадик, трус и подонок, прятавшийся от фронта, воспользовался её беспечной наивностью, доверчивостью?! Другие?! Иван зачуханный?! Эх, мамочка, мамочка променяла меня на любовные похождения! Теперь ясно, зачем на фронт отправилась. 308 Эгоизм родных детей самый страшный и непримиримый, они не могут понять и простить того, что совершено, как им представляется, против них или их интересов, против их счастья, как они его понимают. Как может случиться, что тот, кто их породил, выкормил оставляет на произвол судьбы, на страдания в этом мире? Такого не допустит ни кошка, ни собака, ни шакал, питающийся падалью! Посмотрите, как они оберегают своих детёнышей, часто ценой собственной жизни! А у людей любовь, дружба, работа и деньги важнее, чем дитё родное?! На глазах у Фаи невольно навернулись слёзы. Александр казнился, зачем поведал бедной девочке печальную историю о несчастной любви её матери, для него мать священна, она не может быть судима детьми,.на мать нельзя обижаться, её следует всю жизнь любимой почитать. - Она пишет, что не одна. С кем же? - Этого не знаю, когда демобилизовался и уезжал из части была одна. Она очень красивая и добрая, мне показалось, что командир нашего полка к ней неравнодушен... Не знаю, Вы уж извините меня... Фая горевала недолго и в самом деле можно ли поддаваться грусти-печали при молодом человеке. Она не дурочка, чтобы его упускать, он наивный, доверчивый, но она из него вылепит то, что ей нужно. Неиспорченный, пожалуй, ни одной женщины еще не знал и фронтовик, это тоже чего-то стоит, конечно, у него сегодня за душой пусто, ни квартиры, ни приличной зарплаты, одни мечты. Но надёжный! Этим словом вынесла ему свой приговор. Она не могла ничего о нём сказать, совершенно не знает его, но какая-то неведомая сила толкала её к этому внешне обычному пареньку и когда поздней ночью он пркидал ее, так и не осмелившись прикоснуться к ней, она посмеивалась над его робостью и была уверена - от неё этот размазня не вырвется, она доведёт его до нужной ей кондиции. 2 Евгения Станкевич ехала к своей дочери. Что она звалась Евгенией это бесспорно и как всякая бесспорная истина обсуждению не подлежит, другое дело фамилия, особенно у женщин. Ехала именно Станкевич, несмотря на официальное оформление ею брака с Павлом Дмитриевичем Вороновым. Разумеется, могла, а, возможно, и должна была принять фамилию мужа, и он безусловно надеялся иметь жену однофамилицу, таков многовековой российский обычай и в нём удобство для семьи. У матери и отца одна фамилия и она передаётся сыновьям, как признак продолжения рода. Она же - Евгения - настояла на своём и Павлу, безусловно, пришлось согласиться на сохранение ныынешней фамилии жены, как, впрочем, приходится соглашаться и со многим другим. Евгения цеплялась за девичью фамилию не из-за красивого её звучания или генеалогической значимости, она, как ей думалось, заботилась о дочери - Фая носит и будет носить её фамилию, твердо настаивала она, фамилию никогда ею несменяемую, хотя поводы для этого жизнь предоставляла неоднократно. Конечно, если бы её счастье роковым образом не оборвалось в Берлине, она 309 несомненно была бы Вешниной, фамилия немудрящая, нет в ней аристократического блеска и не таится славы предков, но для Жени в те дни в этой фамилии звучала самая прекрасная музыка, музыка любви. Такая любовь, какую она пережила с Васей, редкость, не всякому даётся, она украшение всей жизни, она и печаль до конца дней её. Напрасно цеплялась Евгения за девичью свою фамилию, якобы ради дочери, у Фаи, судя по ее скупым последним письмам, надобность в сохранении материнской фамилии скоро исчезнет. От того и совершает недавняя фронтовичка путешествие из центра Европы до середины Азии, в Сибирь. Если в одиннадцатом веке Марко Поло понадобились годы на преодоление такого пространства, то Евгении Станкевич достаточно и двух недель, перемещается она не в холодном возке на перекладных, с унизительным заискиванием и жесткими схватками у губернаторов, жандармов и станционных смотрителей. До Москвы из Германии офицерская жена ехала в купкйном вагоне, а московские друзья, недавние однополчане мужа, постарались создать еще большие удобства и комфорт, и она благоденствует в спальном вагоне, в отдельном мягком купе курьерского поезда. Молиться бы ей на мужа, возносить благодарственные слова и выпрашивать для него доброго здоровья, удач и прочего, нужного не ему одному, но и ей, она же его радения воспринимает с холодным равнодушием, будто он обязан отдавать ей некий долг. Женой Воронова Павла Дмитриевича, досрочно, в связи с Победой, получившего звание полковника, она стала, глядеть со стороны, безусловно добровольно, но без обычных в таких случаях рыцарских подвигов и любовных излияний. Обхаживал он её долго и настойчиво и своего добился. Можно допустить, что она устояла бы и осталась одна или подвернулся такой, который преодолел бы её чуть ли не броневую защиту, возведённую гибелью Василия Вешнина. Но вмешались, как уже бывало в ее жизни, обстоятельства, если не роковые, то достаточно суровые и опасные. Отгремели в Берлине победные салюты, в медсанбате постепенно устанавливался мирный порядок с соблюдением инструкций и выполнением процедур, с отлаженной медицинской рутиной, которая не меньше лекарств и операций превращает страдающего больного в нормального человека. Раненых становилось всё меньше, задерживались такие, хлопот с которыми требовалось больше других, случалось поступали больные, но крайне редко, в дивизии оставался народ молодой, болезнями не отягощенный. Евгения готовилась к демобилизации, со дня на день ожидая приказа по этому поводу, подполковник (пока ещё) Воронов навещал медсанбат почти каждый день и не было большим секретом ради кого, он столь настойчив, но знал меру и в назойливости обвинить его никто бы не смог. Однажды появился не один, из машины вылез майор, которого ей представил: - Евгения Алексеевна, позвольте познакомить с майором Никольским, он Вас видел, когда приезжали в полк и утверждает, что знает Вас. 310 Довольно стройный майор пристально вглядывался в нее, как бы пронизывая насквозь, чем приводил, казалось, невозмутимую Женю в непонятное ей замешательство, под этим взглядом ей трудно сосредоточиться и понять видела ли его когда-нибудь. - Не узнаёте?.. - иронически улыбнулся он, - теперь могу смело утверждать, что мы встречались, хотя наше знакомство было очень кратким и состоялось более полутора лет назад... Евгения продолжала вглядываться в насмешливо улыбавшегося майора, но память на помощь не приходила. - Может быть, подполковник позволит нам немного посекретничать? - майор вопросительно посмотрел на Воронова. Озадаченный командир полка, ничего не говоря, ругая про себя навязавшегося майора, пошёл к машине, а майор Никольский смотрел вслед ему и заговорил, убедившись, что никто теперь не помешает, продолжил разговор. - Память у Вас действительно короткая, женская, - заговорил он ни то с упрёком, ни то с насмешкой, - позвольте напомнить - летом сорок третьего мне с одним старшиной поручили срочно доставить Вас в Особый отдел армии к полковнику Евстигнееву,.. - майор наблюдал за реакцией медсестры. Словно яркая вспышка молнии высветила в её памяти тот страшный день капитан и старшина везут её, как преступницу в расположение штаба армии, неожиданная встреча с Николаем Иннокентьевичем Евстигнеевым, тяжёлый разговор с ним, страшная бомбежка и ее контуженную молоденький солдатик полуживую вытаскивает из под завала. Этот день ей не забыть никогда! Майора же, тогда капитана, она и не могла заполнить, он и старшина помнились как безликие сопровождающие, каких она насмотрелась при лагерных мытарствах. Сейчас же он с презрительно-насмешливой улыбочкой на откормленном лице, конечно, запомнится, его появление и напоминание об обстоятельствах их знакомства, если бездушное волочение в Особый отдел можно подвести под такое понятие, это страшное явление неумолимой бесовской силы, столько лет, как злой ворон, терзающей её несчастную душу, можно сравнивать с внезапным и опасным разрывом снаряда. На долю секунды у неё потемнело в глазах, она вздрогнула, но устояла на ногах, майор, не упуская из виду малейших нюансов её реакции, подхватил под локоть. Он говорил нарочито обыденным тоном и это, вопреки его коварным намерениям, приглушило зловещую суть внезапного напоминания. - Николай Иннокентьевич жив?! Что с ним? - тревожно воскликнула Евгения. Если бы она специально готовилась к этой встрече, обдумала бы, как ей себя вести при разговоре с особистом, едва ли придумала что-либо лучше этих произвольно вырвавшихся, нормальных, естественных человечных вопросов. - Что Вы! Все погибли: и полковник, и старшина, и водитель, - откликнулся майор, - я, как видите, жив, но полгода резали и сшивали в госпиталях. Вот и Вы, как недавно узнал, чудом спаслись, я же думал никто после ужасной бомбежки не уцелел. Мельком увидел Вас в полку и не поверил своим глазам, потому и напросился поехать сюда, удостовериться не ошибся ли. 311 - Так Вы тот капитан? - спросила Евгения и не ради уточнения, а лишь бы выиграть время, взять себя в руки. - До майора дослужился, назначен в полк начальником Особого отдела, капитана Ковалёва отозвали в наркомат,- он говорил спокойно, и его трудно заподозрить в недобрых намерениях это несколько уменьшало беспокойство Евгении, но не снижало напряженность, она сжалась, ожидая , какой оборот примет их разговор дальше. - Столько времени прошло, а меня всё ещё гложет любопытство, зачем же полковник Евстигнеев потребовал срочно доставить Вас к нему? Он говорил по-прежнему спокойно и несведущий человек воспринял бы его любопытство за чистую монету, она же в тюрьмах и лагерях прошла через таких изощрённых следователей, что спокойный тон и подобное любопытство майора для неё лишь коварная уловка. - Я находилась в лагере, где Николай Иннокентьевич был начальником,.. - она смущенно замялась, - я с ним... жила, - и смущение и откровенное признание были с ее стороны тоже уловкой, чтобы направить мысли следователя по менее опасному, как она думала, направлению. - А-а... - протянул майор, можно это принять как понимание её отношений с начальником лагеря, - а как же Вы оказались на свободе... и на фронте? - Моё дело было пересмотрено, освободили за отсутствием состава... Вернулась в родные края, никого из близких не нашла, родители скончались, специальности не имела, подала заявление в военкомат, война ведь... С фактической стороны Евгения ничего не скрывала, всё, что она говорила, было правдой, но не договаривала, как ввела в заблуждение Евстигнеева и не возвратилась к нему, а на фронт выпросилась, рассчитывая быть не найденной им. Недосказанное никто теперь не докакажет, об этом знали только она да погибший начальник лагеря. - Как он отыскал Вас и почему потребовал срочно доставить к нему? недоумевал майор Никольский. - Он побывал у меня дома и там узнал номер полевой почты, - продолжала правдиво отвечать она, не поясняя, почему не от неё Евстигнеев получил эти сведения. - Понятно, - соглашался майор, но она чувствовала, её ответ ясности ему не добавил, - пора возвращаться к подполковнику. Воронов уже подходил к ним, он не скрыл неудовольствия, к Евгении приехал он, а не навязавшийся на его голову майор. Какие у него с нею могут быть секреты или пытается клинья подбить к ней? Это уж дудки! Однако, увидев побледневшую, напряжённую Женю, понял, что на его интересы майор не покушался. Что же её встревожило? От особистов приятного ждать не приходится. - Убедился, что память меня не подвела, - улыбаясь встретил майор командира полка, - Евгения Алексеевна вспомнила, где мы встречались. 312 Век не видеть бы и не помнить его, зло думала Евгения, чёрт принёс на ее голову, быстрее бы уезжал, не выдержу и, не приведи господи, лишнего сболтну. Подполковнику Воронову никак не хотелось покидать её, будь его воля не отходил бы от неё ни на шаг, навязался окаянный, зачем только согласился взять его с собой, настроение испортил и мне и ей. Ничего не поделаешь, придётся уезжать, не объясняться же перед ним. Наконец-то уехали, облегчённо вздохнула Евгения, глядя вслед отъезжающей машине. В душе смятение, внесённое воскресшим майором, смятение почти паническое. Медсанбат расположился в бывшей больнице в берлинском пригороде “Симменсштадт”, перед ней небольшой сквер, по нему прохаживались раненые, изредка, пугливо поглядывая на русских военных, проходили немки, с остраской обгоняли медленно идущую Евгению. Редкие бойцы и офицеры бросали мимолётный взгляд на привлекательную женщину-сержанта, глубоко ушедшую в свои мысли, не замечавшую их любопытные и призывные взгляды. Она вновь и вновь обдумывала каждую фразу майора, каждый его вопрос, пытаясь разгадать, что таилось за ними. Он просто так не отвяжется, рассуждала она, война окончилась, возможностей отличиться, проявить бдительность у ретивого служаки осталось значительно меньше и выслужиться куда сложнее, вот и начнет раскручивать её дело. Какое дело не задумывалась, но жива она, значит и дело может быть снова возникнуть, не напрасно же он допытывался, зачем её затребовал полковник Евстигнеев. Даже если и поверил её объяснениям все равно примется проверять, затребует закрытое дело, будет запрашивать, наводить справки, бог знает до чего докопается. Что же ей делать? Как не угодить снова в их цепкие лапы? Быстрее бы демобилизоваться, уехать подальше от появившегося как чёрт из печки майора. Нет, это не выход! Если отыскали на фронте, то в мирные дни добраться до неё проще простого, нигде не скроешься, не затаишься, начнут приставать к Фае, перепугают, затаскают бедную девочку. Как быть?! Перебирала вариант за вариантом и тут же отвергала один за другим и ни с кем не посоветуешься, ни на кого не обопрёшься. С начальником медсанбата подполковником Мухаметшиным? И тут же отвергла эту мысль, у него, недавно досрочно получившего новое звание, без неё забот полон рот, и он помнит, как однажды её уже увозили особисты, вообразит, что она и впрямь подозрительная личность. 313 Как метроном бьёт по мозгу один единственный вопрос - кто ей поможет, кто ей поможет? Тогда спас Саня Муратов, случайно оказавшийся на месте бомбежки. Каким смешным показался ей молоденький солдатик, менее двух лет прошло, а его не узнать, на войне взрослеют быстро, не напрасно фронтовой год приравнивают к трем обычным. Земляк человек надежный и верный, но уже далеко отсюда, возле родной матери, её старшей и мудрой подруги Кати, будь даже здесь, толку от него почти никакого, только взвалила бы непомерный груз на неокрепшие плечи совестливого парня. С ужасом обнаружила, что однаодинёшенька, без друзей и подруг, вдалеке от близких и родных, как затерявшийся кораблик среди бушующего шторма в бескрайнем океане, вокруг ни помощи, ни пристанища. В сознании возник подполковник Воронов. Эх, если бы сейчас на его месте оказался Вася Вешнин, тот не позволил бы ни одному волосу упасть с её головы, она не задумывалась, как он защитил бы, но была абсолютно уверена, что безусловно защитил бы! От одного воспоминания о Василии ей становится легче. Воронов почти всё последнее время у неё на глазах, но её сердце не воспринимает молодого, напористого и довольно симпатичного командира полка, не воспринимает и ничего тут не поделаешь, такие, видимо, законы у любви. Вспомнила первые попытки наивного командира артполка, без труда сообразила, что отметить свою демобилизацию Саня пригласил её по подсказке подполковника, этот Саня, усмехнулась Евгения, у неё что-то вроде архангела Гавриила, сводил с Вешниным, он же и посол от Воронова. После первого и единственного напутственного тоста, провозглашённого командиром полка, Муратов незаметно удалился, за ним исчез заглянувший напутствовать первого в полку демобилизованного подполковник Сукачев. Специально это сделано или так получилось, но они остались с Вороновым наедине, он выпил подряд несколько рюмок водки, уговаривал её поддержать, она не спорила, подносила рюмку ко рту и как только он выпивал, отставляла свою. Боевой офицер не выпивоха, это было заметно по всему, пил для смелости, приятно и в то же время комично было видеть, как боевой командир теряется в её присутствии, словно робкий, застенчивый мальчик, а ведь помнится, при их первой встрече после забавного знакомства в ровике, куда она свалилась на него, укрываясь от артналёта, вел себя словно заправский ловелас, вел себя, как лихой охотник, надеявшийся наскоком достичь примитивной цели. Она давно не глупая дурочка и отлично видит, он влюбился и, может быть, в первый раз, и от того смущавшийся и, как всё влюблённые, несколько поглупевший от своего чувства, с него слетал офицерский лоск, куда-то исчезала природная самоуверенность, при разговоре заикался, с трудом подбирал нужные слова, а найдя, робел их произнести. От наивности и неопытности он надеялся, что водка придаст смелости, а её сделает податливее, уступчивее, попытки Воронова подпоить её настолько прозрачны, что она откровенно и, пожалуй, безжалостно посмеивалась над ним: - Павел Дмитриевич, не нажимайте, ничего у Вас из этого не выйдет! 314 Взбодрив себя, Павел Дмитриевич предпринял более энергичные и более прямолинейные попытки сближения. Она же, с виду хрупкая и в какой-то мере беззащитная, дала такой отпор, что всю его агрессивность мгновенно выбило, он униженно извинялся и готов был любой ценой искупить неблагородные действия. Далее разум отступил куда-то на задний план и бедным влюблённым всё больше управляло спиртное оглупление, много говорил, плакался на свою несчастную долю, давно, мол, живёт на белом свете (перевалило за двадцать пять лет!), а не может покорить любимую женщину. То начинал бахвалиться, рассказывать о своих боевых подвигах (он действительно боевой и храбрый командир), раскрывал свои честолюбивые намерения. - Я непременно буду генералом! - безапелляционно заявлял он. Не напрасно говорят, что у каждого солдата в ранце маршальский жезл и офицерская служба путь к генеральским чинам, но в нормальном состоянии подполковник Воронов об этом даже не заикнулся бы, водочное и любовное опьянение не в меру развязали язык и при следующей встрече он выглядел еще смущённее, боялся смотреть Евгении в глаза. Она отлично представляла его состояние и встретила непринужденно, приветливо, ни малейшим образом не напомнила о пьяной развязности, и он уехал в еще большем восхищении ею. Будто специалист-анатом, Евгения детально анализировала внутреннее содержание настойчивого поклонника. При первой встрече он показался безрассудным, способным на непредсказуемые и сногсшибательные поступки, мог увлечь за собой других, и это недалеко от истины, поняла она из разговоров о нём. Присматриваясь внимательнее, поняла, что он умеет во-время остановиться или, как говорят о маленьких детях, знал край, не переступал опасную черту. Благодаря осмотрительности, он в сложных ситуациях спасал от верной гибели следовавших за ним, лихие годы, раннее достижение значительных командных высот выработали у него напористость, он не признавал тупиковых ситуаций и находил выход из них сложнейших обстоятельств. Это как раз то, что сейчас так остро необходимо Евгении, перепуганной появлением майора Никольского. Тщательно обдумала Евгения, как объясниться с подполковником Вороновым, будь влюблена в него, едва ли потребовалось придумывать слова и уловки, любовь сама находит безошибочные пути-дорожки к уму и сердцу любимого. С пункта связи медсанбата связалась с подполковником, убедившись, что он рад её звонку, не без вкрадчивости обратилась: - Павел Дмитриевич, когда я смогла бы увидеть Вас? - Что случилось, Евгения Алексеевна? - в голосе Воронова и радость и беспокойство одновременно. - Есть необходимость посоветоваться,.. - в её голосе улавливает мольбу и надежду. - В течение часа буду у Вас, - без долгих раздумий четко и уверенно заверил Воронов. 315 Пока он ехал, а полк стоял поблизости, Евгения, при ограниченности солдатских возможностей, постаралась, как сказали бы в её деревне, причепуриться, хотя для него она во всяком виде, в любом наряде была прекрасна, лучше всех, неповторима. Он взволнован - ещё бы, сама позвала! Тревожно вглядывается в неё, что же с ней случилось, отчего сигнал SOS подаёт? Она тоже всматривается - как он ещё молод! Лицо по юношески чистое, гладкое, видимо, бриться стал недавно, не проглядывает ни одной морщинки, при улыбке на щеках возникают ямочки, они смягчают напускную суровость, подчёркивают мальчишескую удаль. И все-таки это опытный и волевой командир, в глазах стальной отблеск, во взгляде твердость - как быстро на войне мальчишки превращались в настоящих мужчин! Ёё не смущало, что она старше его и совсем не задумывалась об этом. Евгения намекнула, неплохо бы куда-нибудь удалиться, уж больно много любопытных глаз. Он повёз её к себе в полк и там возле пруда в замке Платтенбург ветвистые кроны деревьев и наступающие сумерки укрыли их от нескромных взглядов. Очень сжато, не вдаваясь в детали, рассказала, как в тридцать седьмом была репрессирована, испытала такое, что не приведи бог испытать кому-либо другому, а в начале войны случилось невероятное, её дело пересмотрели и выпустили подчистую, не найдя никакой вины. При всей краткости рассказа, он уловил, что её появление на фронте как-то связано со всеми предыдущими мытарствами, для него, как и для майора Никольского непонятно, зачем на фронте её отыскал полковник Евстигнеев? Но он верил ей, верил в её невиновность и не допытывался, не задавал никаких вопросов, для него главное, что ей требуется помощь, и он готов откликнуться на любой её призыв. Евгения радовалась его готовности, у неё появился человек, на которого можно опереться! Более спокойно рассказала, как встревожило её появление майора Никольского и особенно его расспросы. Как у большинства строевых русских офицеров, у Воронова традиционная корпоративная неприязнь к работникам спецслужб, не шантажирует ли особисткий майор несчастную женщину, не подбирается ли сам к ней? Он, Воронов, в обиду её не даст! Друзья познаются в беде, утопающий хватается за соломинку, не было бы счастья, да несчастье помогло, это она относила к подполковнику Воронову, ей посчастливилось обнаружить рядом человека, готового ринуться в борьбу ради неё, убедилась в его неотступной напористости, сметливой изворотливости, не случайно в столь молодые годы достиг высокого звания и получил в командование полк, он надёжен в любви, способен ради неё рисковать. Ни разу не обратился с вопросами, которые могли быть ей неприятны, решающим было его чувство к ней, а на остальное не обращал никакого внимания, чтобы отвести от неё беду, избавить от унижений и оскорблений, то есть защитить, заслонить он готов по-рыцарски, по-мужски загородить её собою. 316 Формально по должности и по званию майор Никольский подчинён ему. Командир полка при очередной встрече официально поручил майору регулярно докладывать о настроениях среди личного состава полка, о сомнительных и ненадёжных лицах, Никольскому такое внимание было лестно, от других этого не дождёшься, не понимают всей важности его службы, часто нос воротят неумные чистоплюи. Подполковник же, расположив ревностного служаку, умно, как бы попутно, между делом постепенно выводил их конфиденциальные разговоры на медсестру из медсанбата, выведал - ничего конкретного предъявить Евгении майор пока не может, но он запросил из лагеря, где она содержалась, её дело и материалы по его пересмотру, убеждает начальника медсанбата не торопиться с демобилизацией медсестры Станкевич до полного выяснения всех обстоятельств. При встрече с Евгенией влюбленный, энергичный командир полка, рассуждая о своих усилиях, как бы между прочим обмолвился: - Мне сложно напрямую действовать, у Никольского могут возникнуть профессиональные подозрения, домыслы, отчего так пекусь о Вас, родственник или что-то другое нас связывает? 317 Не так уж она непонятлива, соображает к чему клонит подполковник, сватов не присылает, а о свадьбе намекает, она же на свадьбу не настроена, из сердца и головы еще не исчез судьбою ей предназначенный Вася Вешнин, прошло немногим более сорока дней со дня его гибели. Неверующей считается Евгения, но помянула в тот день Василия как положено поминать христианскую душу, вознесла молитву, самой придуманную, из глубины сердца идущую, возжелав ему царства небесного, попросила Раю Лебедеву раздобыть спирту и выпили ещё раз за упокой его души. Так что, если бы и лежало её сердце к боевому офицеру все равно не ко времени его намёки и желания. А как же с его помощью, защититься от майора особиста? Раздумья, сомнения, страхи...Что же ей делать? Терпеливо ждать куда кривая вывезет? Хорошо, если к свободе, а если снова в лагерь?! Только не это! Страшнее участи не представляла, мысли снова и снова возвращались к Воронову, к его намёку, может ли он стать для неё щитом, оберегающим от любых угроз и нападок? Наблюдая за ним, перебирая в памяти всё, что она знала и слышала о нём, всё более уверенно подходила к утвердительному ответу, но при непременном условии, если станет женой, как про себя иронизировала, мадам Вороновой. Женой?! Она уже была в женах, а что толку? Не считалась женой Василия, но разве их любовь от этого страдала? Можно, конечно, рассуждать о плюсах и минусах брака, а зачем? Это не ею придумано и не ей отменять, сегодня перед нею вопрос проще простого, быть или не быть женой Воронова? Но как на это сложно решиться! Как дотошный бухгалтер высчитывала за и против нового замужества. Вот что значит, когда не мешает ослепляющая любовь, считай-посчитывай! И при всей её придирчивости, почти сплошь, как из богатого клада вынимала аргументы за, в пользу этого брака. - видный, энергичный, при чинах и положении, а главное безумно любит её. Против только два обстоятельства - моложе её, но это аргумент притянутый за волосы, главное же, определяющее препятствие, не любит она его, как не хотелось бы отдать ему свои лучшие чувства, не может ни к чему придраться, а не любит, хоть убивай её за это! Если бы он не любил, а она изнывала бы от любви, это было бы намного лучше, видеть любимого, быть рядом с ним, это само по себе уже счастье, а за любовь его борись, добивайся её! Нет этого чувства, живи рядом, прозябай, мучай его, терзайся сама! Как быть? Она была в положении той несчастной косули, которую на охоте гонят на стрелков, в какую сторону не кинулась бы, ходу нет, не пускают гонщики, остаётся лишь одна дорога - под пулю стрелка! Одна надежда, что стрелок промахнётся, но надежда призрачная, не сбывающаяся... 3 318 Для молодых людей, особенно студентов, десять часов вечера еще не позднее время. Александр Муратов спешил к Фае. Встреча с ней на новогоднем балемаскараде была овеяна крепкой памятью об эвакуированной девочке и еще больше тем, что она оказалась дочерью его фронтовой знакомой, с которой связано столько общих волнующих событий и переживаний. Он представлял увидеть юную, невинную девочку, встретил же гордую, как ему показалось, девушку необыкновенной красоты, никогда до этого ему не встречавшейся. Как естественное, он воспринял её приглашение при первой же встрече в её дом, ведь он был последний, кто видел Фаину мать, воевал с нею, даже однажды спас её. В тот вечер злился на себя, что совсем растерялся от столь ошеломляющей красоты, был робок, неуклюж, чрезмерно смущался. Конечно, появился у неё на другой день, ей нетерпелось, ещё и ещё поговорить о мамочке. И с тех пор почти не было дня, чтобы они не встречались. Фае практически не требовалось прилагать усилия, прибегать к каким-либо ухищрениям, чтобы заставить неопытного солдатика, ныне студента, влюбиться в неё почти до безумия. С третьей или четвертой встречи они сошлись, и он был горд, что покорил гордую красавицу. Она рассказала очень печальную историю обольщения её наглым прощелыгой, укрывавшемся в далёком тылу от фронта, представала жертвой несчастного стечения обстоятельств. Когда же, по прошествии некоторого времени, он робко выразил удивление тем, как легко добился её, она, несколько удивлёная вопросом, исчерпывающе объяснила: - От меня же не убыло, а потом ты мне,.. - и так невинно при этом улыбнулась, что потребность у Александра в каких-либо объяснениях тотчас испарилась. С каждым днём его чувство нарастало, он был ею поглощён и восхищён, без неё немыслил своего существования и вскоре неожиданно для неё, а ещё больше для себя попросил: - Фая, выходи за меня замуж... Она закрыла его рот поцелуем, продолжая обучать этому паренька, до неё никого никогда ни с кем не целовавшегося. При следующей встрече сообщила: - Папа не возражает... Александр был восхищён таким ответом, он уже знал, что Алексей Николаевич ей не родной отец, и почувствовал, что у Фаи с ним натянутые отношения. О предстоящей свадьбе Фая известила мамочку, не слишком надеясь, что ради этого она, наконец, появится. И вдруг телеграмма, а потом телефонный звонок, и вот мамочка у неё общежитии, Фая перебралась в него вскоре после того как Алексей Николаевич вернулся из очередной командировки с молодой женщиной и объявил: - Знакомься, это моя жена Елена Леонидовна. Елена протянула руку, Фая стояла, явно потрясенная услышанным, на мгновение прикоснулась к протянутой руке и бегом удалилась в свою комнату. Алексей Николаевич намеривался броситься за нею, но Елена мягко остановила его. 319 - Не беспокой её, пойми, для неё это удар, она, возможно, надеялась на возвращение к тебе ее матери и вдруг появилась какая-то тётя Мотя в моем облике. Подождём немного и всё встанет на свои места. В последующие дни Фая по утрам выходила из своей комнаты, завтракала вместе с молодыми и уходила на занятия. Возвращаться стремилась как можно позже, но все равно ужинать приходилась вместе, Елена, приготовив ужин, ждала её прихода. Через несколько дней, Фая появилась днём, прошла в свою комнату, а примерно через час вышла из неё с чемоданом и узлом. Елене сказала, что перебирается в общежитие. Та не стала уговаривать. - Можешь возвратиться в любой момент, твоя комната за тобой. Фая покинула дом не от того, что очень уж переживала за свою, где-то заблудившуюся мать. Появление Елены не было неожиданным, она давно уже поняла, что Алексей Николаевич и мамочка вместе никогда не будут, но ей было нестерпимо наблюдать, как папа, а она его так продолжала называть, полностью отдался этой женщине, она держится в доме так, словно жила здесь всю жизнь. Елена, кроме того, большая помеха Фае, стало сложнее встречаться с Александром. Александр стремился каждый выходной день побывать у матери. В один из приездов сообщил о своих намерениях. Екатерина Егоровна только тяжко вздохнула, она уверена, дай или не дай она согласие, женитьба сына дело решенное. Её отягощали мысли, как молодые разместятся в их тесной, совсем обветшавшей халупе. С момента исчезновения хозяина - Ивана Александровича в ней не было вбито ни единого гвоздя, не заменена ни одна дощечка, брёвна, из которых срублена избушка, такие, что ткни пальцем и проткнёшь насквозь, нижние венцы настолько трухлявые, можно лишь удивляться как всё не развалилось. Когда же узнала, что невесткой будет Фая и вовсе обомлела, для этой девочки после роскошных хором управляющего, теперь начальника комбината, это жалкое жилище покажется хуже собачьей конуры. - Ты подумал куда её приведёшь? - удивляясь беззаботности сына, спросила она, - с непривычки на второй день сбежит... - Не сбежит, привыкнет, не мы одни так живем. А потом не навечно же, работать начну и мне, как молодому специалисту, квартиру выделят, - беспечно отвечал Александр, хотя мудрая его мать чувствовала, что и его тревожит, как будущая жена впишется в их семью и в этот домишко. Зато сестрёнка Люба откровенно радовалась: - Это же замечательно! Будет с кем в доме поговорить. Телёпа телёпой, а такую девушку отхватил! Это же первая красавица в городе! - восторгалась она. - Раскудахталась! Много ты понимаешь, - одёргивала дочку Екатерина, - не напрасно говорят: пригожая жена - лишняя сухота. 320 Когда же Александр приехал на выходной с невестой, беспокойство Екатерины возросло. Действительно, любовь слепа, не зги не видит. Осознала и своё бессилие, незрячий и тот заметит, что её сын в этой девушке души не чает. Любовь же не пожар, разгорится - не потушишь. Ничем о своем беспокойстве Александру даже не намекнула, лишь потом, когда приехала Евгения, в мягкой своей манере дала ей понять о своих тревогах. Александру же не терпелось, он очень хотел быстрее покончить с жениховством. Как случалось на речке - хочется искупаться, но боишься холодной воды и, чтобы преодолеть этот страх, не постепенно входишь в воду, а сразу бросаешься в речку, на мгновение обжигает холодом, зато потом становится легко и приятно. Досаждали его не то что страхи, а появившиеся сомнения, даже не сомнения, а непонятные и неожиданные для него ощущения, что Фая как-то не совпадает с тем идеалом жены, который или из-за общения с простой крестьянской, а затем солдатской средой, или под воздействием чистых образов прочитанной русской классики складывался в его сознании. При внешнем высокомерии и, казалось, недоступности она легко и просто вела себя с другими ребятами. Поначалу упрекал себя в старомодности, в нём, мол, живут заповеди крестьянского домостроя, порождающие излишнюю подозрительность. Затем отбрасывал особенности своего характера и опять задумывался над некоторыми странностями Фаи. У неё, заключил он из своих наблюдений, довольно упрощённое понимание человеческих отношений, на первом плане собственное настроение, желание получить незамедлительное и беспрекословное исполнение любых, вдруг возникавших потребностей. Он удивлялся внезапности перемен её настроения - она с чарующей ласковости, кошачьей обаятельности мгновенно переключалась на молчаливую мрачность или резкость, вплоть до откровенной грубости. Иногда он возмущался её капризностью и нетерпимостью, даже осмеливался высказывать это ей, резкие перепады порой ее настроения и поведения часто бесили его, в моменты злости даже возникали намерения порвать с нею, мол, это не та женщина, которая устраивала бы его в качестве жены. И даже при этих приступах гнева твердо знал, что никогда не решится на разрыв, вытерпит самый сумасбродный её каприз, никогда не откажется от неё. Все его сомнения и тревоги отгоняла безмерная и безрассудная, всё прощающая любовь, пронизавшая каждую клеточку его существа. 321 Не раз Александр удивлялся неожиданным поворотам своей судьбы, которая водила-водила его по многим дорогам и тропкам, сводила с самыми разными людьми и вот твердо и бесповоротно вывела, будто других дорог и других людей нет на этой дороге и на Фае свет клином сошёлся. Видимо, именно для неё судьба сберегла его на страшной и беспощадной войне - сколько умных и добрых людей навсегда остались вдали от семей, от родных мест. Вспоминались и его второй номер при ружье ПТР Антипин, и хозяйственный, строгий командир полка Ашурков, и многообещающий храбрый до бесшабашности капитан Расторгуев, и с редким, прямо-таки райским голосом наивный Витька Костин. Все они сгинули на суровых дорогах войны, а он выжил, вернулся домой, и сейчас его мозги разбрелись в разбросанности, почти в растерянности от прекрасной, загадочной и непонятной девушки. Так почему он выжил? Для чего он сохранён на этой Земле, какое ему определено предназначение? Полный раздирающих чувств и растревоженных мыслей оказался он возле университетского общежития. К его удивлению, Фая стояла у входа, ему показалось, что она ожидала не его, но, увидев, подбежала и обняла, он почувствовал волнующее тепло её тела, уловил её запах, ощутил вкус её губ. Мимо прошел молодой человек, несколько старше его, внимательно взглянул на Фаю, она, показалось Александру, от этого взгляда смутилась. - Ты его знаешь? - спросил Александр. - Первый раз вижу, - без запинки ответила она, но он почему-то не поверил ей. Договорились пойти в городской парк имени Парижской коммуны, расположенный недалеко на набережной, там немало укромных уголков. 4 322 Корова подоена, молоко процежено, просепарировано, в доме прибрано. Чем же ещё заняться? Непривыкшая болтаться без дела Екатерина Егоровна прежде никогда не задумывалась над этим, дел всегда было столько, что вертелась быстрее, чем белка в колесе. Белке-то что, крутись и крутись, других забот не знает, Егоровне же на шахте толкотни по забоям на полсуток, а то и дольше, на сон и на домашние дела оставалось времени с гулькин нос, обессиленная приплетется домой, приляжет, чуток вздремнёт и снова сумку на плечо и на шахту. Сынок Александр, возвратясь с войны, увидев её, изнурённую шахтой, поспешил освободить от подземной маяты. Поначалу она радостно вздохнула, будто воз поклажи с себя скинула, увидела снова, как всходит и заходит солнышко, как берёзонька нежные листочки выпускает, как теплый дождик дома и улицы омывает. Ведь забыть могла, одни потёмки подземные, мат мужицкий, тяжелющая сумка на горбу и взрывы, взрывы без конца с грохотом и отказами. Отказы для запальщика страшнейшая беда, не взорвётся патрон, вот и добирайся до него, выколупывай из длинной скважины, не то оставленный в пласте, он так шарахнет проходчика, что ослепит или изувечит. Конечно, есть инструкция, как эти отказы ликвидировать, надо обуривать вокруг него, опять заряжать скважины и потом взрывать сызнова, долгая волынка, а забойщики костерят, им взорванный забой быстрее подавай, без дела мёрзнуть накладно, за простой не платят. Приходилось приспосабливаться выковыривать проклятый отказ, не единожды дрожала от боязни не ударить бы случайно кайлой или лопатой по патрону - так рванёт, что и костей не соберёшь, не дождутся девчонки матери с работы. Но бог милостив, дождалась целёхонькая сыночка с фронта, а он выхлопотал ей увольнение, хотя добиться этого оказалось не так просто. Еще перед войной вышел закон с запрете увольняться или переходить с одного места работы на другое, Александр ходил в горсовет, в горкоме партии по кабинетам поторкался, с войны вернулся партийным, как и отец его был. 323 Без работы на шахте день длинным кажется, и Иван, муж её, всё время перед глазами мерещится, иногда мысли о нём до того раззадорят, что взглянет на улицу, увидит идущего мужика и покажется, что Иван домой возвращается, но вскоре проходит помутнение в голове, скоро десять лет как уволокли его в безвестность, жив ли он, не сгубила ли его судьба-кручинушка, мечется она в сомнениях, хотя сама себе в этом не признаётся. Сейчас она, считай, одна сама с собойодинёшенька, судьбы, свою и детей, как костяшки перебирает, в окно поглядывает, не бежит ли Любка из техникума, день на занятиях, вечером забежит, на ходу еду как собачонка похватает и хлопнула дверью, жди её чуть не до утра. Понятно, девка в возрасте, а женихов, что быков в стаде, один на десяток коров, побили её ровесников на побоище окаянном, вот и бегают девчонки по клубам, по танцулькам, авось какой-нибудь и подвернется, какой ни есть, даже захудаленький. На Саньку здешние девчонки тоже набросились, как мухи на свежий мёд, он, конечно, в жениховском возрасте, пришёл с фронта повзрослевшим, возмужалым, Екатерина не сразу к такому привыкла, уходил же парнишкой безусым. Недолго вольным соколом по клубам побегал, натянул спецовку, как вериги тяжеленные, устроился на шахту, сначала электрослесарем, потом механиком на участке стал, ну и закрутился, ей это понятно, видела как днюют и ночуют начальники и механики участков, оборудование-то старое, за войну поизносилось, только успевай налаживать. Так бы и замордовала его шахта да вышло решение посылать таких как он, поработавших и повоевавших техников на учебу, на инженеров выучивать. Спасибо Алексею, бывшему Женькиному мужику, он и присоветовал и направление выдал. Частенько заезжает Алексей к ней, у него с бывшей почтальоншей совместная жизнь налаживается, устраивает Елена, как заботливая птаха, новое гнездышко, за советом к Екатерине, к пророчице-покровительнице обращаются, как им лучше друг к другу приладиться. Да какой она советчик в делах тонких, деликатных, ведь кроме Ивана никого не знала, где уж тут других учить жить, хотя они не чужие, всю войну на глазах, хочешь не хочешь, а своди и разводи их теперь. Он ей, Екатерине, нашёптывает, повезло, мол, ему с Еленой, та же напрямую ничего не говорит, но видно, клеется у неё с грозным начальником комбината, ластится он перед нею, не знает на какое место её посадить, в какой угол поставить. Хрупкая и, вроде робкая, а крутит-вертит мужиком - Елена не Женька, нет у нее строптивости и неуступчивости, лаской да добром смиряет мужскую волю и непокорность. 324 Дай боже, чтобы у дочки её Ольги семейная жизнь тоже по-доброму сложилась, написала, замуж выскочила, заранее, вишь, не удосужилась оповестить, принимай мамаша готовенькое. На севере, куда её после окончания техникума заслали, мужа отыскала, Сергеем звать. Как там сеют и жнут Екатерина не представляет, лето-то совсем короткое, в июне еще не лето, а в августе уже не лето, пишет, картошку выращивают, в огороде всё как здесь у нас растёт, овес и даже пшеничку высевают, часто вымерзает, но стараются такие сорта вывести, чтобы хлебушко был свой, а не привозной. Ольга при лаборатории, где семена выводят, отбирают, Сергея, бухгалтера, там выискала, обещает вскорости его привезти, тёщу ему показать, приехать-то оттуда целая морока, только по воде, другого пути пока нет. На улице слышно кто-то едет на телеге или на ходке, редко кто проезжает, бывает за день ни разу не прогремит повозка, наверное кому-то уголь привезли или гость к кому-нибудь нагрянул. Глянь! Это же к ней! Кто же? Бегом на улицу, ходить спокойно так и не приучилась. Господи! Какая гостья! Женька! Фу ты, давно уж Евгения, даже Евгения Алексеевна, навстречу хозяйке торопливо приближается степенная, довольно молодая женщина, но не располневшая, хотя и не с осиной талией, от хрупкой, как стебелёчек, Женьки мало что осталось, сцепились в объятиях и долго-долго не выпускают друг друга. В глазах гостьи, примечает Екатерина, появилось что-то неуловимое новое, она или рассматривает её, чему-то удивляясь, или чего-то опасается, словно подвоха ждёт, вроде бы поменьше в ней былой строптивости, злости, какую тогда по возвращении из лагерных мест принесла. - Давай, чемоданы-то, - радостно суетится Екатерина, выпуская её из объятий, - что же телеграмму не отбила, встретили бы... - Сначала хотела прямо к Фае, после неё к тебе, потом сообразила, что к Алексею не заедешь, у него, как поняла из писем, молодая жена,.. - Евгения ждёт подтверждения или опровержения своим предположениям, Екатерина согласно кивает, - где проживает Фая точно не знаю, у него или в общежитии. Вот и надумала по старой памяти сначала к тебе, небось, не прогонишь... - Кто же тебя прогонит, - ворчливо возмущается Екатерина, - всегда тебе рада, чай, не чужая! Не виделись-то, сколько лет! На улице встреть и не признала бы... - Сильно изменилась? Постарела? - встревожилась Евгения. - Нет, что ты, какое там постарела, - успокаивает Екатерина, - ты, погляжу, из тех баб, которые чем годами старше, тем на вид моложе, но все-таки какая-то другая, не знаю как сказать, вроде не нашенская... - Как не нашенская? - опять тревожится Евгения. - Говорю, не знаю как сказать, барыня - не барыня, но и на наших заимских не похожая. Городская, что ли?.. Хотя и городские разные бывают. За быстротечным разговором на ходу, не обращая внимания на тяжесть, перетаскали чемоданы, сумки, Евгения, заметила Екатерина, щедро рассчиталась с возницей. Гостеприимная хозяйка принялась за готовку, надо же покормить с дороги, душевность и радость, почтение выказать. Евгения вызвалась помочь. 325 - Сама управлюсь, - остановила её Екатерина, - ты посиди, отдохни с дороги, путь-то неблизкий, измаялась, поди. - Какой там измаялась, - усмехнулась Евгения, - ехала как настоящая барыня в мягком вагоне, в отдельном купе, аж бока отлежала, теперь бы поразмяться, а то кровь в жилах застоялась. Пока на стол гоношили разговор шёл отрывочный, перескакивая с одного на другое, родню перебирали, кто вышел из войны живым, здоровым, а кто покалеченным добрался до родных мест, а чьи-то косточки в далеких краях без памяти и догляда в братских могилах. - На нашей заимке, - рассказывала Екатерина, - только четверо мужиков с войны вернулись да и то израненные, покалеченные, а уходило несколько десятков. Брату Михаилу в голову осколком угодило, кости над ухом нет и видно как мозги шевелятся. - Ох Катя, насмотрелась я на это, в медсанбате же медсестрой была, и без рук и без ног поступали, с повреждёнными головой и с внутренностями. Наш главный доктор Мухаметшин многих прямо с того света вытаскивал, были такие, что и он ничего поделать не мог. Во время наступления в медсанбате кровь хоть вёдрами вычерпывай. За столом разговор стал глаже, само собой чокнулись за встречу, за то, что выжили, перемогли войну, выдюжили все её напасти, Екатерина позволяла себе изредка пропустить рюмку, другую, но обязательно в компании, Евгения выпивала смелее, привыкла в медсанбате силы разведенным спиртом поддерживать и успокоение искала, забвение от потерь безвозвратных и от наскоков майоров недобитых, как она выражалась по адресу особиста Никольского. После выпитого заговорили прямее, откровеннее, не обходили неприятного и сомнительного. - Долго ты собиралась домой к дочке, уж всякое на ум приходило,.. осторожно подступалась Екатерина к волновавшему её интересу, почему задерживалась Евгения с возвращением. - Меня походя горе мычет, беда за бедой за мной ходят, - тяжело вздохнула Евгения,. - бог от напасти лагерной избавил, а чёрт так и гоняется за мной, норовит снова туда упрятать. Евгения то с горечью, то с едким сарказмом повествовала, как отыскал её на фронте лагерный начальник Евстигнеев, упрекал за бегство, то уговором, то угрозой добивался возврата к нему. Не закончился их разговор, налетела свора немецких бомбовозов, угодила огромная бомба в блиндаж, Евстигнеева разнесла бесследно, её тяжело контуженную извлёк из-под завала и доставил в медсанбат тогда незнакомый молоденький солдатик, оказавшийся сыном Екатерины. - Писал об этом, но, что это ты, наша заимская, он тогда и не догадывался, вставила Екатерина. 326 - Так нас и свели фронтовые дороги, а потом мы подружились и часто встречались, об этом ещё успею рассказать. Страшно даже вспоминать о той жуткой бомбёжке, часто задумываюсь, для меня она - беда или благо? Погиб Николай Иннокентьевич и мне грешной от этого как-то спокойнее, никто назад в лагерь не потянет, и тут же перед глазами страшнейшее зрелище - столько погибших, молодых, здоровых и сама чудом уцелела. Вот такие фокусы выкидывала война! Евгения как бы удалилась в тот страшный день и на минуту замолкла. - Успокоение моё оказалось напрасным, а, может за это и наказана, не все погибли под бомбами, уцелел майор, который доставлял меня к Евстигнееву, он тогда в капитанах ходил. Екатерина с искренним состраданием выслушивала историю как отыскал Евгению особистский майор Никольский, допытывался о ней и полковнике Евстигнееве, накладывал запрет на её демобилизацию. Спасибо полковнику Воронову, он ринулся защищать её и отвёл новую беду, дай бог, навсегда бы, после всех этих мытарств она, наконец, смогла поехать к доченьке. - Ты сейчас одна или кто есть у тебя? - полюбопытствовала Екатерина, хотя опытным женским взглядом поняла, что вопрос излишний. - Ой, Катя! У меня такая музыка была, что расскажи, не всякий поверит. Призакрыв глаза, словно чудную песенную сказку, нараспев изливала чувства, рождённые встречей с Василием Вешниным, повествовала о яркой, как весеннее солнышко, любви и жуткой трагедии войны, её оборвавшей. В который раз заливалась слезами, речитативом пропев печальное сказание о гибели того, кого считала своей неотъемлемой половинкой. - Как я выжила, Катя, не представляю. Казалось весь белый свет померк, жить не могла, но и погибнуть не решилась. Если бы на меня в то время не наваливались горы бед и несчастий поступавших в медсанбат тысяч израненных и изувеченных войной по всякому могло обернуться, чужое горе отталкивало мое личное и постепенно воскрешало охоту к жизни. А потом Берлин, подоспела наша Победа, это тоже наливало силой, большим терпением. Екатерине не трудно понять, что Евгения всё ещё полна той необыкновенной любовью, глаза её так искрились, будто Василий в эти минуты представал перед ней. Окончив радостное и горькое повествование Евгения потускнела, исчезло сияние в глазах, голова склонилась, будто стояла она перед его гробом и окончательно прощалась с ним. Молчание затягивалось, она, похоже, ушла в себя, в недавнее прекрасное и страшное, Екатерина не тревожила её воспоминания, понимала, что Евгеньина боль достойна уважения и терпеливости. Но вот та всхлипнула в платочек, им же подобрала скатывавшиеся слезинки и тихо заговорила. - Жизнь моя покатилась дальше сама собой, будто живу не я, а кто-то другой, я лишь со стороны наблюдаю и не во что не вмешиваюсь - будь, что будет! Грустно, бесстрастно рассказывала о заботливости Воронова, которого не остановили неожиданное воскрешение майора Никольского, ни его коварные намерения снова загнать её в ад унижений и оскорблений. 327 - Этот майор шантажировал меня, грозил карой начальнику медсанбата, если демобилизует меня без его соизволения. Этому майору тоже в войну досталось, полгода излечивал ранения после той бомбёжки, по госпиталям мыкался, но натура его не изменилась, лагерный, надзирательский дух не выветрился, снова принялся отыскивать врагов среди своих, беды на людей напускать. При этих словах у Екатерины всколыхнулись мысли о её муже Иване Александровиче. Наверное, опечалилась она, вот в такие руки и он попал и не отпускают, а держат как пленённого или уже отмучался. Она тяжко вздохнула, а Евгения восприняла этот вздох за сочувствие ей. - Даже трудно представить себе, что было бы со мной, если бы его домогательства повернулись так, как он хотел. Ладно рядом Павел Дмитриевич, он тогда в подполковниках ходил, командиром полка, в котором твой Саня служил. Сейчас уже полковник, командует всей артиллерией дивизии. - Есть же на земле хорошие люди, - облегченно вздохнула Екатерина. - Человек он хороший, конечно, не такой видный как Вася, но внушительный, уважение вызывает. Только сердце моё к нему никак не может повернуться, Василия, видимо, помнит. Павел так ко мне относится, дай бог, чтобы к другим так относились. Но... - Так ты, с ним сейчас? - Вроде бы и так, но не знаю... не пойму... С ним и без него... - Как это так? - Недоумевает Екатерина. - Да вот так,.. - грустно, опустив голову, почти шёпотом отвечает Евгения. Уютно и спокойно Евгении в приветливом доме Екатерины, есть же на свете душа, перед которой она может открыться, выговориться, попросить если не помощи, то хотя бы сочувствия. Екатерина тоже радуется, как будто на какой-то миг очутилась на родной заимке, вспомнила беззаботное деревенское девичество, первые годы замужества, теперь кажущиеся безоблачными, глубокую, искреннюю и надёжную любовь Ивана. По невидимым проводам или трубам доходит до неё из того далека свежесть и полнота жизни, поступает непрерывное питание её надеждам и, прежде всего, надеждам на более счастливую участь для её детей, а скоро уже и для внуков. Как ни хорошо и спокойно у доброй Екатерины, но добиралась Евгения почти через всю Европу и половину Азии ради своей доченьки Фаечки, как ни рада встречи со старшей подругой, все её мысли вокруг дочери, пытается разузнать у Екатерины, какая она теперь, чтобы подготовиться к встрече, не допустить оплошности, не встревожить и не обидеть девочку. Екатерина же увёртывается от разговора о Фае, не торопится первой высказаться о предполагаемой скоро свадьбе сына и своей будущей невестке, что-то таит она и это беспокоит Евгению, доброе-то само наружу выпирает, как вода из переполненного ведра, наконец, решилась напрямую выведать мысли Екатерины о женитьбе сына. - Болит моё сердце, тревожусь, как у них склеится, - не сразу ответила Екатерина, - разные они, очень разные... - Как разные, в чём? - беспокойство передается Евгении. 328 - Александр с малолетства знал нужду, заботы, такую тяжёлую и страшную войну прошел, чувствую, хлебнул солёного и горького через край. Сейчас учится, но нужда все ещё идёт рядышком, ни одни каникулы не отдыхает, всё лето работает, чтобы мне помочь, корове сена заготовить. Фая девочка, конечно, красивая, видная, с такой не стыдно на людях показаться, но она же всю войну за спиной Алексея в довольстве прожила, тягостей не почуяла, нужды ни в чём не имела. И потом,.. - Екатерина как-то замялась, - рано самостоятельной стала.. - Самостоятельной? Что ты имеешь в виду? - Евгения уловила в словах Екатерины нотки недовольства Фаей. - Сама увидишь, ты не молоденькая несмышленая, жизнь тебя вон как покрутила, научила распознавать людей и дочку свою не умом так сердцем почувствуешь. Только знай, если они сойдутся, буду молить бога, чтобы у них всё сложилось по-людски... Ничего больше не сказала Екатерина. Но и сказанного было достаточно, чтобы внести смятение в душу Евгении. Где живёт сейчас Фая? С почты позвонила на квартиру Алексея Николаевича. Услышала приветливый женский голос, догадалась, жена бывшего мужа. Представившись, спросила о Фае, в общежитии университета она живёт, ответила Елена, но если Евгения Алексеевна окажется в городе, то может остановиться у них. Елена говорила спокойно и очень доброжелательно, без какого-либо смущения и неловкости. 5 Наконец-то, она приехала к Фае и через несколько минут увидит доченьку после стольких лет разлуки. Остановилась в многоместном гостиничном номере, об отдельном номере не приходилось и мечтать, в этот-то разместить едва уговорила непробиваемую женщину- администратора, осаждаемую множеством приезжих. 329 В комнате общежития, увидев друг друга, мать и дочь бросились в объятия, полились слёзы, радостные восклицания. Немного успокоившись, утирая слёзы, Евгения рассмотрела комнатку, в ней четыре металлических койки, по-девичьи аккуратно застланные, стены украшены фотографиями артистов. Фая сбегала за кипятком, вынула из тумбочки свёрточки с конфетами и печеньем, Евгения достала из сумки привезенные из Германии и Москвы разнообразные гостинцы. Чаепитие не броско и не заявочно превращалось в познавание друг друга, матери и дочери. Вытянулась Фая, совсем взрослая, удивлялась Евгения, вглядываясь в дочь, такая родная, близкая и совсем ей незнакомая, красивая, вызывающе красивая, женщина, именно женщина, Елена ухватилась за это новое познание Фаи. Уверенная в себе, во властной силе собственной красоты и женского очарования, уверенная беспредельно, с налетом нет-нет да проскальзывавшего цинизма. Она, как тот одуванчик, который рано по весне выскочил из земли, прежде всех расцвел и больше всех подвержен капризам переменчивой весенней погоды. Похоже, обо что-то споткнулась доченька и теперь на всех смотрит с вызовом - не из тех она, кто упав, просит пощады или помощи, а утверждает себя гордой посадкой головы, дерзким взглядом, грациозными и решительными жестами, любого, мол, заставлю покориться своей молодой и энергичной красоте. А если Фая стала женщиной до Александра?! Вот на что намекала Екатерина! Вот почему собирается молиться за них. Александр, возможно, не старомоден, но то, что он не первый у жены, будет отравлять ему жизнь ни один раз, при любом вольном или невольном Фаином внимании к другим мужчинам, каким бы оно безвинным не было. Неизвестно кому, Фае или Александру, будет тяжелее. Вспомнила как её терзала беспредельная ревность Алексея, лучшей участи она желала бы Саше, хотя для дочери лучшего мужа и не хотела бы. Чудесный, такой добрый парень! Как жаль его! Еще больше жалела родимую доченьку, обрекшую себя на будущие страдания и не в последнею очередь из-за ее материнской неопытности, заполошной глупости и строптивости, не разглядела наперед какую участь готовила дочери, уберегая себя от подстерегавших бед, вот что значит оставить девочку без материнского догляда, впервые возникла мысль, пагубным обернулось для дочери её поспешное бегство на фронт. Сейчас времена изменились, всё гораздо проще, сходятся ещё до свадьбы, выискивала мать оправдание себе, тут же зло обвинила Зайцева, не углядел за девочкой, себе новую жену подыскивал. 330 Фая готова прыгать от радости, всем своим существом наслаждалась появлением мамочки. Столько лет рядом с нею не было родной души! Мамочка у неё единственная, других родных нет и в помине, любовалась ею и не без затаённой зависти. Такая пожилая (для двадцатилетних пожилые все, кто старше их) и так прекрасно выглядит! Морщин не видно, хотя не заметно, чтобы пользовалась косметикой, кожа на лице чистая, без пятен и веснушек с освежающим румянцем, волосы умело, не без кокетства, прибраны, седых совсем мало, сосчитать можно, вырывает их, что ли? Зрелая полнокровная привлекательность матери затем почему-то начинала раздражать Фаю, хотя ей радоваться бы подобному ее обаянию. Одета мать с намного большим вкусом, чем известные Фае местные модницы - кого же здесь намерена охмурять? Светлосерое импортное платье, наверное немецкое, с отложным воротничком и с клапанами для несуществующих карманчиков придает ей некий аристократизм, плиссированный подол, такие сейчас в моде, подчеркивает соблазнительные бёдра. Окажись эта женщина на её свадьбе, будут восхищаться больше ею, нежели невестой, промелькнуло в голове девушки…. Не закончили чаепития как тихо, застенчиво в комнату вошел Александр Муратов. Перед Евгенией предстал хорошо ей знакомый солдатик в той же много раз стиранной гимнастёрке и солдатских же кирзовых сапогах. Увидев Евгению, бросился к ней, она тоже отодвинула чашку и обрадованная его появлением поднялась ему навстречу. Фая с ревнивым удивлением наблюдала за их трогательными объятиями. - Евгения Алексеевна, какая Вы!.. - он подбирал слова, чтобы точнее выразить свое восхищение недавней сестрой из медсанбата, - я же Вас в гражданском платье первый раз вижу, на фронте Вы всегда были в гимнастёрке и в сапогах, а сейчас, как будто с картинки журнала мод сошли! Выпустив из объятий Евгению, он подошёл к Фае, робко и нежно пожал снисходительно протянутую руку, явно сдерживая желание обнять девушку, но постеснялся Евгении. Фая выглядела недовольной, то ли тем, что пришёл поздно, то ли тем, что помешал её разговору с матерью. Как он расшаркивается перед мамочкой! Никогда не видела его таким любезным, готов мамочку всю вылизать, будто она не простая медсестра, содлатка, а генеральша из дворян. Перед ней, Фаей, он робкий, деревня деревней, не скажет лишний раз доброго слова, будто эти слова у него на строгом учете и он их выдает, рассчитывая, как бы не передать сверх выверенной меры. Будь мамочка помоложе, он и не посмотрел бы в ее, Фаину, сторону, а не оглядываясь ринулся бы за своей Евгенией Алексеевной, как он ее беспрерывно навеличивает. Евгения умными и всё понимающими глазами наблюдала и робкую влюблённость Александра и снисходительностьное терпение Фаи. Как она с ним держится - будто одолжение оказывает, милостиво позволяет к себе приближаться, пожимать руку! А он? Боевой парень, фронтовик сник пред девчонкой, ничего ещё в жизни не видевшей и ничего не испытавшей. Ох, будет она вить из него верёвки! 331 - Я на минутку заскочил, - смущённо говорил Александр, ему досадно, что помешал их встрече, - мимо проходил, в горком партии спешу. Собирают комиссию, проверяли работу парторганизации радиозавода по освоению производства новых видов продукции, меня включили в эту комиссию. Вечером заскочу. Еще раз порывисто обнял Женю и осторожно приложился губами к Фаиной щеке, на которой нежно проступал свежий румянец. Евгения откровенно восхищалась парнем. - Такой же, каким был на фронте, - сказала она, - до всего ему дело!.. Его, рядового по званию, почти самого молодого в штабной батарее, в разгар Берлинской операции назначили командиром взвода. - Да ну его, - недовольно откликнулась Фая, - вечно чем-нибудь занят, то горком, то партком, то с ребятами ему куда-то надо или еще... Всегда спешит, остановиться не может, а мне что остаётся? Уговаривает на строительство гидростанции с ним отправиться, нужна мне эта стройка. Карьерист какой-то, недовольно брюзжала она. - Зато, как вижу, любит он тебя без оглядки, - заметила Евгения, - какой же это карьеризм, если человеку не безразлично, что вокруг творится, если от дела не бегает, напротив, берётся за самое трудное? Карьерист тот, кто наглостью, подлостью и лестью чины хватает. Приглядывайся к Саше получше, чистой и искренней любовью не разбрасываются... - Очень нужна мне его любовь! - засмеялась Фая, - он такой смешной, мамочка, подойти боится, за руку возьмет и то боязливо, будто опасается повредить. Танцует как медведь на льду, не поет, в общем телёпа, как говорит тётя Катя. - Молись, моя девочка, чтобы эти его недостатки были самыми большими и единственными. Из таких телёп обычно получаются самые достойные люди, самые надёжные мужья. Да, эти ребята не выучились ни петь ни танцевать, судьба им не выделила для этого времени. И в любви, любви к женщине они не слишкомто разбираются, у них для этого не было возможности, война их обокрала, оставила без юности, они и в девушках часто не способны увидеть, где истинное чувство, а где лишь пошлая имитация, им смазливая дурёха может в одно мгновение запудрить мозги. Зато они научились любить Родину, отстаивать ее достоинство и для этого своей жизни не жалели и ради этой любимой они жертвовали и обычной человеческой любовью. Такими их сделала жизнь, закалила война. Евгения разгорячилась и сейчас родная дочь ей казалась противницей того священного, что она приобрела на фронте. Фая с удивлением смотрела на эту суровую женщину и чем дольше та говорила, тем дальше как бы отдалялась от неё. - Если же не любишь его, чего ему голову морочишь? - строго и в то же время с жалостью спрашивала дочку взволнованная мать. 332 - А что же старой девой оставаться? Какой никакой, а все-таки муж, другого-то где взять, потом этот, ты верно говоришь, не сбежит, будет как собачка мне служить, - Фая смотрела на мать, словно перед ней стоял кто-то из неведомого ей мира, непонимающий ни нынешнего времени, ни современных людей, - о какой любви ты говоришь, мамочка, что это за химера? Её лишь выдумали поэты и попы на потеху людям, обычная физиологическая потребность, утоление еще одной человеческой жажды. Фая говорила зло, будто вымещала на матери кем-то нанесённую ей обиду, извергала накопленную горечь. Евгения поражена тем, что у ее дочери, молоденькой девушки, за каждым словом, движением, жестом проскальзовал примитивный цинизм. Бог дал ей красоту, а на ум, терпение, выносливую терпимость поскупился, не обернулось бы ее пессимистическое высокомерие несчастьями для нее же, ведь за всё рано или поздно приходится расплачиваться, печально вздохнула она, вот и ей, ее матери, аукается, оставила дочку в погоне за своим спокойствием и в ответ получает обидные, невыносимые, тяжкие последствия. Она по- иатерински с болью и страданием пожалела бедняжку, осталась доченька одна в самом опасном возрасте, не с кем было искать истинные пути-дорожки в этой жизни, никто не мог предостеречь от соблазнов и защитить от разочарований. Время от времени дверь в комнату приоткрывалась, заглядывали девушки, но, обнаружив гостью, тотчас же удалялись. Евгения поняла, они из этой комнаты и её присутствие смущает их, девочки чуткие, не хотят мешать им с Фаей. - Как у тебя с Алексеем Николаевичем и с его... женой, - Евгения смущенно замялась, - бываешь у них? - Нормально, - не стала распространяться Фая, - бываю,.. изредка. - Может, зайдём к ним? - с некоторым сомнением спросила мать. - Почему и не зайти, - равнодушно ответила Фая, - только сегодня я не смогу... - Ладно, заглянем к ним завтра или послезавтра. - Хорошо. 6 Всю дорогу от Германии до Сибири Евгения обдумывала, как она встретится с доченькой, как прижмет её к груди, приласкает, как Фая станет ластится к ней, почувствует тепло её тельца, увидит радость в глазах девочки и начнут они долго и много рассказывать друг другу, а поговорить им есть о чём, за разлучные годы столько всякого накопилось. И вот она у дочери, всего около часа вместе, а им уже вроде бы не о чем и поговорить. Ехала на встречу с оставленной дочкой, в её представлении ещё девчонкой, а увидела созревшую и непонятную ей молодую женщину, напитавшуюся опытом, не всегда удачным и полезным, но ставшим её достоянием, овладевшим ею и неудалимым, и она, её мать, не знает ни её чувств, ни её проблем, ни взглядов на жизнь и на происходящее вокруг. Как теперь пробиться к этому покалеченному войной и людьми уму и сердцу, как возродить у неё веру в родную мать, оставившую её одну в беспощадном людском скопище? 333 Заглядывания девушек заставляли мать и дочь завершать встречу, становящуюся тягостной, расстаться и обдумать увиденное и услышанное, чтобы вновь встретиться, поговорить. Евгения жаждала продолжения разговора с этим родным и неизвестным ей существом, если не по душам, то хотя бы более обстоятельно и серьёзно. - Мне, видимо, пора уходить, твои подружки не дождутся, когда я освобожу комнату, - с грустью сказала она, - ты не проводишь меня до гостиницы? - Ой, мамочка, не могу, у меня завтра зачёт, столько надо прочесть... Евгения поняла, про зачёт она придумала только сейчас, а на уме у неё что-то другое, но наверняка не учёба. - Ну хорошо, занимайся, мешать не стану, - не скрыла разочарования мать, завтра приду к тебе. Часам к трём, освободишься от занятий? - Приходи, приходи, у нас лекции до половины третьего,- торопливо ответила Фая, как бы подталкивая мать с уходом, смягчая бестактность согласием на завтрашнюю встречу. Хороша штучка! - раздражённо подумала Евгения, неторопливо оделась, подошла поцеловать дочку, та порывисто и суетливо расцеловала её в обе щёки. Мать, смущаясь, как воспримет доченька, положила на стол несколько денежных купюр: - Это тебе на мелкие расходы, потом вместе сходим по магазинам, выберем нужное... - Спасибо, мамочка, обязательно сходим, - благодарила Фая, быстро зажав деньги в кулачёк. Евгения поспешила выйти, её сдержанность подходила к критическому пределу. Сентябрьское солнце отдавало положенную Земле дозу тепла и света. Жизнь на залитой солнцем набережной проявляла необъятную ширь и силу, неукротимую энергию и вечное стремление к светлому и прекрасному. За парапетом в сияющих солнечных бликах, безостановочно катилась мощная и своенравная река. Навстречу попадались девушки в легких, летних платьях, просвечиваемые яркими лучами, возле них изощрялись в доблести и остроумии парни, а точнее стремящиеся ими стать мальчишки 334 Евгения шла, а вернее плелась, по набережной и ласковые солнечные лучи старались пробиться к ней сквозь боль и обиду, охватившие после встречи с родимой доченькой, которую она беззаветно и бездумно любила. Прохожие кто с любопытством, кто с недоумением вглядывались в привлекательную женщину, идущую словно слепая, никого не видя и ничего не чувствуя. После встречи с Фаей ощущала себя униженной и обкраденной от несбывшейся надежды увидеть родную дочь прекрасной и чистой, безмерно и безраздельно любящей её. Сияющий осенний день и тягостное её состояние как бы столкнулись друг с другом и в результате болезненного столкновения преломились в её душе и сознании в беспомощность и обречённость. Если бы в этот момент спросить Евгению об определяющем её состояние чувстве, и, если она была бы способна ответить на этот вопрос, то сказала бы, что она одинокая, покинутая и отвергнутая. Она вышла на сияющую улицу от необыкновенно одарённой яркой красотой девушки, от своей дочери, переполненная смятением, такой она никогда не была, даже в унизительных и мученических лагерных тисках, там, по крайней мере, знала, что у неё есть муж (она не скоро узнала о его поганом письме), что растёт и ждёт её дочь. Неожиданная для неё взрослость Фаи, её равнодушные и неискренние слова, заслонявшие редкие всплески дочерней радости, отложились в сознании Евгении представлением, что она осталась без любящей и любимой дочери, остро и болезненно почувствовала, что отныне полагаться на Фаю у неё надежд нет, её дочь полностью замкнута на себя, её безмерный эгоизм никого не признаёт, кроме себя самой. На кого же ей, Евгении, теперь опереться, на кого надеяться, ради кого жить? На мужа? Превратности судьбы сводили её с не одним мужчиной. Ничего кроме боли и разочарования от них она не получала. Чем нынешний её муж Павел Дмитриевич Воронов надёжнее прочих? Она переносила на себя известную закономерность равенства действия и противодействия, нет у неё беззаветной любви к нему, по себе равняла и его будет ли он способен на жертвы ради любви к ней? Под воздействием безрадостной встречи с Фаей она совершенно упустила то, как он, отстраняясь от командирских обязанностей, рискуя служебным положением и партийным доверием, безоглядно ринулся противодействовать майору Никольскому. В этот сияющий солнечный день ей всё виделось лишь в мрачном свете. . Евгения, плелась по набережной недовольная своим разговором с дочерью в маленькой и казавшейся ей душной комнатке, глубоко и жадно вдыхала воздух исключительной свежести и не просто вдыхала его, а впивала, успокаиваясь от чистоты и особенных вкуса и запаха, придаваемого воздуху торопящейся к морю рекой. Свернув вправо от набережной она то ли по какому-то наитию, то ли по непонятному зову очутилась на улице Доронина, здесь, согласно адресу, переданному Екатериной Егоровной, жил её бывший муж Алексей Зайцев с молодой женой. Бесхитростная Екатерина очень нахваливала молодую женщину, не замечая, как это ранит и обижает Евгению. 335 Дверь открыла, как это и должно было случиться, Елена. Она не спросила кому открывает, сразу признала Евгению, как будто встречала её прежде, видимо, по рассказам Екатерины и мужа, а, возможно, по очевидному внешнему сходству с Фаей, тотчас же определила, что перед нею бывшая жена ее мужа Алексея. - Здравствуйте, проходите, Евгения Алексеевна, - сердечно приветсвовала она гостью. Мягкий взгляд и естественная приветливость Елены успокаивали Евгению, ей даже показалось, что она знала и прежде эту молодую, симпатичную женщину в тщательно отутюженном ситцевом халате с мягкими, так подходившими к ее лицу цветочками, с аккуратной, гладкой причёской с большим пучком на затылке. - Проходите, пожалуйста, - приглашала Елена в большую комнату, присаживайтесь, где Вам удобнее. Елена пошла на кухню, намереваясь попотчевать гостью чаем, а Евгения, всё ещё переживавшая встречу с дочерью, с чувством облегчения разместилась на удобном мягком диване, внимательно и, с понятным пристрастием, осматривалась вокруг. Всё блистало необыкновенной чистотой, возьмись специально искать пылинку или соринку, едва ли их найдёшь, не было богатой мебели, дорогих картин, роскошных люстр и штор, но всё стояло на своих местах, точно подобрано одно к другому, ничего не было лишнего, ничто не выпячивалось. Вспомнилась её хозяйка Роза Львовна, ставшая затем свекровью молоденькой и неопытной Жени, тоже большая чистюля, но у той заботы об устройстве дома заключались в выставлении на показ мещанской обеспеченности, своеобразной претензии на «красивость». Елена, пожалуй, не задумывалась о каких-либо эстетических моментах заполнения квартирного пространства, она просто на просто не тащила в дом ничего не нужного, и отсутствие излишнего придавало тот вкусовой оттенок и уют, который необходим для целевого предназначения квартиры и ненавязчиво подчеркивал подлинно эстетический вкус, а не претензию на него. Повезло Алексею с женой, с натянутой усмешкой подумала Евгения, за этой хрупкой женщиной он, как за каменной стеной. Она всего несколько минут в этом доме, а ей здесь удобно и приятно, можно представить насколько тянет Алексея домой, к уютной и теплой жене. С горечью вынуждена была признать, она не смогла окружить мужа всем этим, не до этого ей было, не хватало ей в то время ни житейского опыта, ни вкуса. Елена ещё не вернулась с кухни, как щелкнул дверной замок и кто-то вошёл в дом. Наверное, Алексей, у кого ещё могут быть ключи от квартиры? Через дверь Евгения видела как легко и порывисто, словно птичка, пролетела Елена, до неё донесся звук беглого поцелуя, чмокнула, видать, в щёку. - На, возьми пижаму, - слышала Евгения мягкий Еленин голос, - давай, пиджак. 336 - Смотри, какая у нас гостья, - щебетала Елена, входя с мужем в комнату, она вся светилась, на лице радостное оживление, и Евгения снова подумала, что она никогда, будучи его женой, так умилительно и заботливо, не вертелась вокруг Алексея, - ты займись Евгенией Алексеевной, у меня, боюсь, не подгорело бы жаркое на плите. И летящей походкой удалилась. Евгения оценила, как естественно и тактично она оставила их наедине, предоставив свободу действовать так, как они сочтут необходимым. - Здравствуй, Женя, - спокойно приветствовал её Алексей, лишь на долю секунды в его глазах мелькнуло что-то похожее на любопытство и удивление, он немного задержал её руку, - ты почти не изменилась, трудно поверить, что прошла войну, столько перенесла. Евгения не сомневалась в искренности его слов, в мастерах на фальшивые комплименты он никогда не числился. Она не могла сказать, что он выглядит как и прежде, конечно, по лицу он вполне узнаваем, перемены произошли в его общем облике - от него исходили внушительность и солидность, движения неторопливы, степенны, манеры вроде бы и простые, но явно начальственные, жесты сдержанные, тональность голоса уверенная, похоже, привык, что с ним не спорят. Он не юлил и не лебезил перед нею, как тогда, когда она, как снег на голову, свалилась на него из лагерного ада, перед нею твердо стоял ухоженный мужчина, хозяин дома, на нём исключительной белизны и свежести сорочка с накрахмаленный воротничком, современный галстук, повязанный модным узлом, на поданой Еленой коричневой пижаме с шалевым мелко простроченным воротником, в тон воротнику отделаны манжеты и клапаны карманов, изящные шнуровые застёжки. Конечно, думала Евгения, это молодая жена его блестяще содержит, он же хотя и был аккуратистом, будучи ее мужем, столь тщательно, со вкусом не одевался. - Фаю видела? - был первый его вопрос. По тону, которым он был задан, Евгения почувствовала его беспокойство. - Только что от неё, - печально ответила она. Алексей Николаевич пожалел, что столь прямолинейно спросил, увидев как болезненно надломились брови Евгении, сжались чуть подкрашенные губы, как она напрягает усилия, чтобы не выказать подлинные чувства, видимо, навеянные встречей с Фаей. - Да-а, девочка выросла,.. - протянул он. - Как же это случилось?.. Он понял о чём она спрашивает, но сразу ответить не мог, как не мог понять это в тот момент, когда сам уяснил, что случилось с той девочкой, которая незаметно и неожиданно для него, вдруг оказалась взрослой. - Да вот так,.. - наступил момент отвечать за доверенную ему девочку, момент, которого он ждал и боялся, - возник один хлыщ, Вадик, студент, сын Махновского, должна помнить, в тресте работал, сюда эвакуировался, сейчас вернулся назад. Задурил девочке голову... У меня работа.., не уследил... - Чему быть, того не миновать, руки не подставишь, соломки не постелешь... 337 Алексей Николаевич поражён, как обречено приняла Евгения его объяснение, он ожидал упрёков, скандала, очевидно, на фронте ко всякому привыкла или еще не отощла от встречи с дочерью. - Так что, извини,.. - тихо произнёс он. - Что теперь поделаешь?.. Вини не вини, а свершилось... Она уже не ребёнок, сама всё решает. Ладно, хватит о ней, как-нибудь переживу и это, - отрезала Евгения, - лучше о себе расскажи, Фая писала, ты Звезду Героя получил? - в вопросе Алексею Николаевичу послышалось что-то похожее на сомнение. - Да, - коротко и твёрдо ответил он, никаких сомнений быть не может, и не сам он себя награждал, - назначили начальником комбината, теперь приходиться мотаться по территории, равной почти половине страны, кажется, на новом посту получается, во всяком случае, никто обратного не говорит. Евгения улыбнулась, сел на своего конька, о работе заговорил, как же новая жена с этим увлечением или пороком, как взглянуть, мирится. - Кажется и с женой тебе повезло? - в вопросе и любопытство и намёк, не всякая, мол, жена променяет себя на его работу. - Да, добрая, заботливая, - довольно жестко ответил он, - а главное умная, понимает меня и не мешает моей работе. Спокойным и ровным тоном смягчил прямолинейность ответа, запоздалого укора бывшей жене. В комнату легкой походкой вошла Елена, расстелила на столе клеенчатую скатерть. - Обедать будем здесь, принеси, пожалуйста, супницу, - мягко обратилась к мужу. Она действовала сноровисто и аккуратно, в одно мгновение стол был накрыт, расставлены тарелки, приборы, закуски. - Надо отметить Ваш приезд, Евгения Алексеевна, - Елена достала из буфета бутылку вина и две рюмки, на вопросительный взгляд гостьи с легкой усмешкой ответила: - Алеша у нас трезвенник, ни капли в рот не берёт, а я и не настаиваю. За наше знакомство, Евгения Алексеевна! - в голосе искренняя приветливость и можно даже уловить некоторое радостное удовлетворение от встречи с такой замечательной женщиной-фронтовичкой, - и за благополучное возвращение с войны, с такой войны! Последние слова произнесены с тёплым и одновременно горестным чувством и Евгения поняла, что относятся они не только к ней, а, может, больше к её мужу, тому, который не вернулся с войны, об этом поведала ей Екатерина Егоровна. В другой комнате раздался телефонный звонок. - Всегда так, - поморщилась Елена, - только за стол, звонок за звонком. Разговор наверняка долгий, она унесла супницу на кухню, чтобы не дать остыть супу. - Не дают звонками ни поесть, ни отдохнуть. Чаще в это время звонят из Москвы, у нас рабочий день кончается, а там только приступают к работе. 338 Елена рассказывала, как Алексею много приходится работать. Было ясно, ей льстит, что её муж большой начальник, имеет солидный вес и определённое влияние, она видела в нём достоинства, которых не замечала или не признавала Евгения. Она по своему характеру, думала внимательно слушавшая Евгения, из тех жён, для которых любое качество и дело мужа считают за лучшее из возможного. - В войну он работал почти круглосуточно до полного изнеможения. Все задания выполнял, а его всё нагружали и нагружали, кто везёт на того и валят,- с грустной гордостью вздохнула она,- не напрасно Сталин его вызывал и звание Героя присвоили... Евгения улыбалась её наивной и несокрушимой вере в Алексея, а ведь в войну она о нём в лучшем случае лишь слышала и, что станет его женой ей тогда не могло и во сне присниться. - Оставь его без работы, - продолжала с восхищением щебетать Елена, вслушиваясь в невнятно доносившийся телефонный разговор, - сразу же увянет от безделья. Иногда с ужасом думаю, постареем,- она именно так и сказала во множественном числе,- и он вынужден будет покинуть работу, это станет для него настоящей трагедией. - Он так занят работой, а Вы наводите шик-блеск в доме? - Елена заметила некоторую иронию в вопросе гостьи, - одной в доме не скучно? - Мне некогда скучать. Блеск и уют, как Вы сказали, много времени не занимают, один раз навела порядок, потом лишь следи за ним. Свободного же времени у меня абсолютно нет, я учусь, Алёша настоял, сейчас на вечернем отделении института, а вскоре, видимо, придётся перейти на заочное. Она многозначительно провела по животу, Евгения понимающе улыбнулась, теперь Алексей окончательно в её руках. У неё, Евгении, такого «аргумента», к счастью, не было, достаточно напереживалась за Фаю, Две молодые женщины - Фая и Елена - разница в возрасте, в условиях жизни и воспитании, конечно, заметная, но еще больше в отношении к жизни. Каждая, по своему, красивая. Красота Фаи яркая, броская, высокомерная, Елена же пропитана мягкостью и добротой, она чистая, верящая и верная, и не исключено, что верующая, хотя икон в доме не видать, при положении Алексея они здесь немыслимы. Фая ей родная и она её любит до самозабвения, но как бы ей хотелось, чтобы она больше походила бы на Елену, жаль, что поздно эта мягкая и добрая женщина появилась у Алексея, совсем уж неожиданно для себя подумала Евгения, может кое-что из доброго от Елены перепало бы и её дочке. Как-то само собой разговор перешёл на Фаю. - Алёша очень переживает её переезд в общежитие, любит её, скучает по ней, потом добавила, - всю её жизнь они прожили вместе, на его глазах росла, привыкли друг к другу. Она моё появление восприняла словно покушение на её положение в доме, он же не мог оставаться один,.. - как бы оправдывала она мужа. Она говорила осторожно, стремясь не задеть чувств матери. 339 - Фая очень красивая. Красота, безусловно богатство, дар божий, не всяк только умеет распорядиться таким даром, - рассуждала Елена, - у привлекательной женщины часто преувеличенное представление о собственной персоне, чрезмерное себялюбие, стремление к самостоятельности, даже повелеванию. Если бы Евгения выслушивала это до встречи с Фаей, она могла бы обидиться, оспаривать, сейчас же вынуждена была признать, Елена абсолютно права в своих рассуждениях. Наконец-то, Алексей Николаевич закончил телефонные баталии. Женщины вздохнули облегчённо, разговор мог перейти некую грань. Он извинился за длительное отсутствие и по натянутым улыбкам обеих понял, насколько вовремя появился. - Ты заезжала к Екатерине Егоровне?- обратился он к Евгении. Она кивком подтвердила, что заезжала. Зайцев продолжал: - Ей война досталась тяжелее других, один сын погиб, за другого переживала до конца войны, от мужа никаких известий. На шахте взрывником работала, тоже по лезвию бритвы ходила, иногда сутками под землёй находилась, такое и мужчине не всякому по силам. - Она, мне показалось, заметно постарела, голова почти седая, говорит, хвори наваливаются. Жалуется, мол, это от безделья, когда сутками торчала в шахте никакие хвори не брали. Пожалуй, все-таки надорвалась, война для неё даром не прошла. Ольга замуж вышла, за Любу переживает, как у девушки жизнь сложится,- выплеснула свои впечатления Евгения. - Бедная тётя Катя, за всех переживает,- осветилась улыбкой Елена, - даже за нас с Алёшей. - Екатерина Егоровна из тех русских женщин, на которых земля наша держится,- твердо, непререкаемо заявил Алексей, - всех приветит, обогреет, громких речей не говорит, а кому туго сразу спешат становиться под её крылышко. Она и меня крепко поддерживала, особенно в начале. Он не пояснил, что это означало, но обе женщины поняли его состояние после поспешной попытки Евгении затеряться от неотвратимости судьбы на бесчисленных дорогах войны. - Скоро тёте Кате станет легче, Саня институт закончит, женится,..- сказала добрая Елена. - От взрослых детей не всегда радость и поддержка. Малые дети спать не дают, а от больших сама не уснёшь,.. - задумчиво произнесла Евгения…. 7 340 В мирном, наполненном уютом и теплом стареньком домике за столом, отхлёбывая из чашек ароматный чай, две женщины ведут давно начавшийся задушевный разговор. Евгения возвратилась из областного центра вечерним поездом, люди постарше называют его «Максимом», по когда-то полному названию «Максим Горький», те же, что помоложе, на вопрос, на чем доехал? отвечают: «на пятьсот весёлом». Екатерина Егоровна допила из своей чашки, поставила её на блюдечко донышком вверх, но передумав, из заварника налила полчашки крепко заваренного чая и разбавила его кипятком, без чая, рассудила она, беседа не беседа, а игра в вопросы и ответы. Разговор же у них вроде бы дружеский и даже исповедальный, хотя священника рядом нет, но, окажись он здесь, настоящей исповеди у них, маловерующих, все равно не получилось бы. Евгения, как костяшки при игре в домино, прилаживает эпизод к эпизоду из увиденного и услышанного за дни, проведённые возле дочери, понятого или не дошедшего до ее сознания. - Понимаешь, Катя, увидела Алексея и думаю, что начнёт он передо мной, как тогда после лагеря, юлить, оправдываться, как побитая собачонка, с робостью заглядывать в мои глаза, может, даже намекать, не сойтись ли нам снова. И придумывала ответить так, чтобы впредь и заикаться не смел.Он же, на этот раз, спокойненько разговаривал со мной, как будто я для него значу не больше, чем просто знакомая, каких у него и на работе и на улицах не сосчитать. Если бы я к ним не зашла, это его абсолютно не тронуло бы, не зашла, ну и ладно. - Чудачка ты, Женька,- Екатерина часто сбивалась на прежнее заимское обращение и Евгении это нравилось, вроде, от этого они становились ближе друг к другу, роднее,- вы же столько годов врозь, у тебя свои были скитания, у него здесь заботы непроворотные и не только о работе. Он же живой мужик! - Умом сознаю, что это так, а сердце отпустить его не может, что-то, видно, в нём остаётся,- Евгения приложила руку к груди, поправила спадавшую на глаза прядь волос, - не выбросишь же из памяти, как он меня отогрел после Анатолия, и Фая на нём оставалась, пока меня по тюрьмам, лагерям мытарили и пока на войне спасения искала. В это раз он совсем другим мне показался, солидным, уверенным, за версту видно, что большой начальник. В армии генералы и то менее внушительны. - Война его как наждачной бумагой прошкурила, - Екатерина говорила, растягивая слова и, особенно, паузы между ними, - многие в войну под тягостями, от горя сломались, опустились, запили. Его же война обкатала, сдула всё лишнее, пустое, не слепой же, на его глазах народ войну перемогал. Вы там под пулями и снарядами цену земной жизни познавали, сколько в оплату долга нашего пошло, и Ленька мой там навсегда остался. Здесь тоже жизнями расплачивались, гибли от голода и холода, от непосильной маяты на работе, от издёрганных горем нервов. У нас начальник шахты Головня прямо в забое от разрыва сердца свалился. Каждый день трясли его - давай, давай! Алексея война отковала огнём и кувалдой, Сталин его вызывал, угля требовал, Звезда ему, ох как, не легко досталась. 341 Евгения слушала и на себя вроде бы злилась, ишь возгордилась, на фронте, дескать, под смертью ходила, на погибающих, на искалеченных насмотрелась. А не подумала, что и в тылу людям не сладко было выживать, да еще беспокойство за родных и близких, вот, Екатерина в который раз своего Леньку вспоминает, можно представить каково ей пришлось, когда похоронку казённую принесли, седина на её голове, как плата за горькие переживания и невозвратные потери. - Начинаю соображать, Катя, хотя мне это не просто. Елена-то хрупкая, вроде прозрачная, дунь ветерок и унесёт ее как пушинку, но присмотрелась к ней и вижу не то что ветерок, её и могучий ураган не стронет, такая упорная, твердая, бетон непробиваемый, она мягкая, ласковая, словно кошечка, настырно своё гнёт и никуда её не своротишь. Алексей из-за неё от меня откачнулся, она для него чуть ли не святая, богоматерь сибирская,.. - последние слова звучали истинно побабьи, ревниво. Екатерина слушает, невольно улыбаясь, хотя и не поймёт, хвалит Евгения свою невольную соперницу или упрекает в чём-то. - Елене, сердечной, война, пожалуй, тяжелее других досталась. Сироткой росла, только нашла опору в жизни и вот, на тебе – война, в один миг всё забрала: и мужа, и любовь, и радость, одна как перст на этом свете осталась, могла завять, унесло бы увядшей травинкой, никому не нужной. За людей, как зёрнышко за землю, зацепилась, столько их выходила, уберегла от ещё худшей беды, когда приносила несчастным похоронки. Их с Алексеем будто под одну копну ветер и дождь загнали, прижались друг к другу и согрелись, верная она, при всякой напасти на неё, на хрупкую и прозрачную, как ты правильно подметила, опереться надёжнее, чем на каменную стену, и поддержит и простит, когда споткнёшься. Она, попомни меня, народит Алексею кучу замечательных ребятишек и всех их в люди выведет, завидовать ей будут. Когда ты на войну сбежала, Алексей чуть не надломился, попивать, было, стал, ты для него была свет в окошечке, да превозмог себя, преодолел. Теперь с Еленой он горы свернёт, его Сталин еще в помощники затребует, самого-то, Сталина, война вымотала, да и возраст к покою влечет. Алексей же в самой поре, не напрасно говорят, что ни делается, всё к лучшему. Не убеги ты, не подвернулась бы ему Елена, душа праведная, божья, её бог и мужем наградил и детками одарит... Евгения тяжело вздохнула, не напрасно Екатерина о детях заговорила, не упрекает ли за Фаю? Не воспитала она её, да и когда было воспитывать? Намеривалась отпить глоток из кружки, успокоить разволновавшуюся душу, но чай, оказалось, незаметно выпит. - Катя, плесни мне маленько да покрепче, - протянула она пустую кружку, Екатерина не замедлила вернуть наполненной, но Евгения поднялась из-за стола, знаешь что Катя, давай по рюмочке выпьем, у меня что-то нервы расшатались. В чемодане бутылочка марочного коньяка, Павел положил на свадьбу молодых. Они, вроде, теперь решили без свадьбы обойтись, Саня считает не до шумной свадьбы, а скромно по-советски распишутся и всё. Фае хотелось со свадьбой как у людей, но переубедить его не смогла. Так что греха большого не будет, если мы с тобой отведаем благородного напитка. 342 Она достала бутылку молдавского коньяка «Дойна», с немалыми усилиями откупорила. Екатерина принесла две гранённые рюмки на тонких ножках. - Выпьем, Катя, за то, чтобы наши дети, Фая и Саша, устроили свою жизнь счастливее нас! - Евгения прикоснулась своей рюмкой к Екатерининой и медленно, с наслаждением потягивала коньяк. Екатерина осторожно, словно боясь обжечься, понюхала налитое. - Пахнет как-то интересно, вроде приятно и что-то напоминает, не пойму только что. Екатерина в первый раз в жизни видела золотисто-янтарный напиток, для неё диковинный, и не скрывала своего любопытства. - Пробуй, пробуй,- смеялась Евгения,- не бойся, не отравишься. Запах не напоминает раздавленного клопа? - Верно, верно, напоминает,- тоже засмеялась Екатерина и отпила крохотный глоток,- ой, какое крепкое зелье, обжигает рот. - Не бойся, не сгоришь, пятьдесят градусов,- просвещала Евгения,- очень полезный напиток, от сердца помогает. Когда прижмёт, глоточек отхлебнёшь и сразу легче, усталость снимает... - Что ты говоришь?- удивлялась Екатерина, пытаясь уловить аромат и вкус содержимого рюмки. Евгения капнула несколько капель каньяку в чай, хозяйка с любопытством наблюдала за ней. - Это ещё зачем? - спросила Екатерина. - Ты тоже капни немного. Какой чудесный аромат! Очень полезно, особенно при простуде. Екатерина последовала совету и, явно наслаждаясь, мелкими глотками отпивала сдобренный коньяком чай. - Эх, если бы от каждого нашего глотка им, твоей Фае и Саньке моему, становилось легче вместе жить, я бы целыми днями только тем и занималась, что за их счастье вот этот коньяк потягивала. 343 Трудно, ох как тяжко Екатерине думать о будущем своего сына. Со стороны глядеть всё будто просто и гладко, приводит красивую, даже чересчур красивую девушку и не с ветру, не из тёмного леса, а дочь её заимской подруги, из сибирских родных корней. И хотя она с матерью почти не жила, а была с отчимом, он тоже не какой-нибудь баламут, а серьёзный и строгий мужик. Играй свадьбу и не о чём не печалься! Да нет этой радости и ждать весёлого скорее всего не приходится. Не та девушка, которую она желала бы для своего сына! Избалованная поблажками и угождениями, нуждой не испытанная, ни в чём меру не знающая - хочу и весь сказ! Это прихотливое “хочу” в её натуре главное. Любит её Санька тоже без меры, до слепоты душевной. Пока слеп, от слепоты и сносит все ее капризы и дальше примет всё, что ей заблагорассудится. А вдруг прозреет?! Рано или поздно, но это должно случиться. Хорошо, если рано, поразбежались и конец любви, предел ее прихотям и капризам, зрячий глаз беспощадный. Хуже, если поздно, появятся детишки, от них Санька никогда не отвернётся, будет нести этот хомут, пока не обессилит и не свалится в изнеможении. Екатерине и девчонку жалко, не одна она виновата, что такой выросла, никогда никаких привязанностей не имела, матери, считай, всю жизнь рядом не было, а отчим Алексей, вечно занят работой, должность у него такая, что не бросишь, на других не свалишь. Из-за неуёмной материной натуры девочка осталась одна и раньше времени превратилась в бабу. Знал бы, где упасть соломку постелил бы. Тут же всё видишь и знаешь, а не поможешь, судьбой назначенное не обойдёшь, можешь в родном сыне врага нажить, Санька отшатнётся, если насильно станешь глаза ему открывать. А, может, Санька во спасение ей дан? Дай-то бог! Евгения тоже в раздумьях. Встретила Екатерину, увидела, что ни годы, ни война не ожесточили её, по-прежнему каждому готова подставить мягкое и крепкое женское плечо, пожалеть и приголубить. Только радуйся такой родне! А радости-то на душе и нет, вроде обманывает она бедную, подсовывает ей что-то недоброе, как бы ставит мину замедленного действия. Как-то медсанбат передвигался на новое место, все прошли и ни какой беды, а самая последняя повозка вдруг подорвалась, мина как раз на это время поставлена была. Сойдутся её доченька и фронтовой друг, Екатеринин сын, верный Саша, но связаны они не так крепко, как она была с Васей Вешниным, а на тонкую живульку, того и жди в любой момент оборвется. Саша чудесный парень, лучшего зятя и не пожелаешь, а доченька её сумасбродная, не умеет отличать чистое золото от начищенной медяшки. - Проморгала, Катя, я доченьку свою. Не в Толю она, отца своего, тот был легкий, простой, насквозь просвечивался, и не в меня, мне кажется, я же такой не была, - как бы просила она подтверждения и защиты у старшей подруги, - а, может, у меня это так не выпирает? - Не в кустах же подброшенную ты её подобрала, твоя она и твоё в ней, только через край, и Алексеево, хотя он и не родной ее отец, с кем поведёшься, от того и наберёшься. 344 Екатерина произнесла это твердо и жёстко, хотя осуждения в словах ее не было. Она жаждала слышать о будущей невестке лишь доброе, какая мать не пожелает своему сыну пригожей и домовитой жены. Говоря о том, что от кого и от чего перешло к Фае, она убеждала самое себя, что от таких родителей не может быть плохим дитя. Евгения же её слова поставила себе в укор. - Неужели у меня ничего хорошего нет?- с мольбой смотрела она на Екатерину,- и Алексея только что нахваливала... - Ни тебя, ни Алексея никто не хаит, какие есть, такие и есть, заново не переделаешь. И Фая ни в чём не повинна, её детская и девичья жизнь без отца и без матери теперь наружу выходит. Тебя сначала от нее насильно оторвали, потом тебя жизнь как щепку мотала - то к начальнику лагеря прибило, то на фронте пряталась, скорее всего от себя. У Алексея работа, как болезнь неизлечимая, ничего кроме неё он не знал, а сейчас Елена его к жизни поворачивает. А Фая всё одна и одна, вот твои метанья, Алексеева болезнь из нее сейчас и выходят, как гной из запущенной раны. - Выходит все-таки, что виновата!- Евгения криком как бы отталкивала от себя наваливавшееся чувство вины. - Ищи не ищи виноватых, поправить ничего невозможно, своя доля каждому дана, от судьбы не уйдёшь,- Екатерина положила свою шершавую ладонь на мягкую теплую руку Евгении,- что случилось, то случилось. По молодости всякое бывает, может и притрутся они, Санька-то не злой, отходчивый, детишки пойдут, у Фаи другие заботы появятся. Мне бы внучат,- мечтательно и так душевно произнесла Екатерина, что Евгения не выдержала, сорвалась с табуретки и порывисто обхватила ее, прижалась к ней мягким и теплым телом. - Внуки-то с тобой будут, - завистливо и жалобно говорила она,- а я опять одна, как с Павлом получится не знаю, звонил на днях, в академию, говорит, направляют, в Москву... Из сеней послышался шум. - Заявилась моя полуночница,- проворчала Екатерина,- вот еще заботушки мои... В дверях появилась Люба, глаза ее сияли, щёки пылали ярким румянцем, пальтишко распахнуто, из-под материнского полушалка выбивались русые волосы. - Что случилось?- спросила Екатерина, но без тревоги, видела, что прибежала девчонка с какими-то известиями и, похоже, радостными. - Ой, мама!- она на ходу кинула на лавку пальтишко и прижалась к матери,- ой, мама! Он мне сказал... сделал... предложение!.. Ой, мама! Ой, тётя Женя! - Кто?.. - говори толком, не слюнявь меня,- гладила дочь по голове и по спине, не менее её взволнованная Екатерина. - Как кто?- удивлялась Люба, как же не могут сообразить, то, что переполняет ее душу,- он же, Петя! - Какой такой еще Петя объявился?- не могла сообразить мать. - Да мой,.. Петя Зуев, неужто не знаешь?- недоумевала материной недогадливости Люба. 345 - Зуев..?- искренне удивлялась Екатерина,- сосед наш? Матросик? Так он же старше тебя... - Он, он! На Балтийском море воевал... Ну и что из того, что старше? Вон дядя Алеша тоже старше тети Лены... С Петей же разница меньше…Это нормально! Мужчина должен быть старше! Будь у озадаченной Екатерины какие-либо сомнения и возражения все равно не устояла бы под мощным напором Любы. - Когда только успела... Этого Петю еще пацаном до войны знала,- Екатерина немного успокоилась и говорила с лёгкой усмешкой,- перед самой войной приезжал на побывку, такой форсистый, в морской форме, видный, девчонки и мальчишки гурьбой за ним ходили. Отыскала ты мне зятя! - Ну, Катя,- засмеялась Евгения, - внуками, вижу, бог тебя не обидит! Часть вторая 1 Предвесение в этом году оказалось затяжным, промозглым. Дни стояли пасмурные, солнце над городом уже неделю пряталось за сплошной облачностью, а город жил как бы под натянутой плотной темно-серой материей. Ни дождя, ни снега, лишь постоянная хмурость, порыв свежего ветра на какое-то время разгонял нависавшую полумглу, открывалась сияющая голубизна бескрайнего неба, и тогда в природе и в людях возникало ощущение неотвратимо надвигающихся перемен. Александр Муратов на дрожках ехал на работу. В его должности — главного механика — полагался такой вид транспорта, начальнику же шахты установлено было ездить на паре лошадей, запряженных в коляску. Начальственные блага расписаны точно. Старикам-шахтерам помнилось, что в дореволюционные годы шахтовладельцы Шелгунов, Рассушин тоже поощряли рвение дореволюционного горного надзора, предоставляли казенные квартиры, обставленные набором мебели, соответствующей чину, достигнутому тяжким трудом или полезными связями, некоторым шахтным начальникам полагался даже выезд, кому одномастная пара, а кому лишь лошаденка, запряженная в бричку. Некоторые завистливые подземные начальники, механики, маркшейдеры нового времени брюзжали: — Раньше инженеру на шахте выделяли отдельную большую квартиру с мебелью, а нынче начальникам участков приходится, как и простым шахтерам, ютиться в крохотных комнатушках в бараках с общим коридором, мебель, словно гробы допотопные, какой-нибудь шкаф, который вот-вот развалится, или обшарпанный диван и на этом забота о материальных преимуществах итээров кончаются. И выезд в старые времена был не чета теперешнему, в каретах с солидным кучером, а не с сопливым пацаном. Итээры, инженерно-технические работники, ворчали, но все же надувались и от теперешних причитающихся благ, не слишком заметно отличавших их от 346 прочего люда, реально они мало облегчали им жизнь. Правда, настоящих, дипломированных инженеров среди них раз, два и обчелся, большинство выдвиженцы из рабочих, но все же ревностно требовали, чтобы полагающееся по их служебному положению предоставлялось в полном объеме. Вышестоящее руководство часто тыкает в глаза этими тощими привилегиями, особенно, когда с планом и другими шахтерскими обязанностями не гладко получалось. Из всех благ Александр признавал удобным отдельную комнатушку в столовой, именуемую «итээровский зал», в нем поменьше народу, не приходится выстаивать в очередях и несколько чище. Пища же из одного котла, хотя, порции, соответствовали карточкам, выдаваемым согласно должности, вскоре после войны карточки отменили, но в столовой часть итээровских преимуществ, видимо, по инерции сохранялась. Прикрепление главному механику лошади с кучером не считал привилегией, это больше необходимо не ему, а начальнику шахты, пешим образом участковые начальники и механики часами добирались бы до места аварии или другой беды. Этим шахтная жизнь богата, лошаденка же домчит быстрее и надежнее. На углу улицы возле универмага увидел толпу, заполнившую тротуар и перекрывавшую дорогу, люди стояли, задрав головы к репродуктору, прикрепленному к верхнему карнизу здания. Очередную сводку про Сталина передают, о состоянии его здоровья, подумал Александр, уже который день с печальных сообщений начинаются передачи радио. Соскочив с дрожек, подошел поближе к радиорупору. — «… обращаясь в эти скорбные дни к партии и народу,— услышал он торжественно-строгий голос Юрия Левитана,— выражают твердую уверенность в том, что партия и все трудящиеся нашей Родины еще теснее сплотятся вокруг Центрального Комитета и Советского правительства, мобилизуют все свои силы и творческую энергию на великое дело построения коммунизма в нашей стране. Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества»,— провозглашал знаменитый диктор. Женщины, не стесняясь, рыдали громко, с надрывом, гораздо печальнее, чем обычно рыдают и плачут русские бабы при кончине близкого человека, мужчины не прятали своей скорби, усиленно швыркали носами, рукавами или подвернувшимися под руку скомкоными платками утирали обильные слезы. Рыдающая и плачущая толпа вдруг резко всколыхнулась, раздались тревожные возгласы: — Человеку плохо!.. — Скорую надо, скорую!.. — Чья это лошадь? Скорую пока дождешься… Александр, оглянувшись вокруг, сообразил, что говорили о его лошади. — Давайте, несите сюда! — закричал он,— отвезем его в больницу… Приступ настиг крупного мужчину лет около пятидесяти. Не без усилий его подняли и уложили на рессорный ходок. — Жми, Витя, быстрее в больницу!.. — скомандовал Муратов кучеру. 347 Мужчина сдавленно стонал, прижимая слабую, безвольную руку к груди, широкое его лицо, с выпирающими скулами, было пугающе бледным. К больнице пришлось возвращаться, примерно на километр назад, в сторону дома, где жил Муратов, поддерживая на коленях тяжелую голову больного, Александр, то торопил кучера, то ворчал на него: — Осторожнее! Больного же везешь… В больнице народ расторопный, переложили притихшего страдальца на носилки и поспешили с ним в приемный покой. Муратов торопился на шахту, из-за задержки опаздывал на утренний наряд. Отъезжая от больницы, заметил вдалеке знакомую женскую фигурку, он ее выделил бы из тысячи, куда же спешит его жена Фая в этакую рань? Подниматься с постели столь рано — событие для нее исключительное. Задерживаться, выяснять нет времени, шахтные дела не забросишь. Едва вошел в кабинет, как к нему потянулись механики участков, только что вылезшие из шахты электрослесари, мехцеховские станочники, такелажники, молча рассаживались на стульях с пятнами, оставленными их промасленной одеждой, на такой же продавленный диван, на подоконники. Никто не обращался с обычными в этот час требованиями по работе, не просили заправить перки, заменить насос, спустить на участок мотор для врубмашины, на лицах неподдельная, искренняя скорбь, почти у всех глаза покрасневшие. — Как же теперь будет?.. — тяжело вздохнув, произнес пожилой токарь Кулагин, протирая тряпкой с масляными пятнами слезившиеся глаза. Кулагин не требовал ответа, но все обратили печальные и напряженные взоры на Муратова, не потому, что он был для всех прямым начальником, за два года общения с ним привыкли, что главный механик не отмахнется от вопроса, не отфутболит к кому-либо другому, а ответит по делу или вместе с ними раскинет мозгами, как лучше и быстрее решить возникавшую задачу. Как-то незаметно и без его усилий уверовали в безграничные, им казалось, знания, в стремление молодого инженера разобраться в самых сложных событиях, которыми в эти годы обильно насыщена их жизнь, шахтовые дела это само собой, от него же ждали разъяснения чуть ли не обо всем происходящем в городе и даже в стране, через него пытались уяснить, что творится в мире. Только-только покончили со страшнейшей войной, а газеты и радио полны сообщениями о новых угрозах, особенно из далекой, неведомой им Америки, недавно считавшейся другом и союзником. Ни то, чтобы Муратов давал четкие и точные ответы, но он так вел разговор, что собеседник уходил, если и не нашедшим полного удовлетворения, то все же несколько просвещенным, в какой-то мере понимающим происходящее. При общении с главным механиком эти люди как-то не замечали, что он моложе многих из них, кроме фронта за ним ничего особенного не числилось, а просто верили в него и ему, убедились, такой человек не способен обмануть, обещанное всегда исполнит, у окружающих даже мысли не возникало, что может их в чемлибо подвести. Александр понимал, какого ответа все ожидают, этот вопрос и сам задает себе и, не зная точного ответа, словно советуясь с ними, начинает рассуждать. 348 — Конечно, тяжело, трудно нам сейчас. Другого товарища Сталина нет... Так же переживали, наверное, когда потеряли Ленина. Но появился же Сталин... Он не один был у нас, вокруг него, сами знаете, какие люди... Да и партия,.. она сейчас намного мощнее, чем при Ленине... А мы с вами — зачем?.. Переживем, выпрямимся и дальше пойдем,— и закончил сохранившейся с фронта присказкой — отступать некуда, только вперед! Ничего конкретного, ничего точного, а вроде легче, яснее стало, выпрямлялись спины, обсыхали глаза. — Передали, комиссию по похоронам образовали,— сообщил вошедший в кабинет начальник мехцеха долговязый Михайлов,— председателем назначен Хрущев, похороны девятого. Муратов, будто ждал этого сообщения, приподнял голову: — Давайте по местам, шахта ведь работает... Не торопясь, расходились, словно надеялись, кто-нибудь остановит и сообщит что-либо новое, успокаивающее, произошла, мол, нелепая ошибка, пусть уж болел, лишь оставался бы живым, при них, при державе. Привыкли к жесткому, иногда не легкому порядку, но верному и надежному, с ним вместе такие напасти перемогли, что и не приведи Господь. Кто знает, чего теперь ждать, ведь каждая метла по-своему метет? Что метла будет новой и гадать не стоит, свято место пустым долго не бывает, только крепкой была бы, не раздергали бы ее по прутику. Муратов остался один, начальник мехцеха хотел задержаться, дело есть до главного механика, но видел момент не тот, начальнику не до его мелочевки. Что-то надо узнать, напрягал мозги Александр, выяснить, да вот отвлекли его. Он тоже, как и все, в раздумье, знал из истории, как отражается на людских судьбах смена правителей. Что же все-таки он хотел выяснить?.. Хороший способ вернуться к забытому — это проиграть в голове минувшие события. Итак репродуктор,.. толпа,.. плач,.. один упал,.. повез в больницу… Вот, вот… — увидел Фаю! Куда же она спешила в эту рань?!.. Потянулся к телефону, сейчас переговорит с нею, все объяснится, поднять трубку не успел, вошел заместитель главного инженера шахты Шадрин. Не будешь же при нем раскрывать семейные обстоятельства. — Значит, все-таки случилось,..— вяло пожав руку Александра, с дрожью в голосе произнес Шадрин,— думал медицина выцарапает его, там же такие светила! Не чета нашим клистирникам,.. не уберегли,.. не спасли… Конечно, не молод, но и не так стар. Отцу моей Нютки уже за девяносто, а такой шустрый, во всякую дыру нос сует. — Что поделаешь?.. – тихо и обречено отозвался Муратов,— чему быть, того не миновать… — Брось эти бабьи присказки! Слабая у нас медицина, не дядя Гриша с Вшивой горки умер. Вождь! Мирового масштаба! Что там мирового! Всемирноисторического! Деятеля такого уровня теперь, считай, как минимум, столетие не будет! А что он из нашей страны сотворил! Из лапотной, нищей в мировую 349 державу превратил! Такую силищу одолел! В Берлине Советский флаг водрузил! Ты, только пойми это! Теперь все это уберечь бы, не бросить псу под хвост! Такого Шадрина до этого дня Александр не наблюдал, напротив, часто возмущался его спокойствием, он казался безразличным ко всему происходящему вокруг, на нарядах в раскомандировочной, с редкостным равнодушием выслушивал горных мастеров, их продолжали называть по-прежнему десятниками. Не выходил из себя, если даже сообщали о несчастных случаях, обвалах, подтоплениях, потому еще с довоенных времен и держится в одной роли, помощником главного инженера, на большее, похоже, и не претендовал. А тут, видите ли, разошелся, будто отца родного потерял!.. Хотя разобраться, еще вопрос, какая беда страшнее — отца потерять или Сталина, слишком уж многое в их жизни от него зависело, куда больше, чем от родного отца, даже самого распрекрасного. — Не шуми, самому тошно. Собственными глазами видел, как люди падали от вести о несчастье,— Александр пытался успокоить Шадрина. Шадрин благоволил Александру. После назначения на вновь вводимую шахту первым, кого встретил Муратов, был помощник главного инженера, как-то необычайно тепло Шадрин отнесся к тому, что Александр из фронтовиков. — А я не попал, хотя подавал заявления в военкомат,— он произнес эти слова с таким сожалением, словно ему нанесли незаслуженную обиду,— за бронь упрятали, хотя без меня шахта вполне обошлась бы. Фактически, с этой первой встречи их приятельство и началось. Шадрин почти на десять лет старше, однако, при их общении это обстоятельство не ощущалось, напротив, при обсуждении политики или истории чувствовалось превосходство Муратова. Никакого неотложного дела у Шадрина к главному механику не было, ему требовалось излить чувства, обуревавшие от казавшейся ему роковой утраты, обрести вновь уверенность, что это все-таки не конец света, увидел, что настроение Муратова, его душевное состояние не лучше. — Бригады спустились в шахту,— говорил Шадрин,— а уголь не идет, на десять часов все участки минусуют, хотя аварий нет, и порожняк везде к лавам подан, не могут люди отойти от шока, понимают, что он значил для каждого. Непривычно наблюдать, насколько тяжело этот флегматик, сонливого равнодушия которого, казалось, не поколеблет и ружейный выстрел над ухом, переживает кончину человека, которого никогда не видел в глаза и не мог бы никогда увидеть. — Знаешь что,— решительно обратился Шадрин,— пойдем ко мне, помянем… Никому сейчас до нас дела нет. Предупредим телефонистку, в случае чего через пять минут будем на месте… 2 У Муратовых никто не укладывался в постели, ждали хозяина. В такой ранний час, еще не было десяти вечера, он появлялся редко, Фая пыталась возмущаться его задержками на работе, но свекровь – Екатерина Егоровна – успокаивала: 350 — Привыкай, голубушка. Мой Иван Александрович, когда в десятниках ходил, еще терпимо было, не так уж поздно приходил с работы, а начальником шахты стал, так совсем дорогу к дому забывал, ненадолго ночью заявится, маленько всхрапнет, и снова на шахту на паре карих укатит. Где же он теперь страдает?— как обычно при таких воспоминаниях горестно вздыхала она, — шахтерская жизнь для жен одна маята. Фаю подобные разъяснения, конечно, не устраивали, но, что поделаешь, приходится мириться и как-то приспосабливаться к графику мужа. В этот вечер она встретила его радостно, обхватила руками за шею, повисла на нем, аж ножки подогнула, нежно расцеловала. Не приученный к подобным нежностям Александр, смущался и удивленно взглядывал на наблюдавшую за этой сценой мать, как бы ожидая ответа, отчего так необычно щедра на ласки его жена. Екатерина тоже недоумевала, чаще видела Фаю чем-то недовольной, скупой на приветливое слово. Александр прошел в материну комнату, посмотреть на спящую там дочку, Екатерина под предлогом, что малютка ночными пробуждениями не даст отцу нормально отдыхать, почти с первых дней ее появления забрала малышку к себе. Ребенок рос как обычный, беспокоил по ночам, требовалось менять пеленки, укачивать и прочее, но эти заботы не тягостны для бабушки, напротив, вносили в ее жизнь содержательность, сознание полезности и даже необходимости и потому давали успокоенность и удовлетворенность. Отдельная комната появилась у Екатерины недавно, когда после долгих и настырных хлопот сына и при стечении удачных обстоятельств, была предоставлена эта трехкомнатная квартира с отдельным входом в большом бревенчатом бараке. Наблюдая за спящей девочкой, Александр почти всегда вспоминал обстоятельства ее рождения, как он переживал, когда стоял под окнами роддома, боялся за Фаю. Его не слишком волновало, кто у него родится, мальчик или девочка, главное, чтобы с Фаей при этом ничего не случилось, когда ему сообщили, что родилась дочка и с Фаей все в порядке, его ликованию, казалось, не будет границ. Он с веселым юмором отнесся к подначкам Щадрина: —Эх ты, бракодел, не мог парня смастерить,— с чувством превосходства смеялся Георгий Тимофеевич, поздравляя Муратова с появлением первенца. — А у тебя одни сыновья?— насмешливо спросил Александр. — У меня в этом деле порядок, только парней произвожу,— с гордостью отвечал Шадрин. — Вот ты-то и бракодел,— смеялся в ответ Александр,— много ли нужно, чтобы родился сын? Тяп-ляп, что получилось, то и сойдет. А над дочерью надо поработать -.и ножки выточить, и ручки красивые приладить, и личико отшлифовать! Так, кто же из нас бракодел? -- Ох, как ловко выкрутился!— восхищался Шадрин. Любоваться дочкой тотчас при возвращении домой, а еще лучше подержать ее на руках, когда девочка не спала, стало для молодого отца своеобразным ритуалом, наслаждением и вносило в его душу необыкновенно теплые чувства, мог бы часами наблюдать за ее чудесным личиком, энергичными и неуклюжими взмахами тонюсеньких ручек, дрыганьем пухленьких ножек. Но сладостные 351 минуты выпадали редко, чаще видел дочку спящей, словно в белой пене, выделялись ее разрумянившееся щечки, она ровно дышала, время от времени чмокая зажатой во рту пустышкой. Стоял бы любовался ею бесконечно, но подошедшая Фая настойчиво тянула к уже накрытому столу. Чаще возвращавшегося с работы Александра кормила мать, Фая не стремилась покидать согревшуюся постель, сегодня же хлопотливо хозяйничала за столом, расставляла тарелки, подкладывала в них еду, выбирая наиболее аппетитное мужу. Екатерина лишь молча наблюдала и не менее сына удивлялась непривычному поведению невестки. За поздним ужином печальная Екатерина Егоровна напомнила о скорбном событии. -- Не помогли бедному московские доктора, видно, за войну совсем износился. Что же теперь будет? — А ничего не будет,— беззаботно откликнулась Фая,— как жили, так и будем жить. У них, в высших сферах, своя жизнь, у нас, то есть у остальных людей — своя… Александр не стал вступать в дискуссию с женой, не сбить бы добрый настрой Фаи. — Не скажи,— мягко, стараясь не обидеть невестку, говорила Екатерина,— вот мы без отца, Ивана Александровича, сколько годов живем, а почти всякий день ощущаем, что его нет с нами, пустота какая-то. Живем, конечно, без него, а куда деваться? Но при нем разве так жили бы? Может, лучше, а, может, подругому, плохой или хороший, но без хозяина дом не дом,..— с грустью завершила она, похоже, думая о чем-то другом, своем и затаенном, — не стоит город без святого, селение без праведника. Придет и ему сменщик… После ужина молодые тотчас отправились в свою спальню, доверив уборку стола и мытье посуды старшему поколению. Постель, оказалось, Фая заранее приготовила, она плотно прижалась к мужу и ласковыми поглаживаниями, нежными поцелуями почти мгновенно возбудила его страсть, этим умением она владела достаточно успешно. Потом, тормоша утомленного Александра, нежно ворковала о том, о сем и, вроде бы мимолетно, произнесла: - Сегодня была у Нецветаевых, Роза Григорьевна новый чешский гарнитур отхватила… Нецветаев Сергей Васильевич это главный инженер соседней шахты. Однажды он пригласил чету молодых Муратовых на семейное торжество, с тех пор у Фаи завязались приятельские отношения с его женой Розой Григорьевной женщиной в возрасте, переходном от полнокровной женской зрелости к тому состоянию, в котором внешняя привлекательность уже заметно увядает, у некоторых мужчин это вызывает в лучшем случае жалость, а то и неприязнь, прикрываемую фальшивыми комплиментами. Роза Григорьевна не могла примириться, что ее время, когда она могла покорять и властвовать, безвозвратно уходит, жаждущие взоры представителей противоположного пола теперь все реже обращаются в ее сторону, былое внешнее обаяние она стремилась, если не возродить, то хотя бы замедлить его убывание яркой броскостью модного платья, 352 изяществом обуви, красивой прической и другими ухищрениями. Немалый жизненный опыт выработал у нее, незаметно для нее самой, убеждение, что убранство и содержание квартиры все более становится обстоятельством, возмещающим хотя бы частично утрату тех ее прелестей, которые не так уж давно составляли главное средство воздействия на окружающих. — Уютная, опрятная, хорошо обставленная квартира,— поучала она Фаю, — должна быть хорошо обустроенным гнездышком, куда стремился бы, как можно скорее, вернуться всякий мужчина и, прежде всего, муж. Действительно, все в ее квартире должно было радовать глаз. Роскошные шторы и гардины, яркие покрывала и скатерти, разномастные статуэтки освежали и в какой-то мере облагораживали тщательно убранные комнаты. Конечно, Роза Григорьевна не могла упустить впервые поступившую в городскую торговлю импортную мебель. Увидев при очередном посещении Нецветаевых подобную роскошь, Фая была буквально зачарована. Хотя ее отец, которым она все еще признавала Алексея Николаевича Зайцева, был обеспеченным и даже в войну содержал ее весьма достойно, но довольствовался почти убогой мебелью доморощенных мастеров. Фая никак не желала быть «хуже других», не могла примириться, чтобы эта старушка Роза Григорьевна (ей было немногим за сорок) превзошла ее, импортная мебель должна украшать и ее новую квартиру! Значит, она должна действовать быстро и энергично! Поднявшись ранним утром, что было необычным для нее, она поспешила к своей однокласснице Люське Рыбкиной, той самой, с которой они почти одновременно делили любовь Вадика Махновского. Люська, из-за появления на свет плода Вадькиной любви, учебу продолжить не смогла и пошла по торговой линии, сейчас она заправляла мебельной секцией в том самом магазине, в который «забросили» импортную мебель. Фая в этот день и не вспомнила, что считала Люську своей коварной соперницей, для нее главное – отхватить вожделенный мебельный гарнитур. Уговорить Люську большого труда не составляло, несколько пятирублевых купюр в ее собственные руки и важная для Фаи проблема решена. Теперь дело за довольно приличной суммой, стоили зарубежные деревяшки немало. Засыпающий Александр пробурчал что-то невнятное, понимай, как вздумается. Фая хотела получить более четкий ответ, но услышала лишь мерное похрапывание мужа. Боже мой, он уже спит! — обиделась Фая. Никогда с ним не поговоришь, вечно или на работе, или спит, сделал свое, и спиной к ней. Как же так жить дальше? Жизнь-то проходит! Что же делать? Эх, мама, мама, не задумываясь, автоматически прошептала она и тут же одернула себя, при чем здесь мама и чем она ей поможет? Мама далеко, в Москве, с мужем, вот везет же, муж за мужем! Как же все-таки с гарнитуром? Мысли ее снова перескочили на занимавшую весь день тему, даст он денег или не даст? Дрыхнет, а определенного ничего не сказал, будить без толку, только разозлится. Был бы здесь папа, у него попросила, он, конечно, никогда мне не в чем не откажет, его кикимора, эта святая Елена, тоже не откажет, сама вызовется помогать, однако, так посмотрит своими яснющими и чистющими глазищами, словно всю душу просматривает, что свое последнее 353 отдашь, а у нее взять не насмелишься. Да, что о них думать, они тоже теперь в Москве! Одна я, как сиротинушка, никто не поможет, никто не посочувствует. Но нет, я с него эти деньги вытяну! 3 Июньский день выдался жарким и душным. Евгения Алексеевна Воронова изнемогала в тесной комнатушке. В Германии в составе Группы войск они пробыли недолго, вскоре перспективного начальника артиллерии дивизии направили, неожиданно для Евгении и, думалось ей, для самого Павла, в военную Академию. Не обремененным ни женой, ни детьми холостякам, слушателям Академии, предоставлялось место в общежитии. После окончания войны новые семьи образовывались в геометрической прогрессии, прибывавшим на учебу с женой и с народившимися малышами, разрешалось снимать частные квартиры, на академическое жалование, хотя оно и выше студенческой стипендии, доброго жилья не снимешь, слава Богу, хотя бы такой уголок удалось заиметь. Так и жили – с большими перспективами и малыми житейскими благами. Мучается в комнатушке Евгения не только от изнуряющей погоды, вторые сутки Павел не появляется дома, нет никакой весточки о нем. Неужели завел кого? Не знала за собой такого явления как ревность, но, по-видимому, и в ней оно заложено. Говорят, если ревнует, значит любит, любит ли она Павла? Когда, наконец, согласилась стать его женой, твердо знала, что нет, уважает и не больше нового мужа, еще не отошла от, казалось, безмерной тоски по Василию Вешнину, сложившему мощную русскую голову в битве за Берлин. А теперь? Сразу и не ответишь. Привыкла, что ли, к нему. Не богатырь, но видный, молодой, энергии хоть отбавляй. Умен?- этого не отнимешь. Находчивый?- из любого положения выкрутится. Любопытно, если появится, какие причины выдумает? Нашел молодую, свежую, черт увертливый! Ох, попадись она мне, косы выдергаю, глаза выцарапаю! Да это ты ли, Женька?! Как же издевалась над дурехами, которые такие сцены устраивали! До чего дошла, до их убогого уровня опустилась! Все это от безделья. Работать на первое попавшееся место Павел не позволяет идти, а на доброе ее никто не зовет и не ждет. Подвертывается, вроде бы приличное место в Обществе по культурным связям с заграницей, да что-то тянут, Павел говорит, что изучают, так принято. Она же опасается, что это «изучение» к добру не приведет, обнаружат ее лагерное прошлое и не видать ей ни культуры, ни заграницы. Могла бы сыскать занятие и попроще, но Павел говорит, надо в языке совершенствоваться, к ее немалому удивлению, в Германии у нее вдруг проявились незаурядные способности к овладению чужим языком, общаясь с немками, как-то, походя, не заметно для себя, и к великому изумлению мужа, заговорила по-немецки, да так, что немцы вскоре стали признавать жену русского офицера за своего человека. Тем более, что у этой русской «нордический» внешний облик — прямой нос, большие открытые глаза. Чтобы глубже вникнуть в тонкости нового языка навалилась на немецкую литературу, разумеется, начала с Гете и Шиллера, потом подвернулись издававшиеся и при Гитлере произведения 354 Герхарда Гауптмана, вскоре книжные прилавки наполнились Бертольдом Брехтом, Анной Зегерс, вышли романы Фейхтвангера. Павел часто подключал жену к переводу с русского документов немецкой администрации, с местными гражданскими властями ему приходилось контачить довольно плотно. В Академии он, помимо немецкого, стал осваивать английский язык. Евгения, как бы играючи, подключалась к его зубрежке, и здесь опередила мужа, раздобыв через соседей томик Байрона, начала читать его в подлиннике. Отношения Воронова к ее успехам на лингвистическом поприще было двойственным, он радовался, что жена «при деле», но его мужское самолюбие было несколько уязвлено. Не только в языках, но в целом, учеба мужа для нее полезна, разговоры с Павлом, его подготовка к занятиям, в которую она невольно втягивалась, мимолетные, будто бы случайные, заглядывания в его учебники и конспекты насыщали ее цепкий мозг самой разнообразной информацией. А сколько новых и умных знакомых она обрела в Москве, вместе с ними посещая музеи, выставки, театры, развлекательные мероприятия в клубе Академии! Такого насыщенного и увлекательного приобщения к духовным ценностям она даже в своих безбрежных мечтаниях не представляла. Куда же все-таки он забурился? Дольше ждать и гадать — терпения никакого. Позвонила в канцелярию Академии, для экстренных случаев номер этого телефон Павел ей дал. Ответили крайне не вразумительно, еще более насторожив. Былая фронтовичка с таким неведением смириться не могла. Конечно, прорываться в саму Академию она не станет, не хватало, чтобы подумали, будто обманутая баба гоняется за своим мужиком. Было около четырех часов, когда она подъехала к Академии, как раз время окончания занятий. Многих сокурсников мужа знала, они у нее не выкрутятся, выложат все на чистоту. Ожидание «нечаянной» встречи было недолгим, перехватила майора Толю Кизюна, с которым познакомилась на одном из концертов в клубе, на ее взволнованный вопрос отвечал как-то таинственно: - Понимаете, Евгения Алексеевна, мы сами в недоумении. Его вызвали прямо с занятий: то ли в Министерство, то ли в Генштаб. Больше ничего не знаем. Видно, какое-то особое задание. Какая она глупая! Он же на военной службе! Коли она жена военного, то обязана терпеливо ждать, верной и надежной жене служивого надлежит встречать его у домашнего порога! Так она и должна исполнить. Немедля домой! Вдруг он уже вернулся? Резко прервав разговор с Кизюном, остановила такси. По дороге всячески ругала себя за бабью дурь. Так опуститься! А, может, это любовь?! Как бы не было, а он ей уже дорог, он ее и она его! Ехала и не обращала внимания, как на Содово-Кудринской показался танк, навстречу попадались автомашины с военными. Нет, она не жена по неволе, а настоящая и уже, пожалуй, любящая жена! Ох, какой он настырный!— радостно думала она, не мытьем так катаньем добился своего! Не распинался, не изливался в любовных изъяснениях, серенад не распевал, тихо, без нажима любил ее и так постепенно, не заметно заразил и ее любовью. 355 Настолько вбила себе в голову, Павел, мол, уже дома, что чуть не расплакалась, не обнаружив мужа в комнатушке. Отчего же расстраиваться, сдерживала себя, сказано же, он на спецзадании, выполнит и вернется. Искала какого-либо занятия, лишь бы отвлечься от туманивших голову дум, под руку попал томик Байрона. переводила на русский, сверяясь с только что купленной книжкой: «… он был влюблен — не мудрено! — В свою благотворительницу нежную, И страсть его была не безнадежною». Неделя, когда она томилась в ожидании, представлялась ей из наихудших в ее жизни, совсем выбилась из привычной колеи, когда попало ела, в тяжелой полудреме, не раздеваясь, валялась на кровати, никуда не выходила из дома. Когда ее терпение уже приближалось к критическому пределу, страшилась, что вновь предстоит ночь в одиночестве, он внезапно возник, как всегда, стремительный и энергичный. Она бросилась к нему, горячо обняла и страстными поцелуями покрывала лицо, шею, руки. Павел потрясен и обрадован неожиданно горячей встречей. Наконец, оторвалась от него и тут же обомлела - на его груди сияла «Золотая звезда», на плечах блестели генеральские погоны, на брюках выделялись красные лампасы. — Это что это за маскарад? — Евгения с гневным удивлением уставилась на мужа. — Никакого маскарада нет! Можешь поздравить!— горделивая улыбка сияла на его лице. — Как это? За что?—она в растерянности, уж не очередной ли его розыгрыш? — В Указе сказано - «за героизм, проявленный в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и за выполнение особого задания Коммунистической партии и Советского государства»,— он отчеканил слова Указа, словно выступал перед строем. — Какое же это задание, если за него дают звезды сразу на грудь и на плечи?— сомнения сменяются тревогой. — Пока рассказывать не положено,— Павел коротко, но твердо уклоняется от ответа,— а почему радио молчит? — Выключила, боялась, не услышу, как ты придешь,..— смущенно оправдывалась Евгения. — Попробуем включить, может, что-нибудь интересное объявят… Свежеиспеченный генерал повернул рычажок громкости, послышался голос Юрия Левитана, за войну привыкли, что он выступает только с важными сообщениями. Послышалось: «…на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала, и выразившееся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над Правительством и Коммунистической партией Советского Союза…» 356 Диктор продолжал сообщение. Евгения стояла в растерянности, ожидая разъяснений от мужа, Павел, обняв за талию, провел ее к кровати, дивана в комнатушки не было, и они уселись на помятую постель. — После официального сообщения кое-что можно и рассказать… Рассказ Павла об обстоятельствах ареста Берия потряс Евгению, она не знала о скрытых пружинах власти, но мытарства по лагерям и тюрьмам, угрозы полковника Евстигнеева и майора Никольского снова упрятать в эти страшные места, в сознании молодой женщины увязывались с властью, а власть над лагерями и тюрьмами, над судьбами несчастных зэков для нее неразрывна с именем Берия. Были другие наркомы, переименованные потом в министров внутренних дел и госбезопасности, но у нее и, как она знала, в сознании всех заключенных отпечаталось имя главного гонителя – Берии. Насколько это справедливо она ни разу не задумывалась, словно тяжелый, постоянно ощущаемый груз свалился с ее души при известии о свершившемся возмездии за злодеяния. В то же время ее тревожило участие Павла в выполнении «особого задания». — Так за такие «подвиги» на тебя свалились эти звание и награды?— с горькой иронией спросила она. — Напрасно иронизируешь, операция была непростая и чрезвычайно опасная, за Берией стояла огромная сила, к Москве подтягивались подчиненные ему дивизии МВД. Исход операции решали буквально мгновения, затянись на какието часы, и мы с тобой никогда бы больше не увиделись. Евгения прижалась к нему, как будто и впрямь его кто-то отнимал у нее. Она не наивная девочка, жизнь с суровой беспощадностью научила ее не удивляться самым невероятным событиям и проявлениям, и все же участие мужа в свержении Берии пугало, понимала, не по собственной воле ввязался в непонятное до конца ей дело, сознавала, что теперь он выходит на более высокую служебную орбиту. И все же на сердце не спокойно, чем это для них обернется? — Ты же не один все это провертывал?— больше из любопытства спросила она. — Разумеется. С такими людьми встречался, ты и представить себе не можешь, практически, вся верхушка и наш маршал Жуков. Я там, конечно, не первая скрипка, но и моя роль была не последней… Он говорил не без некоторого бахвальства. Евгении становилось понятнее, отчего так быстро его произвели в генералы и в Герои, но полного успокоения не ощущала, Павел как бы почувствовал ее тревожные раздумья и почти помальчишески задорно сказал: — Погоны и Звезда — это еще не все. Вот смотри, что еще!— он вынул из нагрудного кармана кителя небольшую бумажку. Евгения внимательно, очень внимательно, вчитывалась в бумажку и ничего не понимала. Это был смотровой ордер на квартиру, на Хорошевском шоссе, как, в конце концов, уразумела, им выделялась трехкомнатная квартира. — Завтра утром поедем смотреть! Хватит ютиться в этой конуре!— плотнее прижимая ее к себе, радостно заявил Павел. 357 — Прямо, как в сказке. Когда же успели тебе вручить эту Звезду и переодеть в новую форму?— удивлялась Евгения. — Сразу же, как только Берию увезли в каталажку, Ворошилов вручил. Там же сняли мерку и вот к вечеру переобмундировали. У них это здорово отлажено! Потом, уже ночью, усталая Евгения прошептала: — Знаешь, а я еще, пожалуй, смогу родить. Эту тему как-то вскоре после женитьбы они обсуждали и Евгения, объяснила, что после перенесенного в застенках, у нее едва ли будут дети, тогда же предоставила Павлу абсолютную свободу, если в нем пробудится настоятельный отцовский инстинкт. Он же уверял, что настолько сильно ее любит, что другое его не волнует. И вот в эту незабываемую ночь обещает вознаградить его преданность наследниками. — Через Татьяну Владиславовну попала к опытному гинекологу,— продолжала Евгения, ссылаясь на соседку по квартире,— он назначил курс уколов, и я уже прошла его. Теперь доктор советует закрепить результаты поездкой на курорт, называет Марианске-Лазни в Чехословакии, тамошние воды, говорит, помогают от бесплодия. Хотя, какая я бесплодная, у меня же Фая… — Скоро начинаются каникулы, попрошу туда путевки. Надеюсь, не откажут,..— Павел нежнее, чем обычно, поцеловал жену. 4 Новоселье Вороновы отметили шумно и весело. В эти летние дни пятьдесят третьего года у Евгении и Павла дни были переполнены радостными событиями и хлопотами. Их настроение не в последнюю очередь определялось и тем, что встречают гостей в собственном гнездышке. Как этому не радоваться! Новая квартира, обставленная только что купленной импортной мебелью, с запахами свежей краски, паркетного лака, с блестевшими, тщательно протертыми окнами, с модными современными шторами, гардинами, занавесками, все сияло свежестью и располагающим уютом. Если бы здесь оказались люди, давно знавшие Евгению, то наверняка заметили бы, как много она переняла от первой свекрови, хлопотливой Розы Львовны, на пользу пошло близкое и дружеское общение с немками, выделявшими красивую «русскую фрау» из довольно простоватого общества офицерских жен и вольнонаемных в крохотном немецком городке Стендале. В неброском и в то же время красивом и удобном для жизни убранстве квартиры и оформлении праздничного стола проявлялись природный вкус и прирожденная наблюдательность Евгении. Особый колорит, настрой празднику придавали, разумеется, гости. Молодые люди, обаятельные, переполненные искрящей энергией, насыщенные взаимной доброжелательностью и непринужденностью, они радовались случаю встретиться, повеселиться, поболтать о настоящем и грядущем. Большинство из присутствующих прошли войну и, если бы их наблюдал кто-нибудь со стороны, то непременно убедился, какими чистыми, благородными, смелыми и беззаветными вышли они из страшно тяжелой, но одновременно справедливой и 358 благородной битвы за Родину и за их великие цели, за свое будущее, представлявшееся им исключительно светлым и счастливым. Они радовались полнокровной наполненности жизни, их еще не омрачал дух мелочного стяжательства, ничтожной зависти, беспинципного карьеризма, сейчас им выпала возможность учиться, обогатить свое духовное богатство, впитать то, что вовремя получить помешала война. Не у всех у них одинаково складывалась послевоенная жизнь, допекали лишения, нехватки, они не роптали, война приучила довольствоваться тем, что есть, и добиваться большего, искренне радовались, что их товарищу повезло с квартирой, что он получил высокую награду и внеочередное звание. Что ж, такова судьба военных, сегодня удача подвалила ему, завтра, чем черт не шутит, фортуна своим ясным ликом обернется и к ним. Поэтому первый тост, разумеется, за нового генерала Советской армии и его геройскую Звезду, поддержали дружно и искренне. Если у кого и была какаянибудь сомнительная мысль, то ее никто не заметил бы. Гости не схожи внешне, с разными характерами и вкусами. В одном они сходились – это в восхищении хозяйкой, Евгения не была здесь самой молодой, но самой привлекательной несомненно - прекрасное русское лицо, чудесная, какая-то загадочная, влекущая улыбка, не напрасно говорят, что улыбка лучшее украшение женщины, ее прелестное обаяние усиливалось облегающим точеную фигуру платьем из тонкой, светло-серой ткани, великолепно сшитом немецкой модисткой, отличные, в тон платью, туфельки, они придавали ей стройность и прибавляли, но не чрезмерно, в росте, всем бросалась в глаза некая аристократичность в походке, жестах, манерах Евгении. Откуда это у нее! – часто восхищался Павел. И рядом с такой необыкновенной женщиной, не без зависти отмечали гостьи, переполненный волнующей энергией, молодой генерал с сияющей новизной Золотой Звездой! Воистину идеальная пара! Над столом возвысился Дмитрий Никитович Ващенко. Он постучал вилкой по фужеру, призывая к тишине. — Мы здесь действовали так, как положено,— начал майор, его мощный бас соответствовал внушительному облику,— первый тост произнесли, и мы дружно, от всей души выпили за виновника торжества. Но по опыту каждого из нас, мы знаем, что не видать нам никаких достижений, ни Золотых звезд, ни генеральских погон, если бы рядом не были, как говорили на фронте, боевые подруги. Я не ошибусь, если скажу, что хотя бы один луч этой высочайшей награды, по праву принадлежит очаровательной жене виновника торжества, всеми нами любимой Евгении Алексеевне, ее волшебная красота у всех у нас на виду, но в этой прелестной головке таится и замечательный ум -.это надо же сообразить и суметь, отхватить в самом Берлине, такого видного русского воина, героя, тогда еще без этой Звезды, но с достаточным набором наград и отличий, нашего дорогого боевого товарища и друга Пашу. Предлагаю понять бокалы за Евгению Алексеевну, за нашу Женю! За Ваше здоровье, госпожа генеральша! Женщины захлопали в ладоши, мужчины поднялись, каждый подошел к Евгении, осторожно чокнулся, нежно поцеловал ручку, а тостующий майор счел возможным чмокнуть и в щечку зардевшейся от такого внимания Жене. Она с 359 радостной улыбкой, смущенной от такого внимания, кивала головой и крохотными глоточками отпивала из своего хрустального бокала. Евгения не стала ожидать очередного тоста, поднялась над столом, одарила всех чудесной улыбкой, в которой сверкнула смешинка, стуком по бокалу, отозвавшемуся приятным звоном, попросила тишины. — Я от все души благодарна Диме за добрые слова в мой адрес, спасибо всем вам за то, что поддержали его тост,— грудной голос Жени звучал четко и ясно, никто не считал возможным перебивать прекрасную даму или, тем более, вставить реплику,— но у меня есть небольшие дополнения, поправки к приятным словам майора. Во-первых, еще вопрос, кто кого отхватил,— Женя одарила всех чудесной и чуть лукавой улыбкой,— Паша за меня бился, как средневековый рыцарь. Да, да бился, да еще как, там в Берлине! Не менее упорно, чем, простите за смелое сравнение, штурмовал рейхстаг,— раздались короткие, благожелательные смешки,— при каких это было обстоятельствах, и, что это ему и мне наше сближение стоило, пусть остается только с нами, но это не означает, что сейчас я не рада, что он, говоря по Диминому, «отхватил» меня, я более, чем когда-либо, сейчас верю, что браки действительно совершаются в небесах. Я убеждаюсь с каждым днем все больше и больше, для меня, именно для меня, сохранен в ужасной войне этот гроза немецким танкам, блестящий артиллерист, видный, красивый парень, и замечательный мужчина. Второе, что я хочу сказать, замечательный наш друг, Дима! Если бы не знала, какой чистый и благородный смысл ты вкладывал в свой тост,— она улыбнулась мягко и доброжелательно,— то, за выражение «госпожа генеральша», влепила бы по твоей сияющей, красивой физиономии. Все ахнули, хотя Женя улыбкой и оговоркой смягчила резкую фразу. — Вспомни, милый Дима, что я из сибирской деревни, и неплохо научилась у сильных и суровых сибирских парней отстаивать свое достоинство. Мой муж не «господин»! Он, товарищ генерал! Советский генерал! Да, близкий товарищ рабочих и крестьян, из которых вышел, он всегда надежный товарищ солдатам, которые по его команде выдерживали десятки контратак немецких, и в жизни, в этом хорошо убедилась, он надежный и верный товарищ! Евгения отпила глоток минералки из фужера и продолжала: -- Бывали, редко, но бывали генералы из простых людей и прежде. Алексашка Меншиков даже в фельдмаршалы выбился, да казнокрадством и другими мерзостями опозорил генеральский мундир и себя. Я горжусь моим мужем! Ничего для себя так страстно не желаю, как всегда быть рядом с ним, верной и надежной ему подпоркой. Когда дубок высаживают, то рядом с ним ставят крепкую палочку, чтобы ветры и бури не сломили его, дуб вырастает, превращается в могучее и раскидистое дерево, но обязан он этим невзрачной подпорке. Так выпьем русские бабы и все присутствующие здесь, за наших русских мужиков и пусть они берегут нас и нашу державу! Все мужчины и женщины встали, содвинули бокалы. Павел повернулся к жене и крепко-крепко расцеловал ее, она отозвалась не менее страстно.. 360 Мужчины чем-то схожи, возможно, военная форма сглаживала различия, приглашены в основном сокурсники Павла. Женщины, за исключением Евгении, тоже как бы подведены под один знаменатель. Как не пыталась быть снисходительной к ним хозяйка, они выглядели до примитивности простоватыми в мешковатых платьях безвкусной расцветки, с «химической» завивкой под барашка, с угловатыми манерами, которые иногда пытались сгладить нарочитой развязностью. Бедненькие девочки! — думала Евгения, пока их нынешние мужья воевали, учились и учатся в Москве, общаются с множеством людей, в том числе с неординарными, эти девчонки долгие годы ждали своих суженных в заштатных городишках или в далеких деревнях. Мужья росли по службе, мужали, познавали жизнь и мир, набирались знаний, культуры, внешнего лоска, а их жены и подружки законсервировались на уровне деревенских школьниц, когда-то полюбивших мальчишек одноклассников. Пройдет время, и некоторые ребята «прозреют», начнут стесняться своих жен, и, не исключено, какие-то из таких пар распадутся. Сколько ожидается мелодрам и трагедий! Разговор за столом пошел на общие темы, люди военные, они прекрасно представляли, о чем не следует говорить за столом, и умели вовремя пресекать нечаянные и, порой, неуместные реплики жен и подружек. -- Давайте, выпьем за Валентина,— обратился к гостям хозяин, — он получил назначение в Монголию, всяческих ему успехов на новой службе! Гости дружно поддержали тост, им не надо растолковывать, что означает сменить устоявшуюся службу во вновь благоустроенной Германии на выполнение воинского долга в бескрайних и суровых Монгольских степях. Подполковник Валентин Тимофеевич Комков однополчанин Воронова, по законам фронтового братства многие однополчане, оказавшись в Москве, останавливались у Вороновых, это никого не смущало, считалось нормальным, хотя Евгении это доставляло немало хлопот, но и она радовалась появлению тех, кто напоминал ей страшное, но всех их объединяющее, их общее боевое время. -- Мы с Валентином одно время служили в стрелковом полку,— продолжал Павел, — он был комсоргом полка, я – начальником артиллерии. Однажды немцы здорово насели на наших пехотинцев, командир роты был убит, солдаты залегли, и, казалось, вперед их больше не стронешь, тогда Валентин, оказавшийся в роте, взял команду на себя. Комсорг полка так натурально по-русски шуганул на залегших, что бойцы, словно их куда следует скипидаром смазали, тотчас вскочили и рванули в атаку, положение было восстановлено. А сколько у него таких было случаев! Да и у всех. - Он там быстро приспособится,— кивнула в сторону мужа жена Комкова, скромная брюнетка Лидия Николаевна,— мне сложнее будет, в Монголии резко континентальный климат, моим сосудам это серьезное испытание. Тревоги Лидии Николаевны не надолго обеспокоили гостей, народ собрался в основном молодой, и до различных хворей и болей им еще предстояло дожить. Фронтовые воспоминания не были основным содержанием разговоров, но боевой опыт, заграничные походы то и дело возникали при обсуждении любой темы, эти люди были до предела насыщены войной, от этого они не могли и не стремились 361 избавиться, пропитанными войной им предстояло до конца их дней воспринимать и оценивать через призму их боевой молодости все происходящее в стране и в их жизни. Вороновы на следующий день должны отправляться на курорт в МарианскеЛазни. Получить путевки Павлу не представило большого труда, слухи, намеки об его участии в важной операции распространились довольно широко. Естественно, за предстоящую их поездку заграницу был произнесен теплый напутствующий тост. — Мне пришлось там бывать, наша танковая армия от Берлина была повернута на юг и войну мы заканчивали в Чехословакии,— рассказывал майор Ващенко,— чехи нас здорово встречали, как освободителей, цветами заваливали. Страна красивая, похожа на Германию, но народ там, я бы сказал вихлявистый, серьезно на них рассчитывать опасливо. Вся история страны переплетена с немцами, более или менее самостоятельное государство у них появилось только после первой мировой войны, они входили в Германию, в Австрию, в Венгрию. Во многом Чехословакия искусственное государственное образование. Славянства у них мало осталось, лишь язык, и он многое от немцев впитал, немецкого у них полно накопилось и в крови и в повадках. Как у всякой небольшой нации, у чехов болезненно обостренное чувство национального достоинства, словакам и чехам меж собой еще надо научиться жить. Сейчас мы им нужны, стараются, как можно больше выдоить из нашей страны, они сегодня с нами в дружбе, вернее, терпят нас, посмотрим, какими они будут, когда окончательно оправятся от последствий войны, встанут на ноги. — Ты, что ожидаешь, они могут отвернуться от нас? — обеспокоился майор Кизюн. — Русских своей неблагодарностью не раз удивляли, особенно австрийцы,— усмехнулся Ващенко. — Напрасно мы за Чехословакию держимся,— вступил в разговор подполковник Гринский,— только свои ресурсы на них тратим, себе бы пригодились, не в коня овес... — Борис Исаакович, прости, но ты ерунду порешь,— не вытерпел Воронов,— неужели для военного человека не понятны военно-стратегическое положение этой страны, ее экономический потенциал? Борис Исаакович Гринский однокурсник Воронова, они не были близкими приятелями, всего лишь учились в одной группе, но Гринский из каких-то соображений выделял Павла из других слушателей, стремился чаще быть с ним, устраивал совместные походы семьями в театры, на экскурсии. После возвращения Воронова с «особого задания» Гринский совсем не оставлял его, со стороны их можно было воспринимать как неразлучных друзей, и так сложилось, что Павел не мог не пригласить его с женой на семейный праздник. Жена Гринского, плоскогрудая Эльза Эдуардовна, с превеликим любопытством обошла всю квартиру, не пропустив ни одного закутка, и неумеренно всем восторгалась, особенно, «тонким вкусом» хозяев. Когда ее муж заговорил, она восторженно глядела на него и кивала головой в знак согласия с ним. 362 — Все я отлично понимаю, но нам пора отойти от великодержавных замашек и заняться собственными проблемами,— Борис Исаакович отвечал твердо и самоуверенно, словно его мнение было окончательным и неопровержимым. — О-го-го, куда ты загнул!— задиристо отозвался Ващенко,— нам, считаешь, следует отовсюду убраться, пусть американцы заполняют образовавшийся вакуум и заправляют всем миром. Это же сдача позиций социализма! Какой ценой их укрепление нам досталось, напоминать, думаю, не стоит. Если цари расширяли Российское государство, если американцы свои влияние простирают до беспредельных масштабов, то это, по-твоему, правильная политика. Если Советский Союз усиливает свою мощь и укрепляет свои позиции в мире — это, по твоим понятиям, имперские замашки?! Разговор накалялся. Евгения почувствовала угрозу благостному праздничному настрою. — Объявляется перерыв. Мужчинам можно перекурить. Женщины помогут накрыть стол к чаю… Все оценили своевременность вмешательства хозяйки, только Гринский криво ухмыльнулся, давая понять, что уловку хозяйки он понял, но от своего мнения не отказывается. 5 Гости разошлись, кроме Комковых, они на следующий день вылетали в Монголию и проездом остановились у фронтовых друзей. Женщины прибирались, убирали и мыли посуду, ставили на обычные места мебель, мужчин, расположившихся в кабинете, не отвлекали, понимали, им есть, о чем переговорить перед разлукой, скорее всего, долгой. Кабинет – предмет особой заботы для Евгении, муж, полагала она, должен иметь хорошо оборудованное рабочее место. Если бы Павел был мастеровым, она позаботилась бы создать ему все условия для ручного труда. Сейчас он учится и в будущем ему не придется заниматься каким-либо ручным мастерством, голова же инструмент более тонкий, нежели руки, чтобы она плодотворно, творчески функционировала, Евгения считала, требуются более удобные, комфортные условия. Ее аргументы, безусловно, были убедительными, и Павел признал ее правоту. Она поначалу отводила под кабинет самую большую комнату. — Гости будут раз-два в году, а тебе работать нужно каждый день и мне тоже придется с книгами, с бумагами заниматься,— настаивала она. Все-таки убедил не занимать большую комнату под кабинет, к ним ведь будут приходить гости. Зато в отведенной для этого комнате, она повозилась много и продумано, купила большой письменный стол с множеством выдвижных ящиков, над ним повесила полку, как она выражалась, для повседневных книг, для других книг соорудила стеллажи из импортных подвесных полок, поставила удобный кожаный диван, а перед письменным столом такие же кресла. — Устанешь, есть куда прилечь, почитать на диване иногда удобнее. 363 На столе приспособила очень удобную лампу с разными рычагами, позволяющими регулировать направленность света. К дивану приставила гибкий торшер, тоже с возможностью управлять световым потоком. — В комнате полагается люстра. Купим в Чехословакии, все оттуда привозят,— доводила Евгения до сведения Павла свое решение,— надо еще приобрести пишущую машинку. — Зачем нам машинка. Ни я, ни ты печатать не умеем,— пытался остановить ее намерение муж. — Всякий мало-мальски интеллигентный человек обязан уметь пользоваться пишущей машинкой,— отрезала Евгения. Друзья однополчане расположились в удобных мягких креслах. На край письменного стола любезная хозяйка поставила бутылку с коньяком, рюмочки и тарелочку с ломтиками лимона и сахарной пудрой. — Любопытные вещи ты рассказал,— говорил, отхлебнув глоточек коньяку, Комков,— все-таки какое же на тебя впечатление произвел Берия? Как человек, как личность… — Я, конечно, предполагал увидеть стойкого, идейного борца за правду, за справедливость, которого не сломить никакими превратностями судьбы, а увидел,… мразь, жалкое существо… Все время канючил, умолял бывших своих «соратников» вмешаться, доказывал, что абсолютно чист, честен, верный их друг и товарищ, разве будет плохо, если его простят, утверждал, что будет годен на любой, самой маленькой работе, что через два-три года он исправится и будет еще полезен, трясся от страха. Почему так делается, спрашивал, посадили в подвал и никто ничего не выясняет и не допрашивает, разве, мол, это единственный и правильный способ, посадить в подвал и казнить… Забыл подонок, как сам расправлялся с безвинными людьми… В общем, мерзкое зрелище о говорить об этом не хочется. Лицо Воронова исказила брезгливая гримаса. — Но я слышал, что он был крепким руководителем, обладал большими организаторскими способностями, огромной волей?— допытывался Комков. — Поставь тебя на такую должность с неограниченными правами, да обеспечь такой защитой и поддержкой, как Сталин, и ты станешь мощным организатором, возможно, сильнее Берия… — Понятно,— Комкову ясно, что за личность Берия, и насколько тяжело вспоминать его приятелю о том, чему невольным свидетелем и активным участником он был,— не все опубликованное я принимаю один к одному. На Берию теперь можно навешать всех собак, думается, происшедшее обычная борьба за власть. Взял бы верх Берия, сегодня проклинали бы кого-то другого, Маленкова или Хрущева. В этой игре самая незавидная и опасная роль отводилась тебе и другим, кого они вовлекли в эту операцию… — Это я отлично представляю. Но как бы ты поступил на моем месте? Вызывает высшее командование, приказывает. Остается лишь под козырек есть!— и выполнять. Но я не сожалею. Мы же с тобой не в безвоздушном пространстве жили. Знали, сколько творилось беззакония. Возьми мою Женю, 364 безвинную молодую женщину, почти девчонку, схватили и мытарили по лагерям, до сих пор отойти не может. А в армии, ты сам знаешь, сколько перед войной генералов, командиров пострадало. А после войны – врачи, ленинградцы. Русланова, певица, и та попала в их лапы. Кто-то же должен, в конце концов, ответить! Воронов горячился, чувствовалось, что он не только призывал к ответу, но как бы задавал вопросы, прежде всего к себе, так ли все делается теперь, в правом ли деле участвовал или его просто-напросто использовали, как марионетку? На то намекает Комков. — Я не пытаюсь оправдывать Берия. Если не Берия, так кто? Ведь подумать страшно! Пусть лучше за все и за всех отдувается Берия! Не было бы его, так выдумать его надо! Нельзя в народ разлад вносить!— Воронов плеснул в рюмку и залпом выпил. — Ты, заметил, в газетах, по радио в последние дни не упоминают о Сталине, зато много материалов о культе личности с довольно прозрачными намеками? Это не спроста. Там, наверху, полагаю, все еще идет борьба. Неизвестно во что она выльется,— Комков произнес это вполголоса, привык так говорить на скользкие темы. — Для меня те дни были не только выполнением служебного долга, воинских обязанностей,— после короткой паузы продолжал Воронов,— я многое увидел, до того мне неведомого. Получил такую пищу для раздумий, что голова вот-вот расколется. Во-первых, насколько хрупкая и незащищенная у нас, оказывается, высшая власть, достаточно внедриться в нее одному или нескольким решительным людям, и они могут захватить в свои руки руководство государством и развернуть политику, всю жизнь народа в любом направлении. Прорвись к власти авантюрист или предатель, и полетели к черту наши идеалы, наши высокие и благородные цели, наша борьба за их осуществление! Ты прав, на месте Берии мог оказаться любой, как и кто-нибудь другой на месте Маленкова или Хрущева. Тут кто смел, тот и съел! Во-вторых, я прямо-таки в оцепенении оттого, что у нас созданы прямые условия для вооруженного противостояния, для возникновения новой гражданской войны! — Ну, это ты уж загибаешь!— поднялся с кресла Комков, оба давно сняли кители, оставались в легких сорочках с расстегнутыми воротниками, и крупными шагами расхаживали по кабинету, словно борцы перед схваткой,— у нас же такая мощная армия, и органы есть… — Вот в этом-то и все дело. Есть армия, и, разумеется, сильная, но есть еще вооруженные силы у МВД, МГБ и я точно не знаю, у кого и кроме них. Эти силы немалые. Представь себе, что тот, в чьем ведении такие войска, решится захватить власть, когда сочтет, дескать, настал удобный для этого момент. Он двинет свои части, ему будет противостоять другая сторона, и заварушка началась. Вновь на Руси драчка удельных князей! Нет, все вооруженные силы в государстве обязаны быть в одних, а главное, в твердых руках! За этими руками должен быть жесткий и непрерывный контроль!— Павел круто развернулся к собеседнику и уткнулся в него указательным пальцем. 365 — Но так уже сложилось,— почти обречено произнес Комков,— сломать эту систему и отладить новую не совсем просто. Как это сделать? — Я тоже плохо это представляю, надо до деталей разобраться и тщательно продумать,..— Павел это произнес таким тоном, будто в его голове идет жесткая схватка разных мыслей. — По логике твоих рассуждений все вооруженные силы должны быть в одних руках. А это уже диктатура! — Что ж диктатура так диктатура! Вопрос в том, кто станет диктатором? Сталин в своем лице на деле осуществлял диктатуру пролетариата. Но Сталиным не всякий может быть. У него была идея, цель, ради достижения которой он был готов пожертвовать чем угодно. Беда же, если к диктаторству прорвется беспринципный карьерист, хапуга, для него целью правления станет ублажение собственной персоны, личного тщеславия, своего клана. Такой диктатор рано или поздно подведет государство к пропасти! — Зачем нам с тобой забивать головы. Без нас есть, кому этим заниматься,— довольно равнодушно произнес Комков, давая понять, что пора, мол, закругляться и укладываться в постели. Ему с женой рано утром необходимо отправляться на вокзал и двинуться к новому месту службы — в Монголию. — В том-то и беда, что без нас,— горько усмехнулся Воронов, — что нам думать, ежели думают вожди. Главное, кто этим займется! И не будет ли он новую систему создавать под себя, под личные амбиции и цели? Пока мужчины обсуждали свои проблемы, и не только свои, женщины занимались восстановлением прежнего порядка в доме. Когда протирали вымытую посуду, Евгения смутила Лидию Николаевну пристальным рассматриванием ее. На ее недоумение Евгения воскликнула: — Какая ты красивая, Лида! — Что ты, Женя! Обычная деревенская девчонка,- еще более смутилась и покраснела молодая женщина. Лида вышла замуж накануне войны, в субботу двадцать первого июня 1941 года в деревне состоялась шумная свадьба, иной она быть не могла, деревенька небольшая, и попробуй кого-нибудь не пригласить на семейное торжество. Не успели утром опохмелиться и разглядеть молодых после их первой ночи, как репродуктор нависавший на площади, напротив начальной школы, прохрипел зловещее слово «война». Через несколько дней Лиду едва оторвали от Валентина, которому пора было забираться в вагон, отвозивший призывников в район, чтобы оттуда начать длинный и часто роковой путь по войне. После победы молоденький капитан только один раз появился в деревушке, чтобы сообщить заждавшейся жене, что его направляют учиться, скоро сообщит, куда ей подъезжать. После окончания его учебы, она с мужем переезжала из гарнизона в гарнизон, и вот предстоит новая дорога, на этот раз в далекую Монголию. — Конечно, ты деревенская,— не стала спорить Евгения,— красота же тебе дана божественная! Только не стесняйся ее показывать - какие у тебя прекрасные волосы, блестят, немного волнистые, пышные! 366 Евгения вынула из волос Лидии заколки, та молчала, как же — Женя городская, умная и постарше ее. Волосы красиво рассыпались по Лидиным плечикам. — Вот этот локон мы приколем вот сюда, а этот опустим, здесь же на капельку подравняем,— Женя вынула из стола маленькие ножницы, и не успела Лидия опомниться, как небольшая прядь оказалась отрезанной в руках самодеятельного парикмахера,— посмотри, как заиграло твое лицо. Мадонна и не меньше! — Ой, и правда!— изумленно воскликнула Лида,— а я не догадалась бы так сделать. Ну, Женя, ты кудесница! Спасибо за подсказку!— Лида не могла налюбоваться на свое отображение в зеркале. — Посмотри, пожалуйста, на свои губы,— продолжала колдовать Евгения,— зачем ты их подкрашиваешь бантиком? Это примитивно, и губы смотрятся, как приклеенные, у тебя они чуть припухлые, подкрашивай их вот так, где твоя помада?— она посмотрела на поданную помаду и тотчас выбросила в мусорное ведро,— это же подделка, у цыган, наверное, покупала. На вот эту, сегодня в ЦУМ,е купила, подставляй губки алые,— нежным движением нанесла помаду на губы,— за такими губами любой мужчина помчится, целовать их награда ему! Лида не узнавала себя в зеркале, на нее смотрела незнакомая, молодая, интересная женщина. — Лидочка, у тебя же чудесная фигурка! Талия прямо-таки осиная, после родов бедра, как и должно быть, немного раздались, и еще лучше обозначают талию, нужно только чувство меры знать, что и как носить, широкая юбка превращает женщину в бабу колхозную, шумящую на базаре. Вот так ее подбери, подними немножечко повыше, юбка, видишь, стала строже, фигурка, особенно ножки, еще изящнее, стройнее! Евгения повернула Лидию, словно манекен, и как бы оценивала, что еще нужно над ней сотворить. — Живот-то куда спрячешь?— вздохнула Лида,— он после родов никуда не спрятался, на нос лезет,— того и гляди, расплачется бедняжка. — Да, его ты упустила,— согласилась Евгения,— сразу надо было за него взяться, но не все потеряно! Дома можешь ходить, как вздумается, муж к этому уже притерпелся, на улицу же, в гости, в театр — затягивай его поясом. — Так задохнешься же!— испугалась Лида. - Терпи! Красота требует жертв! Не жалей на себя ничего, и, увидишь, твой Валентин на тебя молиться станет! И другие…— не поймешь серьезно или смеется Евгения. — Какая ты славная, Женя! Откуда у тебя такой вкус? Насколько я знаю, ты тоже не из дворян,— Лидия явно стремилась познать секреты генеральши. — Учусь, Лида, учусь, присматриваюсь к модницам. Много читала, почти в каждой книге женская красота воспевается. И, видимо, мама, да и отец, кое-чем наградили, мама, бывало, пройдет по заимке, ей вслед и мужики, и бабы головы поворачивают, как лебедушка, пава вышагивала, руку протянет, словно одаривает, такие грациозность и изящество в движениях! Свыше нашей радове дано! Ты присмотрись, Лида, сколько в наших деревнях писанных, расписанных красавиц, 367 одна другой краше! Правда, не всегда себя умеют подать, выскочит замуж, и не узнаешь, в миг обабится, под застиранным платком, головку, чудные волосы спрячет, в кофте-размахайке не видно ни фигуры, ни талии, а на ногах такие боталы, что у слона ноги стройнее. Еще обижаются, муж, мол, забросил, на других заглядывается! Сами, дурочки, виноваты! А ведь прекраснее наших русских женщин на свете нет! Я-то насмотрелась… Уже в постели Евгения сказала мужу: - Звонил Алексей… Зайцев.. - Чего ему от тебя понадобилось?— Павел всегда с неприязнью воспринимал упоминания жены о Зайцеве, бывшим когда-то у нее в мужьях. - Письмо от Фаи получил, хочет со мной встретиться,— как можно спокойнее отвечала Евгения, — опять у нее какие-то проблемы. 6 Едва Елена перешагнула порог квартиры, как услышала самый приятный для нее звук – топот детских ножек, школьник Коленька мчался во весь опор, раскрыв руки, словно крылья, а маленькая кругленькая, как колобок, Машенька старалась догнать братика, переваливаясь, будто уточка, с боку на бок, на коротеньких и пухленьких ножках. Мать наскоро поцеловала сынишку и подхватила на руки запыхавшуюся от бега малютку и, прижимая к груди, расцеловала ее. Подобное совершалось всякий раз, стоило лишь детям чутким ухом уловить поворот ключа в двери. Елена всегда до слез радовалась топоту ребячьих ножек, их радостным возгласам, их возне, мешавшей ей раздеваться. В сторонке, с умилением наблюдала эту сцену домработница Анна Ивановна. Вот уже который год Елена вновь в Москве, у нее и мыслей не было о переезде в столицу, когда внезапно вызванный туда ее муж, Алексей Николаевич Зайцев, позвонил и объявил, что его забирают в Центр, как только она выпишется из роддома, немного оправится и ее перевезут тоже, квартира ему уже предоставлена. Она давно не удивлялась неожиданным и длительным отлучкам мужа, такая у него работа, но на этот раз столь стремительное перемещение удивило и ее, какую получил работу и в каком районе им выделена квартира, она все же помнила город, муж не распространялся. — Приедешь, все узнаешь,— прервал он ее расспросы. Переезжать ей пришлось без него, позвонили откуда-то, не из Москвы, предупредили, что переехать ей помогут, пусть ничему не удивляется. Действительно, появились молодые энергичные люди, помогли все уложить, упаковать, точнее, все делали они, аккуратно и бережно, она лишь подсказывала, чтобы ничего не забыть. Усадили в мягкое купе в международном вагоне, навезли все необходимое в дороге для младенца, сами разместились в соседнем купе, готовые в любой момент откликнуться на ее зов. В Москве Алексея не оказалось, ее привезли в большую обставленную мебелью квартиру, где оказался даже холодильник, никогда ею не виданная техника заграничного производства, у нас 368 производство холодильников лишь начинали осваивать, в нем полным-полно всяких продуктов. Сопровождающие дали номер телефона, по которому она может заказать все, что ей и ребенку потребуется. — Завтра к вам подойдет женщина, будет помогать Вам во всем. С мужем она встретилась только через неделю. Многое в жизни успела повидать Елена и тяжелого и радостного, но первую встречу Алексея с крошкой сыном ей не забыть никогда, подошел к кроватке, где лежал его первенец, спящий и укутанный в белоснежных простынках и одеялках, безотрывно смотрел на него, удивляясь, что это крохотное существо, лежащее в белой пене, едва заметно колыхавшейся от ровного сопящего дыхания, плоть от плоти его, Алексея Зайцева, создание. В этот миг его работа, тревоги за ее надлежащее исполнение, все дрязги и скандалы, связанные с ней, совершенно поблекли, показались ему ничтожными. На мгновение оторвал взгляд от сына, заметил как напряженно, радостно и в тоже время вопросительно наблюдала за ним Елена, она как бы спрашивала: угодила ли ему - доволен ли он тем, кем она его одарила. Алексей прижал ее к себе, так сильно прижал ее к груди, что она ойкнула, и он начал покрывать горячими, страстными поцелуями ее лицо, грудь, руки: - Спасибо родная, спасибо… Будь Елена взбалмошной, капризной бабенкой, она могла бы в этот момент потребовать от него самого необыкновенного, и он, не задумываясь, бросился бы исполнять самое сумасбродное ее желание, она же наполнялась счастливым чувством от его радости, безмерной гордостью, нежным поглаживанием по спине, по рукам успокаивала и благодарила его за необыкновенно приятное для нее проявление признательности за сына. Ребенок зашевелился, Елена, как подкинутая мощной пружиной, подскочила к ребенку, вынула его из кроватки и осторожно подала радостному и беспомощному отцу. Алексей боязливо и неумело принял сына, осторожно прижал к себе, и в миг соприкосновения двух родных тел, отца и сына, его обдала необыкновенно нежная и теплая струя. Ему неизвестно по какой причине, по какому наитию вспомнился его отец, старый и гордый штейгер и Алексей горько-горько пожалел, что упрямый дед не увидел своего первого и пока единственного внука. Прижимая к груди сына, он непроизвольно произнес: — Коленька, Коля, сынок… Елена поняла, что ее сын с этого мгновения окрещен. именем погибшего от фашистов деда. Так и надо! Имя деда, его род, его дело продолжатся этим, сегодня таким крохотным и беспомощным мужчиной. Алексей Николаевич, продолжая держать сына на руках, перешел в другую комнату, служившую гостиной, увидев, что незнакомая ему женщина удалилась на кухню, спросил о ней. Елена объяснила, как та появилась в доме. Домработницу Аню привел в дом один из сопровождавших Елену, не молодая, лет под сорок, невысокая, в скромном платье, с уложенными аккуратным венком волосами она произвела на Елену хорошее впечатление, сразу же принялась за нескончаемые домашние дела, затем, практически, оставила Елену без забот и хлопот по дому, умело и трогательно помогала ухаживать за младенцем. 369 — Понятно, только при разговорах будь с ней осторожнее … — Понимаю, не маленькая, Анна Ивановна мне очень хорошо помогает во всем. — Ну и прекрасно, только учти, что я сказал. Если бы Елена не попросила передать ребенка ей, пора было кормить, Алексей по собственной воле не выпустил бы его из рук. Это, пожалуй, был единственный день, который он мог почти неограниченно посвятить сыну, далее опять так завертелось, что встречи с сыном становились редким праздником, появлялся в доме лишь урывками, подойдет, постоит у кроватки сына, если заставал его спящим, или совсем недолго подержит на руках, когда тот бодрствовал. Рано утром любящий отец уже на ногах, спешит на работу, днем откуда-то позвонит, отлучается, мол, не надолго в командировку, иногда это «не надолго» растягивалось на месяцы. Елена продолжила учебу в институте, прерванную переездом. На филологическом факультете МГУ программы существенно отличались от программ провинциального ВУЗ,а, договорилась в деканате, что продолжит обучение на том же втором курсе, по дополнительным предметам, которых не преподавали в провинциальном университете, будет сдавать экзамены и зачеты по отдельному графику, с повышенной нагрузкой она не только справилась, но и умудрилась опередить график текущей учебы. Жизнь в Москве постепенно, но, вроде бы, входила в определенный ритм, у Алексея и Елены были у каждого свои занятия, возник круг если не друзей, то хороших знакомых, правда, не слишком обширный, строгий режим секретности вокруг служебных занятий главы семьи накладывал вполне понятные ограничения, не очень приятные, но, как оба понимали, неизбежные. Алексея повсюду сопровождал майор Сытин, к Елене официально никто не прикреплялся, но они едва ли ошибались, предполагая негласное оберегание членов семьи. С середины 1953 года все круто переменилось, поначалу перемены, начавшиеся после смерти Сталина, не были ощутимы для Зайцевых. Вскоре же Алексей внезапно остался без работы, правда, заработную плату, хотя и не такую как до этого, но регулярно получал. Официально числился за комиссией Совета Министров СССР, и основная заработная плата начислялась по этому ведомству, Специальный Комитет после ареста Берии упразднили, от выполнения прежних функций Зайцева отстранили. Видимо, кое-кто в верхах полагал, что он «человек Берия», лишь после настойчивых усилий Курчатова и его соратников, поверили, что он работник ценный и никаких отношений с Берия, помимо сугубо служебных, не имел. После нескольких месяцев «вынужденного простоя» его назначили заместителем министра среднего машиностроения, при этом майора Сытина от него изъяли, Алексей Николаевич особенно об этом не печалился, хотя к услугам заботливого майора привык. Анна Ивановна в те дни обратилась к Елене: — Елена Леонидовна, меня сократили на работе, но я могла бы остаться с Вами, если сочтете возможным. Вы, конечно, понимаете, с каким поручением я к Вам была прикреплена, но поверьте, ни одного плохого слова я о вас и об 370 Алексее Николаевиче не сказала. Мне все равно работа нужна, и к Коленьке я привыкла… Елену такое предложение устраивало, в порядочности Анны Ивановны она за эти годы убедилась. Постепенно жизнь вновь входила в более или менее нормальные рамки. Казалось, можно без треволнений работать и учиться. Но шубутной Хрущев будоражил всю страну, последствия его неуемной энергии докатились и до Зайцева 7 Начальник шахты Муратов после выхода из шахты пригласил главного инженера Галина и главного маркшейдера со звучной фамилией Дубровский. Необходимо наметить, где и как нарезать в пластах угля следующие столбы для выемки топлива в ближайшие месяцы. Александр внимательно выслушивал дельные предложения Дубровского, и недоумевал, как мог превращаться в скотообразное существо такой умный, много знающий человек? Начитанность, основательность знаний маркшейдера ощущалась при всякой встрече с ним, нередко же весь поселок становился невольным свидетелем, когда напившийся, потерявший человеческий облик Дубровский с громкими, безобразными выкриками гонялся за женой или за кем-нибудь из детей. Сейчас же за длинным столом сидел благообразный мужчина и логично, грамотно обосновывал последовательность отработки шахтного поля, Галин согласно кивал головой и выжидательно наблюдал за реакцией начальника шахты. Муратов и здесь следовал народной мудрости, семь раз отмерь, один раз отрежь, задавал вопрос за вопросом и, будь перед ним другие собеседники, не знавшие его скрупулезности, упрекнули бы в занудстве. Эти же знали, что начальник шахты напрасно вопросы не задает, он стремится уловить слабые места, прочнее укрепиться в уже принятом им, но еще не озвученном решении, чтобы затем настойчиво действовать и не допустить чему-либо или кому-либо помешать исполнить принятое при подобных сидениях решение. Раздумья над планом горных работ перемежевались горькими мыслями о Дубровском, иногда слышал рассуждения: пьет, мол, но умный же. Но откуда же взяться уму при подобном образе жизни? Он, Муратов, не святой и не ханжа, в кои веки и ему доводилось страдать от перебора в выпивке, противно до тошноты вспоминать муторные ощущения, полное расстройство функционирования организма - какой уж там ум, если в тяжелой, в абсолютно не соображающей голове не возникает ни одной путной мысли! Размышления прервал телефонный звонок. — Александр Иванович, это Чиркова из горкома партии, здравствуйте! — Здравствуйте, Мария Ивановна, я слушаю Вас,— Чиркова, это помощник первого секретаря горкома. — Поступило очень важное письмо ЦК КПСС, с ним необходимо ознакомить всех коммунистов. В первую очередь членов горкома. 371 — Когда прикажите подъехать? — Мы работаем до шести часов. Письмо большое, за час не прочтете… — Если часам к четырем подъеду, не поздно будет? — Пожалуй, в самый раз. До свидания. — До встречи, Мария Ивановна. Разбор шахтных перспектив пришлось отложить, Александр рассказал о приглашении в горком. — Продолжим в другой раз,— сказал он, отодвигая к маркшейдеру план горных работ. Галин и Дубровский поняли, что начальник шахты не огорчен оттягиванием рассмотрения, у него добавляется времени более тщательно все обдумать, это же не сиюминутное дело, а будущее шахты на довольно длительный период, сегодня в спешке примешь недодуманное решение, завтра это обернется для него и всего коллектива не нужными трудностями, возможно, и срывами. В последние годы письма ЦК к местным органам не редкость, помнилось, какими шоковыми предстали перед ним из письма ЦК о Берии, факты, от которых волосы становились дыбом. Потом из последующих писем узнавались другие неизвестные им, рядовым периферийным коммунистам, непонятные явления в партийных и государственных верхах, их читали в один присест, о них поначалу шептались, потом яростно обсуждали и спорили, хотя все письма поступали с грифом «секретно». Александр Иванович Муратов с некоторых пор личность в городе известная, о нем и возглавляемой им передовой шахте, редкий день не пишет городская газета, он часто приглашается в горком, с ним советуются, его усаживают в президиумы разного рода совещаний, ставят в пример другим. Он же почему-то морщится при всяких славословиях, относящихся к его личности, скромность это, или неуверенность в прочности достигнутого, или просто напросто не соображает и не умеет пользоваться благосклонностью начальства, подчеркнутым уважением окружающих, повседневным вниманием прессы. Муратов, негромко попросив разрешения, осторожно вошел в кабинет помощника первого секретаря горкома, Мария Ивановна Чиркова, женщина крупная, подвижная и довольно властная, поспешно вышла из-за стола, протянула навстречу полную и мягкую руку. — Проходите, Александр Иванович. Хорошо, что так скоро подъехали, материал очень объемный и важный,— говорила она, снижением громкости подчеркивая особую значимость документа,— вот вам ключ от кабинета зав. промотделом, он в командировке, располагайтесь, там никто не помешает, можете даже замкнуться изнутри. Муратов оценил особую деликатность и доверительность, отдельный кабинет для чтения своеобразный знак отличия и уважения, тепло поблагодарил обходительную Марию Ивановну и отправился в указанное место. С первых строк понял, что допущен к ознакомлению с далеко необычным материалом. Это был доклад Хрущева на закрытом заседании ХХ-го съезда КПСС «О культе личности и его последствиях». Первые абзацы, посвященные некоторым теоретическим аспектам проблем партийного лидерства с цитатами из Маркса и 372 Ленина, не были для Александра новыми, он их знал с момента первого знакомства с работами основоположников научного социализма. Но, увязанные с оценками деятельности Сталина, они открывались по-новому, освещали не только саму проблему, но заставляли совершенно по-другому видеть то, с чем он жил до сих пор, что давно пропитало все его существо. Дальше в письме утверждалось, что вождь, на которого он и абсолютно все в стране молились, в прямом и в переносном смыслах, совсем не божество и даже не обыкновенный человек, это закоренелый преступник, делавший только то, что могло навредить родной стране, его партии, советскому народу. Это был удар необыкновенной, сверхъестественной силы, у Александра заколотилось в груди, ему стало трудно дышать, он еще не имел достаточного понятия о кровяном давлении, но если бы его измерить в этот момент, то показатели наверняка были запредельными. Отдышавшись, схватился за голову, какие только мысли не сбивали одна другую не мог не поверить прочитанному! Письмо же из ЦК! Доверять высшему партийному органу приучен чуть ли не с пеленок. Сказанное в красной книжечке не только потрясало, но и вносило в душу, в сознание смятение, заставляло метаться в страшных терзаниях - сомнения в самом святом, даже в учении, которое признавал самым верным, которому следовал неукоснительно, сомнения в партии, в которую беспредельно верил и в которую так стремился и был принят, как отличившийся в суровой битве, сомнения в огромных свершениях, преобразивших страну, сомнения в великой, исторической Победе! Сомнения в единомышленниках, в друзьях, в самом себе, наконец, сомнения абсолютно во всем - и в прошлом, и в настоящем, и даже в будущем! Нет, это слишком много, это слишком зловеще, чтобы быть правдой или даже частью правды! Вот он дошел до описания репрессий, арестов и гибели ни в чем неповинных людей. Неужели это ответ на мучавший его все эти годы страшный вопрос? Отец не виновен! Ни в чем не виновен! Никогда не сомневался в отце! Ему хотелось закричать об этом - пусть все знают, что его отец честный человек! Он никому не изменял, никого не предавал! Взрывную книжечку прочел не тринадцатилетний мальчишка, видевший и ничего не понимавший, отчего так безропотно уходил на свою Голгофу его отец, в черные страшные строчки вчитывался уже бывалый солдат, солидный руководитель. Он, конечно, не стал возмущенно или слезливо кричать, спрятал под пиджак письмо, вышел в коридор и осторожно огляделся вокруг, никто его не видит, придерживая за пазухой красную книжечку, ринулся бегом домой, его квартира в пяти минутах ходьбы от горкома. В доме всполошились из-за необычно раннего его возвращения с работы, лишь малышка Катенька, ни о чем не задумываясь, радостно кинулась к нему, привычно подхватил ее на руки, поцеловал и тотчас, к ее разочарованию, опустил на пол. Фая смотрела на него с недоумением, мать, Екатерина Егоровна, тревожно вглядывалась в запыхавшегося и необычно возбужденного сына. — Мама, смотри, смотри! Он не виновен! — Кто не виновен? О ком ты говоришь? — Как кто?! Отец! 373 Александр читал абзацы из страшного Письма, касающееся неоправданных репрессий, Фая слушала с интересом, у нее возникло воспоминание о потрясшем ее тогда внезапном исчезновении мамочки - но это так давно было! Для нее далекие годы были неприятным, тяжелым воспоминанием и не больше. Александр, читая, бросал взгляды на мать, как бы обращая ее внимание на особенно поражавшие его места, фразы, Екатерина слушала с таким напряжением, что вот-вот в ней что-нибудь оборвется, лопнет, лицо ее становилось необыкновенно бледным, из глаз мощной струей брызнули слезы, ее вдруг всю затрясло, громкие, безудержные рыдания вырвались из ее груди. -- За что!? За что!!!— криком исходила она. Александр прекратил читать, бросился успокаивать мать. Фая принесла воды, склянку с валерьянкой. Екатерина не могла успокоиться. — Мама, успокойся! Мне надо быстрее унести эту книжку. Ее строго запрещено выносить! Екатерина, услышав последние слова, как-то нервно вздрогнула. Запрещено! Ему же за это плохо будет! Материнский инстинкт, страх за детеныша, все еще жив, она не допустит, чтобы ему сделали плохое, хотя детеныш давно уже на собственных ногах. — Беги, Саня! Отнеси эту бумагу,..— сквозь приглушенные рыдания произнесла она и, согнувшись, волоча ноги, направилась в свою комнату. Собрала в комок всю свою волю, чтобы не рыдать и этим не задержать сына с опасной книжкой. Катенька, недоуменно наблюдавшая за бабушкой, снова, как только вышел отец, заревела во весь голос и побежала следом за ней. Александр очутился в горкомовском коридоре как раз, когда туда вышла Чиркова. — Вы куда уходили?— тревожно спросила блюстительница горкомовских порядков. Александр махнул рукой в дальнюю сторону коридора. — А письмо где?— продолжала беспокоиться Чиркова. — Со мной, со мной,— Александр вытащил из бокового кармана красную книжечку. — Правильно,— одобрила Мария Ивановна,— его оставлять никак нельзя. 8 После ухода сына Екатерина, удалившаяся в свою комнату, заметила прижавшуюся к ней внучку, ласково притянула любимицу к себе и попросила: — Пойди к маме, побудь с нею, мне что-то нездоровится. Катенька прижалась к бабушке, поцеловала ее в щеку. — Хорошо, бабушка,— и послушно вышла из комнаты. Девочка не сознанием, конечно, а чутким, детским сердцем чувствовала, после того, что папа прочел в красной книжечке, непонятное ей до конца, бабушке требуется побыть одной, даже ее, которую она, осознавала малютка, любит больше всех на свете, просит удалиться. И не столько словами, переполненные 374 слезами глаза, сморщившееся и как бы уменьшившееся от того лицо, сжавшаяся в комок фигура бабушки, просили у внучки прощения, умоляли дать ей побыть наедине со страшными новостями, принесенными сыном. Тихий звук закрывшейся за Катенькой двери был хлопком клапана, сдерживавшего огромными усилиями чувства, обуревавшие Екатерину после прочитанного в секретном Письме, плечи Екатерины крупно задергались от рыданий, она никак не хотела, чтобы ее плач кто-либо услышал, не испугал бы ее любимицу, не прибежала бы испуганная Фая, это ее горе и пусть оно остается только с нею, уткнулась в подушку, и та гасила вырывавшиеся из груди рыдания и всхлипы. Столько лет ждала хоть какой-нибудь весточки от своего Ивана! Ждать самого его становилось все труднее, берегла и таила надежду на возвращение мужа, но с годами надежда на подобное чудо постепенно таяла, как безостановочно тает прикрытый соломой лед, сберегаемый к жаркому лету, цеплялась за остатки убывающей надежды, но ее практичный крестьянский разум подспудно уже давно понимал всю призрачность тщательно оберегаемой адежды. Верный же страж ее любви, ее сердце, не смирялось с таким пониманием, не позволяло разуму вынести окончательное, роковое решение, такое решение было бы равносильным самоубийству, и она всячески оттягивала его. «Ваня, Ваня!»— вырывалось сквозь рыдания, не видеться им впредь, их дети уже выросли, девчонки замужем, Санька женат, Ленька лежит в братской могиле на чужой стороне, внуки народились, старшие уже в школу пошли. Он же, ее Иван, ничего об этом не знал и, как скорее всего этого и не узнает, после страшной книжки ее надежды заметно уменьшились. В страшной книжице говорится про невыносимые там мучения, Евгения Станкевич, Фаина мать, коечто порассказала, а теперь и сам Хрущев в этом признавался. За что такая судьба выпала несчастному Ивану Александровичу? Он ведь так верил в новую власть, служил ей вернее самой преданной собаки, боролся за нее, партизанил в гражданскую, за бандюгами гонялся, делал все, что власть, его партия приказывали, и колхоз организовал, и все хлебозаготовки выполнял, когда сказали идти на шахту, как солдат без уговоров и страхов пошел, начальником шахты стал, в Москву ездил, самого Сталина видел, других вождей, когда рассказывал об этом, будто песню пел. Так за что же? И Хрущев говорит, за напраслину пострадал, она же, Екатерина никогда не верила, чтобы ее Иван мог предать кого-либо, особенно свою страну, и Санька не верил, и Федор Тюрин болтал не со зла и не от веры .время беспощадное, безмилостливое было, не ты съешь, так тебя… Как теперь Санька? Убежал, не в себе был, для него про те зверства вычитать, с ума сойти можно. Как же Хрущев решился? Санька же за эту власть войну страшенную прошел - партия для него святее всех святых! И по его вере словно бомбой, помоги ему, Господи, перенести такое, у него и без того забот полон рот шахта ведь на нем! И Фая, хоть бы поумнела бабенка, не понимает глупенькая, где ее счастье, мечется, как кошка перед случкой, не соображает бездумная, для каких дел ее муж предназначен. Понятно, что Ивану горькая судьба выпала, ее, конечно, тюремные муки миновали, но было ли ей сладко? Ребятишек сберегла, слава Богу, Леньки нет, но 375 здесь ни одной ее вина, на войне окаянной сгинул. Как она сама выжила?! Ей да Богу одному только ведомо, тяжко с ребятишками, но, благодаря им и выстояла, не бросила их как котят слепых, а накормить и одеть в эти годы, ох, как не просто ей доставалось! Но пережили, никто непутевым не оказался, особенно Санька, не исхулиганился, не пьянчужка опустившийся, большим человеком стал, отца учением превзошел, уважают его все, отец же не увидел, не погордился, какой у него сынок грамотный и разумный. И Фаей, красавицей, невесткой неразумной, хотя и куксится часто на Саньку, но вижу, и ей хочется похвалиться мужем, характер дурацкий, Женькин, Станкевичевский… Только бабьей настоящей жизни с уходом Ивана насовсем лишилась, могла бы, конечно, пробавляться утехами, не раз мужики приставали, выстояла, как не просто устоять-то было, живой ведь она человек! Еще не старая была, уступила бы иной раз, но подумает, вернется Иван, как ему в глаза смотреть, от собственной совести не убежишь и не спрячешься, если бы за бабским счастьем гонялась, какими бы дети выросли? К ним родительские грехи как гнойные коросты прилипают и калечат их навсегда. А вдруг Ивана уже нет?! Тогда напрасны ее страдания, впустую сдерживала себя? Все равно перед Ваней и детьми ее совесть чиста! Перенес бы Санька страшные откровения, - Хрущевским докладом его, как оглоблей по голове, не надломился бы. Услышала, как хлопнула дверь, Фая что-то нашептывала вошедшему мужу, видимо, о ней. Осторожно приоткрыл дверь, всматривается, как с матерью. — Заходи, чего в дверях-то стоять? Не заметили в горкоме, что казенную бумагу выносил? За отцом проскользнула Катенька и к бабушке на кровать, робко заглядывает в глаза, беспокоится, не плачет ли бабуля, Екатерина придвинула внученьку, та тепленькой, нежной щечкой прижалась к ее лицу, ладошкой осторожно вытерла бабушкины слезы, поцеловала морщинившуюся щеку и вновь прильнула к ней. Фая, вошедшая следом за ними, присела на кровать в ногах у свекрови, Екатерину от непривычной деликатности невестки, как бы обдало теплым ветерком. — Все обошлось, мама,— Александр не присаживался, лишь внимательно вглядывался, в каком состоянии мать и можно ли с нею сейчас вести разговор,— не поеду сегодня на работу, не могу, настроение не рабочее. Сегодня же отправлю письма в прокуратуру, в обком, теперь, наверное, ответят, где отец и что с ним. — Напиши, сынок,— у Екатерины снова слезы и глаз, Катенька их смахивала ручкой,— может, живой еще, дождемся… — Ты только не волнуйся, не плачь. Постарайся уснуть. Катюха, пойдем, не тревожь бабушку. — Пусть побудет, она умненькая девочка, меня не тревожит, наоборот, солнышко мое ясное,— поцеловала Екатерина внучку, обрадованную, что бабушка не отсылает от себя. — Ну, оставайся, только не давай бабушке плакать. Откуда только и слезы берутся, при ее судьбе они давно должны быть выплаканы. 376 9 При создании новой формы управления народным хозяйством, настойчиво пробиваемой Хрущевым, потребовалось направить на места опытных работников. Руководство области обратилось с предложением возвратить к ним председателем Совнархоза Алексея Николаевича Зайцева, он, дескать, хорошо знает область, ее экономический потенциал, блестяще проявил себя в тяжелейшие военные годы, на их зондаж товарищ Зайцев прореагировал, как подобает коммунисту, готов отправиться туда, куда пошлет партия. Зайцев, действительно, ни то, что не возражал вернуться в Сибирь, а даже обрадовался, уж больно опротивело ему Московское прозябание, нет никакой уверенности в завтрашнем дне, того и гляди, кто-нибудь ножку подставит или свинью подложит, хотя и в Москве на большом посту, а все-таки как мальчик на посылках — поезжай туда, сделай то-то! При Берии держали на коротком поводке, а сейчас и вовсе самостоятельности ни на полвершка, от и до, и дальше не сметь! То ли дело быть первым лицом, пускай даже на периферии, мыслям простор, любые планы задумывай, успевай только крутиться! Сделал – все твое, и получай заслуженное, ошибся, напортачил, – тоже получай по заслугам, но за собственные грехи и промахи, а не за дядины! Домашним, разумеется, новая морока, особенно Елене, ей скоро кандидатский минимум сдавать, ничего, задержится в Москве, потом подъедет, она у него понимающая, не глупая курица, кудахтающая по любому поводу. Колька с Машенькой? Им пока безразлично, в охапку, и вези хоть на край света. Елена, услышав о новой перемене в жизни, ахнула,.. но про себя, возражать мужу она никогда не позволит себе, и не потому, что боялась его, жила под его сапогом, напротив, окружающие считали, что Зайцев под каблучком у жены, она же по природной мудрости сознавала, что ее жизнь, благополучие ее детей полностью зависят от удач или неудач хозяина, а таковым в доме она безоговорочно признавала мужа, сердце у нее чуткое, зрячее, видит, как опостылело Алексею пресмыкаться среди интриг и подсиживаний. Воля ему нужна! На воле же так развернется, что и вторая Золотая Звезда на грудь уляжется! Это так, к слову пришлось - никаких ей Звезд не требуется, лишь бы спокойствие в его душе и в их доме воцарилось. По прилету в область Алексей Николаевич тотчас же встретился с первым секретарем обкома Коммунистической партии, не только потому, что так заведено – наносить первый визит главному лицу в области - никто другой не мог решить главные стартовые проблемы - размещения совнархоза, укомплектования кадрами, обеспечения транспортом, связью и множество других вопросов, вроде бы незначительных и даже мелочных, но без их разрешения новому органу управления не сделать и шагу. Николай Николаевич встретил более чем радушно, обнял, расцеловал, предложил чашечку кофе. — Рад, очень рад, что согласился вернуться к нам,— говорил он, выпуская Зайцева из своих объятий,— квартиру тебе приготовили в новом обкомовском 377 доме, рядом с набережной, пока жена подъедет поживешь в первом особняке, там обслуга вышколенная, надежная. Первый особняк, знал Зайцев, предназначался для размещения нередко наезжавших в область высших руководителей нашего государства и зарубежных стран, такая забота приятно пощекотала самолюбие. — Совнархоз разместим в знакомом тебе здании угольного комбината, конкретные вопросы обсудишь с председателем облисполкома, я его о твоем прибытии предупредил. Алексей Николаевич за годы работы в столице не прерывал контактов с областью, приезжал сюда, организовывал специальную геологическую экспедицию по разведке ядерного сырья, по заданию Берии проверял ход сооружения мощного обогатительного предприятия и смежных объектов. Николай Николаевич и другие областные руководители не упускали возможности навестить Зайцева при командировках в Москву, хотя это было не так просто, он часто отсутствовал из-за служебных разъездов, и сказывалась особая режимная закрытость. — Много воды утекло, пока ты действовал в московских коридорах власти, область изменилась до неузнаваемости, понастроили химических комбинатов, гидростанций, гидролизных заводов, твои, когда-то подопечные, угольщики соорудили крупнейшие разрезы и на них работают мощные шагающие экскаваторы. В общем, шагаем широко, по объему капиталовложений область в первой пятерке регионов, по валовому продукту тоже к ним приближаемся, надеемся, что создание совнархозов ускорит наше экономическое развитие. Алексей Николаевич в последние месяцы, когда пошли разговоры о реорганизации управления народным хозяйством, много размышлял, внимательно прислушивался к разговорам на эту тему. Было не трудно заметить, что многие местные работники ожидали от совнархозов, приближенных непосредственно к производству, коренных перемен в расширении производственных мощностей и повышении их отдачи. Правда, руководители регионов с неразвитой промышленностью проявляли некоторую настороженность, опасались, что собственными силами многие проблемы не разрешить, лишившись поддержки других регионов и Центра, им суждено по-прежнему прозябать или даже совсем захиреть. Без энтузиазма отнеслись к новациям в управлении и министры и, особенно, чиновный министерский люд. Их скепсис считали вполне объяснимым, ломался привычный образ жизни, многие лишались нажитого годами общественного и служебного положения, их укрощали модными, распространившимися ярлыками - догматики, талмудисты, ретрограды. Иногда они наклеивались с оттенком, грозно напоминающим недавнее клеймо «враг народа». При разнообразии мнений в подспудной схватке преимущество оказывалось у руководителей регионов, они были основной силой, на которую опирался набирающий вес инициатор нескончаемых разоблачений и реорганизаций Хрущев. Секретари обкомов преобладали в составе Центрального Комитета правящей партии, они представляли основной резерв для выдвижения 378 на ключевые посты в центральных органах, для замены министров, не сумевших воспринять новейшие веяния. Поэтому удовлетворенность Николая Николаевича созданием совнархоза и назначением его, Зайцева, председателем этого органа Алексей Николаевич понимал, но все же не удержался спросить: -- Николай Николаевич, а не потеряется ли интерес местных органов, после упразднения министерств, к предприятиям отрасли, например, той, которой мне пришлось заниматься? — Конечно, для области эти предприятия мало что дают. Но мы же государственные люди и понимаем значение оборонных заводов. Обком партии не допустит ослабления внимания к ним. — Но это, скорее, субъективный подход. Многое будет зависеть от личности первого секретаря, его политической зрелости и государственной мудрости, а сменись первый?..— за тонким комплиментом Зайцева явно проглядывала тревога, объективно взвешивая, он подходил к выводу, что у области к этим предприятиям такого же внимания, как у министерств, наверняка не будет… — На то и щука в море, чтобы карась не дремал,— отвел Николай Николаевич сомнения Зайцева,— ЦК и местные партийные органы этого не допустят! Давай, лучше обсудим кадровые дела, мы даем тебе карт-бланш, выбирай любого, за эти годы пришло много новых людей, ты их не знаешь, но мы поможем, лучших отдадим, не пожалеем, не меньше тебя заинтересованы в укомплектовании совнархоза сильными работниками. Если кого пригласишь из Москвы или других областей, поддержим, освежение наших кадров полезно, да и обогащение нашего опыта всегда требуется. — Спасибо, Николай Николаевич, мне ваша поддержка, особенно, в этот начальный, организационный период крайне необходима. — Время обеденное, пора и нам подкрепиться,— предложил первый секретарь. Обычно, он старался обедать совместно с другими секретарями обкома и заведующими отделами, буфетчица Майя Петровна считала это вполне нормальным, особых забот у нее не возникало, когда же ее предупреждали, что первый секретарь пригласил на обед гостя, она объявляла об этом присутствующим, те понимали необходимость подобных встреч. Первый имел возможность во время обеда наедине с приглашенным продемонстрировать особо уважительное к нему отношение и заодно коснуться в непринужденном разговоре, как бы доверительном и лишенном малейших признаков официальности, щекотливых тем. — Ты, на Московском Олимпе от своего зарока не отступил,— улыбаясь, спросил Николай Николаевич,— может, иногда позволяешь?.. — Держусь, Николай Николаевич,— тоже улыбнулся Зайцев. — Что ж, время рабочее, не будем нарушать порядок,— Николай Николаевич жестом остановил попытку Майи Петровны наполнить стоящие на столе рюмки. Он несколько разочарован отказом Зайцева, знал, что под легкую выпивку проще завязать откровенный разговор, но руководитель он опытный, мог 379 обойтись и без привычного катализатора человеческих отношений, коротко поведал, кто за время отсутствия Зайцева в области сошел с областной руководящей орбиты, кого выдвинули, кого пришлось задвинуть, а кто отошел в мир иной, и самым естественным образом разговор переключился на волновавшую не только этих собеседников обстановку в московских верхах. В ответ на интерес Николая Николаевича, Алексей Николаевич не стал строить из себя «особу, приближенную», к верхам. — Заместители министров, особенно хозяйственных, довольно далеки от большой политики, и на прежнем месте при Берии я в эти дела старался не влазить, думаю, у Вас, как члена ЦК, больше информации… — Я еще не член ЦК и до следующего съезда им не буду, от нас избран,— он назвал своего предшественника на посту первого секретаря, переброшенного в одну из центральных областей,— но информация кое-какая до меня доходит. От коллег из соседних регионов, из нашего сектора в ЦК, из других источников. Складывается впечатление, что в высшем руководстве не все еще определилось, нет полной притирки, устойчивости, похоже, предстоят некоторые перемены, перестановки, такая обстановка не на пользу делу, задерживается решение многих назревших и даже перезревших вопросов. При неизбежности перемен тревожит, не пробрались бы на ключевые позиции случайные, и даже опасные люди. Зайцев внимательно слушал, ожидая, что Николай Николаевич назовет конкретных лиц, но опытный партработник знал до какого предела можно быть откровенным. — Нам местным работникам импонирует активность нового лидера. Много ездит по стране, острые проблемы знает не понаслышке, он и мне уже ни один раз звонил. Но всем ли его активность по нутру? Возможно, у него в оппонентах был не один Берия. И самого его не занесло бы, эффективного механизма регулирования взаимоотношений, противовесов и сдерживания, еще полностью не создано. Пример Хрущева заразителен, я тоже мотаюсь по области, так вот в разговорах со мной, люди волнуются, спрашивают, почему меняется отношение к Сталину? О нем почти перестали писать, слышатся наскоки на некоторые конкретные вопросы, дело не в Сталине, а в них самих, они настолько плотно себя, свои дела связали со Сталиным, что малейшее покушение на его память, на его дело, а это дело и их жизни, рассматривают как, мягко говоря, неуважительное действие против них. Николай Николаевич говорил, понизив голос, не хотел, чтобы его слова доносились до буфетчицы, да и сам характер разговора не располагал к усилению его смысла голосовыми связками. — До меня доходило,— вставил Алексей Николаевич,— что и решение по совнархозам не просто проходило. Обед, а точнее беседа за обедом продолжалась дольше часа. Тепло попрощавшись, с первым секретарем, председатель совнархоза спустился на этаж ниже, к председателю облисполкома. Там долго не задержался, договорились конкретные вопросы обсудить на другой день с участием соответствующих областных работников, Алексей Николаевич спешил, он должен сегодня же 380 побывать у Екатерины Егоровны Муратовой, таков настойчивый наказ его жены Елены и самому тоже не терпится увидеть замечательную шахтерку. Любопытно, какой будет встреча с Фаей, его дочерью, появление у него Коленьки и Машеньки отнюдь не повод для отказа от отцовства в отношении Фаи, он никогда не отрекался от нее и продолжает считать ее дочерью. Его и Евгении… 10 У стариков Зуевых было шумно. — Ты с этим Гришкой Ступиным путалась,— кричал Захар Трофимович, стараясь, чтобы сказанное дошло до тугой на ухо старухи. — Нашел, что вспоминать, тебя тогда еще на духу не было,..— лениво огрызалась Марфа Тихоновна. Как некоторые глуховатые люди, она говорила тихо, другой ее и не услышал бы, но старый муж все ее слова улавливал. — Без тебя знаю, когда это было. Не он первый, не он последний, крутила задом перед каждым встречным поперечным. Попадись, убил бы паскуд, смотреть не стал… Тут старик осекся, в двери показалась сватья Екатерина Егоровна, мать его невестки Любы. — Проходи, проходи, дорогая сватьюшка,— чуть ли не запел он,— мы тут с Марфой только что говорили, давно, мол, сватья Екатерина Егоровна не заходила… — Здравствуй, сватьюшка дорогая,— кинулась к гостье старушка Зуева,— Любушка на работе. Так повезло нам с невесткой, так повезло… Она не расслышала, что сказал ее старик, и говорила не совсем впопад. — Здравствуйте, сваты. Вчера заходила и сейчас зашла предупредить, иду в детсад за Катенькой, и Ленчика захвачу. Ленчик их общий внук и Екатерина по вечерам старалась брать из детсада обоих внуков. По утрам за ним не заходила, в каждом доме свои порядки и вторгаться к Зуевым в утренние часы считала не приличным. Дочь Екатерины, удалая и напористая Люба, назвала сына Леонидом в память брата, погибшего на страшной войне. — Спасибо, сватьюшка, а то мне за хлебушком да сахаром надо сбегать,— дед Захар схватил сумку из холстины и открыл дверь, пропуская вперед сватью. — Ох, кобель старый,— ворчала вслед Марфа Тихоновна,— ни одну юбку не пропустит. Вернется, я ему зенки-то,.. — грозилась она. Вечером из детского садика гордо и величественно двигалась по улице Екатерина Егоровна, не было для нее большего удовольствия, чем вот так пройтись с внучатами. За Ленчиком глаз да глаз нужен, подпрыгивает, крутится, того и гляди, на дорогу выпрыгнет, по ней хотя и редко, но пробегают автомашины, и ей покою не дает, вопрос за вопросом сыплется - почему петух не летает, поросенок хрюкает, а корова мычит, спросит что-нибудь и еще заковыристее. Катенька крепко держится за шершавую руку бабушки, остановится она, девочка плотненько прижмется к ее ноге, словно защиты ищет, 381 вопросов не задает, но так слушает, будто в вопросах Ленчика и бабушкиных ответах малютке тайны великие открываются. Завела Ленчика в его дом. Старики, прервав нескончаемую свару, бросились благодарить, Захар Трофимович оставлял попить чаю, старуха, подхватив на колени внука, вновь начала расхваливать невестку. Едва вырвалась Екатерина от сватов, ей надо спешить до дому, укладывать внучку, готовить ужин. Возле ее дома стояла легковая автомашина, не придала этому значения, мало ли к кому приехали, не одна она в этом доме проживает. Вдруг замерла от удивления, навстречу ей выходил сам… Алексей Николаевич Зайцев, бывшей почтальонши Елены законный муж. Объятия, поцелуи, необыкновенно теплые и искренние, у крошки Катеньки умненькие глазки только успевали перебегать от бабушки к незнакомому ей дяде. — Это Фаина?— отчего-то удивленно спросил Алексей Николаевич, ведь писала же Елене о появлении этой внучки. — Чья же еще! Александрова и Фаина,— подчеркнула имя сына Екатерина. — Прелестная девочка, на Фаю похожа, но и Евгению очень напоминает … — Все, кто Женю помнит, то же говорят - одна ведь кровь,— согласилась Екатерина, приглашая гостя в дом,— такая умненькая, славненькая, не ребенок, а загляденье. Радость, ты, моя,— с чувством расцеловав внучку, как бы закрепила любование гостя прелестной девочкой. Екатерина хлопотала на кухне, покормила внучку, устраивала ее постельку в кроватке, стоящей рядом с ее металлической койкой. Зайцев откровенно любовался ею, по-прежнему хлопотливая, энергичная, все в руках горит. — Уже двое детей!— удивлялась она, слушая повествование Алексея об его семье,— молодец Елена, а Фая не хочет, мальчонку бы, им еще… Алексей Николаевич понял недосказанное, видимо, нет крепости в Фаиной семейной жизни, боятся сирот наплодить. — Пора бы Фае возвратиться,— проговорила Екатерина, поглядывая в окно, выходившее на улицу,— легка на помине, вон, показалась. Хотя и ждала она невестку, но в голосе радости не слышалось. — Папа! Папочка!— кинулась на шею Фая, увидев Алексея Николаевича, поджидавшего ее у двери. В голосе, в объятиях неподдельная радость. Сердце Зайцева радостно забилось, не забыла, не отреклась от него, по-прежнему признает за отца! Она, безусловно, его дочь, в другом качестве ее не воспринимал. Когда первый порыв прошел, оба вглядывались друг в друга, Фая с удовлетворением, и с некоторой завистью замечала, что у Алексея Николаевича стало еще больше солидности, вальяжной важности, только окинь его взглядом, и сразу видна значительность его руководящего положения, за этим так и проглядывает его почтальонка, настолько ухоженный, холеный, не заметно, что столько лет над ним пролетело. Костюм из добротной ткани и так отутюжен, что не придерешься, ботинки до блеска надраены, здесь тоже большим начальником был, но такого шика, блеска в его обличии не замечалось, конечно, Москва есть Москва, но не столица его отшлифовала, а молодая жена. А Фаин муженек Саша, мелькнула досадная и 382 грустная мысль, как был деревней, так деревней и остался, ни солидности, ни вида, чего от него другого ждать, весь в мать, в колхозницу, ничего, кроме шахты и своей работы не знают, и знать не хотят. Алексей Николаевич не мог скрыть восхищения дочкой. Прошла естественная взволнованность первых мгновений и восприятие ее, как дочери отодвигалось куда-то в сторону, он, прежде всего, видел женщину, молодую женщину, ошеломляющей красоты! Именно ошеломляющей! Не ослепительной, не восхитительной, хотя и эти определения ей подойдут, ошеломляет яркой броскостью, неожидаемым, чрезмерно властным и отдаляющим высокомерием, смотрит свысока, остальное окружающее ее, как бы находится далеко-далеко от нее, ей до этого остального никакого дела нет. Внезапная, не зависевшая от ее воли, первичная реакция, естественная, человеческая, бросила ее к нему, в его объятия, но лишь проблеснуло это, и она вновь спряталась в защитный панцирь, снаружи оставалась лишь ошеломляющая красота и ничего более, никого не замечает вокруг, кроме самое себя, возвратившись с работы, не подошла к дочке, а Екатерины будто, и не было в доме. И он, к которому по естественному позыву так радостно бросилась, уже, вроде, отодвинут в некую даль, за пределы ее панцирного укрытия. — Саша знает о твоем приезде?— донесся из этого укрытия ее вопрос, звучавший скорее автоматически, чем с какими-либо человеческими эмоциями. Алексей Николаевич сказал, что никого о своем приезде не предупреждал, Екатерина согласно мотнула головой. Фая прошла в спальню, где установлен телефон, оттуда доносились звуки ее голоса, слова уловить было трудно. — Сказал, скоро приедет,— объявила она, возвратившись на кухню, взяла объемистую сумку, тоном, похожим на официальный, сообщила, что отправляется в магазин. Пока она собиралась, на кухне царило безмолвие. Екатерина поспешила в свою комнату, взглянуть, как там внучка. Зайцев последовал за ней. Прелестная девочка уже спала, разбросавшись среди простынок и покрывал ослепительной белизны. — Заснула,— прошептала Екатерина. Немного полюбовавшись малюткой, они вернулись. В ответ на вопросительный взгляд Алексея Николаевича, Екатерина проговорила: — Вот так мы и живем,— и после глубокого вздоха продолжила,— Фая девочка неплохая. иногда ею не налюбуешься: воркует, поет, а голосок у нее, дай Бог каждому, вернется Саня, не знает, куда его посадить, ластится, в доме вроде бы светлее становится. А вдруг, что-то навалится на нее, ходит по дому, на виду у всех, но, кажется, что нет ее здесь, где ее думы в это время витают, никто не знает, все становится так, будто в доме покойник. Это все от того подонка, Вадьки Махновского, обидел совсем еще малую девчонку, до сих пор отойти не может, ни кому и ни во что не верит. Как они без меня будут? Разбегутся, бедную Катеньку сироткой сделают. Екатерина швыркнула носом, подолом фартука провела по глазам. - Почему без вас останутся?— недоуменно спросил Зайцев. 383 - Так сколько же мне жить? Как ушла с шахты, болячки разные донимать стали, одна надежда, что, может, дождусь своего Ивана, и держит меня на этом свете,..— из глаз выкатились крупные капли слез,— Александр после того доклада о Сталине запросы разослал, где он, что с ним. Может, наконец, узнаем,— фартуком Екатерина смахнула выкатившиеся из глаз слезинки,— а еще хочется Катеньку на ноги поднять, без меня ей,..— она не закончила фразу, но и без этого Зайцев понял, о чем она думает. Екатерина же не отводила от него вопросительного взгляда, он человек из Москвы, больше ее обо всем знает. — Да, сейчас многие дела пересматривают,— сообразил Алексей Николаевич, чего от него ждет Екатерина,— люди стали оттуда возвращаться… Ему хотелось как-то утешить несчастную женщину, но боялся чересчур не обнадежить бы, незнание, порой, лучше, чем исчезновение надежды. Из комнаты Екатерины едва слышно донесся голосок Катеньки, бабушка необычно быстро для ее возраста кинулась туда, но через мгновение вернулась. — Во сне, должно быть, что-то почудилось моей золотой. Чудная девочка, такая умненькая, послушная. Зайцев только улыбался про себя, пока Екатерина произносила длинный монолог о своей необыкновенной внучке, это напоминало Елену, говорившую то же самое о своих детях. Жаль, что он так мало занимается ими, может, когда переедут на новое место его службы, удастся чаще их видеть. Возвратилась Фая с тяжелой сумкой, из нее виднелись горлышки бутылок. — Напрасно беспокоилась, я же не пью,— улыбаясь, заметил Зайцев. — Тогда мы отметим твой приезд,— без улыбки ответила Фая,— проходи, пожалуйста, в комнату, а то держим тебя на кухне,..— это звучало как упрек свекрови. Вот куда уходит заработок начальника шахты!— подумал Алексей Николаевич, поражаясь стильной импортной мебели, по его мнению, чрезмерно заполнявшей комнату. У шахтеров оклады и премии выше других, он, Зайцев, до исчезновения Берии, имел денег куда больше Муратова, но в его квартире мебель только необходимая, казенная, хотя и добротная. Елена, разумеется, на такие траты не решилась бы, у нее потребности и вкусы более строгие. Такого обилия бархатных скатертей, кружевных салфеток, тяжелых штор и гардин его жена не потерпела бы. В Фаиной квартире проглядывало «эстетическое» влияние Альбины Иосифовны, супруги бывшего его заместителя Каплана, когда-то доверил ей поприличнее одеть Фаю, в результате и получилась смесь мещанского с местечковым. Они разместились на мягком диване, сверху прикрытом яркой бархатной накидкой. Фая надеялась на похвалы отца убранству квартиры, не напрасно же так трепетно обустраивала свое семейное гнездышко, к ее разочарованию, Алексей Николаевич ограничился лишь вскользь брошенным замечанием. — Хорошая у вас квартира. Не оценил ее усилий, Фае с трудом удавалось скрыть обиду, что же в этой квартире хорошего? Только габаритами и выделяется, все «удобства» на улице, 384 приходится ходить мыться в любое время года в железнодорожную баню, если бы не ее, Фаи, труды, это не квартира, а сарай сараем. — Вот всегда так, скажет, сейчас приедет, а потом жди его, за этой дурацкой работой, без начала и конца, никого и ничего не видит. Алексей Николаевич почувствовал в ее словах горечь обреченности. — Нелегко быть женой начальника шахты?— в его вопросе было сочувствие, но Фая не поняла, кому больше, ей или Александру,— ты, хотя бы его каждый день видишь. Прежде, когда жили в Сибири, я месяцами из командировок не вылезал… В Москве тоже мало с женой, с детьми виделся, там же работали и по ночам. Это, она слышала, у Сталина свой режим работы существовал, и к нему все пристраивались. От слов Алексея Николаевича ей легче не стало. — С мамой встречаешься?— в вопросе Фаи проскользнуло нечто нормальное человеческое, будто намекала, как ей недостает рядом родной мамочки. - Нет, ни разу в Москве не встречались, лишь изредка перезваниваемся. У нее теперь своя семья, своя жизнь, а у меня – своя. Бедная девочка, пожалел Алексей Николаевич, всю жизнь фактически без материнской ласки, без материнского глаза, возможно, в этом первопричина всех ее проблем, не получив положенной по человеческой природе дозы материнского тепла, оттого и холодна, высокомерна и даже цинична. Зайцев повидался с Екатериной Егоровной, потрясен необыкновенной красотой Фаи, можно бы и покинуть этот дом, но он не встретился с его хозяином —Александром Муратовым, не дождаться его, значит нанести ему и его семье большую обиду - не по-русски это. Наконец, из кухни донесся мужской голос, затем стук умывальника и вот энергичной и твердой походкой в комнату вошел долгожданный хозяин. На подходе к Алексею Николаевичу он несколько замешкался, протянуть гостю руку или раскрыть объятия, как ни как, а он считается отцом его жены, но они прежде почти не знали друг друга, не покажется ли Зайцеву, что навязывается в родичи к большому начальнику? Алексей Николаевич встал с дивана, и сам открыл объятия зятю. Александр бросил взгляд на Фаю, она внешне довольно равнодушно наблюдала за ними, по каким-то, видимо, одному ему понятным признакам, заметил, несмотря на внешнее равнодушие, с интересом и даже ревностно наблюдала за встречей мужа с ее отцом. Она никогда, ни при каких обстоятельствах не применяла к Алексею Николаевичу понятие отчим, он ее отец и никто иной! Любопытно, какое они производят впечатление друг на друга? Удивительно, но, кажется, Алексей Николаевич как-то уж слишком, по ее мнению, уважительно относится к ее мужу, между ними сразу же завязался оживленный разговор, и пришлось повторно обратиться и к гостю, и к хозяину с приглашением к столу, сноровисто накрытому Екатериной Егоровной. Хозяин произнес соответствующий случаю тост, в меру теплый и уважительный, в нем ни грана заискивания, мелкого угодничества. Муратовы, все трое, дружно выпили «до дна», Алексей Николаевич довольствовался квасом, готовить который Екатерина Егоровна была большой искусницей. Выпили, 385 разумеется, ради уважения к гостю, а не из особой любви к зелью, хотя Екатерина Егоровна могла порой пару рюмочек пропустить и Фаю в компаниях не приходится настойчиво уговаривать. Александр же мог иногда не без удовольствия выпить первую рюмку, вторая у него шла труднее, а третьей мог и поперхнуться. Его старый шахтный приятель Георгий Тимофеевич Шадрин подсмеивался: — У тебя, Саша, как-то не по-людски. Нормальный человек, чем больше пьет, тем больше хочет, а ты наоборот… После отъезда Алексея Николаевича, случившегося очень поздно, небо было уже в звездах, молодые Муратовы сразу улеглись в постель, убираться после гостя ни Фае, ни Александру не пришлось. Екатерина Егоровна, пока гость и молодые прогуливались, успела помыть и прибрать посуду, установить стол и стулья на привычные места. Для нее приезд Зайцева значительное событие, после ухода с шахты ее жизнь протекает в замкнутом домашнем пространстве, с соседями общалась довольно ограниченно, у всех свои занятия, а встречаться и перемывать косточки, кому бы то ни было, не в ее натуре. Внученька стала для нее новым миром, в котором каждый день открывала необычайно интересное, наполнявшее и обогащавшее ее существование, но это в тех же пределах домашнего бытия. Алексей Николаевич напомнил тяжелые и суровые годы, и в то же время величественные и памятные. Она считалась знатной, известной в городе стахановкой и ощущала себя очень нужной, и не последней участницей великого противоборства, не казенной фразой для нее звучали слова, что в великой Победе неотъемлема и ее доля в общих усилиях. Радовалась и тому, что Алексей привез хорошие вести о прекрасной ее подруге, подруге, несмотря на разницу в возрасте, с этой хрупкой и надежно крепкой женщиной у нее так много общего в том ушедшем, страшном и великом. Какая же она молодчина, бывшая почтальонша Елена! И выучилась, и детишек народила, и мужа так содержит, что завидовать можно, воздается ей за доброту ее и перенесенные муки тяжкие, скоро, Бог даст, и саму ее увидит. Вновь Алексея, а с ним и Елену призвала к себе сибирская земля. Фая, быстро разобрав постель, тотчас укрылась одеялом и отвернулась от улегшегося рядом мужа. — Ты, чего опять надулась, радоваться же надо, через столько лет отца увидела,— проговорил он, обхватив ее за плечи. — С тобой порадуешься!— пробурчала Фая, но перевернулась на другой бок, лицом к Александру,— как захватил его, так и не дал поговорить с ним, все о политике и своей работе, будто не о чем больше — Он же к нам председателем совнархоза назначен! Как ты не понимаешь, что это значит?! А потом, я думал, ты до моего появления успела с ним наговориться. — Наговоришься тут… Уточнять Александр не стал, ему и без этого все понятно, он притянул ее к себе, ощущая радость от теплого податливого тела, от сладости ее губ. Уже потом он спросил: — Зачем к тебе сегодня на работу приходил Сенька Погурский? 386 — Какая сорока тебе такое на хвосте принесла? Не видела я его… Опять Александр не стал уточнять, опасался, дальнейший разговор спокойно не кончится. 12 Организация полнокровной работы совнархоза опять уперлась в Николая Николаевича. Назначение высших чинов нового ведомства надлежало согласовывать с обкомом партии, а некоторых, его заместителей, только с первым секретарем, а того вдруг, нежданно-негаданно вызвали в Москву. Дней через десять появились официальные сообщения о Пленуме ЦК КПСС, разгромившем «антипартийную группу». Одновременно возвратился домой и первый секретарь обкома, Алексея Николаевича он принял на другой день. Вполне естественно, что разговор начался с итогов только что закончившегося высокого партийного форума. Зайцев надеялся услышать подробности от непосредственного участника событий, потрясших советское общество. Еще бы! В антипартийных действиях объявили людей, точнее, вождей, на которых чуть ли не молились ни одно десятилетие! Молотов, Каганович, Маленков, Булганин! Что ни имя, то икона, то жрец истины и правды! И вот они развенчаны, повержены в пропасть истории испачканными, низведенными почти до нулевой позиции. Зайцев долгое время вращался в кругах, довольно близких к высшим сферам, и в какой-то мере представлял подлинную цену некоторым «небожителям», все же их падение воспринималось им не без боли, у других, числившихся в «простых» людях, сообщение о неожидаемых последствиях Пленума произвело, без преувеличения, шоковое потрясение. Первый секретарь обкома еще полон яркими впечатлениями от жарких дискуссий в Москве, от встреч с новыми деятелями, всплывшими на политическом поле в последние годы, и, разумеется, из его памяти, был уверен, никогда не выветрится встреча с самим, с Никитой Сергеевичем! Конечно, один только факт общения на высшем уровне, да еще впервые в жизни, событие для него из ряда вон выходящее, но и сам Хрущев своей прямой, порой резкой манерой общения, стремлением схватить проблему в ее масштабной значимости, оставил в его сознании глубокое впечатление, воспринимался им, как далеко неординарная личность, он, признавал Николай Николаевич, несомненно, личность исторического масштаба. И в тоже время, именно открытость и прямота Хрущева оставили у первого секретаря, еще не совсем осознаваемое, впечатление какой-то временщины, неустойчивости, ожидания чего-то непредсказуемого и ненадежного, чрезмерная поспешность ощущалась в бесконечном потоке слов, извергаемых нынешним советским лидером, в резких и отрывистых интонациях и жестах, словно он куда-то торопился, боится опоздать, не успеть свершить все, казавшееся ему главным делом его жизни. Решительно, и тоже порой поспешно и огульно, он отвергал многое из прошлого, пытался внедрить, заставить признать что-то еще зыбкое, не устоявшееся, пытался, иногда робко и непоследовательно, а то и насильно, через колено, не вдумываясь в причины оказываемого сопротивления, ему не хватало 387 времени и терпения вникать в причины и последствия, в доводы и аналитические материалы. Хрущев, было заметно, отлично понимал, четко представлял, что в его распоряжении остается крайне ограниченный временной отрезок, идет непрерывное состязание - кто кого обгонит? Или он с дерзкими намерениями, иногда разумными, а часто скоропалительными, или не хватит терпения у народа, у его сподвижников, часто не понимавших, не воспринимавших лихорадочной хрущевской торопливости. — На Пленуме увидел и услышал свежие голоса,— рассказывал Николай Николаевич,— зазвучавшие ныне в партии. Новые члены Президиума ЦК, секретари ЦК не хотят быть лишь пассивными проводниками идей и указаний старших товарищей, возомнивших себя непогрешимыми оракулами, хранителями исторических свершений и традиций партии - они крепко уцепились за достигнутые позиции, не позволят кому либо вырвать из их рук схваченную добычу, эти деятели буквально наступают на пятки соратникам Сталина. К примеру, Жуков, безжалостно, не считаясь с возрастом, с непоколебимым авторитетом и прежним положением в стране и в партии, прямо-таки наотмашь бил Кагановича, Молотова и, особенно, Маленкова. Боюсь, даже перебрал, с такой силой напирал на них, это может встревожить и других. Жуков, есть Жуков, за ним громкая слава полководца-победителя, за ним огромная сила армии! Смело, без оглядки наступали Брежнев, Капитонов, Аристов, Беляев… — А те, кого причислили к антипартийной группе, они что ли, как кролики, без сопротивления признали себя и такими, и этакими?— вставил вопрос Зайцев. — Положение, в которое они загнали себя, конечно, незавидное, ополчились на них почти все, пытался заступиться Ворошилов, но его заглушили возмущенные клики большинства. Фракционеры сдавали позиции, что называется, с боем, особенно яростно отбивался Молотов, как выразился Брежнев, его и триста человек не могут сбить. Молотов говорил около часа, Хрущев пытался перебивать его. «Никита Сергеевич,— возразил Молотов,— я не перебивал тебя и терпеливо выслушал твое выступление. Не перебивай и ты меня». — Да… Силен старик,— проговорил Зайцев,— Хрущев, как можно понять, поставил задачу вывести «троицу» — Маленкова, Молотова, Кагановича — из ЦК, и этого он добился. Скажите, Николай Николаевич, просматривается ли, ктолибо из новых, наиболее сильный, кто смог бы на равных или почти на равных, тягаться со «старой гвардией»? — Трудно, пока определено, выделить какого-либо. Общее впечатление, что на подходе появились перспективные, масштабные люди. Мне показалось, среди них выделяется Брежнев, это он вызвал на Президиум ЦК Жукова, Аристова, других членов ЦК, успешно взаимодействовал с Фурцевой, он наиболее глубоко вскрывал подспудные мотивы действий этой группы. Здорово от него досталось Маленкову. Как ни интересно Алексею Николаевичу слушать о любопытных деталях Пленума ЦК, пришел же к первому секретарю не ради этого. Кадровые предложения Зайцева выслушаны с нескрываемой заинтересованностью. Первый 388 удовлетворен, председатель совнархоза линию обкома проведет, кадры расставит так, как требуется. Немного задержались на кандидатуре первого заместителя, Зайцев, несколько неожиданно для Николая Николаевича, просил утвердить в этом качестве начальника шахты Муратова Александра Ивановича. Первый некоторое время молчал, обдумывал ответ, Зайцев терпеливо и напряженно ожидал его вердикт. — Бывал у него на шахте, довелось и интересно поговорить с ним,— наконец, заговорил Николай Николаевич,— он, поначалу, был несколько сдержан, даже скован, понять его можно, еще не привык общаться с высоким начальством, да и по натуре, видать не из арапов, нахрапом не действует. Зато, когда заговорил о шахтерских проблемах, о внедрении комбайнов и комплексов, будто другой человек появился, в глазах заблистало, в голосе прямо-таки страстные нотки. И наступательность! Николай Николаевич говорил, а на устах его мелькала снисходительная улыбка, дескать, занятный парень. — Чувствуется фронтовая выучка,— улыбнулся Николай Николаевич,— смущает одно, больно уж молод. Хотя этот недостаток, к сожалению, очень быстро проходит. Для областного, совнархозовского уровня одного боевого опыта недостаточно, нужен еще производственный и немалый житейский опыт, знание жизни, людей. Я, как говорится, обеими руками за выдвижение молодежи, но самоцелью это не должно быть. Как видишь, требуется не на один ряд провентилировать твое предложение, может, обкатать его на управлении или в качестве рядового заместителя? Зайцев отрицательно замотал головой. — Думается, если выдвигать, то смело и решительно, пропускать Муратова по всем служебным ступенькам означает терять время. На другом уровне, когда над ним будет ни одна ступень начальников, в бюрократической карусели его так замотают, перемелют, что от его инициативности и предприимчивости ничего не останется, все из него вытрясут, высосут. Когда же он будет над всеми стоять, то крутить, вертеть им довольно сложно, он на вид, хоть и не жесткий, но в обиду себя не даст и за дело постоять может! Николай Николаевич, извините, но я буду настаивать на своем предложении. Другой кандидатуры искать не стану! Первый секретарь улыбнулся, но про себя. Какой напор! Этот выдавит все, что задумает, пожалуй, обком не ошибся, поставив на него… Еще несколько раз поя