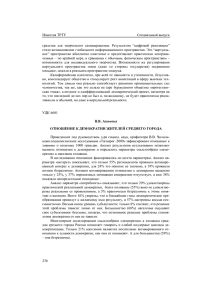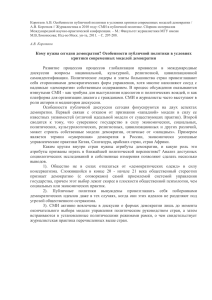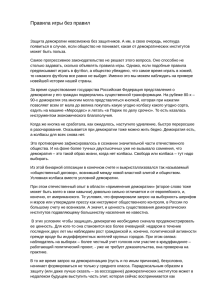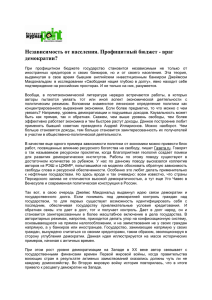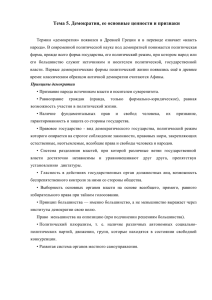Переосмысливая теорию демократии в свете
advertisement
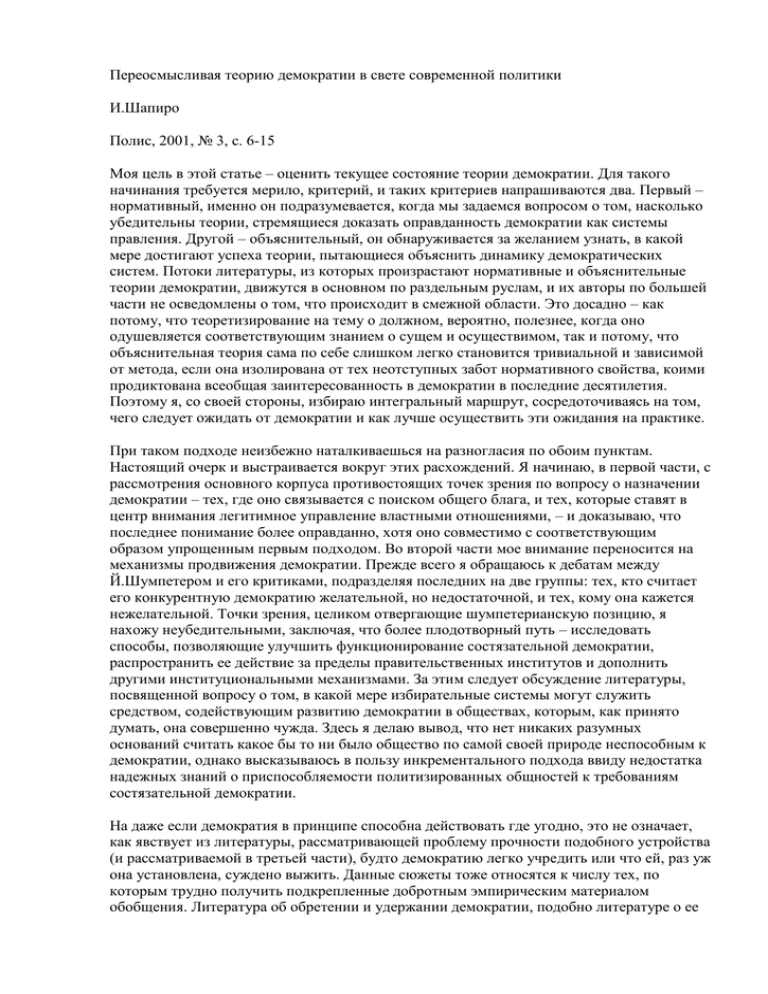
Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики И.Шапиро Полис, 2001, № 3, с. 6-15 Моя цель в этой статье – оценить текущее состояние теории демократии. Для такого начинания требуется мерило, критерий, и таких критериев напрашиваются два. Первый – нормативный, именно он подразумевается, когда мы задаемся вопросом о том, насколько убедительны теории, стремящиеся доказать оправданность демократии как системы правления. Другой – объяснительный, он обнаруживается за желанием узнать, в какой мере достигают успеха теории, пытающиеся объяснить динамику демократических систем. Потоки литературы, из которых произрастают нормативные и объяснительные теории демократии, движутся в основном по раздельным руслам, и их авторы по большей части не осведомлены о том, что происходит в смежной области. Это досадно – как потому, что теоретизирование на тему о должном, вероятно, полезнее, когда оно одушевляется соответствующим знанием о сущем и осуществимом, так и потому, что объяснительная теория сама по себе слишком легко становится тривиальной и зависимой от метода, если она изолирована от тех неотступных забот нормативного свойства, коими продиктована всеобщая заинтересованность в демократии в последние десятилетия. Поэтому я, со своей стороны, избираю интегральный маршрут, сосредоточиваясь на том, чего следует ожидать от демократии и как лучше осуществить эти ожидания на практике. При таком подходе неизбежно наталкиваешься на разногласия по обоим пунктам. Настоящий очерк и выстраивается вокруг этих расхождений. Я начинаю, в первой части, с рассмотрения основного корпуса противостоящих точек зрения по вопросу о назначении демократии – тех, где оно связывается с поиском общего блага, и тех, которые ставят в центр внимания легитимное управление властными отношениями, – и доказываю, что последнее понимание более оправданно, хотя оно совместимо с соответствующим образом упрощенным первым подходом. Во второй части мое внимание переносится на механизмы продвижения демократии. Прежде всего я обращаюсь к дебатам между Й.Шумпетером и его критиками, подразделяя последних на две группы: тех, кто считает его конкурентную демократию желательной, но недостаточной, и тех, кому она кажется нежелательной. Точки зрения, целиком отвергающие шумпетерианскую позицию, я нахожу неубедительными, заключая, что более плодотворный путь – исследовать способы, позволяющие улучшить функционирование состязательной демократии, распространить ее действие за пределы правительственных институтов и дополнить другими институциональными механизмами. За этим следует обсуждение литературы, посвященной вопросу о том, в какой мере избирательные системы могут служить средством, содействующим развитию демократии в обществах, которым, как принято думать, она совершенно чужда. Здесь я делаю вывод, что нет никаких разумных оснований считать какое бы то ни было общество по самой своей природе неспособным к демократии, однако высказываюсь в пользу инкрементального подхода ввиду недостатка надежных знаний о приспособляемости политизированных общностей к требованиям состязательной демократии. На даже если демократия в принципе способна действовать где угодно, это не означает, как явствует из литературы, рассматривающей проблему прочности подобного устройства (и рассматриваемой в третьей части), будто демократию легко учредить или что ей, раз уж она установлена, суждено выжить. Данные сюжеты тоже относятся к числу тех, по которым трудно получить подкрепленные добротным эмпирическим материалом обобщения. Литература об обретении и удержании демократии, подобно литературе о ее назначении и электоральном инжиниринге, наводит на мысль, что состояние теории демократии слегка напоминает штат Вайоминг_1_ – обширный, ветреный и по преимуществу пустынный. Беспорядочное развитие этой гуманитарной дисциплины показывает: кое-что зная об экономических предпосылках жизнеспособной демократии, мы, вопреки самонадеянным заявлениям некоторых комментаторов, в основном пребываем в неведении относительно влияющих на ее жизнеспособность культурных и институциональных факторов. Мало что известно о том, какие из институциональных установлений демократии являются наилучшими. Здравомыслие подсказывает, что было бы разумно постараться привить приверженность демократии тем, кто в ней задействован. Но далеко не ясно, насколько это важно и как этого достичь. Если шумпетерианская демократия нуждается в дополнении, то возникают вопросы: кто должен такие дополнения вносить и в чем они должны состоять? Дебаты по этим проблемам и становятся следующей обсуждаемой в статье темой. Поскольку нет совершенных норм принятия решений, чисто процедурная схема типа правила конкурентного большинства способна привести к саморазрушительным результатам. Самый очевидный из них: группы большинства могут использовать свою власть для подкопа под демократические свободы путем запрета оппозиции, подрывающего будущую политическую конкуренцию. Но существует и множество более тонких проявлений искажающего воздействия демократических процедур. Отчасти по этой причине некоторые теоретики демократии отстаивают теории субстантивной (сущностной) демократии, коими могут поверяться результаты процедур. Однако, как я отмечаю в четвертой части, число субстантивных теорий непрерывно растет, и нет непреложных критериев выбора между ними. В итоге я соглашаюсь с теми, кто предлагает промежуточный подход, отводящий судам или другим выносящим вторичные решения институтам роль реагирующего механизма, выпускного клапана в ограничении искажающих последствий демократических процедур. Далее следует обсуждение альтернативных моделей поведения судебной власти в демократических системах и формулируется вывод, что легитимность последней будет, по всей вероятности, варьировать в зависимости от того, насколько ее действия способствуют укреплению демократии. I. альтернативные представления о назначении демократии Идея о том, что демократия направлена или должна быть направлена на общее благо, находит свое классическое выражение в “Общественном договоре” Ж.-Ж.Руссо, прежде всего в его утверждении о том, что процедуры принятия решения должны стремиться к выявлению всеобщей воли, которая олицетворяет собой общее благо. Вот знаменитое, хотя и туманное, описание этого у Руссо. Мы берем, пишет он, “сумму изъявлений воли частных лиц”, вычитаем из них “плюсы и минусы, которые взаимно уничтожающиеся крайности,” и “в результате сложения оставшихся расхождений получится общая воля” [цит. по Руссо 1998: 219]. Попытки осмыслить данную формулировку породили два потока литературы: литературу агрегативную, нацеленную на выяснение того, каким именно образом осуществлять соответствующие подсчеты, и литературу делиберативную_2_, озабоченную тем, как побудить людей стремиться к общему благу, причем последнее понимается как нечто более сложное, нежели простая сумма фиксируемых извне предпочтений. Концепции общего блага: агрегативная versus делиберативная Значительная часть появившейся в ХХ в. литературы об агрегировании индивидуальных предпочтений фокусирует внимание на сложности логически последовательного решения этой задачи. Сторонники агрегативной концепции исходят из того, что демократические процедуры принятия решений призваны выявлять нечто вроде всеобщей воли, которую в наши дни принято обозначать как функцию социального благосостояния. Вслед за К.Эрроу [Arrow 1951] они часто отмечают, что даже небольшие разногласия обрекают попытки ее обнаружения на неудачу, и приходят к заключению о нереализуемости демократии. Возможность голосования “по кругу” (смещение результатов в зависимости от порядка вынесения вопросов на голосование) говорит о том, что всякий данный итог может быть искусственным порождением процедуры принятия решения либо того, кто контролирует повестку дня, а не чем-то поддающемся осмысленной идентификации в качестве народного волеизъявления. В связи с этим появилось огромное количество специальной литературы о сравнительных достоинствах различных правил принятия решений как агрегативных процедур, а также об ограничениях, которые должны налагаться на предпочтения, дабы избежать появления циклического большинства. Такого рода литературе посвящено множество обзоров, и потому она не будет здесь обсуждаться_3_. Достаточно заметить, что если назначение демократии в том, чтобы обретать функции социального благосостояния, то при многих обстоятельствах оно может оказаться иллюзорным_4_. Делиберативная концепция озабочена трансформацией предпочтений, а не их агрегированием. Такая позиция, по существу, не является руссоистской. (В сознательное устремление как в полезное политическое средство Руссо не верил.) Тем не менее эта концепция в чем-то восходит к его требованию, чтобы, голосуя, люди исходили не из своих индивидуальных предпочтений, а из собственных представлений о благе для общества в целом_5_. Цель – вывести нас “за пределы демократии противоборства” [Mansbridge 1980]. Против разнообразных недугов, которые, как считается, одолевают современную демократию, предлагается применять корректирующие средства из делиберативного инструментария. Низкое качество разработки и принятия решений, политика вербальных приманок, невысокие уровни [политического] участия, падающая легитимность правления, а также неосведомленность граждан – вот некоторые из наиболее часто упоминаемых недугов. Идея заключается в том, что если мы сможем вырваться из мыльной оперы добывания электоральных преимуществ, то результатом станет более вдумчивый и эффективный политический выбор_6_. Форумы, на которых происходит обдумывание и обсуждение, могут быть различными – от городских собраний и совокупности всех граждан, занимающихся “обдумыванием” в специально отведенное для этого время, до гражданских жюри и “совещательных опросов” – произвольным образом отобранных групп, которые получают расширенную информацию по тем или иным конкретным проблемам и выносят решение о том, что следует предпринять [Fishkin 1980]. Согласно некоторым трактовкам, такие образования должны вдохнуть жизнь в уже идущие процессы, согласно другим – заменить их как шаг на пути к становлению более надежной политики участия. Общим импульсом, лежащим в основе этих проектов, является предположение, будто люди изменят свои представления о том, что должно предпринять общество, обсуждая этот вопрос с другими. Смысл демократического участия состоит скорее в том, чтобы общее благо выработать, чем в том, чтобы в процессе такого участия его обнаружить_7_. Исходные посылки заключаются в том, что, вопервых, люди будут чаще приходить к согласию, если достаточно долго станут разговаривать в соответствующей обстановке, и, во-вторых, что достижение согласия есть нечто позитивное. Оба положения спорны. Обсуждение может выносить разногласия на поверхность, расширяя, а не сужая расхождения. Именно на это надеялись марксисты, ожидая, что “повышение сознательности” позволит рабочим обнаружить непримиримость своих интересов с интересами нанимателей и будет способствовать превращению пролетариата из класса-в-себе в революционный класс-для-себя. В данном случае такие надежды оказались наивными. Тем не менее, суть дела в общем и целом остается следующей: нет никаких видимых оснований полагать, будто обсуждение сблизит людей, даже если они рассчитывают на сближение и хотят, чтобы оно произошло. Супружеская чета, находящаяся в прохладных, но брака не разрушающих отношениях, может попытаться наладить ситуацию, договорившись урегулировать давние разногласия, а также приучить себя больше идти навстречу друг другу в вопросах, которые нельзя разрешить. Но как только пойдет откровенное выяснение позиций, могут вскрыться новые непримиримые противоречия, так что в итоге отношения ухудшатся и в атмосфере желчного раздражения союз, возможно, и вовсе распадется. Резонно ожидать, что обсуждение прольет свет на людские взаимоотношения, но в результате этого могут обнаружиться не только скрытые возможности для сближения, но и скрытые разногласия. Все зависит от того, каковы в действительности поставленные на карту подспудные интересы, ценности и предпочтения_8_. Но даже когда обсуждение позволяет достичь согласия, последнее не всегда желаемо. Люди могут не хотеть урегулирования некоторых разногласий. Они, как полагают современные теоретики “различия”, способны получать удовлетворение от того, что отличаются друг от друга. И наоборот, им может представляться, что консенсус ведет к посредственности, как того опасались Дж.Ст.Милль и А. де Токвиль. Жизненно важным для свободы, по мнению таких теоретиков, является состязание идей – спор, а не обсуждение, – и, как я покажу ниже, институциональные воплощения этой мысли лежат в основе многих непременных ныне атрибутов демократии. Здесь же достаточно резюмировать, что обсуждение не обязательно ведет к согласию, а когда ведет, это не всегда бывает достоинством. Управление властными отношениями Делиберативный подход критикуют еще по тем соображениям, что выдвигаемая его приверженцами цель – содействие согласию – основывается на чрезмерно оптимистических посылках относительно власти. Согласие одного есть гегемония другого, и хотя ненавязанный консенсус и может быть достижим в некоем идеальном мире или “речевой ситуации” [Habermas 1979; 1984], в мире реальном властные отношения пронизывают собой поистине всякое людское взаимодействие. В своих острейших образцах эта критика, еще совсем недавно ассоциировавшаяся с М.Фуко [Foucault 1972; 1977; 1980], однако восходящая к столь разным мыслителям, как Платон, Т.Гоббс, К.Маркс, Г.Моска и Р.Михельс, может быть понята в том смысле, что демократический контроль властных отношений невозможен: эти отношения эволюционируют, одна их форма с течением времени вытесняет другую, но при всем том коллективная жизнь неизменно остается властью и господством _9_. Тезис о вездесущности властных отношений двояким образом искажает ситуацию: он не проводит различия между отдельными способами осуществления власти и смешивает верное наблюдение о пронизанности властью всей коллективной жизни с неправомерным утверждением, будто вся коллективная жизнь сводима к властным отношениям. Признание вездесущности власти не равнозначно согласию с тем, что вся власть одинакова или что какие-то способы сосуществования с нею не могут быть лучше других. И говорить о том, что властными отношениями полнятся столь разные сферы деятельности, как работа, семья и церковь, не значит отрицать, что во всех этих сферах, помимо осуществления власти, происходят и другие вещи. Часто, а пожалуй – и неизбежно с властными отношениями бывает сопряжено производство товаров и услуг, равно как и близкие отношения, привязанность, образование и духовное самовыражение. Но сами по себе эти виды активности не есть властные отношения. Важные проблемы встают перед теоретиками демократии в связи с поиском механизмов, которые бы позволили как можно лучше регулировать властные аспекты взаимодействия людей и при этом бы сводили к минимуму вмешательство в другие формы человеческой активности. Вместо того чтобы видеть в демократии средство обнаружения или выработки общего блага, ее, таким образом, можно понимать как механизм для управления властными аспектами той деятельности, в которую вовлечены люди, придерживающиеся собственных – индивидуальных или совместных – представлений о благе. В этом смысле демократия есть подчиненное или обуславливающее благо, а творческий вызов состоит в том, чтобы найти способы демократически структурировать властные отношения, одновременно максимально ограничивая вмешательство в те виды блага высшего порядка, к которым стремятся люди. Для решения этой задачи требуется, как минимум, усилить вовлеченность в процесс принятия решений тех, кого затрагивают его результаты, а также открыть простор для значимой – пусть даже “лояльной” – оппозиции со стороны тех, на ком неблагоприятным образом сказываются принимаемые решения. Совершенных принципов принятия решений не существует, и некоторая доля навязывания присутствует во всех коллективных решениях. Именно потому у проигравших могут быть основания стремиться достичь иного результата в будущем. Из этого следует, что, хотя теоретики демократии уделяют правам оппозиции недостаточное внимание_10_, эти права обладают для демократической политики самостоятельной ценностью, не зависящей от ценности широкоохватного участия. В той мере, в какой приверженность данному принципиальному принципу основывается на идее общего блага, его суть лучше всего выражает определение Н.Макиавелли, который видел в нем то, что безраздельно признается всеми теми, кто хочет избежать чьего бы то ни было господства над собой_11_. Понимание демократии как системы, призванной структурировать властные отношения, имеет четыре преимущества. Во-первых, оно помещает нормативные вопросы о демократии в рамки уточнения “в сравнении с чем?”, ибо демократия оценивается теперь не на основании ответа на альтернативный вопрос: порождает ли она функции социального благосостояния или же ведет к согласию, – а исходя из того, насколько успешно она позволяет людям управлять властными отношениями (мерилом тут выступают поощрение широкоохватного участия и минимизация господства). А этот вопрос носит по сути компаративный характер. Во-вторых, упор на властных отношениях побуждает нас отказаться от еще одной разновидности дихотомичного мышления: о самой демократии. Способы управления властными отношениями могут быть более либо менее демократичными. При таком подходе требуется определить, сколько демократии возможно и желательно в данной конкретной ситуации, что особенно важно в условиях, когда цена демократизации властных отношений выражается в других благах. Одно из главных достоинств далевской идеи о полиархии заключается в том, что она переводит вопросы о демократии из разряда таких, которые требуют ответа “да” или “нет”, в разряд требующих ответа “больше” или “меньше”_12_. В-третьих, при ориентированном на властные отношения подходе преодолевается разрыв между нормативными теориями демократии и эмпирической политологической литературой по этим сюжетам. Теоретики демократии зачастую обращали слишком мало внимания на эту литературу, отрывая свои рассуждения от земных реалий и в итоге заставляя большинство других себя игнорировать. Даже если теоретики и поднимают первые два вопроса, невнимание к практическому опыту способно привести к искажению результатов. К примеру, Дж.Бьюкенен и Г.Таллок [Buchanan, Tullock 1963], отвечая на вопрос “сколько демократии?”, указывают, что ее преимущества должны взвешиваться относительно другого полезного времяпрепровождения. Требование высокой степени согласия, пишут они, позволяет людям защищать свои интересы, но это отнимает время, которое могло бы быть потрачено на другую деятельность. В связи с этим они предлагают скользящую шкалу: чем важнее для вас вопрос, тем скорее вы станете поддерживать право вето, настаивая на единогласии или чем-то близком к нему. В вопросах же, которые значат меньше, разумнее пойти на риск поражения в любом конкретном голосовании, согласиться с принципом большинства и снизить издержки принятия решений. Демократия, таким образом, лучше всего подходит для проблем, которым придается умеренное значение. Проблемы, имеющие высокую значимость, должны быть выведены за ее пределы, тогда как решение второстепенных вопросов было бы оптимально делегировать администраторам. Однако Бьюкенен и Таллок – не приводя никаких тому доказательств – исходят из того, что люди больше всего дорожат стандартным набором либертарных гарантий. Именно его, по их мнению, и следует оградить от изменений посредством правила квалифицированного большинства или даже единогласия. Если поставить данный постулат под сомнение, сомнительными окажутся и все их субстантивные (сущностные) заявления. Но издержки пренебрежения реальной политикой еще серьезнее, в чем можно убедиться, если более тщательно проанализировать вопрос “в сравнении с чем?”_13_ Даже если бы нам было известно, какие проблемы люди считают самыми важными (что подразумевает отчаянно смелое предположение, что у них имеется всеобщее согласие на сей счет), то с какой же стати полагать, что они захотели бы вывести данные проблемы за пределы демократии, настаивая на принципе квалифицированного большинства или единогласия? Это может иметь смысл лишь в случае, если принять, как то делают Бьюкенен и Таллок, надуманную посылку, предположив некую дополитическую ситуацию, где отсутствует коллективное действие, а затем попытаться определить, какой принцип принятия решений выбрали бы люди, дабы свести к минимуму вероятность того, что их предпочтения окажутся в будущем до такой степени нарушены, что они согласятся отойти от дополитического состояния. Но, как отмечали Б.Бэрри, Д.Рей и др., при отказе от этих надуманных допущений нет никаких оснований рассматривать принцип единогласия в качестве адекватного выбора в пользу бездействия, поскольку он поощряет сохранение статус-кво [см. Barry 1990; Rae 1969: 40-56; Taylor 1969: 228-231]_14_. В реальном мире текущей политики – если я исхожу из того, что моя готовность равно отвергнуть или поддержать некую конкретную политическую меру не связана со степенью ее соответствия статус-кво, – логично предпочесть принцип большинства или нечто близкое к нему. Прежде чем говорить о желательности создания условий, благоприятствующих сохранению, а не изменению существующего положения вещей, следовало бы, по меньшей мере, выяснить, кому оно выгодно и кому наносит ущерб _15_. Подход [к оценке демократии] в логике вопроса “в сравнении с чем?” предполагает и более прагматичный вопрос – не о том, “быть или не быть коллективному действию”, а о том, “какого рода коллективное действие?” То есть мы рассматриваем властные измерения различных режимов, предполагающих коллективное действие, сопоставляя их между собой. Либертарно настроенные комментаторы – возможно, в силу своей привычки мыслить в терминах общественного договора – часто пишут так, словно отсутствие коллективного действия есть вариант осмысленного выбора в обществах, где, между тем, имеются частная собственность, принудительное обеспечение соблюдения договоров и классический набор негативных свобод. Как, однако же, подчеркнули недавно С.Холмс и К.Санстайн [Holmes, Sunstein 2000], все это – дорогостоящие институты и для их функционирования необходим эффективный коллективный контроль. Либертарный конституционный проект – это основанный на коллективном действии режим, который поддерживается государством и финансируется за счет непропорционального скрытого налога на тех, кто предпочел бы альтернативное устройство. Литература о делиберативной демократии столь же уязвима. Если отвлечься от уже упоминавшихся концептуальных трудностей, то, вследствие пренебрежения вопросом “в сравнении с чем?”, делиберативная схема выглядит лучше, чем должна была бы. К примеру, адепты делиберативной демократии, такие как Э.Гутман и Д.Томпсон [Gutmann, Thompson 1996] или Б.Аккерман и Дж.Фишкин [Ackerman, Fishkin 2000], доказывают преимущества делиберативных механизмов, ссылаясь на то, как мало они практикуются в современной [американской] политике, где “правят был” рассчитанные на внешний эффект кампании, осуществляемые на телевидении, и политическая реклама. Однако политика вербальных приманок и кампании, дирижируемые СМИ, вполне могут быть следствием той огромной неприязни, с какой американцы относятся к выборам, финансируемым из государственного бюджета, и, соответственно, того влияния, которое оказывают на политику денежные средства частных лиц. Надо думать, такое положение сохранилось бы и в мире расширенных делиберативных институтов, учитывая, что в 1976 г. Верховный суд [США] объявил регламентирование политических расходов противоречащим Конституции вмешательством в свободу слова_16_. Всякая заслуживающая внимания защита делиберативной демократии в американском контексте должна была бы продемонстрировать, за счет каких механизмов делиберативные институты окажутся хоть сколько-нибудь менее (по сравнению с существующими) извращены теми, кто располагает ресурсами, позволяющими контролировать повестки дня и влиять на процесс принятия решений, и, кроме того, показать, что такая демократия оправдала бы свои издержки. Вдумаемся, к примеру, в предложение о проведении за неделю до общенациональных выборов “дня обдумывания”, когда каждому бы выплачивалось по 150 долл., чтобы он явился в местную школу или в центр своей общины, где такое “обдумывание” будет происходить. По подсчетам авторов предложения [Ackerman, Fishkin 2000: 29], это обошлось бы обществу в 15 млрд. долл., не считая косвенных издержек для экономики. Трудно уразуметь, какую пользу принесет столь крупная трата средств, когда кандидаты отобраны, платформы определены, группы интересов развернуты и избирательные фонды истрачены. А будь эти 15 млрд. долл. израсходованы на поддержку едва оперившихся третьих партий или на государственное финансирование избирательных кампаний, они бы смягчили многие из тех патологий, которые заставляют требовать большего обдумывания_17_. Четвертое преимущество “властно-ориентированного” подхода заключается в том, что он открывает обнадеживающую перспективу решения давней головоломки о соотношении демократии и гражданства. Часто утверждают, что теория демократии бессильна, когда речь заходит о ее собственных рамках. Демократия зависит от правила принятия решений, коим обычно бывает какая-то разновидность принципа большинства, но это предполагает, что вопрос “большинство кого?” уже решен. Если же состав участников не определяется демократически, то в какой тогда степени являются подлинно демократическими результаты, полученные в ходе демократического принятия решения? Как отмечается в работе, написанной мною в соавторстве с К.Хакером-Кордоном, “в самой сердцевине демократии таится проблема курицы и яйца. Вопросы, касающиеся границ и контингента, по-видимому, в каком-то существенном отношении предшествуют демократическому принятию решений, но парадоксальным образом сами остро нуждаются в демократическом вердикте” [Shapiro, Hacker-Cordon 1999: 1]. Если демократия относится к управлению властными отношениями, то отпадает необходимость рассматривать вопросы о гражданстве как нечто принципиально отличающееся от вопросов о любом другом благе высшего категориального порядка, обусловленном демократическим принуждением. Соответственно, право на демократическое участие в принятии коллективных решений, идет ли речь о гражданах или нет, опирается на каузальный принцип наличия релевантного интереса, который данное решение затрагивает. Ведь участников Американской революции объединял лозунг: “Никакого налогообложения без представительства!”, а не лозунг: “Никакого налогообложения без гражданства!” Могут быть уважительные причины для ограничения гражданства, но это не означает, что не-гражданам надо отказывать в праве на голосование по вопросам, в которых затрагиваются их релевантные интересы, например тогда, когда в Калифорнии принимается решение лишить детей нелегально проживающих в стране иностранцев доступа к бесплатному образованию_18_ или когда “гастарбайтеры” претендуют на участие в принятии законов, которые управляют ими [Barbieri 1998]. Каузальный подход лежит в основе ряда приводившихся в последнее время доводов в пользу отказа от принципа гражданства как ведущего при определении права на демократическое участие и замены его системой перекрещивающихся юрисдикций, когда различные группы обладают высшей властью при принятии особых классов решений, как это практикуется в Европейском Союзе. Оперативная мысль здесь та, что соответствующий демос достигает согласия, продвигаясь от решения к решению, а не от группы к группе [см. Pogge 1992; Antholis 1993; Wendt 1994]_19_. Конечно, при урегулировании сталкивающихся притязаний, связанных с вопросом о том, чьи релевантные интересы затрагивает то или иное конкретное решение, неминуемо будут возникать трудности. Но сколь бы острой ни оказывалась часто полемика по этому поводу, дискуссии о том, кто имеет законное право притязать на гражданство, вряд ли менее остры. Кроме того, имеется ценный опыт разрешения споров относительно затрагиваемых интересов в других сферах. Так, разбирая дела о гражданских правонарушениях, суды вырабатывают процессуальные нормы, позволяющие решать, кому должно принадлежать право возбуждения судебного дела, а также отличать обоснованные притязания от необоснованных и определять степень обоснованности заявлений об ущербе, причиненным данным правонарушением. Приведенный пример показывает, что могут быть разработаны институциональные механизмы для оценки и регулирования конфликтующих претензий относительно того, каким образом задеваются релевантные интересы. Эти механизмы, возможно, несовершенны, но они должны оцениваться в соотнесении не с идеалом, которого нет нигде, а с другими несовершенными механизмами коллективного принятия решений, существующими в реальном мире_20_. _____________________________________________ Руссо Ж.-Ж. 1998. Об общественном договоре. М. Ackerman B., Fishkin J. 2000. Deliberation Day. (http://www.la.utexas.edu/conf2000/papers/Deliberation Day.pdf). Antholis W. 1993. Liberal Democratic Theory and the Transformation of Sovereignty. Unpublished Ph.D. dissertation, Yale University. Arrow K.J. 1951. Social Choice and Individual Values. N.Y. Barbieri W. 1998. Ethics of Citizenship: Immigration and Group Rights in Germany. Durham, NC. Barry B. 1990. Political Argument. Herefordshire. Buchanan J.M., Tullock G. 1962. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor. Burt R.A. 1992. The Constitution in Conflict. Cambridge, Mass. Dahl R.A. 1956. A Preface to Democratic Theory. Chicago. Dahl R.A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven. Fishkin J. 1991. Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform. New Haven. Foucault M. 1972. The Archeology of Knowledge. N.Y. Foucault M. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. N.Y. Foucault M. 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Brighton. Green D.P., Shapiro I. 1994. Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science. New Haven. Gutmann A., Thompson D. 1996. Democracy and Disagreement. Cambridge, Mass. Habermas J. 1979. Communication and the Evolution of Society. Boston. Habermas J. 1984. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Boston. Hayward C. 2000. Defacing Power. Cambridge. Holmes St., Sunstein C. 1999. The Costs of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. N.Y. Laclau E., Mouffe Ch. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. L. Macedo St. (ed.) 1999. Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement. N.Y. Machiavelli N. 1970. The Discourses. Harmondsworth. Mackie G. 2000. Is Democracy Impossible? A Preface to Deliberative Democracy. Unpublished Ph.D. thesis. University of Chicago. Mansbridge J.J. 1980. Beyond Adversary Democracy. N.Y. Mueller D. 1989. Public Choice II. N.Y. Pettit Ph. 1997. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. N.Y. Pogge Th. 1992. Cosmopolitanism and Sovereignty. – Ethics, vol. 103. Przeworski A. 1999. Minimalist Conception of Democracy: A Defense. – Shapiro I., HackerCordon C. (eds). Democracy’s Value. Cambridge. Rae D. 1969. Decision-Rules and Individual Values in Constitutional Choice. – American Political Science Review, vol. 63. Rae D. 1975. The Limits of Consensual Decision. – American Political Science Review, vol. 69. Rousseau J.-J. 1968. The Social Contract. Harmondsworth. Shapiro I. 1996. Democracy’s Place. Ithaca. Shapiro I. 1999. Democratic Justice. New Haven. Shapiro I. 2001. Abortion: The Supreme Court Decisions 1965 – 2000. Indianapolis. Shapiro I., Hacker-Cordon C. 1999. Democracy’s Edges. Cambridge. Tangian A.S. 2000. Unlikelihood of Condorcet’s Paradox in a Large Society. – Social Choice and Welfare, vol. 17. Taylor M. 1969. Proof of a Theorem on Majority Rule. – Behavioral Science, vol. 14. Wendt A. 1994. Collective Identity-formation and the International State. – American Political Science Review, vol. 88 (2). Продолжение следует _1_ В оригинале игра слов: state – состояние и State – штат. (Пер.) _2_ От лат. delibero – взвешивать, обсуждать, обдумывать. (Пер.) _3_ Наиболее полным и доступным, хотя и несколько устаревшим, является обзор Мюллера [Mueller 1989: ch.6; см. также Shapiro 1996: ch.2; Przeworski 1999]. _4_ Здесь следует провести различие между замечанием, что цикличность предпочтений населения делает итоги применения демократических правил принятия решений случайными (в том смысле, что при ином порядке вынесения вопросов на голосование прошло бы какое-то другое предложение), и утверждением о том, что оными итогами можно манипулировать (в том смысле, что некто, устанавливающий повестку дня, предопределяет результат). Вопреки заявлениям некоторых комментаторов, в демократических политиях мы почти не знаем случаев успешной манипуляции такого рода [см. Green, Shapiro 1994: ch.6; Mackie 2000]. Данное различение важно, ибо с точки зрения властно-управленческого подхода, который рассматривается ниже, могут быть основания признавать легитимными решения, которые, будучи в соответствующих смыслах случайными, не обусловлены манипуляцией. Необходимо, однако, отметить: утверждение о случайном характере результатов само основано на предположении, что при большой численности населения вероятна цикличность предпочтений [аргументы в пользу противоположной позиции см. Tangian 2000]. _5_ Для Руссо голосование было средством дисциплинировать частный интерес, побуждая людей сосредоточиваться на том, что является наилучшим для общества в целом. Как он писал об этом: “Когда в народном собрании предлагается закон, у участников спрашивают, собственно, не о том, одобряют ли они или же отвергают то, что предлагается, а о том, находится ли предлагаемое в соответствии с всеобщей волей, которая есть их воля; каждый, подавая голос, высказывает мнение по этому вопросу” [Rousseau 1968: 153]. _6_ Убедительные аргументы в пользу этой позиции приведены, в частности, в [Gutmann, Thompson 1996]; критику см. [Macedo 1999]. _7_ И действительно, теоретики делиберативного подхода иногда пишут так, словно активность поиска общего блага сама есть общее благо. Обсуждение этой проблемы см. [Shapiro 1996: сh.4]. _8_ Обсуждение эмпирических условий, при которых обсуждение ведет скорее к расхождению во мнениях, чем к их сближению, см. [Shapiro 2001]. _9_ Иллюстрацию и обсуждение данной точки зрения см. [Laclau and Mouffe 1985; Hayward 2000]. _10_ Исключение составляют Р.Даль [Dahl 1971], Р.Бэрт [Burt 1992], Ф.Петтит [Pettit 2000], а также автор этих строк [Shapiro 1999]. _11_ См. высказываемое им в “Рассуждениях” соображение относительно римского довода о том, что стражами свободы должны быть простые люди, ибо, в отличие от аристократии, стремящейся господствовать, они хотят лишь того, чтобы над ними никто не господствовал [Machiavelli 1970: I, 5]. _12_ Даль выделяет восемь показателей, определяющих степень соответствия [конкретного режима] требованиям полиархии. Эти требования касаются четырех периодов: периода голосования, когда голоса членов политической системы должны иметь одинаковый вес и когда побеждает вариант выбора, получивший наибольшее число индивидуальных голосов; период перед голосованием, когда члены политической системы имеют равные возможности для представления альтернатив и информации о них; период после голосования, когда победившие в ходе голосования лидеры и политические курсы сменяют лидеров и курсы, набравшие меньшее число голосов, и избранные должностные лица занимают свои посты; и межвыборный период, когда принимаемые решения подчинены сделанным во время выборов – например, сенатор, занимающий свое место в межэлекоральный период, заменяется одержавшим победу на очередных выборах [Dahl 1956: 71-76, 84-89]. _13_ Имплицитное довершение компаративного по своему смыслу вопроса о том, насколько успешно демократия позволяет людям управлять властными отношениями; см. двумя абзацами выше. (Пер.) _14_ При нечетном числе голосующих оптимальным принципом принятия решения является правило большинства, n больше двух плюс половина; при четном – либо правило большинства (n больше двух плюс один), либо правило большинства минус один (просто n больше двух). В общем плане см. об этом [Mueller 1989: 96-111]. _15_ Можно показать, что даже при использовании метафоры “договора” логика защиты Бьюкененом и Таллоком принципа единогласия тут же разрушается, как только начинают учитываться фактор времени и внешние обстоятельства [см.: Rae 1975: 1270-1294]. _16_ В решении по делу “Бакли против Валео” [Buckley v. Valeo 424 US 1 (1976)] Суд постановил, inter alia, что, хотя Конгресс может регулировать финансовые пожертвования политическим партиям или кандидатам, он не вправе каким-либо иным образом регламентировать частные затраты на политические выступления. Впоследствии в решении по делу “Остин против Торговой палаты штата Мичиган” [Austin v. Michigan State Chamber of Commerce, 110 S.Ct. 1391 (1990)] Суд разрешил налагать некоторые незначительные ограничения на корпоративные затраты, но на практике решение по делу Бакли делает невозможным какое бы то ни было лимитирование политической рекламы, финансируемой из частных средств. _17_ Аккерман и Фишкин настаивают на том, что “крайне ошибочно рассматривать эту ежегодную затрату в 15 млрд. долл. сквозь призму обычного соотнесения издержек и выгод”, поскольку ее “громадные” выгоды “не могут быть исчислены на той же шкале, что и другие элементы уравнения издержек-выгод” [Ackerman, Fishkin 2000: 29]. Даже если допустить, что эти выгоды обоснованно объявляются значительными, хотя, как признается, они несоизмеримы со своими издержками, в приведенном заявлении игнорируется мысль, проводимая в настоящей статье: данные выгоды, безусловно, необходимо сопоставить с теми, которые были бы получены, будь указанная сумма как-то по-иному израсходована в целях усиления американской демократии. _18_ Такая законодательная инициатива в виде проекта резолюции 187 была поставлена на голосование в Калифорнии в ноябре 1994 г. и прошла, набрав 59% голосов против 41%, а затем была отменена федеральным судом как нарушающая конституционное право на образование, которым люди обладают несмотря на иммиграционный статус. Суд также указал, что иммиграционное право относится к федеральному ведению, а не к компетенции штата. _19_ Другие аргументы, показывающие, что определение контингента участников не должно рассматривать как предваряющее процесс демократического принятия решений, см. [Shapiro, Hacker-Cordon 1999b: сh. 6, 10, 12, 15]. _20_ Развитие и обоснование этого положения см. [Shapiro 1999: 31-39]. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ТЕОРИЮ ДЕМОКРАТИИ В CВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ И. Шапиро Продолжение. Полис, 2001, №4. Начало см. Полис, 2001, № 3, с. 6-15. II. Шумпетеровская конкуренция Наиболее влиятельный в ХХ в. подход к демократическому управлению властными отношениями – тот, который был сформулирован в 1942 г. Й.Шумпетером в работе “Капитализм, социализм и демократия” [Schumpeter 1942]. Он сводим к двум утверждениям: (1) структурно организованная конкуренция за власть предпочтительнее как гоббсовской анархии, так и той монополии власти, в которой Т.Гоббс усматривал логический ответ на анархию; и (2) альтернативы анархии, монополии и конкуренции суть единственные значимые возможности. Оба утверждения Шумпетера были новаторскими, и, несмотря на мощный огонь критики, ни одно из них так полностью и не опровергнуто. Преимущества и ограниченность структурно организованной конкуренции Точку зрения Шумпетера часто называют консервативной. Для такого утверждения есть основания, но чересчур поспешная концентрация внимания на этом обстоятельстве затеняет радикальные аспекты аргументации ученого. Шумпетер был радикален прежде всего в том, что видел альтернативу взгляду на власть как на естественную монополию, который западные политические теоретики более или менее осознанно переняли у Гоббса. И традиционные либералы, и марксисты, и адепты теорий элит – все они в той или иной форме разделяли такое воззрение. Внешне республиканцы придерживались более сложной позиции, полагая, что власть поддается разделению и может контролироваться состязанием между политическими ветвями власти. Однако, как давно уже было показано Р.Далем [Dahl 1956: 30-32], Дж.Мэдисон в своих рассуждениях был щедр на риторику (“амбиция будет вынуждена противодействовать амбиции”) [Hamilton, Madison, Jay 1966 (1788): 160] и скуп на объяснение того, каким образом подобные механизмы будут работать на практике. Решение проблемы по “Федералисту” – это в основном вопрос создания институциональных тормозящих уплотнений (institutional sclerosis), дабы затруднить всякие действия правительства и тем самым защитить интересы землевладельческих элит. В этом отношении оно качественно не отличается от стандартных либеральных обоснований двухпалатной структуры парламента, сильного конституционализма и других форм институционализированного вето, часто предлагавшихся с целью ограничить демократию [см. Riker 1982: 101-116; Riker, Weingast 1988; Holmes 1995]. Предложенный Шумпетером подход знаменовал собою радикальный отказ от такой позиции: вместо того чтобы смиряться перед властью (по Гоббсу) или смирять власть (позиция всех остальных, упоминаемых здесь), ее, считал он, можно контролировать, превратив в объект электорального состязания. Если авторы “Федералиста” различали за стремлением к власти стимулы (incentives) и понуждающие факторы (constraints)_1_, то Шумпетер фактически продвигал трактовку, основанную на стимулах. Понуждающие факторы призваны ограничивать власть политиков посредством правил (таких, как разделение властей или иные конституционные ограничения); стимулы же увязывают то, что политикам кажется стратегически выгодным, с требованиями конкурентной политики. Раз партии строятся по образу фирм, стремящихся обеспечить себе максимум голосов как аналога прибылей, то можно говорить о том, что лидеров дисциплинируют требования конкуренции. Попытки Э.Даунса [Downs 1957] и др. выработать на этой основе прогностическую теорию электоральной конкуренции оказались не слишком успешными [см. Green, Shapiro 1994: сh.7], но в качестве нормативной теории концепция Шумпетера открывала новые горизонты. В его видении конкуренция имеет двоякую ценность: она дисциплинирует лидеров через угрозу утраты власти точно так же, как фирмы дисциплинирует угроза банкротства, и дает потенциальным лидерам стимул к тому, чтобы откликаться на требования большего числа избирателей, чем конкуренты. Таким образом, всегда проблематичная теория репрезентативного правительства заменяется политическим аналогом верховенства потребителя. Демократию в ее шумпетерианской трактовке часто квалифицируют как “минимальную”, поскольку она полностью сфокусирована на политических институтах (обычно национальных) в узком значении. Заметьте, однако, в доводах самого Шумпетера нет ничего, что вело бы к такому ее сужению. Как я попытался показать в одной из своих работ, говорить о необходимости демократизации иных социальных установлений, помимо национальных политических институтов, – не значит отрицать, что при решении этой задачи могли бы быть полезны шумпетерианские средства [Shapiro 1999: chs.4-7]. Не равнозначно это и утверждению, что национальным политическим институтам не пошла бы на пользу шумпетерианская реформа, даже если признаются необходимыми и другие реформы. “Минимальность” шумпетерианской демократии, даже в формулировке самого Шумпетера, похоже, преувеличена. В прочтении же современных шумпетерианцев, например С.Хантингтона [Huntington 1991], требование конкурентности означает, что политию нельзя считать демократической до тех пор, пока ее правительства по меньшей мере дважды не уступали власть вследствие поражения на выборах, а это исключает из рассмотрения Соединенные Штаты до 1840 г., Японию и Индию на протяжении значительной части ХХ в., а также большинство так наз. демократий третьей волны в бывших коммунистических странах и в Африке к югу от Сахары. Короче говоря, минимальная - не значит ничтожно малая, не принимаемая в расчет. Как бы то ни было, воспитующий эффект электоральной состязательности выглядит не столь уж внушительным, учитывая частоту повторного переизбрания инкумбентов [см. Lowenstein 1995: 653-667]. Но возникает, опять-таки, контрвопрос: в сравнении с чем? Дисциплинирующий эффект электорального давления может показаться скромным в сравнении с неким идеалом, которого нигде не существует, однако его достижение было бы существенным обретением для миллиардов людей, живущих в странах, где этот фактор отсутствует [см. Przeworski 1999: 43-50]. В представлении о том, что шумпетерианская схема порождает откликающееся [на требования электората] правительство, тоже присутствует натяжка. И дело тут не в традиционной левой критике рынков за то, что они вознаграждают тех, у кого больше ресурсов; такая критика – по крайней мере, с точки зрения теории – в данном случае неуместна. Принцип “один человек – один голос”, который принято считать непреложным условием демократии, несмотря на звучащие время от времени выступления в защиту торговли голосами по соображениям эффективности или интенсивности [см. Buchanan, Tullock 1962: 125-126, 132-142], уравнивает ресурсы. Трудность в том, что политики, особенно в Соединенных Штатах, соревнуются в первую очередь за пожертвования на избирательную кампанию и лишь во вторую очередь – за голоса. Пожалуй, конфискационные налоги на наследство свыше 10 млн. долл. были бы безоговорочно поддержаны избирателями, но ни одна из партий этого не предлагает. Мало того, в июне 2000 г. в Конгрессе США сильную поддержку со стороны обеих партий получил законопроект, предусматривавший отмену существующего налога на наследство – налога, который платят лишь богатейшие 2,5% американцев*. Похоже, политики стараются не облагать налогами богатых из опасения, что выступи они с такой инициативой, средства, направляемые на их избирательную кампанию, будут переадресованы соперникам. Хотя эмпирическая проверка утверждений, подобных приведенному, по самой своей сути затруднительна, резонно полагать, что предложения, с которыми выстпупают политики, формируются под сильным воздействием установок спонсоров; иначе зачем бы они жертвовали средства! К тому же немногочисленность ведущих партий означает, что фактически мы имеем дело с олигополистической конкуренцией; стоит лишь добавить этот штрих – и становится ясно, что внимательность партий к избирателям далеко не равнозначна внимательности фирм к потребителям в условиях конкурентного рынка. Эти серьезные возражения направлены не столько против идеи политической конкуренции, сколько на выявление недостаточной конкурентности системы. Можно было бы сократить непомерную мощь спонсоров избирательных кампаний (предложениям о реформировании этой области несть числа [см., напр. Ackerman 1993; Ayres 2000]) и провести реформы с целью увеличения количества партий, что способствовало бы росту конкуренции. Право же, удивительно, что защитники общественных интересов в гражданских процессах, активисты и политические комментаторы (не говоря уже о политических теоретиках) не высказываются в пользу применения антитрестовского законодательства для наступления на существующую дуополию. Если конкуренция за власть представляет собой источник жизненной силы демократии, то тогда поиск двухпартийного консенсуса (и стоящий за этим идеал делиберативного согласия) есть в действительности антиконкурентный сговор, нацеленный на ограничение рынка. Почему же на этих основаниях не оспаривают принятое при двухпартийной поддержке законодательство или другие формы двухпартийного согласия? Отнюдь не очевидно, что за разукрупнение демократической и республиканской партий имеется меньше заслуживающих поддержки доводов, чем за разукрупнение компаний “Америкэн телефон энд телеграф” и “Майкрософт”_3_. Для антитрестовских действий против политических партий существуют правовые препятствия, но имеются и неиспробованные правовые возможности. Например, разъяснение Верховного суда (the Supreme Court’s Noerr-Pennington doctrine) исключает применение антитрестовских законов к “обоснованному правительственному действию, в отличие от частного действия” [Eastern R.R. President’s Conf. v. Noerr Motor Freight, 365 U.S. 127 (1961) at 136]. Но в нем ничего не сказано о деятельности политических партий. Более того, хотя в принципе закон Шермана не распространяется на нехозяйственные образования типа профсоюзов, однако из этого правила делаются исключения в случаях, когда подозревают наличие сговора между таким образованием и хозяйствующим субъектом в целях нанесения ущерба интересам другого хозяйствующего субъекта или когда искомое соглашение не несет в себе “законного профсоюзного интереса” [Connell Constr. Co. v. Plumbers and Steamfitters Local Union No.100, 483 F. 2d 1154, 1164 (5th Cir. App. 1973); см. также Local Union No.189, Amalgamated Meat Cutters v. Jewel Tea Co., 381 U.S. 676]. По аналогии, закон Шермана мог бы использоваться в отношении политических партий, если те вступили в союз с корпоративными жертвователями средств для поддержания антиконкурентной практики или же уличены в стремлении к достижению соглашения, выходящего за пределы “законных партийных интересов”. Конституционные препятствия к применению антитрестовских принципов к политике коренятся в праве на петицию и в правомочности народа “доводить до собственных представителей свои пожелания” [Noerr, 356 U.S. at 137, 138]_4_. Но рациональное обоснование изъятия политики [из сферы действия указанного закона] не распространяется на формы сговора, подрывающие сам процесс политического самовыражения, сговора, в который вступают партии, поддерживая запретительные цены на внесение в список участников, уславливаясь о недопущении малых партий к политическим дебатам и т.п. Поскольку было установлено, что закон Шермана действует только в отношении бизнес-объединений [Parker v. Brown 317 U.S. 341, 351 (1943)] и организаций, ставящих перед собой коммерческие цели [Klor’s Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc., 350 U.S. at 213 n.7 and Apex Hoisery Co. v. Leader, 310 U.S. 469, 493 n.5(28)], для регулирования такого поведения посредством антитрестовского законодательства может потребоваться новое законотворчество. По очевидным причинам трудно ожидать, что подобные законы будут введены законодателями, гораздо легче представить себе политические антитрестовские меры, принятые в результате баллотировочных инициатив. Доводы в пользу увеличения числа партий (что обычно достигается через пропорциональное представительство) часто строятся на совершенно ином основании. Считается, что это повысит справедливость (читай: представительность) результатов. Значимость подобных аргументов, пожалуй, переоценивается. Пропорциональное представительство способно сделать более репрезентативными итоги выборов, поскольку избирателю предоставляется больший выбор партий, но оно не обязательно приводит к большей представительности правительств. Мы часто наблюдаем это в Израиле, где небольшие экстремистские партии, в коих нуждается там всякая жизнеспособная правящая коалиция, оказывают непропорционально большое влияние на правительственную политику, что ведет к крайней непредставительности правительства. И все же стремление обеспечить оптимальную представительность конкурирующих между собой партий (в соответствии с неким установленным критерием) есть вызов, который в принципе может быть принят в рамках шумпетерианского подхода. Имеются основания полагать, что в среднем при пропорциональном представительстве политика ближе к предпочтениям усредненного избирателя, чем при конкурентном чередовании у власти [см. Rae 1967, 1969, 1995; Powell 2000]. Альтернативы шумпетерианскому подходу? Но если в упоре на представительности зайти чересчур далеко, такая позиция превращается в отказ от идеала конкурентности. Это становится очевидным, если мы предположим, что правительство могло бы оптимально представлять все интересы_5_, и затем спросим: кого бы тогда представляла оппозиция? Для тех, кто делает акцент на представительности, подспудным идеалом является иногда согласие: когда все группы должным образом представлены, они в состоянии путем переговоров прийти к устраивающему всех результату. Такого рода ложную аргументацию я уже разбирал, обсуждая Бьюкенена и Таллока; на ней нет нужды здесь задерживаться. Иного рода защита пропорциональности и “консенсусной демократии” основывается на представлении, будто в некоторых обществах разногласия настолько глубоки, что содействовать там конкурентной политике – значит подливать масло в огонь конфликта. Сторонники этого взгляда, как правило, имеют в виду этнически и расово расколотые общества, считая соответствующие идентичности и примордиальными, и всеопределяющими: раз навсегда данными и превосходящими по важности все остальное. Если линии раскола интересов не пересекаются или таких пересечений недостаточно для институционализации неопределенности в отношении будущих решений, то у проигрывающих нет никаких оснований сохранять лояльность системе_6_. Этнические и расовые меньшинства заранее ожидают, что проиграют в любом вопросе. Когда выборы равнозначны проверке этнической или расовой принадлежности, меньшинствам впору хвататься за оружие, пытаться отделиться или каким-то иным образом вырваться за рамки политического процесса [см. Shapiro 1996: сhs.4,7]. Из таких рассуждений рождается концепция со-общественности (consociationalism). Согласно этой концепции, требуется наделить меньшинства правом вето или создать другие механизмы, чтобы заставить лидеров различных групп выработать modus vivendi и править как “картель элит” [Lijphart 1969: 213-215, 228]_7_. В основе апелляции к консенсусу здесь лежит не мотив справедливости, а стремление избежать гражданской войны. Если примордиалисты правы, то при таких обстоятельствах конкурентная демократия невозможна и со-общественные формы согласования [интересов] есть лучшее, на что нам остается надеяться. Но если они неправы, то их лекарство может сделать хронической – или даже вызывать – ту болезнь, которую якобы должно излечить_8_. Возможно, со-общественные установления (типа тех, которые закреплены в дейтонских соглашениях по урегулированию конфликта в Югославии) необходимы для прекращения этнических гражданских войн, но это не значит, что они обеспечивают жизнеспособную базу для демократии. Критики примордиализма спешат подчеркнуть, что сообщественные институты способны породить или усугубить этнический раскол. С их точки зрения, этнические, расовые и другие формы групповой неприязни не являются ни естественными, ни необходимыми. Имеющие политический характер расколы могли образоваться иначе и получить иное развитие, чем это фактически произошло, и они могут меняться [см. Vail 1989]. Указанные авторы редко вдаются в технические подробности того, как, по их мнению, это могло бы произойти, однако считают резонным предположить, что могли бы сформироваться политизированные идентичности, в корне отличные от существующих в современном мире. В частности, люди могли бы научиться принимать, а то и превозносить различия, которые ныне служат источником взаимной ненависти [см. Jung 2000: сh.9]. Но признание изменяемости и “социальной конструируемости” политизированных идентичностей не влечет за собою вывода об их беспредельной податливости. Из такого признания даже не следует, что те идентичности, которые могли не быть (но, тем не менее, были) политически мобилизованы, могут в последующем быть демобилизованы. Тут нечто большее, нежели задача загнать пасту обратно в тюбик. Вещи отнюдь не всегда изменяемы в меру своей социальной сконструированности. Многие свойства мира природного – от температуры воды в нашей ванне до нашей собственной генетической структуры – можно целенаправленно изменить в соответствии с человеческим замыслом. Напротив, попытки установить сознательный человеческий контроль над социально сконструирированными явлениями часто оказываются тщетными. Рынки суть человеческие конструкции, однако мы не всегда в состоянии отрегулировать их так, чтобы они в течение долгого времени функционировали в режиме полной занятости и без инфляции. Пусть этническая ненависть есть навык – мы, тем не менее, можем не иметь никакого представления о том, как не допустить ее воспроизводства в следующем поколении. Сторонники социального конструктивизма совершают слишком стремительный скачок от самой идеи [социальной сконструированности] к предположению об изменяемости; между одним и другим существует в лучшем случае вероятностная связь (contingently related). Промежуточный и более жизненный вариант изложения сути вопроса мог бы быть следующим. Людей формируют контекст и условия среды, однако рамки, в которых это происходит, задаются и врожденным складом натуры. Склад людской натуры тоже способен эволюционировать, но в данное время и в данном месте он всякий раз ограничивает возможности социального конструирования. Человеческая психика всегда пластична, но не беспредельно, и в любой конкретной ситуации одни способы формирующего воздействия, скорее всего, будут более эффективными, чем другие. Существенными являются вопросы о том, каковы пределы этой пластичности, какие формы социального конструирования потенциально окажутся адекватнее и эффективнее других. Трудность для демократического институционального проектирования заключается в том, что это – эмпирические вопросы, по которым в социальных науках накоплено не так уж много знания. В связи с этим представляется разумным действовать по краям [социального] поля (at the margins) и думать скорее об институциональном перепроектировании, чем о проектировании с чистого листа. В какой-то – обычно неизвестной – степени идентичности постоянны (fixed), но они также адаптируются к обстоятельствам, стимулам и институциональным правилам. Цель должна состоять в том, чтобы по мере возможности видоизменять такого рода ограничители (constraints), дабы на своей периферии (at the margins) идентичности эволюционировали в направлении большей, а не меньшей открытости для демократической политики. С этой точки зрения возражением против со-общественной системы служит то, что в той мере, в какой политизированные идентичности податливы на воздействие, она имеет свойство воспроизводить не те их них, которые бы следовало. Электоральные стимулы и множащиеся расколы Потенциальными инструментами размывания этнического конфликта ради продвижения конкурентной политики являются избирательные системы, но, учитывая только что сказанное, неясно, насколько они могут быть эффективными. Если исходить из того, что убеждения, по крайней мере отчасти, мобилизуются и формируются сверху, логично начать со стимулов, открывающихся для кандидатов на [выборные] посты. В соответствии с шумпетерианским подходом, задача должна состоять в том, чтобы не поощрять честолюбивых лидеров к возбуждению – в погоне за властью – групповой ненависти. Рассматривая избирательные системы под этим углом зрения, мы можем расположить их на некоей условной шкале-континууме этнической инженерии – от систем реактивных (reactive), подлаживающихся под этнические разногласия, до систем проактивныхх (proactive), которые стремятся эти разногласия таким образом видоизменить, чтобы это способствовало утверждению конкурентной демократии. В крайней точке реактивного фланга - сецессия или раздел. Затем идут апартеид и со-общественность (первый навязывается сильнейшей стороной, вторая освящается каким-либо соглашением элит), ориентированные на функциональное разделение в рамках единой политии. Далее следуют системы, в которых этнические различия становятся объектом инженерии, направленной на диверсификацию состава законодательных органов, как это происходит при манипуляциях с нарезкой округов в целях превращения меньшинства в большинство на американском Юге. При всех реактивных формах ответа этнические разногласия принимаются как данность с надеждой обойти их. Ближе к центру континуума мы выходим на рефлективные формы ответа – те, которые чувствительны к этническим различиям, но нейтральны в том смысле, что не направлены ни на поощрение, ни на ослабление. К данной категории относятся разнообразные модели кумулятивного голосования, обсуждавшиеся Л.Гиниер_9_. Их принцип заключается в том, чтобы каждому избирателю было предоставлено столько голосов, сколько разыгрывается мест. Если штату полагается восемь представителей в конгрессе, избиратели получают по восемь голосов, которыми вправе распорядиться по собственному усмотрению: отдать их все за одного кандидата или же распределить между несколькими. Если среди меньшинств сильно выражены этнические предпочтения, то члены конкретной группы могут отдать все свои голоса – по восемь голосов каждый – за “своего” представителя; если нет – то нет. В отличие от расистских манипуляций и со-общественной системы, рефлективные схемы, отвечая на наличие этнических предпочтений, никоим образом не стимулируют их возникновение или усиление. В результате такие схемы, в противовес реактивным, не вызывают упреков в том, что они провоцируют балканизацию. Впрочем, аналогичным образом при кумулятивном голосовании ничего не делается для того, чтобы смягчить или разрушить потенциально поляризующие формы расхождений в устремлениях там, где они имеют место. Специально нацеленные на ослабление таких конфликтов варианты ответа мы обнаруживаем, продвигаясь к проактивной части шкалы. Это установления, побуждающие потенциальных лидеров к отказу от усугубляющих культурное противоборство форм мобилизации поддержки и к выработке идеологий, способных привлекать к себе сочувствующих поверх размежеваний соответствующих групп. Отсюда настойчивое утверждение Д.Горовица, что при сильной межгрупповой неприязни требуются такие избирательные системы, которые стимулируют элиты к конкуренции за голоса избирателей за пределами собственных политизированных групп и тем самым способствуют согласию, а не политике разобщения [Horowitz 1991: 155; Horowitz 1985]. Он описывает успешный опыт такого рода, отмеченный в Малайзии, когда политики – малайцы и китайцы – оказались вынуждены отчасти полагаться на голоса, которые приносили им политики, принадлежавшие соответственно к другой этнической группе. Голоса не были бы получены, “если бы лидеры не смогли представить кандидатов в качестве занимающих умеренные позиции по вопросам, важным для поставлявшей свои голоса поверх этнических границ группы”. В подобных раскладах, которые, согласно Горовицу, в течение значительных промежутков времени действовали (а затем срывались) в столь разных странах, как Ливан, Шри Ланка и Нигерия, компромиссы среди руководства коалиции подкрепляются электоральными стимулами в ее основании [Horowitz 1985: 154-155]. Другой возможный механизм – введение норм географического распределения голосов, как в [электоральной] формуле для президентских выборов, примененной в Нигерии в 1979 и 1983 гг., когда для победы кандидату требовалось набрать не только большинство голосов всех избирателей, но и не менее 25% голосов в двух третях из тогдашних 19 штатов Нигерийской Федерации. Однако в странах типа Южной Африки вследствие территориальной рассредоточенности политизированных групп система такого рода не сработала бы. В подобных условиях наиболее многообещающими представляются: (1) пропорциональное представительство с системой единого переходящего голоса и (2) альтернативное голосование, при котором тоже учитываются несколько вариантов предпочтений избирателей, однако избранными объявляются лишь те кандидаты, которые получили абсолютное, а не относительное большинство голосов. Учитывая неоднородность избирательных округов, обе системы заставляют политиков считаться не только с первыми, но и с альтернативными предпочтениями избирателей, так что имеющиеся у политиков стимулы подталкивают их к подобающей ситуации умеренности. Данная тенденция усиливается при альтернативном голосовании, если предположить, что число партий растет [Horowitz 1985: 184, 166, 187-196]. Во многих случаях такие объединяющие голоса системы гораздо больше способны обеспечить межэтническое сотрудничество, чем со-общественные установления и системы (как действующие по принципу “победитель получает все”, так и пропорциональные), требующие простого соединения получаемых политиками мест в коалиционных правительствах. Будучи реактивными, системы последнего типа не делают ничего для смягчения основанной на групповой принадлежности неприязни. Напротив, они стимулируют политиков к максимизации остающихся в их распоряжении после заключения сделки ресурсов путем увеличения того, что экономисты могли бы назвать зарезервированной за их группой ценой за сотрудничество. Проактивные стимулы к отказу от апелляции к межгрупповой неприязни срабатывают не всегда. Возрастание числа партий внутри политизированных групп может происходить таким образом, что это будет подрывать соответствующие параметры логики систем, строящихся на переходящем голосе*. К тому же некоторые из худших проявлений того, что часто (вводя в заблуждение) метят ярлыком межэтнического насилия, на самом деле представляют собой насилие внутриэтническое, возникающее тогда, когда разные партии стремятся мобилизовать поддержку одной и той же этнической группы. Вспышка насилия в восточных районах Южной Африки после 1984 г. во многом была спровоцирована созданием Объединенного демократического фронта (представлявшего запрещенный в то время Африканский национальный конгресс – АНК), поставившего под вопрос поддержку проживающими в этой части страны зулусами Инката фридом парти (ИФП); а некоторые из наиболее жестоких форм насилия среди белых националистов явились результатом аналогичной конкуренции за голоса белых. Внутриэтническая конкуренция лишь в ограниченной степени поддается “окультуриванию” посредством электоральных механизмов переходящего голоса. Если у партии имеются стимулы к мобилизации поддержки более чем одной этнической общины, при проведении избирательной кампании ей нужно позиционировать себя в качестве этнической лишь в той мере, в какой этого нельзя избежать. На практике, однако, у партий вроде ИФП, для которых этничность является raison d’etre, возможности для проведения своих кампаний на какойто иной основе могут быть крайне невелики. Соответственно, они склонны оказывать сопротивление, порой яростное, любым посягательствам на их “традиционные” источники поддержки. В сфере этнических отношений таким партиям доступна лишь игра с нулевой суммой. Когда расчет на логику мобилизации поддержки поверх межгрупповых границ не ведет к этническому примирению, можно попытаться сдвинуться дальше по шкале-континууму и перейти к еще более выраженной проактивности, как в Пунском пакте, заключенном в 1931 г. в Индии. В соответствии с этим пактом, 148 специально выделенных избирательных округов зарезервированы за представителями неприкасаемых, что примерно соответствует доле последних в населении страны [Van Parijis 1996: 111-112]. Тем самым гарантируется, что указанное число неприкасаемых попадет в парламент; кроме того, соискатели получают стимул искать поддержки всех секторов избирательского корпуса неоднородных округов, а не только “своей собственной” этнической группы. (Неприкасаемым не возбраняется выдвигать свои кандидатуры и в других округах, но, будучи географически разбросанным меньшинством во всех округах, они редко избираются_11_.) Как ни заманчивы в некоторых обстоятельствах такие решения, они требуют отчетливо патерналистского институционального дизайна, который может обрести легитимность лишь при условии широкого признания, что с тем или иным меньшинством долгое время обходились несправедливо и что в противном случае оно не получит представительства_12_. Но и тогда подобные предложения, скорее всего, будут подвергнуты критике по многим из тех оснований, по которым критикуются перевернутая дискриминация и однонаправленная поддержка. Вероятно, они могут также вызвать обвинение – правда, уже с иных идеологических позиций – в том, что состязающиеся за резервируемые за меньшинством места лишаются стимула представлять его насущные интересы. Скорее, у них возникнет искушение попытаться вести состязание, войдя в образ этакого дядюшки Тома. Чем дальше разработчики институционального дизайна будут продвигаться по шкалеконтинууму к отчетливо проактивным системам, подталкивающим неравноправно устроенные и расистские общества к интеграции, тем полнее будет выясняться, до какой именно степени основанные на неприязни межэтнические отношения поддаются там переделке. В настоящее время с достаточной долей уверенности можно говорить лишь о том, что нет никаких особых причин считать какое бы то ни было общество от природы неспособным к электоральной конкуренции по Шумпетеру. Как ясно показывают примеры Индии и Японии, даже общества с глубоко неэгалитарной культурой и далекой от демократии историей смогли приспособиться к демократической политике в той мере, какую априори многие сочли бы невозможной. Еще одним таким случаем (находящимся на стадии становления) могла бы оказаться Южная Африка, хотя до тех пор, пока Африканский национальный конгресс не столкнется с серьезным вызовом своей гегемонии, с вынесением вердикта придется подождать. _______________________________________ Ackerman B. 1993. Crediting the Voters: a New Beginning for Campaign Finance. – American Prospect, vol. 13. Ayres I. 2000. Disclosure versus Anonymity in Campaign Finance. – Shapiro I., Macedo S. (eds). NOMOS XLII: Designing Democratic Institutions. N.Y. Buchanan J.M., Tullock G. 1962. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor. Dahl R.A. 1956. A Preface to Democratic Theory. Chicago. Downs A. 1957. An Economic Theory of Democracy. N.Y. Epstein L.D. 1986. Political Parties in the American Mold. Madison. Green D.P., Shapiro I. 1994. Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science. New Haven. Guinier L. 1991. The Triumph of Tokenism: The Voting Rights Act and the Theory of Black Educational Success. – Michigan Law Review, vol. 89. Guinier L. 1994a. (E)racing Democracy: The Voting Rights Cases. – Harvard Law Review, vol. 108. Guinier L. 1994b. The Tyranny of the Majority: Fundamental Fairness in Representative Democracy. N.Y. Hamilton A., Madison J., Jay J. 1966 [1788]. The Federalist Papers. N.Y. Holmes S. 1995. Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy. Chicago. Horowitz D.L. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, Los Angeles. Horowitz D.L. 1991. A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided Society. Berkeley, Los Angeles. Huntington S.P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman. Jung C. 2000. The Myth of the Divided Society and the Case of South Africa. – New School for Social Research. Mimeo. Jung C., Shapiro I. 1995. South Africa’s Negotiated Transition: Democracy, Opposition, and the New Constitutional Order. – Politics and Society, vol. 23. Lijphart A. 1969. Consociational Democracy. – World Politics, vol. 21. Lowenstein 1995. Election Law: Cases and Materials. Carolina. Miller N.R 1993. Pluralism and Social Choice. – American Political Science Review, vol. 77. Nagel J. 1993. Lessons of the Impending Electoral Reform in New Zealand. – PEGS Newsletter, vol. 3 (1). Powell G.B. 2000. Elections As Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions. New Haven. Przeworski A. 1999. Minimalist Conception of Democracy: A Defense. – Democracy’s Value. Cambridge. Rae D.W. 1967. The Political Consequences of Electoral Rules. New Haven. Rae D.W. 1969. Decision-Rules and Individual Values in Constitutional Choice. – American Political Science Review, vol. 63. Rae D.W. 1995. Using District Magnitude to Regulate Political Party Competition. – Journal of Economic Perspectives, vol. 9 (1). Rae D.W., Yates D. et al. 1981. Equalities. Cambridge, Mass. Ranney A. 1975. Curing the Mischiefs of Faction: Party Reform in America. Berkeley. Riker W.H. 1982. Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice. San Francisco. Riker W.H., Weingast B.R. 1988. Constitutional Regulation of Legislative Choice: The Political Consequences of Judicial Deference to Legislatures. – Virginia Law Review, vol. 74. Schumpeter J. 1942. Capitalism, Socialism, and Democracy. N.Y. Shapiro I. 1993. Democratic Innovation: South Africa in Comparative Context. – World Politics, vol. 46. Shapiro I.1996. Democracy’s Place. Ithaca. Shapiro I. 1999. Democratic Justice. New Haven. Shapiro I., Jung C. 1996. South African Democracy Revisited: A Reply to Koelble and Reynolds. – Politics and Society, vol. 24. Vail L. (ed.) 1989. The Creation of Tribalism in South Africa. Berkeley. Van Parijis Ph. 1996. Justice and Democracy: Are They Incompatible? – Journal of Political Philosophy, vol. 4 (2). Wittman D.A. 1973. Parties as Utility Maximizers. – American Political Science Review, vol. 67. Окончание следует _1_ Так, в “Федералисте” № 48 Мэдисон подчеркивает, что “простая разметка на пергаменте конституционных границ нескольких департаментов не является достаточной защитой от попыток их нарушения, ведущих к тираническому сосредоточению всей власти в одних руках”. Такие “внешние гарантии” неадекватны и должны быть дополнены, развивает он свою мысль в “Федералисте” № 51, предоставлением “тем, кто руководит каждым департаментом, необходимых конституционных средств и личных мотивов сопротивляться посягательствам других” [Hamilton, Madison, Jay 1966 (1788): 150-151, 159-160]. (Курсив мой. – И.Ш. ) _2_ При голосовании “Закона 2000 г. об отмене налога на наследство” (“Death Tax Elimination Act of 2000”), проводившемся 9 июня в палате представителей, голоса распределились следующим образом: 279 за, 136 против при 20 воздержавшихся. Сенат проголосовал – 59 за, 39 против; голосование проходило 14 июля – в день взятия Бастилии! _3_ Подобные аргументы выдвигались прогрессистами [см. Epstein 1986: 17-71]. В современной литературе такую позицию, похоже, отстаивает лишь Д.Уиттмен [Wittman: 1973]. _4_ Так, иск штата Миссури по поводу того, что Национальная организация женщин нарушила закон Шермана, организовав бойкот конференции в штатах, не ратифицировавших поправку о равных правах, суд отклонил, сочтя, что участницы акции занимались законной деятельностью по политическому объединению, а не подрывом коммерческой конкуренции [Missouri v. National Organization of Women, Inc., 467 F. Supp. 289, 304 (1979), cert. denied 449 U.S. 842 (1980)]. _5_ На практике добиться такой оптимальности невозможно, в чем убедились архитекторы реформ Макговерна – Фрезиера, нацеленных на достижение полной пропорциональности в Демократической партии, обнаружив, что там имеется больше релевантных интересов, чем может быть пропорционально представлено [см. Ranney 1975.] Задача, по-видимому, не поддается решению и в теории [см. Rae et al. 1981]. _6_ Если А выступает против В по вопросу 1, но знает, что в будущем, вероятно, окажется в союзе с В против С по вопросу 2, то у него есть стимул максимально смягчить свой нынешний конфликт с В и сблизиться с ним как с будущим союзником. Если же, напротив, А и В знают, что, скорее всего, останутся по разные стороны баррикад по всем вопросам, они лишены каких-либо стимулов к сглаживанию конфликта, а если кто-то из них, по собственным прикидкам, всегда будет в меньшинстве, то у него нет никакой личной заинтересованности ратовать за демократический порядок. Плюралисты обобщили это положение, доказывая, что только в случае, когда расколы множественны или когда линии разделения интересов взаимно пересекаются, демократический порядок будет стабильным [см. Miller 1993: 734-747]. _7_ См. также: Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы. – Полис, 1992, № 1-2. (Пер.) _8_ Данный тезис был обоснован мною в полемике с К.Юнгом в связи с Южной Африкой [см. Jung, Shapiro 1995; Shapiro, Jung 1996]. В более общем плане, как показывает Д.Горовиц [Horowitz 2000], со-общественные механизмы оказались исключительно неудачным средством сглаживания этнических конфликтов. _9_ Предложения Гиниер см. Guinier 1991, 1994a. О битве вокруг подтверждения ее полномочий как помощника генерального прокурора по гражданским правам, которую она проиграла из-за того, что отстаивала указанную схему, см. Guinier 1994b. История с Гиниер наводит на мысль о необходимости еще одного критерия – в дополнение к критерию представительной справедливости – для оценки предлагаемых правил принятия решений: степень их доступности для широкого понимания и восприятия в качестве демократических. _10_ Более развернуто об этих и сопутствующих трудностях, на которые наталкиваются предложения Горовица, см. Shapiro 1993: 145-147. _11_ В 1996 г. они получили 3 из 400 мест [Van Parijis 1996: 112]. _12_ Согласно Дж.Нейджелу [Nagel 1993: 11], сходный механизм действует в Новой Зеландии, где четыре парламентских места зарезервированы за новозеландскими маори, которые тоже рассредоточены географически. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ТЕОРИЮ ДЕМОКРАТИИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ И.Шапиро Полис, 2001., №5. Окончание. Начало см. Полис, 2001, №3, №4. III. Прочность демократии Сказанное выше не означает, что состязательную демократию легко учредить, а когда она уже учреждена, несложно поддерживать. Поколения ученых размышляли о том, что требуется для установления демократии. А. де Токвиль [Tocqeville 1966 (1832)] утверждал, что она есть порождение эгалитарных обычаев и нравов. С.М.Липсет [Lipset 1959: 69-108] видит в ней побочный продукт модернизации. Для Б.Мура [Moore 1965: 41332] решающий момент – появление буржуазии, тогда как Д.Рюшемейер с соавторами [Rueschemeyer et al. 1992] доказывают, что таковым является наличие организованного рабочего класса. В настоящее время представляется очевидным, что нет единого для всех пути к демократии и потому нельзя вывести общее правило, которое определяло бы необходимые для перехода к ней факторы. Демократия может оказаться результатом десятилетий постепенной эволюции (Британия и Соединенные Штаты), подражания (Индия), стремительных преобразований (значительная часть Восточной Европы в 1989 г.), обвалов (Россия после 1991 г.), революций (Португалия и Аргентина), соглашений, достигаемых через переговоры (Польша, Боливия, Никарагуа и Южная Африка); она может быть навязана сверху (Испания и Бразилия) или же извне (Япония и Западная Германия) [см. Przeworski 1991: ch.1; Huntington 1991: ch.1; Shapiro 1996: ch.4]. Не исключено, что возможны и другие варианты. Но независимо от того, как именно рождаются на свет демократии, при каких-то обстоятельствах они, по-видимому, имеют больше шансов выжить и расцвести, чем при других. В литературе существуют три подхода к трактовке этого вопроса: институциональный, экономический и культурный. Импульсом для появления литературы институционального направления послужило утверждение Х.Линца [Linz 1978; 1994], что парламентские системы стабильнее президентских. Согласно Линцу, президентские системы чреваты расколами как внутри политической культуры, так и между президентами и конгрессом, и не обладают достаточными институциональными механизмами для их преодоления. Парламентские же системы объявлялись им более устойчивыми и лучше приспособленными к тому, чтобы справляться с кризисами руководства. Точка зрения Линца была оспорена в работе М.Шугарта и Дж.М.Кэри [Shugart, Carey 1992: ch.3], подчеркнувшей различия между более и менее прочными президентскими системами, а также в монографии под редакцией С.Мэйнуэринга и того же Шугарта [Mainwaring, Shugart 1997: 12-35], где отмечалось, что слабые, или “реактивные”, президентские системы вроде той, которая действует в Соединенных Штатах, могут быть столь же устойчивыми, как и парламентские. Позднее другими учеными было высказано предположение, что наиболее значимые в этом плане установления могут быть связаны не столько с тем, является ли система президентской, сколько с иными ее институциональными свойствами. Стабильности, например, нередко больше способствуют высокая представленность президентской партии в ассамблее, благоприятные условия для коалиционной политики и концентрация исполнительной власти в правительстве, нежели парламентские институциональные установления. Скажем, в Латинской Америке именно этим и объясняются различия между более стабильными и управляемыми странами вроде Аргентины, Чили, Колумбии и Уругвая и менее стабильными, такими как Эквадор, Перу и современная Венесуэла [см. Foweraker 1998: 665-70; Cheibub, Limongi 2000]. Типичный образец литературы экономического направления – работа А.Пшеворского с коллегами [Przeworski et al. 2000: ch.2], исследовавших влияние экономического развития на устойчивость демократических режимов. Ученые констатируют, что, хотя установление демократии не предопределяется экономическим развитием, существует сильная зависимость между его уровнем (в частности, уровнем душевого дохода) и долговечностью демократических режимов. Демократии, похоже, никогда не гибнут в богатых странах, между тем как бедствующие демократии хрупки, особенно если доход на душу населения опускается ниже отметки в две тыс.долл. (по курсу 1975 г.). Когда душевой доход спускается за этот пороговый уровень, возникает примерно 10-процентная вероятность, что демократия рухнет в течение года. При душевом доходе между двумя и пятью тыс.долл. вероятность ее крушения оказывается уже один к шестнадцати. При уровне годового душевого дохода выше 6055 долл. демократиям, раз они уже учреждены, по-видимому, предстоит существовать бесконечно долго. Кроме того, вероятность выживания бедных демократий возрастает, если правительствам удается обеспечить экономический рост и избегать экономических кризисов [Przeworski et al. 2000: 106-117]. Труднее уловить какие-либо конкретные заключения в литературе культурного направления. В некоторых странах правительства, лишающиеся власти по итогам выборов, готовы скорее устроить государственный переворот, нежели уступить ее, но никому из потерпевших поражение на выборах американских президентов и в голову не приходит направить танки по Пенсильвания-авеню. Пытаясь хоть как-то это объяснить, многие апеллируют к убеждениям, к идеологии или же к какой-то иной культурной переменной. Такие объяснения, при всем их интуитивно ощущаемом правдоподобии, крайне сложно обосновывать систематическими исследованиями – отчасти потому, что люди подразумевают под культурой слишком разные вещи, но также и потому, что культурные объяснения обычно носят характер остаточных. С.Хантингтон [Huntington 1991: 36-37] утверждает, что для устойчивости демократии необходима приверженность демократическим ценностям со стороны политических элит. Эта догадка помогает объяснить казалось бы необъяснимую прочность – вопреки всем показателям вероятности – индийской демократии. В колониальный период многие представители индийских элит обучались в Оксфорде и Кембридже и имели возможность перенять приверженность демократии от англичан. Напротив, среди африканских политических элит это не было принято, и тот факт, что демократии, возникшие в бывших британских колониях на территории Африки, как правило, не выживали, вероятно, так или иначе с этим связан. Индией управляли сами англичане, для Африки же нормой было непрямое правление – через выходцев из местного населения [см. Mamdani 1996]. Успешное введение демократии в Японии и ФРГ после второй мировой войны позволяет предположить, что странам, не имеющим демократического опыта, демократию вполне можно привить при условии, если прямой контроль осуществляется до тех пор, пока не укоренятся демократические институты. Против универсальности такого заключения и одновременно в пользу важности культуры и убеждений свидетельствует пример Соединенных Штатов, где демократия уцелела, несмотря на то что Британия опиралась там на непрямое правление. Институциональные, культурные, экономические и другие переменные, вероятно, играют свою роль, однако имеющихся данных, к сожалению, недостаточно для проведения того статистического мультивариативного анализа, без которого нельзя получить систематическое представление об их соотносительной значимости. Для исследователей школы рационального выбора концептуальным является положение, что в условиях демократии беспокоиться о наличии у граждан демократических убеждений либо излишне, либо бессмысленно. Пшеворский [Przeworski 1991: 19-34], например, определяет демократию как систему добровольного или самоподкрепляющегося согласия, которая действует успешно только тогда, когда движимые личным интересом игроки, которым не удалось добиться своего, способны уяснить, что им выгоднее смириться с поражением и ждать следующего шанса победить в рамках существующих правил, чем разрушать самое систему. Когда система работает, нормативная приверженность демократии, даже если и существует, “не обязательна для согласия с демократическими результатами”. Если стратегический расчет вариантов со стороны тех, кто в состоянии разрушить систему, показывает, что в их интересах от этого воздержаться, – налицо достаточное и, скорее всего, необходимое условие выживания системы. Иного решения “проблемы приверженности” (как вслед за Т.Шеллингом [Schelling 1960] называют ее специалисты по теории игр) нет. Если Пшеворский прав, то пытаться склонить элиты к нормативной приверженности демократии – пустая трата времени. Когда такая приверженность требуется для предотвращения крушения демократии, она, по всей видимости, уже вряд ли поможет, когда же крушение не грозит, она излишня. В рамках такой концепции стимулы важнее понуждающих факторов и – аналогичным образом – значимее, чем культура и убеждения. Впрочем, Пшеворский сам приводит случай, противоречащий его рассуждениям о необходимости [стратегического расчета]; кроме того, похоже, имеются и иные примеры того, как группы, чьим инструментальным интересам наносят ущерб демократические процессы, тем не менее поддерживают их [см. Shapiro 1996: ch.4]. В своей более поздней работе Пшеворский [Przeworski 1999: 25-31] признал, что до сих пор не найдено теоретического решения проблемы приверженности, которое бы опиралось исключительно на мотивируемое личными интересами добровольное согласие. В эмпирическом плане подобная логика оставляет без объяснения тот факт, что многие проигравшие политики, не имеющие никакой мыслимой перспективы победить в будущем, смиряются с происшедшим. Дж.Картер и Дж.Буш (старший – Пер.) – вот две иллюстрации из недавней американской истории, однако эта практика восходит в Соединенных Штатах к событиям двухвековой давности, когда в 1800 г. Дж.Адамс согласился с поражением, которое нанесли ему Джефферсон и республиканская партия_1_. В любом случае, было бы слишком большим упрощением утверждать, что какая-то определенная структура предпочтений (подобная той, которую плюралисты называли системой взаимно пересекающихся расколов) приведет к возникновению самосохраняющихся демократических институтов, тогда как другие – нет. Предпочтения – не первичные данности; они формируемы – отчасти образованием и аккультурацией, отчасти же, как мы видели, – под влиянием институциональных установлений. Поэтому представляется разумным попытаться так структурировать среду, чтобы люди оценивали свои цели с точки зрения обоснованных запросов других людей и были готовы таким образом модифицировать способы их достижения, чтобы они не подрывали демократию. Это означает, что проигрывающие должны научиться признавать законность текущих поражений, а иногда и деятельно участвовать в проведении политики, против которой выступают. В свою очередь, победители должны быть достаточно благоразумны, чтобы не выжимать максимум возможного из своего нынешнего стратегического преимущества. Они должны понимать, что значительно мудрее относиться к существующей оппозиции терпимо, более того – ценить ее, даже если это ограничивает степень реализации их целей в конкретной ситуации. В общем, есть основания думать, что демократия способна выжить лишь в том случае, если люди привыкнут ценить ее как таковую, а не только за ее кратковременные инструментальные преимущества_2_. Другое направление научного анализа роли культуры в обеспечении стабильности демократии фокусирует внимание на убеждениях масс, а не элит. В некоторых исследованиях высказывается мысль, что, возможно, массовые представления о демократии каким-то образом и сказываются на ее прочности, но этот фактор, повидимому, играет не слишком важную роль и действует в соединении со многими другими переменными_3_. Существует также литература (центральное место в ней занимают работы Р.Д.Патнэма [Putnam 1993a, 1993b; 2000]), иначе трактующая проблему массовой политической культуры. Исходным пунктом здесь выступает не тезис о важности массовых представленияй о демократии, а убежденность в том, что прочность и долговечность ей сообщают участие людей в местных ассоциациях и особенно – их доверие к ним. К такому заключению Патнэма подвело его исследование, касающееся Италии, в котором он доказывал, что эффективное управление и институциональный успех зависят от жизнедеятельности гражданского сообщества. Патнэм обнаружил, что те регионы Италии, где не прерывалась традиция гражданской вовлеченности, достигали большего институционального успеха, нежели те, где при идентичных институциональных структурах гражданское участие отсутствовало. Широкая гражданская вовлеченность возможна лишь в том случае, если члены сообщества верят в то, что встретят аналогичное отношение со стороны окружающих, если они способны использовать социальные сети и располагают необходимыми для этого ресурсами. Патнэм ввел в научный оборот термин “генерализованная взаимность”, обозначив им социальную презумпцию того, что усилия одного члена сообщества, направленные на участие [в общем деле] и на защиту общего блага, встретят такие же ответные усилия других, знакомых или незнакомых. Вместе с тем он различал два типа сетей: горизонтальные, организующие индивидов с равными статусом и ресурсами, и вертикальные, соединяющие людей неравного статуса в отношениях зависимости или иерархии. Решающими для генерирования социального капитала, необходимого для институционального успеха, он считал горизонтальные сети, обычно возникающие из участия в делах сообщества. Вертикальные сети (скажем, католическая церковь, феодальная система ленной зависимости и клиентелизм) и впрямь не могут взрастить то социальное доверие, которое Патнэм считал существенно важным, ибо один и тот же момент сотрудничества приносит нижестоящему и вышестоящему разные результаты [Putnam 1993a: 173-5]. Согласно Патнэму, горизонтальное гражданское участие, подобно развертывающейся спирали, порождает все большее доверие, еще более развитые сети и высокие нормы, т.е. именно то, благодаря чему становятся возможными генерализованная взаимность, а тем самым – и институциональный успех. Развивая ту же мысль, Патнэм утверждает [Putnam 2000], что в современных Соединенных Штатах эрозия участия на уровне местных сообществ подрывает демократическое участие, а вместе с ним – стабильность и управляемость в целом. На протяжении первых 65 лет ХХ в. участие в политических группах, формальных общественных объединениях и неформальных клубах (типа ассоциаций игроков в кегли или бридж-клубов) постоянно росло. Однако со второй половины 1960-х годов оно стало сокращаться. Патнэм схематично изображает динамику этой традиции общения в рамках местных сообществ и политического участия, а затем пытается объяснить ее убывание, приписывая его воздействию разнообразных факторов – от субурбанизации до масс-медиа (особенно телевидения), а также демографических сдвигов: старшее поколение, вовлеченное в социальные сети, вымирает, а поколения, приходящие ему на смену (те, кто родился в первое десятилетие после второй мировой войны и позже) не замещают его в рядах общественных, политических и благотворительных организаций. Не проявляют новые поколения и интереса к неформальным социальным сетям, которые так нравились старшему поколению. Результатом, как утверждает Патнэм, является атрофия социальных сетей, составляющих основу генерализованной взаимности, столь важной для эффективного функционирования демократических институтов. Рассуждения Патнэма, как они ни увлекательны, вызвали резкую критику со стороны историков Италии и исследователей современной американской демократии [Goldberg 1996; Sabetti 1996; Levi 1996; Gobetti 1996; Ladd 1999]. С теоретической точки зрения трудно понять, почему сильные местные привязанности и доверие в рамках локальных гражданских групп должны перерастать в доверие к демократическим политическим институтам. В свое время Руссо [Rousseau 1968: 150ff] утверждал, что преданность “частным сообществам” (“sectional societies”) скорее подрывает, нежели усиливает приверженность коллективному благу. М.Леви [Levi 1996: 45-56] в связи с позицией Патнэма высказывает аналогичное соображение: логичнее предположить, что сильное доверие к местным гражданским ассоциациям породит недоверие к правительству, как происходит, например, в группах милиции. На это можно было бы возразить, что для демократии важны связывавшие себя публичными обязательствами масштабные гражданские институты, но по такому критерию непросто развести бойскаутов и гитлерюгенд. Как и в случае с литературой о якобы пагубных эффектах “расколотых обществ”, в настоящее время сложно найти убедительные концептуальные или эмпирические доказательства того, что низкие уровни гражданского доверия губительны для демократии. IV. Дополняя концепцию Шумпетера Хотя мало кто сегодня поддержал бы идею однопартийной демократии, многих специалистов-теоретиков не устраивает сведение демократической политики к процедурам конкурентного плюрализма. В одних случаях такая неудовлетворенность мотивирована тем, что, как признается с момента публикации исследования К.Эрроу [Arrow 1951], не существует совершенных процедурных правил принятия решений. В других – ее источником служит соображение о том, что демократия предполагает множественность приверженностей, которые могут вступать в противоречие друг с другом. Вопрос, таким образом, предстает в следующем виде: какие необходимые условия должны требоваться дополнительно? Загвоздка здесь в том, что, по-видимому, нужен субстантивный критерий, который бы позволял определять, когда процедуры не сработали или же возникли указанного рода противоречия, и решать, какая дополнительная процедура была бы адекватной в данной ситуации или чем можно исправить сложившееся положение вещей. Но теорий субстантивной демократии столько же, сколько и теоретиков [см., напр. Ely 1980; Habermas 1984; Beitz 1988], и представляется маловероятным, чтобы какая-либо из них завоевала философское первенство_4_. В результате остается лишь один из двух вариантов: либо произвольно выбрать какую-то из этих теорий, либо вновь прибегнуть к процедурам, что равнозначно проблеме курицы и яйца. Стремясь решить эту головоломку, некоторые исследователи попытались выработать промежуточную – между процедурной и субстантивной – позицию, предложив квазисубстантивные сдержки для демократических процедур. Р.Бэрт [Burt 1992], например, утверждает, что в основе демократии лежит приверженность одновременно двум принципам – подчинения меньшинства большинству и недопустимости господства большинства над меньшинством; поэтому между этими принципами всегда существует потенциальная возможность конфликта, которая актуализируется, когда большинство принимает решения, ведущие к подавлению меньшинства. При возникновении таких конфликтов, считает он, вопрос надлежит решать в судебном порядке, причем судьи не должны вести себя так, как будто им известно, каким образом должен быть разрешен конфликт. Напротив, им следует, объявив порожденное демократическим процессом господство неприемлемым, настаивать на том, чтобы стороны вновь попытались прийти к взаимному согласию. Так, в отличие от многих, кто счел чересчур осторожной позицию, занятую Верховным судом США в 1950-е годы и позднее в делах о десегрегации в школах, Бэрт полагает, что подход Суда был правильным. В деле “Браун против Министерства просвещения” судьи объявили доктрину “раздельного, но равного” образования противоречащим Конституции нарушением права на равную защиту, но не стали высказываться относительно того, какие формы школьного обучения были бы приемлемыми [Brown v. Board of Education I 347 US 483 (1954)]. Вместо этого они передали вопрос в законодательные собрания южных штатов, потребовав, чтобы те сами наметили пути его разрешения [Brown v. Board of Education II 349 US 294 (1955)]. В ходе последующих тяжб предложения ассамблей выносились на рассмотрение суда, и в этих случаях суд их оценивал, часто находя неудовлетворительными [Burt 1992: 271-310]. Однако сам он не предлагал средства исправления ситуации и потому избежал обвинения в узурпации законодательной функции. С убедительным обоснованием положения о том, что в условиях демократии суды, выходя за рамки отведенной им “реактивной” роли, подрывают собственную легитимность, выступила Р.Гинзбург. Суду иногда бывает необходимо на шаг “опережать” политический процесс, чтобы добиться требуемых конституцией реформ, отмечает она, но если в таком опережении он заходит слишком далеко, то может вызвать недовольство и навлечь на себя обвинение в нарушении границ, фиксирующих его место в демократическом конституционном устройстве [Ginsburg 1993: 30-38; см. также “Nomination of Ruth Bader Ginsburg to Be an Associate Justice of the United States Supreme Court: Report Together with Additional Views”, Executive Report. 103-6-93-1, US Senate 1993 ]. Примером, иллюстрирующим такую опасность, и она, и Бэрт считают подход, который был избран судьей Блэкманом в деле “Роу versus Уэйд” [Roe v. Wade 410 US 113 (1973)]. Здесь, в отличие от дела “Брауна”, Верховный суд не ограничился тем, что отменил закон штата, в данном случае – закон штата Техас об абортах. В документе, отражавшем мнение большинства, был детально расписан набор критериев, определяющих условия, соблюдение которых требовалось для признания какого-либо закона об абортах соответствующим Конституции. По существу, Блэкман создал свой собственный федеральный закон об абортах. Как писала Гинзбург, Суд “не предлагал никакого диалога с законодателями. Напротив, он, похоже, полностью лишал их всякой возможности действовать”, уничтожив практически все существовавшие тогда формы регулирования абортов [Ginsburg 1993: 32]. По мнению Гинзбург и Бэрта, принятие столь широкого решения по делу “Роу”, ослабило демократическую легитимность суда и одновременно привело к поляризации мнений по вопросу об абортах, открыв зеленую улицу всевозможным проектам либерализации законов об абортах, активно разрабатывавшимся в различных штатах. В период с 1967 по 1973 г. в 19 штатах были приняты законы, расширившие набор оснований, при которых разрешалось прибегать к аборту. Однако многие участницы феминистского движения были не удовлетворены темпами и масштабом реформ и развернули кампанию, приведшую в итоге к появлению дела “Роу”. Бэрт признает, что в 1973 г. не было ясно, “означают ли недавно принятые законы штатов начало общенационального движения к отмене всех ограничений на аборты”, более того – “приведут ли они к значительному расширению доступности аборта даже в так наз. либерализированных штатах”. Тем не менее, отмечает он, “проблема абортов открыто, горячо обсуждалась на многочисленных публичных форумах, и, в отличие от ситуации, существовавшей еще в 1967 г., уже нельзя было сказать, кто одерживает верх” [Burt 1992: 348]. Принимая решение по делу “Роу”, Верховный суд мог бы, как это было сделано в деле “Брауна”, приостановить действие закона штата Техас об абортах и передать вопрос для дальнейшего рассмотрения обратно в законодательное собрание штата. Тем самым он ограничил бы свободу рук легислатур в области регулирования абортов, не включаясь непосредственно в разработку соответствующих норм. Это оставило бы пространство для демократического разрешения конфликта, обеспечив сохранение права на аборт, и в то же время поддержало бы легитимность роли суда в демократической стране [Burt 1992: 349-52]_5_. Сходная точка зрения была высказана мною в одной из недавних работ [Shapiro 1999], где я призываю к настороженному отношению к иерархиям, возникающим в ходе демократического процесса, поскольку они ограничивают обязательную для демократии способность к эффективной оппозиции. Иерархии часто бывают легитимными, когда же они создаются демократическим способом, у них появляются особенно веские основания претендовать на нашу лояльность. Но иерархии имеют тенденцию перерождаться в системы господства. Отсюда – необходимость в институциональных сдержках, которые бы возлагали бремя доказывания [справедливости своих позиций] на возможных защитников иерархии. В одних случаях подходящим механизмом контроля окажутся суды, действующие в соответствии с моделью Гинзбург – Бэрта, в других – иные институты, наделенные правом пересматривать принятые решения. Но какими бы ни были механизмы, задача состоит в том, чтобы стимулировать граждан демократических стран к поиску таких способов достижения своих целей, которые бы максимально расширяли участие в принятии решений и минимизировали диктат. Как и в позиции Гинзбург и Бэрта, здесь нет расчета на то, что некий институциональный “конструктор”, выступающий в качестве третьей стороны, знает, каким должен быть правильный ответ. Идея, скорее, в следующем: надо попытаться построить все таким образом, чтобы у самих игроков были стимулы находить и даже изобретать способы, позволяющие избегать извращающих демократию следствий демократических процедур и сводить к минимуму противоречия между нею и стремлением к другим благам. Кто-то сочтет, что при таком подходе судам отводится слишком незначительная роль в деле защиты важных свобод, ориентируясь при этом на либеральный конституционализм, ограничивающий демократию, а не на демократический конституционализм, который стремится сделать ее более эффективной [см. Rawls 1971; Ackerman 1980; Dworkin 1986]. Со времени, по меньшей мере, Токвиля вошло в обыкновение опасаться, что демократия таит угрозу для политической свободы. Однако Токвиль, как напомнил нам недавно Даль [Dahl 2001: ch.4], был неправ. За полтора века, прошедшие со времени публикации его работ, выяснилось, что в демократиях политические свободы обеспечены надежнее, чем в не-демократиях. В 1956 г. Даль скептически отозвался о возможности доказать, даже применительно к демократиям, что конституционные суды позитивно влияют на степень уважения к индивидуальным свободам. Дальнейшие исследования подтвердили, что этот скептицизм вполне обоснован [см. Dahl 1956: 105-12; 1989: 188-92; Tushnet 1999; Hirschl 1999]. Есть даже основания полагать, что популярность независимых судов в новых демократиях имеет больше общего с популярностью независимых банков, нежели с защитой индивидуальных свобод. Учреждение таких судов может сигнализировать иностранным вкладчикам и международным экономическим институтам о том, что возможности выборных должностных лиц заниматься перераспределением или вмешиваться в права собственности будут ограничены. То есть, они способны быть механизмом, сдерживающим внутриполитическую оппозицию, снимая проблему непопулярной политики с повестки дня [Hirschl 2000]. Другие могут заявить, что рассмотренные мною промежуточные точки зрения являются по своему скрытому смыслу субстантивными. Если суды или другие органы, наделенные правом пересматривать принятые решения, вмешиваются в результаты демократических процедур, объявляя их неприемлемыми по соображениям демократии, значит, должна существовать, пусть неявно, некая теория субстантивной демократии, ссылаясь на которую выносят такие вердикты. Согласие с данным выводом означало бы слишком поспешный отказ от потенциально возможных промежуточных точек зрения. Между тем к их появлению приводит интуитивная убежденность, что люди могут обоснованно считать что-то неприемлемым, даже когда не в состоянии ясно выразить свое представление о том, что было бы приемлемым. В 1970-е годы в Южной Африке многие не сомневались в том, что апартеид есть нарушение существенных принципов демократического правления, но вряд ли кто-то мог бы детально изложить суть последовательной теории демократического представительства или хотя бы рассказать, как бы он разрешал те многочисленные головоломные проблемы, связанные с представительством, которые возникли в Южной Африке после крушения апартеида. Случай драматичный, но не атипический; человеческие существа – во многом реактивные приспосабливающиеся создания. Они отвергают то, что неприемлемо, и сторонятся того, что терпит провал, полагая, что должна существовать возможность прийти к чему-то лучшему. Обычно в этом больше от регулятивного идеала, чем от потенциальной теории, и их надежда нередко оказывается напрасной. Но не всегда. Промежуточные точки зрения основываются на предположении, что человеческая изобретательность довольно часто способна справиться с вызовом, обусловленным провалами демократических процедур, и что влиять на исходные условия с целью облегчить достижение такого результата – это лучшее демократическое решение в сравнении с имеющимися альтернативами_6_ . V. Подытоживающие комментарии Принято проводить различие, хотя это отчасти неверно, между теми трактовками демократии, которые связывают ее назначение с управлением властными отношениями, и теми, которые делают упор на поиске общего блага. Агрегативная и делиберативная концепции общего блага сталкиваются с серьезными проблемами, как мы видели в первой части, где я доказывал, что альтернативный подход, фокусирующий внимание на демократии как средстве легитимного управления властными отношениями, обладает явными преимуществами. Вместе с тем в основе такого подхода тоже лежит некая идея общего блага, пусть несколько нечетко выраженная и играющая подчиненную роль. Перефразируя Макиавелли, я предположил, что общее благо включает в себя все признаваемое теми, кто хочет избежать чьего бы то ни было господства над собой. Оно требует как широкоохватного участия, так и права на лояльную оппозицию, т.е. свободы каждого участвовать в принятии решений, которые так или иначе его затрагивают, а также выступать против отвергаемых им результатов и пытаться их изменить, действуя в рамках системы. Размышляя во второй части об оптимальных средствах обеспечения демократических прав участия и оппозиции, я отталкивался от анализа позиций критиков и сторонников шумпетерианской концепции демократии. Я доказывал, что эта концепция демократии уязвима по следующим двум причинам: (1) демократические системы, как правило, не являются конкурентными в том смысле, который предполагается моделью; (2) не оправдана концентрация внимания исключительно на институтах государственного управления, учитывая повсеместное присутствие властных отношений в других сферах общественной жизни. При всей серьезности этих критических замечаний правильным решением, на мой взгляд, было бы, скорее, не безоговорочное отвержение шумпетерианского идеала, а поиск тех способов, которые бы позволили сделать политику подлинно конкурентной и распространить демократические механизмы на области коллективного действия, находящиеся за пределами сферы государственного управления. Опасности, связанные с отказом от идеи политической конкуренции, рассматривались по ходу обсуждения концепции со-общественности: он может порождать самосбывающиеся прогнозы о невозможности демократии или предполагать согласие с невероятным утверждением, будто институционализированный консенсус есть ее адекватное воплощение. Я не касался вопроса о распространении демократии на негосударственные формы общественной жизни, так как эта тема обстоятельно исследовалась мною в другой работе [Shapiro 1999]. Если нет достаточных оснований полагать, что демократия в каких-то частях мира невозможна, это не означает, что она возможна в любых обстоятельствах, – указывал я в третьей части. Укоренившиеся антипатии, которые сложно преодолеть релевантными способами, диктаторы, вцепившиеся во власть мертвой хваткой, или какие-то другие факторы могут сделать демократические нововведения маловероятными. Однако переходы к демократии могут происходить в самых неподходящих для этого условиях (недавний пример – Нигерия в 1999 – 2000 гг.), причем несколькими путями. Еще более жестко обусловленной является вероятность сохранения демократия, каким бы образом та ни была установлена. Знаний на сей счет в политической науке накоплено на удивление мало. Отсутствие крайней бедности и экономический рост представляются благоприятными факторами, но вопросы о том, какие институциональные и культурные факторы в большей, а какие – в меньшей степени способствуют политической стабильности демократии, во многом еще находятся в стадии разработки. В четвертой части я критикую шумпетерианскую систему за то, что она, будучи сугубо процедурной, может порождать извращающие демократию результаты. Очевидный пример: большинство голосует за лишение меньшинства избирательных прав или какимто иным способом подрывает эффективность оппозиции с его стороны. Попытки преодолеть недостатки чисто процедурного подхода с помощью теорий “субстантивной” демократии порождают свои трудности, из которых самая явная – необходимость выбирать между такими теориями, не прибегая при этом к процедурным решениям. Вместе с тем потенциально результативной мне представляется та область, которую осваивает группа теоретиков квазисубстантивной демократии, пытающихся найти институциональные средства ограничивать предрасположенность демократии к порождению результатов, противоречащих самому ее духу. Я фокусирую внимание прежде всего на их представлениях о надлежащей роли конституционных судов. В отличие от либеральных конституционалистов, которые видят назначение таких судов в защите либеральных ценностей от превратностей демократии, теоретики названной группы доказывают, что суды должны заниматься лишь защитой демократии от нее самой. Их вмешательство легитимно только тогда, когда демократическому процессу угрожает сбой или когда следование одному демократическому императиву подрывает другой_7_ . Но и в этих случаях, согласно описываемым концепциям, для обретения и сохранения легитимности судов в демократических системах требуется, чтобы характер их вмешательства содействовал укреплению демократии. ____________________________________ Ackerman B. 1980. Social Justice in the Liberal State. New Haven. Arrow K.J. 1951. Social Choice and Individual Values. N.Y. Beitz Ch. 1988. Equal Opportunity in Political Representation. – Bowie N.E. (ed.). Equal Opportunity. Boulder, Col. Berg-Schlosser D., De Meur G. 1994. Conditions of Democracy in Interwar Europe: A Boolean Test of Major Hypotheses. – Comparative Politics, vol. 26, № 3. Burt R.A. 1992. The Constitution in Conflict. Cambridge, Mass. Cheibub J., Limongi F. 2000. Parliamentarism, Presidentialism, Is There a Difference? Mimeo. Yale University. Dahl R.A. 1956. A Preface to Democratic Theory. Chicago. Dahl R.A. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven. Dahl R.A. 2001. A Democratic Critique of the American Constitution. New Haven. Dworkin R. 1986. Law’s Empire. Cambridge, Mass. Ely J.H. 1980. Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review. Cambridge, Mass. Foweraker J. 1998. Institutional Design, Party Systems and Governability – Differentiating the Presidential Regimes of Latin America. – British Journal of Political Science, vol. 28. Ginsburg R.B. 1993. Speaking in a Judicial Voice. Madison Lecture, New York University Law School. Mimeo. Gobetti D. Regularities and Innovation in Italian Politics. – Politics and Society, vol. 24. Goldberg E. 1996. Thinking about How Democracy Works. – Politics and Society, vol. 24. Habermas 1984. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Boston. Hardin R. 2000. Liberalism, Constitutionalism, and Democracy. Oxford. Hirschl R. 1999. Towards Juristocracy: A Comparative Inquiry onto the Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Unpublished Yale Ph.D. Thesis. Hirschl R. 2000. The Political Origins of Juridical Empowerment through Constitutionalization: Lessons from Four Constitutional Revolutions. – Law and Social Inquiry, vol. 25 (1). Huntington S.P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Okla. Ladd E.C. 1999. The Ladd Report. The Free Press. Levi M. 1996. Social and Unsocial Capital: A Review Essay of Robert Putnam’s Making Democracy Work. – Politics and Society, vol. 24, № 1. Linz J. 1978. The Breakdown of Democratic Regimes: Crises, Breakdown and Reequilibration. Baltimore. Linz J.J. 1994. Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference? – Linz J.J., Valenzuela A. (eds.) The Failure of Presidential Democracy. Baltimore. Lipset S.A. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. – American Political Science Review, vol. 53. Mainwaring S., Shugart M.S. (eds.).1997. Presidentialism and Democracy in Latin America. Cambridge. Mamdani M. 1986. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton, NJ. Moore B. 1966. The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston. Muller E.N., Seligson M.A. 1994. Civic Culture and Democracy: The Question of Causal Relationships. – American Political Science Review, vol. 88. Pettit Ph. 1997. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. N.Y. Pettit Ph. 2000. Democracy, Electoral and Contestatory. – Shapiro I., Macedo St. (eds.) Nomos: XLII: Designing Democratic Institutions. N.Y. Przeworski A. 1991. Democracy and the Market. Cambridge. Przeworski A. 1999. Minimalist Conception of Democracy: A Defense. – Shapiro I., HackerCordon C. (eds.) Democracy’s Value. Cambridge. Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J., Limongi F. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950 – 1990. Cambridge. Putnam R.D. 1993a. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton. Putnam R.D. 1993b. The Prosperous Community: Social Capital and Public Affairs. – The American Prospect, vol. 13. Putnam R.D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. N.Y. Rawls J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Mass. Rousseau J.-J. 1968. The Social Contract. Harmondsworth. Rueschemeyer D., Stephens E.H , Stephens J.D. 1992. Capitalist Development and Democracy. Oxford. Sabetti F.1996. Path Dependency and Civic Culture: Some Lessons from Italy about Interpreting Social Experiments. – Politics and Society, vol. 24. Shapiro I.1996. Democracy’s Place. Ithaca. Shapiro I. 1999. Democratic Justice. New Haven. Shapiro I. 2001. Abortion: The Supreme Court Decisions 1965 – 2000. Indianapolis. Shelling Th. C. 1960. The Strategy of Conflict. Cambridge. Shugart M., Carey J.M. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. N.Y. Tocqueville A. de. 1966 [1832]. Democracy in America. N.Y. Tushnet M. 1999. Taking the Constitution Away From the Courts. Princeton, NJ. Wollheim R. 1962. A Paradox in the Theory of Democracy. – Laslet P., Runciman W.G. (eds.) Philosophy, Politics, and Society. 2nd series. _1_ Р.Хардин [Hardin 1999: 136] характеризует признание Адамсом своего поражения как “пожалуй, самый важный единичный акт из тех, которые совершались кем-либо в рамках Конституции Соединенных Штатов в первые десятилетия ее действия... придавший нарождавшейся американской демократии такую смысловую наполненность, какая должна наличествовать во всяком разумном определении демократии”. _2_ Это означает, что парадокс Уоллхайма (фиксирующий возможность напряжения между тем, к чему индивид стремится, и тем, как он должен относиться к своему предпочтению в случае, если то не удается реализовать посредством процедур демократического принятия решения, кои он считает легитимными) следует рассматривать скорее как проблему политической социализации, нежели как философский парадокс [Wollheim 1962: 77-87]. _3_ Эмпирическое исследование, где обосновывается положение о том, что никакая отдельная переменная не является решающей, см. Berg-Schlosser, De Meur 1994. Анализ, показывающий, что одни аспекты политической культуры более значимы для сохранения демократии, чем другие, см. Muller, Seligson 1994. _4_ Дальнейшее обсуждение этой проблемы см. Shapiro 1996: ch.2. _5_ Подход Гинзбург и Бэрта был позднее использован Верховным судом в деле “Комитет штата Пенсильвания по планированию семьи против Кейси” [Planned Parenthood of Pennsylvania v. Casey 112 S. Ct. 2791 (1992)]. Констатировав фундаментальное конституционное право женщины на аборт, признав законность заинтересованности штата в сохранении потенциальной жизни и указав, что штаты не вправе добиваться реализации этого интереса чрезмерно обременительным для женщин способом, Суд тем самым установил базовые параметры, которыми должны были руководствоваться законодательные собрания при разработке законодательства об абортах. Приверженность Суда такому подходу была вновь подтверждена в деле “Стенберг versus Кархарт” [Stenberg v. Carhart 120 S. Ct. 2597 (2000)]. Дальнейшее рассмотрение этой проблемы см. предисловие редактора к моей недавней работе [Shapiro 2001]. _6_ Иной вариант промежуточной позиции см. Pettit 2000. _7_ Примером (он подсказан обсуждением во второй части темы олигополистической конкуренции и сговора) могла бы стать попытка американских судов применить направленные на защиту общественных интересов антитрестовские меры против политических партий.