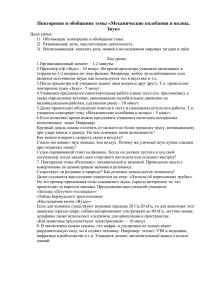Становление акустической формы фильма в процессе монтажа
advertisement
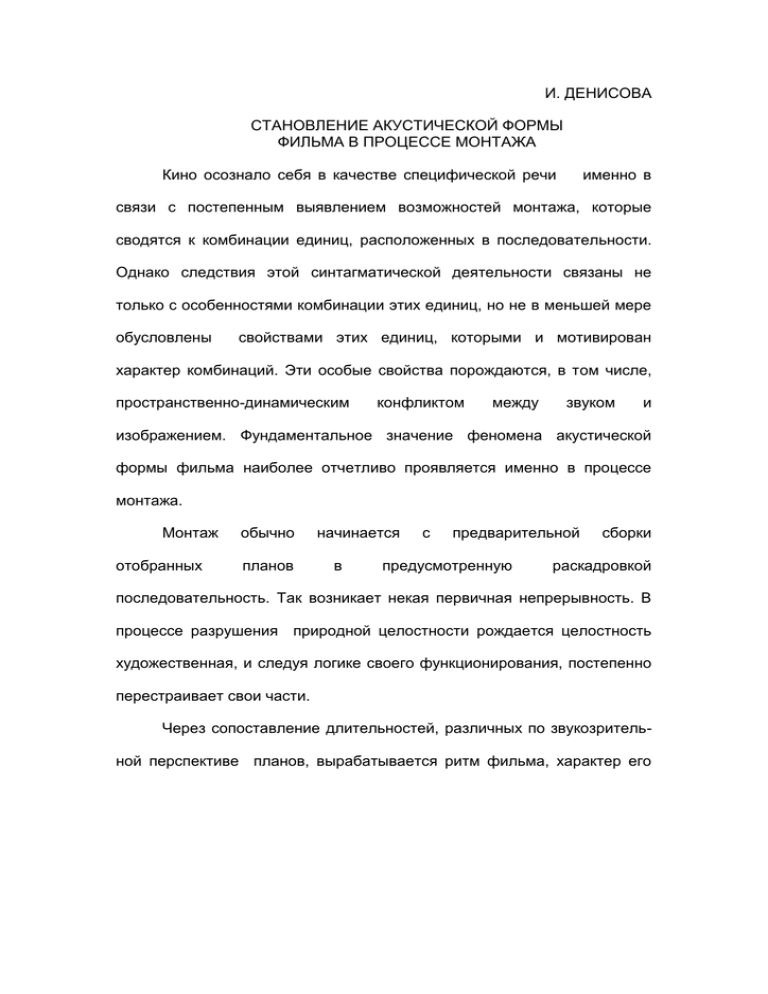
И. ДЕНИСОВА СТАНОВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ФИЛЬМА В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА Кино осознало себя в качестве специфической речи именно в связи с постепенным выявлением возможностей монтажа, которые сводятся к комбинации единиц, расположенных в последовательности. Однако следствия этой синтагматической деятельности связаны не только с особенностями комбинации этих единиц, но не в меньшей мере обусловлены свойствами этих единиц, которыми и мотивирован характер комбинаций. Эти особые свойства порождаются, в том числе, пространственно-динамическим конфликтом между звуком и изображением. Фундаментальное значение феномена акустической формы фильма наиболее отчетливо проявляется именно в процессе монтажа. Монтаж отобранных обычно планов начинается в с предварительной предусмотренную сборки раскадровкой последовательность. Так возникает некая первичная непрерывность. В процессе разрушения природной целостности рождается целостность художественная, и следуя логике своего функционирования, постепенно перестраивает свои части. Через сопоставление длительностей, различных по звукозрительной перспективе планов, вырабатывается ритм фильма, характер его последовательности.Эта специфическая деятельность позволяет судить о пространственно-временной структуре фильма. В процессе становления монтажной наиболее многоплановый этап формирования структуры начинается акустической формы фильма, который завершается в процессе перезаписи. Озвучивание реплик, запись синхронных шумов и запись музыки - каждый из этих процессов отличается специфическим отношением к тому или иному аспекту акустической формы . Все они так или иначе ориентированы на становление звукозрительной монтажной структуры фильма. Однако обогащение шумовой стороны фонограммы сопротивляется языковой интерпретации. Раньше, в тридцатых годах, шумы вводились в фильм как знаки-иконы: шум автомобиля указывал на автомобиль и т.п. Дело в том, что в естественных условиях шумы, накладываясь друг на друга, обычно создают некую нерасчленимую, аморфную массу, разрушающую иконический характер каждого звукового элемента. Шумы поглощают друг друга. Чтобы шум значил, он должен быть специально выделен.Чем натуралистичнее воспроизведение звучащего мира, тем асемантичней оно становится. Между звуком и изображением существует ассиметрия. С первого взгляда, изображение без звука и звук без изображения кажутся взаимодополнительными и симметричными ситуациями. В действительности же два момента делают их совершенно различными. Во-первых, изображение без звука отличается от звука без изображения тем, что первое - распространенейшее в природе явление (стоящий без движения человек), в то время как второе невозможно. Звуки всегда изображаются чем-то. Как указал Белла Балаш, существует значительная разница между восприятием звука и идентификацией его источника.1 Благодаря своей особенности существовать без источника звук несет в себе естественное напряжение. Этот факт объясняется чисто физическими различиями: свет распространяется по прямой, если нет зеркал и полированных поверхностей на пути, звук же передается скорее как точка, и таким образом облегчает свое отражение. Его отражает почти любая поверхность.Мы слышим из-за угла, а видеть из-за угла не можем. Вытекающие отсюда ограничение зрения только присутствующими вещами и, наоборот, определение присутствия дополняется несводимостью слышания источникам. Поскольку связь звука как видимости к зрительно присутствующим и изображения обусловлена естественной функциональной связью, синхронный кадр может лишь репрезентировать такую связь, удостоверять принадлежность звука к видимому его источнику. Служебная функция звука здесь состоит лишь в том, что он увеличивает количество перцептивно значимых элементов изображения, приближая его и по модальности материала к _______________________________ 1 Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М., 1968, с.215 физиологически точному изображению. Простейшая знаковая функция возникает лишь тогда, когда звук хотя бы замещает отсутствующий в кадре его источник, так как в этом случае звук становится его акустическим эквивалентом. Синхронная запись оказывается лишь техническим приемом, способом увеличения натуралистичности изображения. Она не является специфически кинематографическим кодом и сама по себе не наделяет изображение значением. “Озвученное изображение” дает больше информации о диегетическом объекте, чем о монтажном смысле предъявляемых кадров. Такая информация может быть выражена только в монтажной конструкции. В кино единство звука и изображения достигается их монтажной связью. Следствия относительной свободы звука по сравнению с изображением многочисленны. Два из них имеют большое значение: 1. Способность звука быть слышным из-за угла делают его идеальным способом изображения невидимого, сверхъестественного Изображение же всегда видимо, реально. 2. Звук всегда несет напряжение неизвестности, пока он “невидим”. В то время, когда изображение не создает дискомфорта без звука, то звук должен быть отнесен к определенному источнику и локализирован. Таким образом, завершение целостного образа зависит от слушателя, который должен оглядеться и найти источник звука. Говоря словами Брессона, звук всегда провоцирует изображение, изображение никогда не провоцирует звук. “Правила игры” Ренуара показывают, до какой степени поиски источника звука могут определять композицию кадра. Камера как будто бродит в поисках такого источника. Сходное явление наблюдаем в “Персифале” Ромера. В начале фильма Ромер устанавливает с помощью камеры два пространства. Одно из них диегитическое, другое место звуков. По ходу фильма монтажным стыком или панорамой мы переносимся из диегитического пространства в пространство звука, как если бы речь шла об объяснении источника разнообразных аспектов фонограммы, не объясненных в диегезисе. В одном месте монтаж нас даже переносит в пространство, где и производятся шумовые эффекты, которые мы до этого читали как шум доспехов. Этот прием открывает возможности и двоякого прочтения звука с последующим, как у Ромера, разоблачением. Далее сходное движение камеры регулирует и отношения “диалог-изображение”. Мы слышим слова до того, как думаем, откуда они доносятся, и лишь позже, с помощью крупного плана, они ассоциируются с определенными персоналиями. Звук, например, как генератор смысла, является неким блуждающим звеном, за локализацию которого борются элементы изображения. Поскольку он не порождается непосредственно изображением, а приписывается наиболее вероятному источнику, например, человеку, чьи губы шевелятся, то в фильме постоянно наблюдается игра взаимовлияний пространственных монтажных структур и звука. Однако в силу того, что звук в фильме не нуждается в источнике, к которому он мог бы приписываться, то обычно говорит тот, чьи губы шевелятся. В противном случае, звук, оказавшись беспризорным, мог бы оказать деструктивное влияние. В категориях звука изображение всегда приобретает характер вопроса. Динамик создает шум, который вызывает напряжение слушателя-зрителя и, не видя иного источника, кроме изображения на экране и испытывая потребность укоренить звук, зритель принимает предположение, что звук исходит из изображения, в то время как он производится динамиком. Эта передислокация звука от аппарата к диегезису является частью фундаментального для кинематографа движения. Давая зрителю более логичный ответ на вопрос, откуда доносится звук, изображение переключает нас на видимый, хотя и ложный, источник. Звук использует видимое, чтобы спрятать свою причину. Можно сказать, что изображение в процессе монтажа участвует лишь в выработке синтагматических отношений в последовательности, потому что, как только изображение снято, изменить визуальную перспективу или перспективные отношения элементов кадра невозможно. Звук интерпретирует парадигматические отношения между звуком и изображением внутри монтируемых планов. Эта особенность звука реализуется посредством различных способов фонической реорганизации тех или иных аспектов акустической формы звука во время озвучания реплик, записи шумов и музыки, монтажа и перезаписи. Звуковой монтаж - это, прежде всего, монтаж слова. Фильм начинается как речь сценариста. Право на речь неизбежно влечет право на появление в кадре. И, хотя существуют исключения из этого правила, в целом мы можем утверждать, что актеры получают право на место в изображении, если они до этого получили место в фонограмме. Развивая монтажные принципы в звуковом кино, Эйзенштейн считал главным контрапунктическое взаимодействие изображения и звука. Экстатическая форма линейного движения сохраняет все музыкальные ограничения (континуальность, плавность, геометричность), но одновременно находит такие вещи внутри самой этой системы ограничений, которые предполагают возможность выхода за ее пределы, возможность линии быть не там, где должна. Это те аффекты, которые не способна выразить рационалистическая музыка, построенная на мелодизме и гармонии. Но они же одновременно составляют сюррациональную память тела, тот интеллектуальный ту “обертон”, благодаря которому кинематограф, двигаясь в сфере музыкальности, выходит за ее пределы, писал Эйзенштейн.1 Почему же в то время, когда теоретики кино призывали к организации контрапункта звука и изображения, в классическом повествовательном кинематографе камера постоянно направлялась на говорящего? Здесь необходимо подумать об общем статусе речи в звуковом кино. Среди звуков речь, безусловно, царит. Основная цель звукового монтажа - обеспечить ясность фильмического диалога. Этот акцент на диалог возникает в связи с той ролью, которую он играет в формировании повествовательной линии. Без диалога изображения неполны, неопределенны. Диалогичность кинематографического пространства, казалось бы, должна создавать весьма благоприятные предпосылки для воплощения диалога на экране, ведь он может быть подкреплен особым структурированием пространства, созданием тонких отношений между говорящими.Однако постепенно сложился особый тип монтажного изображения диалога, называющийся восьмерка. Восьмерка снимается в соответствии с принципом треугольника и является лишь частным __________________________ 1 См.: Эйзенштейн С. Обертонный монтаж. Собр.соч., т.3, с.203. случаем, характерной для классического кино тенденции визуально идентифицировать источник звука. Среди наиболее существенных движений камеры, следует назвать тенденцию двигать камеру на звук, направлять ее на то место, откуда звук слышится, то есть превращать внекадровый звук во внутрикадровый. Точнее камера направляется не на непосредственный источник звука, а на тот предмет, который нам указывается в качестве такового . Таким образом, классический кинематограф не структурированием подкрепляет пространства диалог и тем соответственным самым нивелирует диалогические отношения между персонажами однородностью монтажного пространства. Потеряв функцию пространственного ориентира, взгляды становятся диспетчерами речи и, замкнувшись друг на друге, служат для устранения нежелательных субъективных планов, которые могли бы иметь деструктивное для пространства диалога значение. Восьмерка поэтому создает очень хрупкую структуру взаимоотношений между персонажами. Она постоянно нуждается в поддержке ситуационных кадров и звука, поскольку говорящий доминирует над слушающим, то распределение речи в диалоге играет важную, организующую пространство роль. Химеричность сконструированного визуального пространства получает обоснование в данности пространства акустического. В этой перспективе вопрос о звукозрительном монтаже и аудиовизуальном синтезе может быть сформулирован как поглощение визуальной монтажности акустическим пространством. В своих теоретических трудах Эйзенштейн стремился найти ключ к соизмеримости между куском музыки и куском изображения. Ту же проблему ставил Вертов: “Фильм звуковой, а не озвученный немой вариант”. “Фильм синтетический, а не звук+изображение. Не может быть показан односторонне только в изображении или только в звуке. Изображение здесь лишь одна из граней многогранного произведения. Рождается третье произведение, которого нет ни в звуке, ни в изображении, которое существует лишь в непрерывном взаимодействии фонограммы и изображения”.1 Вертов характеризует свой “киноглаз” как новое движение. Оно соответствует движению самой материи, разнопорядковому движению атомов, порождающему тот ритм, который должен быть воспроизведен в монтаже интервалов. Жиль Делез пишет: “Оригинальность интервалов в том, что она уже последовательными образами, но, вертовской теории не создает пробел между двумя напротив, коррелирует два ___________________________ 1 См., Делез Ж. Вертовская теория интервалов. - Киноведческие записки, № 4. изображения далекие друг от друга и несоизмеримые с точки зрения нашей человеческой перцепции. Фактически Вертов предлагает такую концепцию построения мира, в котором человеческая перцепция не зависит от субъективности монтажа. Само понятие монтажа уже входит в построение изображения, поэтому единственным действительно независимым элементом такого кинематографа является фонограмма. Интересно, что поиск перцептивных генетических элементов Вертов начал именно экспериментировал с со звука, монтажом еще до грамзаписей, революции, был когда организатором “лаборатории слуха”, записывал звуки лесопильного завода, пытался описать реальность как слышит ее слепой, даже вводил шумы в свои стихи - буквами! “Меня не удовлетворяли опыты с уже записанными звуками. В природе я слышал значительно большее количество звуков, а не только пение и скрипку из репертуара обычных грамзаписей. У меня возникла мысль о необходимости расширить нашу возможность организованно слышать, не ограничивая эту возможность пределами обычной музыки, в понятие “слышу” включить весь слышимый мир.”1 ___________________________ 1 См., Делез Ж. Вертовская теория интервалов. - Киноведческие записки, №4. Монтаж становиться главной значащей операцией фильма еще и потому, что он располагает парадигмой возможных звукозрительных смещений внутри самих планов. Именно поэтому звуковой монтаж ориентирован на возможности многоканальной перезаписи, которая позволяет синхронно сводить на одну дорожку свыше 15 параллельно смонтированных звуковых пленок .Структурирование киноречи рассматривается исключительно на уровне его семантического слоя. Таким образом, звуковая форма имеет огромное значение в процессе становления кинематографической речи. Все, что фиксируется камерой и микрофоном на пленке - материализуется в процессе проекции в трехмерный оптико-акустический синтез времени и пространства.Акустическое изображение действительно трехмерно и способно реализоваться лишь в определенной пространственной конфигурации. изменения Здесь, киноречи, таким образом, которые выявляются обусловлены структурные семантическими эффектами звуковой перспективы. Известно, что звук в отличие от изображения репрезентирует все фильмическое пространство по законам акустической перспективы как кадровое, так и внекадровое. Однако на основании акустической перспективы, развернутой во все стороны звучащего, воздушного объема слушатель не может локализировать себя по отношению ко всей конфигурации пространства. Опираясь на множественность звуковых отражений, он локализирует себя главным образом по отношению к источнику звука, расположенному в этом объеме. Таким образом, источник звука выступает как локус (смысловой центр) и практически переструктурирует воображаемое акустическое пространство, “стягивая” его к себе. Между звуковыми локусами пространство имеет чрезвычайно зыбкий характер и оказывается невообразимым без всякого вмешательства монтажа. Вероятно роль звука сводится к наложению целостного акустического пространства на визуальное монтажное. Относительная изоморфность акустического пространства визуальному монтажному обеспечивает их слияние. Акустическая масса фильма находится в прямом соотношении с концепцией изобразительного киноязыка, При этом асемантический нерасчленимый звук парадоксально оказывается в состоянии более последовательно выразить некоторую концепцию изобразительного языка, чем само изображение. Поэтому звук последовательно чем само изображение выразить языковые тенденции. Отсюда и устойчивая может более “мифологические” оппозиция звука и изображения как языка естественного и искусственного. Парадоксально, но звук может полнее воплотить фильмическое, как таковое. Звук в кино проходит эволюцию, близкую к той, что он прошел в литературе. Первоначально звуковой мир дается как стихия, отсылающая к иным языковым смыслам. Постепенно складывается более органическая концепция звука в кино. В настоящее время структурная организация звуковой материи осуществляется, но на основе звуковой перспективы, являющейся на сегодняшний день одним из основных инструментов осмысления невообразимого . Так, звук в кино с самого начала ощущался как вновь обретенный протоязык. Эволюция киноязыка на метауровне постоянно описывалась как прогресс-регресс, как возвращение к истокам. Одним их главных мифов кино является миф о “тотальном” полном отражении реальности, к которой якобы движется кино. Именно на этом основании критикуется существующий сделанный по язык кино, словесному как искусственный, образцу. На мотивированный, раннем этапе роль искусственного языка выполняли элементы монтажной поэтики, позже монтажные теории, затем поэтика “говорящего” кино с позиции кино звукового. Таким образом шумовая протостихия постоянно присутствует в кинематографическом сознании в противовес существующему коноязыку. При этом сосуществуют две противоположные тенденции: природная, асемантическая, в том числе шумовая, чье присутствие в фильме постоянно возрастает и, с другой стороны, возрастание это принимается как нарастание присутствия иного языка, его обретение. В настоящее время доминирует высказанное Романом Якобсоном мнение, согласно которому звуковые знаки тяготеют к символическим, а изобразительные - к иконическим языкам. При этом звуковые знаки стремятся к дискретности и иерархической структуре, а изобразительные - нет. Якобсон специально не исследовал языковые свойства шумов, но из его выкладок следует, что шумы, будучи звуками, то есть существуя в материале, тяготеющем к символическим языкам, тем не менее, еще не являются языком.1 Звуковая перспектива разрешает передаче акустической формы главное противоречие в мира как языка. Трансформируя характер звука, она не нарушает его естественности. Главным приемом оказывается введение в звукопередачу реальной звуковой перспективы . С одной стороны, резко возрастает натуралистический момент звукопередачи. Но вместе с тем звуковая перспектива дается и как фактор искажения реального звучащего мира, его романтической идеализации. До слушателя доносится не просто звук, но звук обогащенный и преображенный .Таким образом, расстояние, оставаясь натуралистическим фактором, становится еще и фактором языковым, вводящим в звучание мира элементы синтеза, преобразования . Звуковая перспектива оказывается идеальным естественным природным ретранслятором и трансформатором значений. ______________________________ 1 Якобсон Р. Труды по этике. М., 1988. Асемантическая шумовая масса синтезируется в современном кинематографе как язык, как структура, обладающая сложной внутренней организацией, в то время как в кино это скорее “антиязык” (чему посвящены многочисленные исследования Крученых, Пазолини, Брессона и другие).В настоящее время происходит интенсивное открытие звучащего мира во всей его полноте. Форма фильма, словно воскрешает жизненный синкретизм, эстетическая ценность которого состоит в новом постижении кинематографом меры достоверности, меры приближения к реальности, доступной экранному искусству на современном этапе. Шумовое, тембровое богатство фонограммы возводится в критерий художественного совершенства фильма. Такой процесс кажется естественным и обычно объясняется повышением реалистичности киномира. Этот процесс рассматривается как следствие “невиданного ранее уровня насыщенности экрана жизненной эмпирией, принципиально изменивших наше представление об экранной достоверности и ее пределах”. Но кинематограф является знаковой системой, а потому явления, возникающие в нем, носят языковой, а не стихийный характер.Густая шумовая фонограмма обозначает присутствие нерасчлененной действительности, является знаком этой действительности. Но создание такого знака не требует в принципе, такой сложной работы по синтезу шумовой асемантической массы. Для чистого обозначения реальности достаточно создать некий шумовой фон, а зритель, зафиксировав наличие такого фона, легко соотнес бы его с реальными шумами.Итак, кинематограф воспринял акустическую форму мира вместе с прилипшим к ней языковым мифом, что отражается на ассимиляции звука в кино. (Мифе о том, что человек рая не нуждался в абстрактном языке, а пользовался “природным”, скорее всего подражающим шуму воды, завываниям ветра и т.п. В дальнейшем этот язык был утерян, вместе с изгнанием из рая. Существует также гипотеза, что современные языки этот продукт деградации “языка рая”). Пожалуй, ярче всего раннюю звуковую мифологию в кинематографе воплотил Рене Клер в фильме “Свободу нам”(1931). Герой фильма выходит из тюрьмы и оказывается в поле, где растет вьюнок. Цветы вьюнка неожиданно начинают издавать звуки. При этом перевод значения мотивируется похожестью цветка на граммофон. В другой сцене влюбленный герой стоит под балконом возлюбленной. По балкону бежит вьюнок. Раздается знакомая мелодия, которую вдруг заедает, и мы обнаруживаем, что в комнате возлюбленной заело настоящий граммофон. Все эти языковые аналогии показывают архаичность форм, которую первоначально принимала звуковая сфера на экране. В какой то степени это можно трактовать как попытку дать визуальное обоснование звуку на экране. “Великий немой” обретал речь постепенно, и для этого требовалось время. Звуковоспроизводящие устройства на экране (типа граммофона) воплощают саму идею перекодирования сообщения из незвуковой материи в звуковую, а потому они доминируют на ранних этапах звукового кино. С развитием кинематографа акцент перемещается на иные знаковые процедуры. В истории кино вопрос о пластических эквивалентах звука получил достаточное освещение. Вместе с тем практически не изученной остается его обратная сторона. Наряду с изображением звучания средствами немого и раннего звукового кино, в культуре наблюдается встречная тенденция - стремление изобразить немоту в материале звукового кино, воспроизведя безмолвие в звуке. В настоящий момент мы имеем пародоксальную ситуацию: в работах последних лет о кино рассматриваются разные аспекты немоты. Потеря и обретение голоса в физическом смысле дублируются ситуацией на другом упровне. Профессиональный журналист дает обет молчания (“Жертвоприношение”). Говорение и проговаривание ряда формул ведет к их осуществлению. Однако и намеренное умолчание, сокрытие, недоговоренность все чаще указывают на особую важность предмета. Великий немой, обретя дар речи, стремится наделить немотой своих героев (“Пианино”). И, если раньше немота рассматривалась как вынужденный период, заканчивающийся обретением голоса (языка), то позднее потеря голоса (у Пазолини), косноязычие становится своего рода знаком постижения высшего смысла, признаком принадлежности к сакральному пространству. Молчание и внимание к миру становится ценным качеством современного героя. Вместе с оратором говорение свергнуто с пьедестала и его место занимает молчание, но очень важно отметить, что современные немые никогда не глухонемые. Это слушающая, внимающая личность, тончайшим образом реагирующая на голоса мира, их оттенки и отзвуки. Если на ранних этапах кинематограф давал визуальные обоснования звуку на экране, то появление немых героев говорит о попытке дать визуальное обоснование немоты. Своеобразным пределом этого станет обоснование отсутствия движения, ведь все чаще оно мешает нашему вдумчивому созерцанию. Молчаливое рассматривание длительного, почти статичного плана... Мир устал от наших сообщений о нем. Мир говорит: “Внимайте, иначе не обернется ли потеря голоса потерей слуха”. Постепенно наращивая свой потенциал, кинематограф становится неким монстром с все-таки человеческой душой, поэтому он постоянно стремится избавиться от уже приобретенного и освоенного. Освоив монтаж - не монтировать, освоив звук - не говорить. Проблема немоты никогда не ставится как проблема героя. Это сейчас всегда проблема самого кино: напротив, немой или косноязычный - совершенная личность. Такое качество, как ложь присуще говорению, но не молчанию. Не только речь может быть двусмысленна, но и звук. Действительно, мы слышим звуки и лишь потом ассоциируем их с определенными предметами и действиями или персонами. При этом выделенный, отдельный звук ассоциируется с определенным предметом или личностью и является как бы знаком - иконом, но в массе звуков отдельный звук трудно различим, поэтому аморфная аккустическая масса всегда ассемантична. И лишь наличие выделенного “одинокого голоса человека” семантически нагружено. Т.е. в кино, звуковая нагруженность семантически нейтральна. Возможно ли говорить о семантической нейтральности молчания (отсутствия звука)? Перефразируя Б.Балаша, если звук создает естественное напряжение, то его отсутствие делает это напряжение неестественным. Вообще, современной культуре свойственно некоторое смещение смысловых центров, что не может не отразиться и на форме. Так как проблема художественного произведения - это прежде всего проблема его границ, то гармоничное произведение стремится свою смысловую неполноценность отразить и формально, причем это вовсе не читается как минус, а лишь как нейтральное отсутствие некоторых качеств. В данном случае отсутствие голоса - немота. Наряду с этим существует пример и чисто американского решения этой проблемы. Она переносится в сюжет фильма “Ничего не вижу, ничего не слышу” - лихой комедии о слепом и глухом, которые вместе образуют потрясающий дуэт. И если в “Пианино“ немота компенсируется величайшей духовной одаренностью, то здесь демонстрируется некоторая андрогинная соединенность. Слово “недостаток” перестает быть оценочным. Мы суммируем недостающее для создания нового качества. Сейчас мы намеренно разгружаем конструкцию. Пользуясь многочисленными визуальными и сюжетными оправданиями, мы движемся к минимализму. Особое место занимает использование “асемантических языков”. Интересное использование заумных языков мы встречаем в творчестве Пазолини, одного из наиболее ярких и последовательных сторонников романтической концепции киноязыка. Таким образом, именно в кино наиболее ярко обнаруживается принципиальная языковость любого коммуникативного акта - говорящего и немого, звучащего и немотствующего, высказывающего и утаивающего. Кино использует модель единства человеческой личности, чтобы перебросить мостик между изображением и звуком. Это позволяет кинематографу конструировать собственное единство через идентификацию двух дорожек кинематографического аппарата с двумя хорошо известными аспектами человеческой личности. Зритель, который не знает, что не существует противоречий между видением и слушанием, - служит кинематографу зеркалом, в котором фильм синхронизирует свои динамические элементы, и таким образом получает доступ в символическую зеркальность", где кино область конституирует языка. свое Эта "“обращенная единство, является неотъемлемой частью процесса, через который зритель-слушатель репетирует стадию зеркала собственного опыта. Кино восходит к единству человеческого субъекта только для установления собственного единства, сочетает в себе и выход за пределы сознания, и анализ.
![План занятия в логопедической группе «ПРОИЗНОШЕНИЕ. Звук [ж]](http://s1.studylib.ru/store/data/002183146_1-ebd58bda9dba0a2c12c8d6c9435027b4-300x300.png)