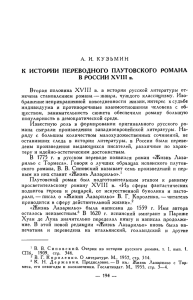Диалог с читателем в романе Пушкина «Евгений Онегин
advertisement

Опубликовано: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IX. Л.: Наука, 1979. Грехнёв В.А. ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ В РОМАНЕ ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 1 В «Евгении Онегине» запечатлено совершенно особое соотношение романной фабулы и реальности. Реальность здесь не только эстетически опредмечена в характерах и ситуациях произведения, она, если можно так выразиться, втянута в структуру романа Втянута в том смысле, что воссоздан событийно неорганизованный, сохраняющий иллюзию эмпиричности поток ее, омывающий фабульное русло произведения. Пушкин явно позаботился о том, чтобы поток этот содержал в себе приметы разнообразной и пестрой, многоликой и многоголосой, неисчерпаемой и незавершенной действительности. Горизонты фабулы в «Евгении Онегине» разительно не совпадают с горизонтами сюжета.1 Расхождение проступает не только и не столько во временных и причинно-следственных деформациях фабульного слоя. Прежде всего оно сказывается в остро ощутимом несовпадении сфер обзора реальности. Эстетические горизонты сюжета «Евгения Онегина» неизмеримо шире его фабулы. В сюжетном «поле» романа постоянно размываются очертания фабулы, и размываются не без участия авторской воли. Сюжет своей лирически конденсированной энергией постоянно плавит фабульную цепь, сообщая ей редкую свободу сцеплений. В точках разрыва фабулы, там, где ситуации романа «прорастают» в поток событийно неорганизованной реальности, захваченной авторскою сферой текста, вспыхивают новые образные связи, возникают мостки ассоциаций, углубляющие видение события и характеров. «Роман героев» в «Евгении Онегине» диалогически разомкнут в «роман автора» и в «роман самой действительности». На пересечении этих диалогических соприкасаний и складывается сюжет произведения. Та «зона контакта с настоящим в его незавершенности», в которой М. М. Бахтин усматривал сердцевину романного мышления,2 в «Евгении Онегине» воплощена как своеобразный предмет изображения. В этом нет ничего неожиданного: ведь в «Евгении Онегине» роман нового времени в его национально-русском варианте как бы еще только нащупывает, художественно рефлектируя, свою жанровую природу. Сама жанровая материя его выглядит в глазах Пушкина прежде всего как опредмеченное содержание. Все, что связано с импульсами авторской воли, и все, что чаще всего бывает снято в художественной реальности произведения, в «Евгении 101 Онегине» эстетически подчеркнуто, вплетено в композиционную ткань. Об этом писал С. Г. Бочаров в статье «Форма плана».3 Но художественные устремления Пушкина направлены не только в «даль свободного романа», в мир его формируемой фабулы. Они направлены и вовне, за пределы художественного события, в тот мир, который начинается за его порогом, — к собеседнику и созерцателю. Диалогический контакт с действительностью предстает здесь как диалогические отношения автора и читателя. Этот композиционно оформленный диалог пронизывает всю сюжетную ткань романа множеством диалогических жестов, то лаконичных, то развертываемых в просторные реплики. Обращение к собеседнику обрамляет роман: «Евгений Онегин» открывается посвящением и завершается авторским прощанием с читателем. Слово пушкинского романа широко распахнуто в область живых диалогических соприкасаний с собеседником и вне этих соприкасаний немыслимо. Мы сказали, что, устремляясь к собеседнику, художественная мысль Пушкина и его слово устремляются вовне. И это действительно так, если воспринимать пушкинский роман как «роман героев», имеющий фабульную основу. Но это обернется условностью, как только мы поймем, что никакого собеседника, который бы находился в эстетически нейтральной среде, совершенно за порогом произведения, для Пушкина не существует. Образотворческие интенции его мысли захватывают в свой круг и собеседника, и мы оказываемся уже не перед лицом чисто эмпирической реальности (только психологической и только социальной), а перед художественным образом, неизбежно отмеченным складом пушкинского ума и пристрастий. Иллюзия непричастности собеседника миру романа художественно постулирована. И следовательно, его положение в пушкинском романе двойственно: он включен в мир романа, но включен как лицо, пребывающее за его пределами. В самой этой двойственности его положения нет пока что ничего специфически пушкинского. Подобной двойственностью существования обладает собеседник в любой художественной структуре: существуя в художественном мире, он всегда претендует в нем на роль представителя внеэстетической реальности. Пушкинское заключается в заострении этой пограничной зоны собеседника, в многообразии его функций, в необыкновенной пластичности и подвижности его лица. Впрочем, вряд ли подходит метафора «лица» к тому, что так многолико и изменчиво. Когда Пушкин в последний раз обращается к читателю в лирическом финале романа: Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче как приятель, (VI, 189) то этим обращением «друг, недруг» охвачены лишь возможные полярности образа, между которыми он колеблется в романе, никогда не сливаясь ни с одним из них полностью. Пушкин и здесь остается верен себе, сближая крайности того, что не может быть предначертано заранее, того, что чревато случайностями бытия. И как характерно уже одно то, что, завершая здание романа и словно бы оглядывая в последний раз с композиционной вершины его «свободную даль», Пушкин обращается к читателю с той же формулой — «кто б ни был ты», которую он, по зоркому наблюдению С. Г. Бочарова, 4 столь часто адресует своим героям. «Ряд волшебных изменений» читательского «лица» в романе не поддается типологическим градациям. Черты его то там, то здесь смутно всплывают как бы из глубины самой действительности, не охваченной 102 фабулою романа. Ни разу в сущности они не оформляются настолько, чтобы за ними можно было усмотреть или персонификацию какой-либо отвердевшей идеологии (наподобие той, которая запечатлена, скажем, в «проницательном читателе» Чернышевского), или прочную социально-психологическую основу типа, хотя бы и эпизодического. К тому же образ этот слишком ситуативен, контуры его постоянно меняются в зависимости от конкретных диалогических напряжений текста. И тем не менее в романе есть диалогические эпизоды, которые оставляют впечатление объемности пушкинского собеседника. Только эта объемность особого рода — объемность диалогической позиции, стилизуемого «голоса», проступающая лишь в гибких соприкосновениях с авторским словом. Выхватить этот «голос» из диалогической цепи, в которой он звучит, выделить его из авторского контекста в чистом виде немыслимо, поскольку самое слово собеседника живет здесь лишь отраженным свечением авторской речи. Оно не опредмечено до конца, ибо оно всего лишь плод стилизующих модуляций этой речи. Последняя «имитирует» это слово, его интонации, однако не до такой степени, чтобы оно приобрело осязаемую индивидуальность «чужой речи». Именно такими неявными, слегка размытыми имитациями слова и тона собеседника исполнено просторное по композиции авторское обращение к читателю в четвертой главе, открывающееся словами «Вы согласитесь, мой читатель. . . ». Этот диалогический эпизод романа отмечен редкостной подвижностью авторской интонации, острыми ироническими модуляциями слова, переливами комической экспрессии (от наигранного энтузиазма и притворного добродушия до ядовитой насмешки). Ирония безраздельно господствует здесь, и авторские предвосхищения оценок и «голоса» собеседника насквозь ироничны. 5 Самый «голос» собеседника, кажется, вот-вот готовый «сгуститься» в собственное слово, — порождение иронических трансформаций авторской мысли. Ирония Пушкина в этом эпизоде сродни иронии сократической, в которой Гегель усматривал, в отличие от абсолютной иронии романтиков, способ ведения беседы.6 В самом деле, авторская мысль и слово здесь словно бы проникают в чужую жизненную позицию, исподволь и незаметно для собеседника препарируя ее так, чтобы в итоге возвести к комическому абсурду. Препарируется пресловутый «житейский опыт — ум глупца». Пушкинская мысль играет полярностями жизнеотношений, раскрывая их взаимопереливы и внутреннюю связь, недосягаемую для обыденного мышления. Полярности черпаются из прозаическиповседневного опыта, и это в сочетании с лукаво-благодушным тоном авторской речи маскирует серьезность внутренней диалогической темы. Между тем диалог этот о том же самом, на чем постоянно сосредоточена пушкинская мысль в романе: о скрытой антиномичности бытия, притаившейся за иллюзорной одномерностью явлений, характеров, образов слова. Диалог открывается авторской апологией героя: Вы согласитесь, мой читатель, Что очень мило поступил С печальной Таней наш приятель; Не в первый раз он тут явил Души прямое благородство, Хотя людей недоброхотство В нем не щадило ничего: 103 Враги его, друзья его (Что, может быть, одно и то же) Его честили так и сяк. (VI, 80) Так, с нарочито шокирующего парадокса, с ошеломляющего отождествления «врагов» и «друзей» берет разбег пушкинская мысль. Далее следует авторская филиппика по адресу «друзей». Начинается она с иронического предвосхищения читательской реакции. Высказывание автора, взявшего серьезно-насмешливый тон уже в предыдущей строфе, вдруг словно бы наталкивается на некий барьер. Преграда возникает именно в зоне диалогического контакта, если вновь воспользоваться выражением М. М. Бахтина. Автор вдруг оглядывается на собеседника и, предупреждая его реакцию недоумения, втягивает эту реакцию в свой контекст: А что? Да так. Я усыпляю Пустые, черные мечты. (VI, 80) Пушкинское «А что?» располагается уже на очень хрупкой грани, отделяющей авторское слово от чужой речи. И не только этот безыскусно диалогический жест, несущий в себе энергию живого разговорного слова, но и «пустые, черные мечты» порождены здесь предвосхищением чужого взгляда. Оговорив этот взгляд, иронически отторгнув его, автор оставляет за собой в дальнейшем контексте строфы полную свободу высказывания. И дальше в ходе иронической беседы с читателем возникает эпизод, выделяющийся абсолютной серьезностью тона, раскованной исповедальностью и сдержанным неистовством авторского гнева, глубоко личного, биографического в истоках своих, но и причастного общечеловеческому опыту: Я только в скобках замечаю, Что нет презренной клеветы, На чердаке вралем рожденной И светской чернью ободренной, Что нет нелепицы такой, Ни эпиграммы площадной, Которой бы ваш друг с улыбкой, В кругу порядочных людей, Без всякой злобы и затей, Не повторил сто крат ошибкой. (VI, 81) Примечательно, однако, что авторское высказывание в этой строфе, начинающееся насмешливой оглядкой на собеседника, иронически завершается на том же двухголосом слове: А впрочем, он за вас горой: Он вас так любит. . . как родной! (Там же) Только теперь предметом изображения становятся уже не слово и интонация собеседника, но слово и интонация «друзей». Есть красноречивый перебой в этой интонации, подчеркнутый авторским многоточием и выделяющий в строфе сравнительный оборот «как родной». Опредмечивание чужого голоса здесь достигает предела. Сравнение уже готово переплеснуться в реплику «друга». И в то же время в нем предвиденье дальнейшего разворота диалогической темы, предвестие ассоциативного скачка мысли, создающее впечатление сиюминутно возникшего изобразительного импульса. Тема «родных» здесь выделена пока что лишь интонационно. В контексте же следующей строфы она будет выделена графически. Кстати, и в предшествующей строфе есть аналогичный 104 образный подхват: графически выделено слово «в скобках» («Я только в скобках замечаю. . . »), а движение темы как бы раскрывает те скобки, которыми в строфе XIX охвачен исходный для всего диалога пушкинский парадокс о друзьях-врагах. Так, на ассоциативных подхватах темы и движется пушкинский диалог с собеседником, отражая в своем движении естественную импульсивность живой беседы, экспрессию неожиданно возникающих толчков мысли, что свойственно стихии общения. Но вот словно бы смущенный вдруг безоглядно прорвавшейся искренностью собственного душевного порыва, словно бы возвращенный к действительности одним лишь воспоминанием о том, перед кем «мечется бисер», автор вдруг начинает следующую, XX строфу иронически-игривым обращением к читателю: Гм! гм! Читатель благородный, Здорова ль ваша вся родня? Позвольте: может быть, угодно Теперь узнать вам от меня, Что значат именно родные. С этого момента диалог прочно входит в ироническое русло: Родные люди вот какие: Мы их обязаны ласкать, Любить, душевно уважать И, по обычаю народа, О рождестве их навещать, Или по почте поздравлять, Чтоб остальное время года Не думали о нас они. . . И так, дай бог им долги дни! (VI, 81) Пушкинская ирония здесь и дальше (в строфе XXI) возникает не из внешнего столкновения контрастных жизненных позиций (автора и собеседника). Она, разумеется, предполагает такое противостояние, но она не подчеркивает его явными и бьющими в глаза гиперболизациями слова и тона. Она возникает из глубины объемного видения вещей, из такого погружения в реальность чужого духовного опыта, которое схватывает в нем тщательно маскируемые сокровенные мотивы. Иронический сдвиг смысла, заключенный в пушкинских строках: Чтоб остальное время года Не думали о нас они. . . , конечно же, таит в себе прелесть комической неожиданности. Но поднявшись на этот иронический пик строфы, мы невольно оглядываемся и видим, что Пушкин ненавязчиво и тонко подготовил иронический слом, скрепив понятием долженствования цепь совершенно естественных (в идеале) душевных проявлений. Но, может быть, самое необычное в этой иронии (и самое пушкинское, пожалуй) заключается в том, что она сталкивает «чужие», но все-таки не вполне чуждые, жизнеотношения (авторское и читательское). Создается впечатление, что есть черта, за которою они едва заметно устремляются навстречу друг другу. За чертой этой — мир житейских стереотипов, от которых никто не свободен вполне. В диалоге, о котором идет речь, иронически обозреваются все устои и опоры житейского опыта. И вот опоры эти начинают шататься под ударами авторской иронии. Незыблемое вдруг обнаруживает в себе неожиданные для обычного взгляда непрочность и зыбкость и, наконец, на глазах расползается по швам. Но в тот именно момент, когда пушкинский читатель, 105 ошеломленный и сбитый с толку этим зрелищем пошатнувшихся святынь, вдруг точно бы возопил в смятении: Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? в этот миг беглым и тонким штрихом, скорее изменением интонации, нежели словом, Пушкин вплетает в его голос7 серьезную ноту, тут же, впрочем, перебивая ее очередным ироническим укором: Кто все дела, все речи мерит Услужливо на наш аршин? (VI, 82) Образ читателя, обретавшийся до сих пор в сфере смешного, казалось бы нераздельно слившийся с нею, вдруг неожиданно переключается в область серьезного. В его смятенном сознании на мгновение вспыхивает комически-серьезная тоска по идеалу. Автор бросает на нее легкую ироническую тень, но не разлучает ее совершенно с миром общечеловеческого опыта. И в принципе Пушкин не отделяет полностью от этого мира иронически препарируемую им сферу простодушно-бытового сознания. 2 Если в пушкинском образе читателя и не запечатлена какая-либо однообразно фиксируемая идеологическая позиция, то в нем во всяком случае воплощено достаточно определенное эстетическое отношение к роману — косная инерция старого эстетического опыта, в котором Пушкин так часто уличает своего собеседника. Правда, и это отношение не представлено в чистом виде, ведь с ним сплетается допускаемая автором вероятность читательского сочувствия. И, следовательно, в оценочном смысле позиция читателя как носителя эстетического опыта в романе все-таки не укладывается в жесткую антитезу «друг» — «недруг». Но очевидно, что и возможность читательского сопереживания, предвосхищенная пушкинской мыслью, в глазах автора чаще всего двойственна, сопряжена с наивностью, с эстетической недальнозоркостью и простодушным ожиданием от романа узко понятой морали. Истоки читательской недальновидности, как она воссоздана в «Евгении Онегине» Пушкина, восходят к конкретно-исторической реальности, к его собственным горьким впечатлениям от непонимания, сопутствовавшего публикации уже первых глав романа. Но, быть может, важнее всего осознать, что в художественно запечатленной непроницательности пушкинского читателя — не один лишь след личных впечатлений автора, пустых, но все же болезненных критических уколов. В ней проступают следы исторически обусловленного разрыва эстетики автора и эстетики читателя, схваченного зоркой и трезвой пушкинской мыслью. Многообразные (субъективно-психологические, социально-вкусовые и др.) мотивы, определяющие читательское отошение, в моменты крутых ломок художественного мышления, по-видимому, стягиваются к общему эстетическому центру, выступая как единая сила привычки, эстетической инерции, с которой уже не может не считаться искусство. «Роман героев» в «Евгении Онегине» (и это запечатлено в нем структурно) прокладывает себе дорогу, как бы оглядываясь на реальную возможность непонимания. 106 И в этом тоже сказалась нервная и чуткая реакция автора на современность, на субъективно-объективную рельность читательского восприятия пушкинской поры. Мало того, что все здание романа складывается как бы на глазах у читателя, — Пушкин постоянно втягивает его в обсуждение положений и характеров созидаемого художественного мира. Воображение читателя целенаправленно подключается к этому миру, который ему предлагают разглядеть с ближней дистанции. С ним обращаются иронически фамильярно. И вот эта-то фамильярная позиция, которую занимает автор в художественном диалоге с читателем, глубоко необычна. Она резко противостоит старой художественной традиции, исходившей из предположения о полной адекватности эстетики автора и читательских художественных пристрастий. Художественный опыт классицизма вообще не учитывал психологической реальности читательского восприятия. Он ничего не знал о ней и не желал знать. Субъективная и социальная расчлененность этой реальности его эстетическому зрению была недоступна, и уж тем более ее исторические перепады и колебания. Перед эстетикой классицизма по существу и не возникало вопроса о том, что стоит за порогом художественной сферы, ибо эта эстетика исходила из допущения, что художественный универсум всеобъемлюще перекрывает систему отношений действительности. На рационалистически схематизированный всеохват мира и была ориентирована жанровая система классицизма. Отдельные жанровые формы ее призваны были охватить полностью ту или иную жизненную сферу в искусстве, в том числе и читательский духовный опыт, соответствующий этой сфере. Не размышляя над эстетическим опытом читателя и не оглядываясь на него, классицизм стихийно унифицировал его, возводя к идеалу, наподобие того, как он возводил к рационалистически воспринятому идеалу действительность в целом. И здесь, стало быть, немыслимы были никакие диалогические контакты с читателем, предполагающие возможность эстетического расхождения с ним. Идеализированную унификацию читательского восприятия начала расшатывать эстетика предромантизма и романтизма. Сентименталистская (как и романтическая) установка на эстетически рафинированную аудиторию, на «посвященных» уже сама по себе допускала существование обширной (правда, еще безликой) читательской среды, с которой новое искусство не желало иметь ничего общего. Ориентация сентименталистов на «милых женщин» или романтиков на «немногих» была первым симптомом расслоения прежде абстрактной реальности читателя, на что отныне уже не могло не реагировать искусство. В этом расслоении действовали уже как силы эстетического притяжения, так и силы отталкивания. Романтизм ведь вообще с напряженной экспрессивной энергией намечает те границы, которые разделяют мир искусства и мир реальности. Как известно, именно романтизм объявил беспощадную войну бескрылой эстетике подражания и правдоподобия, претендующих на всю полноту правды. Это была война ироническими средствами, с повышенной ставкой на условность приемов. В этой борьбе впервые с такой остротой проявилось резкое несовпадение эстетического опыта творящего и воспринимающего, автора и читателя, объективные, а не только субъективные корни этого разлада. Все это темы, которые еще ждут своего исследования, и мы вынуждены затронуть их только попутно и только в связи с поэтикой «Евгения Онегина». В русской литературе дело обстояло так, что у пушкинского романа, осваивающего новую диалектику жизнеподобия и условности, по существу не было предшественников. Не было в России романтиков, иронизировавших в духе Фр. Шлегеля, Тика или Гофмана. Не было и той предромантической ветви романа, которая бы взрыхлила и расковала наивно жизнеподобные формы романа странствий и романа нравов, как это сделал в английской литературе Лоуренс Стерн в «Сентиментальном путешествии». 107 Пушкин нашел новую реалистическую меру сочетания жизнеподобия и условности, порвав и с гипертрофированным жизнеподобием нравоописательного романа, и с экспериментально-эпатирующей условностью в стиле иенской школы. Резонанс этого разрыва был так чувствителен, что не мог не сказаться на эстетически конвенциональной сфере, на отношениях художественного мира с исторически сложившейся инерцией читательского восприятия. Характерно, что самый этот плен старых конвенций художественно обыгрывается в романе: автор вступает с ним в диалогический контакт. Цель его не только в том, чтобы наметить размежевание романа со стереотипами и шаблонами читательского опыта, но и в том, чтобы художественно сократить дистанцию разрыва с читателем. Ведь полемизируя с последним, посмеиваясь над архаизмом его литературных пристрастий, Пушкин исподволь вводит его эстетическое зрение в круг новых художественных ценностей. Формируя новый язык искусства, роман, если можно так выразиться, приобщает читателя к этому языку по-пушкински неприметно, иронически шутливо, не прибегая к средствам, которые бы отдавали менторской позой автора. Пушкин не однажды безжалостно пресекает в читательском восприятии самодовлеющий интерес к событию, этот дефект эстетического зрения, склонного отождествлять правду искусства с правдой жизни, интерес сюжета с интересом фабулы. Нить фабулы не однажды прерывается в моменты острейших драматических напряжений, порой — на экспрессивных вершинах текста, там, где событие движется навстречу кризисным ситуациям. Эти зоны разрыва в романе любопытны во многих отношениях. Ясно, что любое торможение фабулы — торможение напрягающее. Формально ослабляя интерес к событию, оно на самом деле накаляет этот интерес, играя на эмоциях ожидания. Но ясно и то, что в этой чисто формальной функции торможение выступает лишь в сюжетосложении авантюрного романа. У Пушкина же все неизмеримо сложней. В точках разрыва фабулы не просто накапливается энергия события — здесь рождается новое художественное знание о мире. Далеко не случайно, что пушкинские торможения сопровождаются авторскими диалогическими жестами, обращенными к читателю. В этих эпизодах Пушкин, как правило, переключает читательский интерес к событию в психологическую сферу, в мир характеров. При этом, конечно, обнажаются условности романного мира и самым ощутительным образом дает о себе знать авторская воля. Но одновременно раздвигается и психологическая перспектива изображения. В тот самый момент, когда развертывание события в романе словно бы задевает в читательском воображении знакомую струну, пробуждая в нем навеянное старым художественным опытом ожидание традиционных разворотов фабулы, — в этот момент, разрывая фабульную нить, Пушкин подготавливает читателя к неизведанному, приобщая его к объемному видению мира. В этом смысле особенно интересен стык третьей и четвертой глав романа: Но наконец она вздохнула И встала со скамьи своей; Пошла, но только повернула В аллею, прямо перед ней, Блистая взорами, Евгений Стоит подобно грозной тени, И как огнем обожжена Остановилася она. Но следствия нежданной встречи Сегодня, милые друзья, Пересказать не в силах я; Мне должно после долгой речи И погулять и отдохнуть: Докончу после как-нибудь. (VI, 73) 108 Так, в преддверии поворотного момента события разрывается фабульная цепь. Выдвигается мотивировка торможения, являющая собой ироническую мистификацию. Но, мистифицируя читателя, она обнажает перед ним пружины искусства, комически снижая самый полет фантазии. И когда же? Именно тогда, когда в судьбах и отношениях героев назревают самые поэтические, если не роковые, моменты. Поэзия не просто сопрягается с миром прозы. Нет, в самой поэзии, в тайном ходе творческой мечты приоткрывается вдруг иронически заостренная область прозы. Но не только ради того, чтобы уравновесить картину реальности, Пушкин пресекает движение фабулы. Не очевидно ли, что действие третьей главы, приближаясь к своей кульминации, к сцене свидания, приближается и к проторенной фабульной колее, все ощутимей затрагивая в пушкинском читателе эмоции узнавания. Сейчас развернется сцена свидания, сцена встречи «у старых лип, у ручейка», ассоциируемая с миром романа «на старый лад». И тут Пушкин останавливает маятник события. Фабульное время застывает на мертвой точке. Графическим эквивалентом этой остановки являются проставленные номера шести пропущенных строф в начале следующей главы. Полушутливая, полусерьезная мотивировка этой паузы дается в XII строфе: «Минуты две они молчали». И это молчание героев в пушкинском тексте сюжетно компенсировано. Ведь если в начале четвертой главы остановились часы фабулы, то время повествования продолжает свой ход. Пока длится молчание героев, автор психологически подготавливает читателя к восприятию одного из самых ответственных положений романа — сцены объяснения героев. Ему важно, чтобы за знакомой и элементарной схемой, просвечивающей сквозь фабульную ситуацию, взору открылось иное образное измерение ее, эстетическая глубина сцены, психологически сложные мотивы онегинской исповеди, — словом, все то, в чем проступает «несходство сходного». Четвертая глава открывается поэтической декларацией («Чем меньше женщину мы любим»), в которой так отчетливо расставлены онегинские акценты, что строфы эти без ущерба для смысла могут быть восприняты как внутренняя речь героя. И все-таки перед нами не просто несобственно-прямая речь, а скорее явление, которое В. Н. Волошинов именует «овеществленным чужим словом».8 И то, что слово это произносится как бы от лица некоего хора («Чем меньше женщину мы любим»), а не личности, и авторское сопровождение к нему («Так точно думал мой Евгений») — все это очень знаменательно. В слове тонко пересекаются авторский взгляд на вещи и позиция персонажа, причем именно там, где они вбирают в себя душевный опыт нового века, опыт «хандры». Автор начинает с житейской максимы, не утратившей, однако, своей парадоксальной остроты. Читателю словно бы подбрасывается приманка, его обольщают расхожей истиной, распространимой и на его опыт. Но тотчас же в этом житейском правиле раскрывается ложь, причем ложь, так сказать, историческая, «наследье старины» («Но эта важная забава Достойна старых обезьян Хваленых дедовских времян»). Следующая строфа вводит психологически современные мотивы скуки, хандры, подтачивающих «науку страсти нежной». Но и эта характеристика все еще апеллирует к общечеловеческому: «Кому не скучно лицемерить» — таков ее зачин. И только с IX строфы слово автора — уже без явных уклонов в стереотип — входит, наконец, в русло индивидуальной психологии персонажа. Последовательность ступеней психологической характеристики такова, что в ней нарастает мера конкретизации. От сверхиндивидуального, подключающего душевное зрение героя к «хоровому» опыту (в том числе к опыту читателя), через психологию века, через преломления ее в конкретной судьбе героя авторская характеристика ведет нас к индивидуальному 109 ядру характера. В итоге читатель подводится к тому моменту, когда «чувствий пыл старинный», готовый проснуться в Онегине, стихийно подавляется преждевременной старостью души. Благородство же героя в этом поединке чувств предстает как интегратор полярных, но еще не противоборствующих душевных устремлений. И Пушкин дает нам ощутить, что это предкризисное состояние души, пребывающей еще за порогом выбора, потенциально конфликтно и в перспективе чревато душевной борьбой. Развитие этого конфликта будет редуцировано лирическим сюжетом романа, но в последней главе он завершится расторжением духовного плена и пробуждением живых страстей. Приходящийся на момент фабульного разрыва психологический экскурс в предысторию души героя, поставленного перед необходимостью действия в простой и безмерно сложной жизненной ситуации, — этот экскурс у Пушкина лирически лаконичен, но поэтически объемен. Объемен настолько, что его не смогли бы заместить никакие, самые просторные, эпические описания. Лирика и стиховое слово Пушкина, несущее в себе «бездну пространства», здесь превосходно работают на романную фабулу. И, наконец, возвращаясь к нашей теме, мы вправе сказать, что вся ситуация свидания развертывается в зоне диалогического контакта с читателем. Вклинившись в течение фабулы со словом, обращенным к читателю, в предвидении психологически необычного разворота сюжета, автор замыкает этот разворот той самой иронической беседой с читателем, о которой уже говорилось («Вы согласитесь, мой читатель»). Так диалог с читателем углубляет в романе художественное видение события и психологической сущности персонажей. Сноски Сноски к стр. 100 1 С ю ж е т «Евгения Онегина» по природе своей эпико-лирический. Вот почему в него входит, на наш взгляд, не только событийная ткань изображения, но и авторская сфера романа, все, что именуют порой «лирическими отступлениями». Под ф а б у л о й же в данном случае мы понимаем событийную схему «романа героев». 2 Б а х т и н М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 451. Сноски к стр. 101 3 4 Вопросы литературы, 1967, № 12, с. 115—136. Б о ч а р о в С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974, с. 98. Сноски к стр. 102 5 О пушкинской иронии в «Евгении Онегине» см.: Г и н з б у р г Л. Я. К постановке проблемы реализма в пушкинской литературе. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 2. М. — Л., 1936; Л о т м а н Ю. М. Художественная структура «Евгения Онегина». — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, 1966, вып. 184; Б о ч а р о в С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974. 6 Г е г е л ь Г. В. Ф. Эстетика, т. 4. М., 1973, с. 181. Сноски к стр. 105 7 Что перед нами именно имитация читательского голоса, неопровержимо подтверждается дальнейшим контекстом авторского высказывания (начиная со слов: «Призрака суетный искатель. . . »), которое строится совсем как ответ на воображаемую реплику. Сноски к стр. 108 8 В о л о ш и н о в В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1930, с. 132.