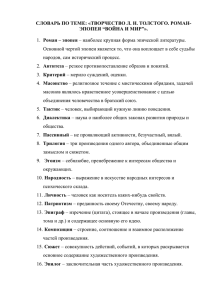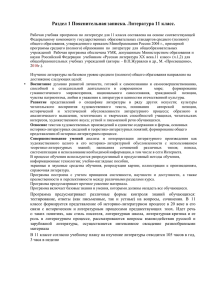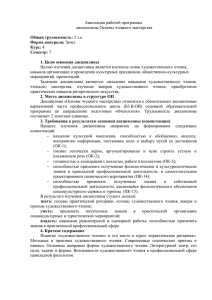Башкиров Д. Л. «Демон» очевидности и его художественное
advertisement
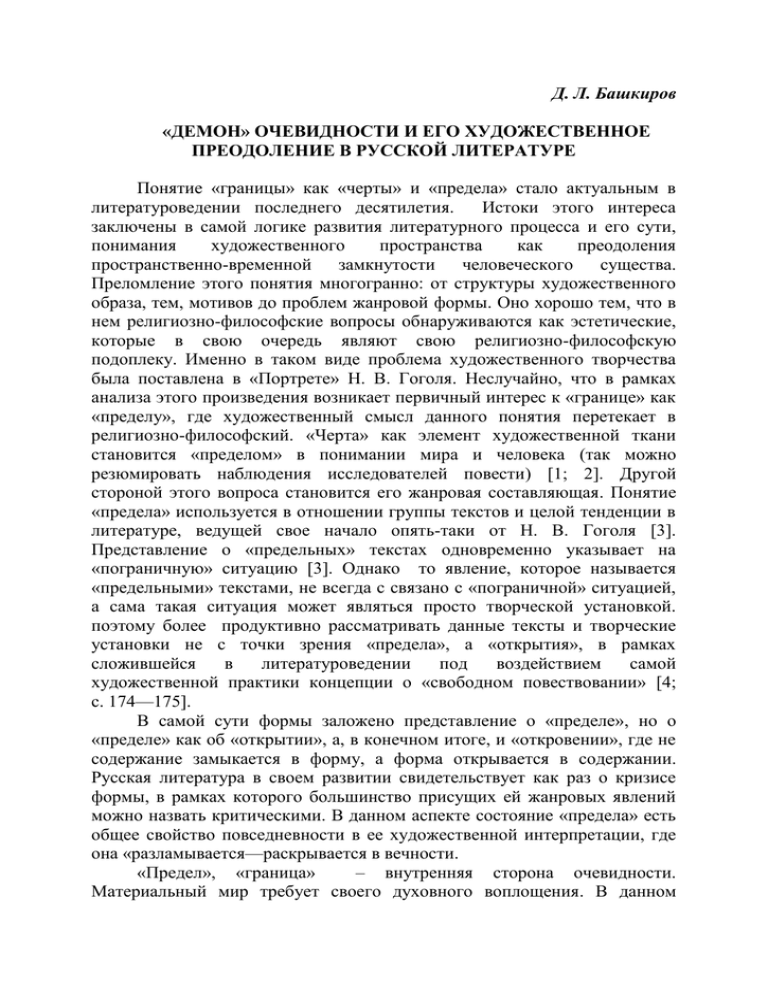
Д. Л. Башкиров «ДЕМОН» ОЧЕВИДНОСТИ И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Понятие «границы» как «черты» и «предела» стало актуальным в литературоведении последнего десятилетия. Истоки этого интереса заключены в самой логике развития литературного процесса и его сути, понимания художественного пространства как преодоления пространственно-временной замкнутости человеческого существа. Преломление этого понятия многогранно: от структуры художественного образа, тем, мотивов до проблем жанровой формы. Оно хорошо тем, что в нем религиозно-философские вопросы обнаруживаются как эстетические, которые в свою очередь являют свою религиозно-философскую подоплеку. Именно в таком виде проблема художественного творчества была поставлена в «Портрете» Н. В. Гоголя. Неслучайно, что в рамках анализа этого произведения возникает первичный интерес к «границе» как «пределу», где художественный смысл данного понятия перетекает в религиозно-философский. «Черта» как элемент художественной ткани становится «пределом» в понимании мира и человека (так можно резюмировать наблюдения исследователей повести) [1; 2]. Другой стороной этого вопроса становится его жанровая составляющая. Понятие «предела» используется в отношении группы текстов и целой тенденции в литературе, ведущей свое начало опять-таки от Н. В. Гоголя [3]. Представление о «предельных» текстах одновременно указывает на «пограничную» ситуацию [3]. Однако то явление, которое называется «предельными» текстами, не всегда с связано с «пограничной» ситуацией, а сама такая ситуация может являться просто творческой установкой. поэтому более продуктивно рассматривать данные тексты и творческие установки не с точки зрения «предела», а «открытия», в рамках сложившейся в литературоведении под воздействием самой художественной практики концепции о «свободном повествовании» [4; с. 174—175]. В самой сути формы заложено представление о «пределе», но о «пределе» как об «открытии», а, в конечном итоге, и «откровении», где не содержание замыкается в форму, а форма открывается в содержании. Русская литература в своем развитии свидетельствует как раз о кризисе формы, в рамках которого большинство присущих ей жанровых явлений можно назвать критическими. В данном аспекте состояние «предела» есть общее свойство повседневности в ее художественной интерпретации, где она «разламывается—раскрывается в вечности. «Предел», «граница» – внутренняя сторона очевидности. Материальный мир требует своего духовного воплощения. В данном аспекте духовное есть предел и завершение инерции материи, ее стихийного обладания человеком, в рамках которого она становится скверной, предельно ограничивающей человеческую сущность, «выражающей» ее. В сфере выражения время и пространство выступают как смертность и конечность. Это «предел» материи, погружающий ее в вымышленную среду распространения, построенную по законам перспективы. Обратной стороной духовной невоплощенности становится ее материально-телесная очевидность, «среда», которой определяется существо человека. В аспекте воплощения – невоплощения, выражения мировоззренческая проблема отношения духовного и материального определяет собой саму суть художественного творчества, находя в нем своей разрешение. Структура художественного образа, его архитектоника стремится в своем основании вернуться от ложных пространственновременных установок к действительным принципам организации мира и человека. Пространство и время, построенная на них перспективная картина бытия в рамках художественного поля открываются как вымышленные, где вымысел реализуется в своей предельной замкнутости. Образы «обрыва», «пропасти» становятся центральными в русской литературе второй половины XIX века, заключая в себе, в том числе, и «художественный предел» в осмыслении исторических и духовных проблем, к которым подошла Россия. Символическое значение «обрыва» в одноименном романе Гончарова, образы «могилы», «пропасти» у Тургенева, евангельский «обрыв»-«бездна», в контексте которого разворачивается откровение о России, посещающее героя романа «Бесы» Достоевского, характеризуются синтезом религиозного, эстетического и исторического начал и, в свою очередь, говорят о внутреннем единстве русской литературы, преломившемся в понятиях «границы» и «заграницы». История человечества, как и земная жизнь человека заканчиваются. Но при этом упираются не в свою смертность и конечность, а открывают духовные горизонты бытия, где историческое и земное находят свой действительный смысл, а по сути и становятся действительностью, пройдя через соблазн очевидности ложных упований. Именно они открываются в этих образах как «болезнь» и, в конечном итоге, «смерть», продолжая тот образ «кризиса истории», который появился в древнерусской литературе в преддверии монголо-татарского ига: «болезнь кристьяном». Исследователь романа Н. С. Лескова «На ножах» замечает: «Создавая свой «полемический» роман, Лесков жил ощущением того, что Россия больна, что Россия – на краю пропасти… В этой картине немаловажную роль играет образ обрыва, который интерпретируется и как пропасть, лежащая между добром и злом (ср.: Лук. XVI, 26), и как бездна, поглощающая бесовские силы (ср.: Матф. VIII, 32)» [5; с. 229]. В данном аспекте «пропасть» и «бездна» несут в себе не только религиозно-философский смысл, но и определяют эстетические принципы художественного понимания мира и человека, которые прорастают из евангельского контекста, впитывая в себя его духовные координаты. «Обрыв», «пропасть», «бездна» – то, чем заканчивается очевидность. Однако это еще и «черта», «граница», в которой она выступает, но уже в художественном аспекте, в котором бездуховность очевидности становится способом воплощения уже духовного содержания. Представление о жизни, ее переживание отливается в предельно замкнутые формы, требующие своего разрешения, и именно в этом качестве они присутствуют в художественной картине мира. Здесь можно говорить об образах «угла»-«подполья», «окраины» (Ф. М. Достоевский), «могилы» (А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин), «корабля» (И. А. Гончаров, И. А. Бунин), «тюремной решетки» (Л. Н. Андреев). Своеобразным итогом развития этой тенденции в художественной ткани станет известное замечание Л. Н. Толстого о пространстве и времени [6; с. 418]. Именно их впоследствии истолкует И. А. Бунин в аспекте «освобождения», которое следует рассматривать не только в мировоззренческом плане, а и в эстетическом. Художественное пространство – «окно» в действительность. Его архитектоника обусловлена освобождением от ложных представлений о мире и человеке, где представление о свободе обращено к истине, а несвободе – к неправде и вымыслу. Изначально в древнерусской литературе телесное начало переживалось не как его отвержение, а как максимальное сгущение. Образ князя Владимира-язычника «изобилен» в своих проявлениях. Это своеобразная крайность земных благ и достоинств, которая становится «болезненной», «слепой». Но именно переживание их как «болезни», «слепоты» предполагает «прозрение». Языческий мир видит и не видит, слышит и не слышит. Его материальная изобильность свидетельствует об оскудении. Материальный мир разрастаясь, поглощается самим собой, «демонизируется». Это одна сторона сгущения «материальности». Другая, обнаруживает себя в освобождении от нее. Таким образом, «демонизация» и «освобождение» традиционно не является негативным отношением к материальной стороне действительности. Данные ее стороны характеризуют прежде всего сам принцип противопоставления материального и духовного, их разделения. Таким образом, отношение к «среде», «натуре» как сфере проявления «рабства» и «несвободы», появляющееся в русской литературе на уровне содержания и принципов художественного воплощения, является традиционным и исторически сложившимся. Его появление на границе соприкосновения языческого и христианского миров продолжается в рамках литературного процесса нового времени, открывая уже «несвободу» «среды» не с мировоззренческой, а эстетической точки зрения, что становится по сути движением к пониманию самой сути «материальности», «телесности» мира, неотделимой в понятии «красота» от своей духовной сущности. «Выделение» «среды», ее детерминистическая сущность заявляют о себе на уровне содержания как «соблазн» очевидности, который открывается в своей несовместимости с самой природой художественного образа. Обращенный к внутренней сути явления он открывает ее через воплощение, обнаруживая духовное в материальном, что рассматривается как задача творчества. «Среда», «натура» – пространство неотвратимости смерти. Материальное как мертвое формирует собой структуру художественного образа в творчестве Н.В. Гоголя, развитием которой с динамической стороны становится архитектоника неотвратимости и конечности, доминирующая в творчестве Л. Н. Толстого. В творчестве Гоголя «фатальность» среды, предопределенность «натуры» обнаружили себя в своей несовместимости с природой художественного образа. «Рабское копирование» как общий принцип отношения материальной и духовной сфер, когда они находятся в оппозиции друг другу, само их разделения, со времен Гоголя определяют собой содержательный и художественные стороны произведения. Художественное пространство, замыкающееся в явном и зримом, становится ирреальным, гротескным, отражая в этом свою внутреннюю неполноту, обусловленную «визуальной субъективностью», под которой следует понимать натуралистическое воспроизведение действительности, названное Н. В. Гоголем «рабским, буквальным подражанием натуре». Здесь «незримое», «тайное» есть не романтическое «возможное» или классицистическое «должное», то есть те формы, в которых выражает себя «отсутствующее», а уже сокровенно, потенциально присутствующее в явлении, но еще не доступное чувственному опыту. На способность художественного образа проникать и выражать сокровенное указывал И. А. Гончаров, характеризуя образ Чацкого: «Если другие лица комедии являются строже и резче очерченными, то этим они обязаны пошлости и мелочи своих натур, легко исчерпываемых художником в легких очерках. Тогда как в личности Чацкого, богатой и разносторонней, могла быть в комедии рельефно взята одна господствующая черта – а Грибоедов успел намекнуть и на многие другие» [7, с. 256]. Речь идет о живой полноте и целостности, характеризующей личность в непрерывности ее развития и становления, развернутости в бытие и совпадении в данном качестве с ним. Невыразимость не является невыраженным. «Исчерпанность» отрицательных персонажей указывает, прежде всего, на развернутость человеческого существа во вне, его обусловленность физической, пространственно-временной картиной мира, отсутствием внутреннего плана, что по сути соответствует иллюзорной объемности изображения, построенного на плоскости с помощью принципов прямой перспективы. «Исчерпанность» выражается в «рельефности», «господствующей черте», поглощающей богатство и многообразие личности. Гипертрофированное преобладание внешнего над внутренним, которое характеризует процесс индивидуализации, где «подробность», «натуралистичность», отдельное, становятся способом осуществления общего, целого, говорит о раздробленности сознания, стремящегося манипулировать жизненными явлениями, и реализуется в иррациональной сущности средств воплощения. «Натура» становится своей прямой противоположностью. Ее противоестественность тяготеет к гротескным и фантасмагорическим образам, которые, однако, в данном значении выражают действительную ирреальную, «сверхъестественную» сущность «натуры». Коллизия, когда живое становится мертвым или мертвое подменяет живое, свое развернутое выражение находит в творчестве Н. В. Гоголя как на уровне сюжета, так и на уровне средств художественного воплощения, а также размышления о их сущности. «Живые глаза», которые «были вырезаны из живого человека и вставлены сюда» в «Портрете» характеризуют саму сущность «копии с натуры», перевоплощающей нерукотворное в рукотворное, где последнее оказывается не приближением к человеку, а удалением от него, порождая потустороннего двойника, «мертвеца, вставшего из могилы» [8; 3, с. 70]. Копии и первообразу сопутствует различие в «свете», солнечном, дневном или лунном, ночном. В лунном свете на первый план выступает не «ночная» символика, а то, что это свет отраженный и соответственно внешний, а не внутренний. За данным «световым» решением проблемы художественного образа стоит указание на его прямое отношение к проблеме добра и зла, онтологическое содержание которой представлено именно в понятии «отражение»-«выражение» и сопутствующих ему принципах творчества. Зло как «отражение» добра есть именно его «выражение», то есть ограничение. Зло существует не как явление, а как процесс – «разделенное», «раздробленное» добро. Не имеющее своей метафизической сущности зло переносит порожденное им «отражение»«копии» в сферу несуществования, с которой и связываются сопутствующие принципу отражения художественные приемы. Ситуацию с «живыми глазами» буквально повторяет сюжет «Носа». В «Шинели» вещественная реалия подменяет собой духовную сущность героя и выступает в ее качестве. В «Мертвых душах» происходит полное замещение духовного начала телесным и прежде всего на уровне художественной ткани, способов и средств воплощения, в которой заявляет о себе и реализуется сфера «понимания», где «мертвое» замещает действительную жизнь. Сгущенность материальной стороны жизни у Гоголя – обратная сторона разорванности, раздробленности бытия. Если в его творчестве она проявляется в «предметности», вокруг которой складывается иллюзорное представление о целостности, в деталях, которые наделяются качеством полноты, то другим ее выражением в русской литературе становится суетность, хаотическая неупорядоченность человеческого существа, оказывающаяся результатом вещественной материальной неподвижности мира. В «Обломове» «покой» главного героя – состояние, по отношению к которому проявляет себя как «суетливость», так и действительность. «Покой» Обломова – реакция на «суетливость», а не идеальное состояние, к которому стремится бытие. У Гончарова представлена именно «бытовая» сторона «суетливости». Гоголь изображает ее с точки зрения «сверхъестественности»«противоестественности». Достоевский освещает эту проблему с религиозно-философской стороны. «Суетливость» оказывается «относительностью», которая в свою очередь является «философией черта», то есть попыткой выстроить «отраженную» картину мира, в основе которой лежит не добро, а зло. Однако «бытовое» освещение суетливости у И. А. Гончарова косвенно тоже носит очевидный «потусторонний» характер. Попытка успеть «в десять мест в один день» приводит к буквальному исчезновению одного из утренних посетителей Обломова, а потом это «физическое» исчезновение подкрепляется его осмыслением героем: «В десять мест в один день – несчастный! – думал Обломов. – И это жизнь! – Он сильно пожал плечами. – Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?..» [7; с. 40]. В данном контексте происходит совпадение в понимании мира и человека у Гоголя на уровне размышлений о творчестве, которое нельзя сводить к «рабскому буквальному подражанию» – «анатомический нож», – и у Гончарова на уровне восприятия «быта», «повседневности». И «подражание» в первом случае, и «суетливость» во втором совпадают, так как приводят к одному результату—исчезновению человека, который или «рассекается» или «рассыпается». В обоих случаях характеризующее его действие указывает на предельную степень овеществленности, материализованности человека, изменения его сути именно в эту сторону. «Исчезновение» человека обнаруживается на фоне непрерывного изменения, «ломки», окружающего его мира, который складывается из реалий повседневности, «быта». Этот своеобразный «апокалипсис» материи – форма ее действительного, а не иллюзорного состояния, где «ломка» – стремление к подлинности, к «возрождению» себя. В данном аспекте «ломка» – преобладание внутреннего над внешним, явление внутреннего, глубинного, сокровенного из внешнего, поверхностного слоя бытия, изменение быта, преходящего, повседневного в бытие. Это повседневность, но данная в ее действительном, сокровенном смысле. Способом выражения этого смысла является открытый характер «действия», его непрерывность, незавершенность, воплощающие происходящее, настоящее как движение к действительному. Образом этого движения является разрывающаяся, ломающаяся «повседневность», обыденность. Состояние «ломки» соединяет «современность», «определенные времена» с «минутой вечного бытия», точнее открывает ее в них. При этом цель «ломки» – покой, в котором находит свое воплощение преображение временного в вечное, апокалипсическое переживание бытия вне времени и «деятельности». Это «критический» момент в жизни человека, «когда времени больше нет», за которым стоит «высший синтез жизни», состояние «покоя». В данном контексте рождается оппозиция «деятельности» и «бездеятельности», где «деятельность» – форма и способ осуществления человека во времени, его срастворения с временем. «Деятельность» – иллюзорное бытие, бегство от самого себя, отчуждение от себя, которым становится в конечном итоге «дело». «Повседневность», поглощающая собой человека, разрушает его целостность. Он оказывается вне себя, располагаясь исключительно по «горизонтали» «со-бытийности». Можно заметить, что эволюция русской прозы от «быстрой» романтической повести к психологическому роману, связана определенным образом с «замедлением» событийного ряда. Он, с одной стороны, предельно расширяется, рассматривая человека в развернутом «повседневном», социальном контексте, с другой – углубляется, что отражается в том, что предельная широта изображения «повседневности» начинает встречаться с самой собой, повторяться в себе, заставляя действие возвращаться к человеку (принцип «обыкновенной истории»). В данном контексте представление о социальной детерминированности героя, самостоятельной роли «среды» является осколками романтического мироощущения и основанной на нем художественной практики. В этом отношении характерно творчество И. А. Гончарова, где «реализм» героя-практика оказывается развернутым во времени идеализмом, романтизмом. Сущность такого «реализма» – облеченный во временную протяженность «романтизм». Пониманию действительности как развернутой во времени иллюзии противопоставляется мироощущение Обломова. Исходной точкой состояния героя является обостренное чувство апокалипсичности повседневности, ее катастрофичности: «…нет опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут, – и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка» [7, с. 77]. «Деловитость» Штольца, которая определяется практической целесообразностью, и «бездеятельность» Обломова имеют общую точку соприкосновения – «юношеские мечтания», «поэтический», «улыбающийся момент жизни», когда герой «заражается» «юношеским жаром» Штольца [7, с. 77]. Причем это «поэтическое», «идеалистическое» состояние характеризуется «возрастной физиологией». Таким образом, штольцовское начало можно определить как «иллюзию деятельности», а обломовское – как «действительность бездеятельности», каждая из которых является реакцией на апокалипсис повседневности, который принимается Обломовым как откровение о бытии, а Штольцем как заблуждение. Штольц и является для Обломова иллюзией, возможностью избежать соприкосновения с неизбежностью «откровения». «Дело», практицизм Штольца оказываются результатом и продолжением «поэзии», идеалистических настроений юности, их исходом. Поэтому при всей своей вещественности, предметности они иллюзорны и беспочвенны. «Поэзия» и «практицизм» в контексте творчества И. А. Гончарова являются «возрастным» изменением экзальтированных состояний человека, характеризуя его с точки зрения нарастания индивидуального начала в нем, когда «отвержение» предметной стороны жизни в «юношеских мечтаниях» оборачивается ее распространением и определением через нее всей сущности человека. Интересна сама эволюция понятия «возраста» в творчестве И. А. Гончарова. Если в «Обыкновенной истории» «возраст» – начало сюжетообразующее, то в «Обрыве» на первый план выступает его символическое значение, в рамках которого происходит переосмысление сущностных основ бытия. Художественное пространство строится не по законам «прямой перспективы», «расположения предметности», а складывается пластами опыта земной жизни, который в свой «пластичности» распространяется не во вне, а во внутрь, претворяясь в духовный опыт. Образ «земной бабушки» становится образом «бабушки России». У И. А. Гончарова «прямая перспектива» человеческого существования – «обыкновенная история» – заканчивается «обрывом», местом, где «пропадают», «обрываются» все «поверхностные», «готовые» связи и отношения человеческой жизни. Из этой ее предопределенности складывается «внутренний» сюжет, где происходит художественное переосмысление «предметности», «физиологии» жизни. Ее внешний план, обусловленный динамикой «обеднения», изменяется в углубление, проникновение в сущностные основы бытия. Сгущенное изображение «среды», повседневности, заключающее в своей концентрированности момент «ломки», становится формой воплощения внутреннего плана изображения, «магистрального сюжета», который Г. М. Фридлендер определял как «духовное воскресение героя» [9, с. 19]. В рамках этого сюжета изображаемое является не «правдой» о герое, а «правдой» о той картине мира, которую человек принимает за действительность. Личность героя определяется моментами «прозрения», «пробуждения», которые, в конечном итоге, и предполагают возможность «воскресения». Человек появляется из «ломки» повседневности как ее предел и завершение. Он начинается там, где заканчивается она. «Физиология действительности», «копирование» внешней стороны жизни, ее социальноисторического аспекта находится не в центре, а на периферии изображаемой картины мира. Сфера «текущего» – сфера «умирания», «умертвий», за которой со всей очевидностью обнаруживает себя необходимость «воскресения», к которой и обращены все элементы картины воспроизведения «среды». «Освобождение», в контексте которого И. А. Бунин «прочитал» судьбу и творчество Л. Н. Толстого, предполагает определенную конфигурацию мира как «тюрьмы». В данном аспекте в творчество Л. Н. Толстого – продолжение гоголевской традиции в русской литературе. Сгущенность материальности, предметности в восприятии бытия разворачивается в своеобразное «пограничье» языческого мира, когда он подходит к своей «кульминации», начиная уничтожать самое себя, тем самым открывая пространство нового христианского мира. «Культ предметности», которым становится «среда» – предел языческого мира. Явление замыкается в своей «натуре», предметности, вещественности, когда внутри его обрывается связь с будущим и оно начинает мыслиться только в настоящем. Если Бунин выделял в творчестве Толстого мотив освобождения, то другой его современник мотив духовной несвободы и тесноты, которой оборачивается гнет материальности. В тюрьму заточил себя герой «Моих записок» Л. Андреева, следуя проповедуемой им «теории» «железной решетки»: «Почему небо так красиво именно сквозь решетку? – размышлял я, гуляя. – Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому голубое чувствуется особенно сильно наряду с черным? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому безграничное постигается человеческим умом лишь при непременном условии введения его в границы, например, включения его в квадрат?» [10, с. 133]. «Решетка» как создание «ремесленников» «невежественного кузнеца» и «каменщика» становится категорией эстетической, явив собой «образец глубочайшей целесообразности, красоты, благородства и силы» [10, с. 134], а затем и основой нового религиозного культа. «Тюрьма» в данном контексте оказывается «замещением» языческой «суеты», определяющей жизнь людей. В «Моих записках» Андреев ставит проблему язычества и христианства в аспекте, созвучном статье Л. Н. Толстого «Ненасилие». Причем герой не заимствует идеи Толстого, а повторяет его путь, где «ненасилие» как форма бегства от язычества само становится «умозрительным» замещением христианства, когда жизнь изменяется не изнутри, а извне, «сознанием»: «Итак, большинство людей христианского мира нашего времени живет языческою жизнью не столько потому, что оно желает жить так, сколько потому, что устройство жизни, когда-то нужное для людей с совершенно другим сознанием, осталось то же и поддерживается постоянной суетой людей, не дающею им времени опомниться и изменить его соответственно своему сознанию» [11; с. 166]. Как и герой Л. Н. Андреева Л. Н. Толстой выводит «закон»-«теорию», искажая тем самым саму сущность содержания понятия «непротивления» любовь: «Освобождение – в признании закона любви во всем его значении, т. е. в признании и неразрывно связанного с ним закона непротивления» (12; с. 270). Сознание Толстого ищет «закономерность» там, где ее не может и не должно быть. Его «непротивление» есть новая форма «вавилонского столпотворения», соединения людей на общем основании, обезличивающего их, лишающего внутренней свободы как любая «закономерность». Ее сущность не в истинности, а в принимаемом за истину стремлении к конечности, абсолютности своего знания. Именно на этих основаниях выстраивается «здание» цивилизации, растворяя во внешнем духовный аспект бытия, которым определяется свобода человека, его выбор, совершающийся повседневно. Этот выбор и есть действительное, а не иллюзорное («суета») движение в мире. Вначале тюрьма вызывает восторг героя Андреева целесообразностью и законченностью своих форм: «я вскоре пришел к чрезвычайно ценному выводу, что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану, вызывающему восторг своей законченностью» [10; с. 134]. «Тюрьма» форма бегства. Она «издалека привлекает взоры путника своими суровыми очертаниями, суля ему покой и отдых от бесконечных скитаний». «План» тюрьмы, написанный героем повести, почти буквально повторяет тот «духовный ландшафт», где развиваются события в «Страннике» А. С. Пушкина: окраина города, «на границе пустынного, поросшего бурьяном поля» [10; с. 136]. «Тюрьма»-«цивилизация» как обратная сторона духовного бегства – «предел», «окраина» человеческого существа. Это «неподвижная точка зрения», предполагающая перспективную панораму бытия, где его духовная сторона только угадывается, а символическое определение сторон – «право», «лево» меняется на противоположное: «…и в решетчатое окно открывается прекрасный вид на далекий город и часть пустынного поля, уходящего на право; налево же, вне пределов моего зрения, продолжается предместье города и находится, как мне сказали, церковь с прилегающим к ней городским кладбищем» [10; с. 137]. Теория «тюремной решетки» как обнаружение существа языческого культа, то есть иного уровня его восприятия, не как «тайного», а как «явного», и строится соответственно на перемещении внутреннего во внешнее. Автор «записок» как адепт «тюремной решетки» выступает в собственных глазах и в глазах своих последователей как пророк, но не абстрактный, а конкретный: «Фигурою своею, в которой преобладающим является выражение спокойной силы и уверенности, а также лицом я напоминаю несколько МикельАджеловского Моисея…» [10; с. 142]. Этот образ Моисея отличен от того, который сложился в русской культуре, в частности, в произведениях П. Я. Чаадаева. В нем выделяются прямо противоположные чаадаевскому образу черты. Да и сам «источник» характерен. Это не Библия, не сакральный текст, а его «языческая», ренессансная, скульптурная интерпретация. Последнее как род искусства, где внешнее преобладает над внутренним особенно знаменательно, выделяя в образе Моисея «фигуру» и «лицо» в значении «не лик». Это те моменты «прямой перспективы», в рамках которых понятие «границы» является самодостаточным, служит не для воплощения, а для самовыражения. В повести Андреева образ «тюрьмы» пронизан идеями и мотивами «поэмы о великом инквизиторе». «Тюрьма» «пустыня», пространство обладания душей, принимающей ту «форму», к которой стремится «мысль». Мир – «здание», где человек строитель и «царь» [10; с. 145]. Но «царем» он становится, только построив свою тюрьму. В конце повести к ней применимы уже эстетические категории, она дворец, одно из проявлений красоты: «При закате солнца наша тюрьма прекрасна» [10; с. 230]. По сути дела характеризующие цивилизацию утилитаризм и прагматизм есть то, во что вырождается рукотворная красота, конечной формой воплощения которой становится «тюрьма» предельная степень «ограничения», определяющая сущность цивилизации как «европейского» типа культуры. «Тюрьма» в данном случае – образ пространственного воплощения того духовного состояния, о котором говорил Дмитрий Карамазов: «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» [14; 100]. Таким образом, открытый Гоголем в «рабском подражании натуре» соблазн очевидности устойчиво проходит через творчество русских писателей. «Портрете» как определенный образ и символ творчества и вообще отношения к действительности обнаруживает потустороннюю «демоническую» сторону «среды» как сферы определения, отождествления человека, его мировоззренческого выбора. Этот образ проходит через различные стадии своего художественного осмысления («подполье», «пропасть», «обрыв», «могила», «угол», «здание»), конечной стадией которого становится образ «тюрьмы». Понятие «предела» как формы отношения к сфере очевидного имеет, как показывают эти образы, внутреннюю и внешнюю направленность, связанную или со сферой выражения или воплощения. «Передел», «граница» в значении обращения материи к самой себе, формируют представление об абсолютной замкнутости и несвободе «вещи в себе», в рамках которого она оказывается по ту сторону бытия, описывая собой сферу несуществования. Но именно эта сторона очевидности разворачивает изображение к внутренней сущности явлений, открывая на «границе», «пределе» материального мира, который становится «пропастью», обрывом», его духовное содержание. В данном аспекте открывается сама сущность творчества и художественного образа действительности, архитектоника которого определяется принципом «освобождения», реализующего себя через воплощение, а не выражение. ______________________________ 1. Манн, Ю. В. Художник и «ужасная действительность (О двух редакциях повести «Портрет» / Ю. В. Манн // Гоголь Н. В. Петербургские повести / сост. и вступ. ст. М. А. Васильевой. М., 2003. 2. Кривонос, В. Ш. Семантика границы в повести Н. В. Гоголя «Портрет» / В. Ш. Кривонос // Известия РАН. Серия литература и язык. 2006. Т. 65. № 3. 3. Лисичный, А. А. Проблема интерпретации «предельных» текстов / Лисичный А. А. // Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры. Вып. 3. Тюмень. 1997. 4. Маймин, Е. А. Пушкин. Жизнь и творчество / Е. А. Маймин. М., 1982. 5. Старыгина, Н. Н. Евангельский фон (смысловой и стилистический) в романе Н. С. Лескова «На ножах» / Старыгина Н. Н. // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Вып. 1. Петрозаводск. 1994. 6. Толстой, Л. Н. Собр. соч.: В 12 Т. – Т. 12. – М., 1987. 7. Гончаров, И. А. Обломов / И. А. Гончаров. М., 1982. 8. Гоголь, Н. В. Собр. соч.: в 7 т. / Н. В. Гоголь – М.: Худож. лит, 1984–1986. 9. Фридлендер, Г. М. От «Мертвых душ» к «Братьям Карамазовым» / Флидлендер Г. М. // Достоевский: материалы и исследования. – Т. 13. – Л., 1996. 10. Андреев, Л. Н. Собр. соч. – Т. 8. – СПб. Б. г. 11. Толстой, Л. Н. Собр. соч. 1-я серия. – Т. 10. Статьи и письма. – М., 1911. 12. Толстой, Л. Н. Собр. соч. 2-я серия. – 20 т. – М., 1912. 13. Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Ф. М Достоевский // АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский дом); глав. ред. В. Г. Базанов – Т. 14. – Л.: Наука, 1976.