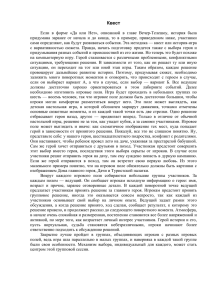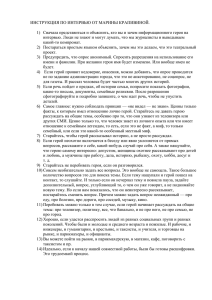архитектура, секс и детство
advertisement
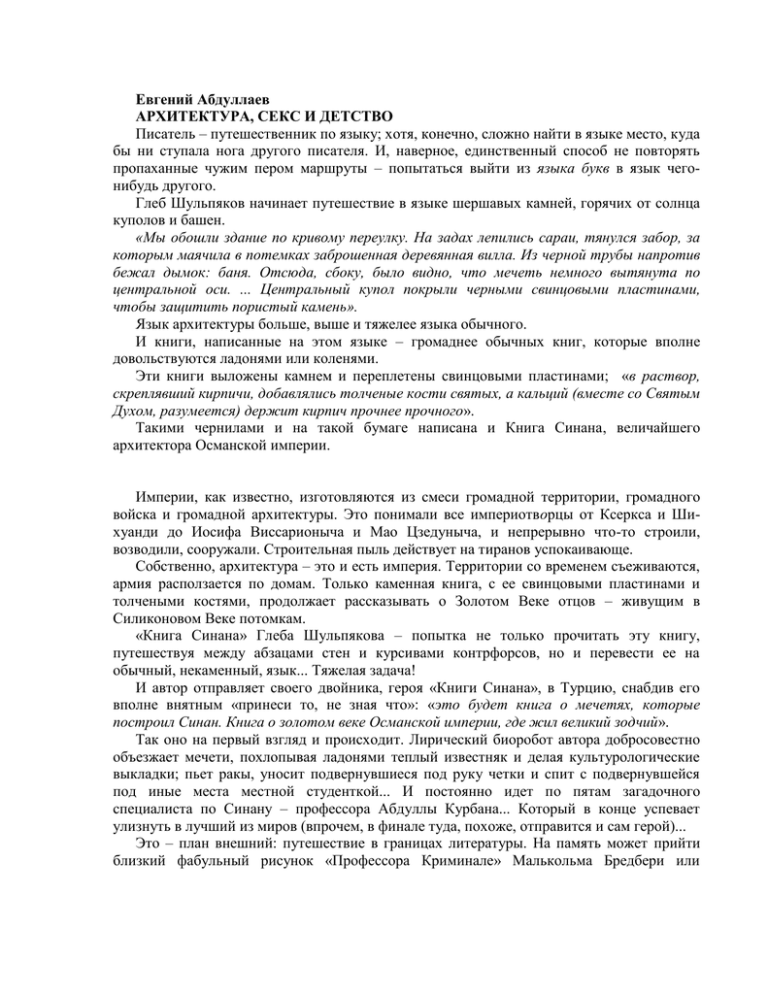
Евгений Абдуллаев АРХИТЕКТУРА, СЕКС И ДЕТСТВО Писатель – путешественник по языку; хотя, конечно, сложно найти в языке место, куда бы ни ступала нога другого писателя. И, наверное, единственный способ не повторять пропаханные чужим пером маршруты – попытаться выйти из языка букв в язык чегонибудь другого. Глеб Шульпяков начинает путешествие в языке шершавых камней, горячих от солнца куполов и башен. «Мы обошли здание по кривому переулку. На задах лепились сараи, тянулся забор, за которым маячила в потемках заброшенная деревянная вилла. Из черной трубы напротив бежал дымок: баня. Отсюда, сбоку, было видно, что мечеть немного вытянута по центральной оси. ... Центральный купол покрыли черными свинцовыми пластинами, чтобы защитить пористый камень». Язык архитектуры больше, выше и тяжелее языка обычного. И книги, написанные на этом языке – громаднее обычных книг, которые вполне довольствуются ладонями или коленями. Эти книги выложены камнем и переплетены свинцовыми пластинами; «в раствор, скреплявший кирпичи, добавлялись толченые кости святых, а кальций (вместе со Святым Духом, разумеется) держит кирпич прочнее прочного». Такими чернилами и на такой бумаге написана и Книга Синана, величайшего архитектора Османской империи. Империи, как известно, изготовляются из смеси громадной территории, громадного войска и громадной архитектуры. Это понимали все империотворцы от Ксеркса и Шихуанди до Иосифа Виссарионыча и Мао Цзедуныча, и непрерывно что-то строили, возводили, сооружали. Строительная пыль действует на тиранов успокаивающе. Собственно, архитектура – это и есть империя. Территории со временем съеживаются, армия расползается по домам. Только каменная книга, с ее свинцовыми пластинами и толчеными костями, продолжает рассказывать о Золотом Веке отцов – живущим в Силиконовом Веке потомкам. «Книга Синана» Глеба Шульпякова – попытка не только прочитать эту книгу, путешествуя между абзацами стен и курсивами контрфорсов, но и перевести ее на обычный, некаменный, язык... Тяжелая задача! И автор отправляет своего двойника, героя «Книги Синана», в Турцию, снабдив его вполне внятным «принеси то, не зная что»: «это будет книга о мечетях, которые построил Синан. Книга о золотом веке Османской империи, где жил великий зодчий». Так оно на первый взгляд и происходит. Лирический биоробот автора добросовестно объезжает мечети, похлопывая ладонями теплый известняк и делая культурологические выкладки; пьет ракы, уносит подвернувшиеся под руку четки и спит с подвернувшейся под иные места местной студенткой... И постоянно идет по пятам загадочного специалиста по Синану – профессора Абдуллы Курбана... Который в конце успевает улизнуть в лучший из миров (впрочем, в финале туда, похоже, отправится и сам герой)... Это – план внешний: путешествие в границах литературы. На память может прийти близкий фабульный рисунок «Профессора Криминале» Малькольма Бредбери или 2 «Расколотых небес» Бертолуччи. Или манновской «Смерти в Венеции». «Путешествия в Арзрум», в конце концов... На этом внешнем плане, герой – скорее, отбившийся от стада турист: мы следим за ним, как за курсором, скользящим по дисплею – неважно, ткет ли он новые словесные нити или пробегает по уже существующим, или хлопочет в режиме “overtype”. Главное: движение. Кстати, сам по себе этот план совсем неплох. На нас накатывает Турция – жаркая, пестрая – какая-то недовоспетая русской литературой: не доходили ее классические ручки до всего этого. Как-то все довольствовалась она прежними окраинами Османской империи, ставшими окраинами империи Российской / Советской: Крым и Кавказ. Кавказ и Крым. Крым. Кавказ. Сколько же можно. Пора к первоисточнику, в Истамбул, Кайсери... Если не ошибаюсь, «Книга Синана» – первый в русской литературе роман о Турции. Написанный, к тому же, даже на этом, внешнем уровне, мастерски, с какой-то зверской наблюдательностью и нежностью. Сочные, с преобладанием розового, зарисовки. Матерчатый, насыщенный, лаконичный стиль. «У парапета выстроились рыбаки: рубашка навыпуск, на спине пузыри. Лес удочек торчал в мыльном небе Стамбула и скрещивался с минаретами. Внизу шуровали пароходы, вспарывая розовое нутро залива». Собственно, рыба, по поводу которой нагроможден весь этот лес удочек и минаретов, плавает тут же, хотя и на втором, более глубоководном, плане. Мелкочешуйчатое, изворотливое детство. Герой Шульпякова – ловец собственного детства. Ловец энергичный, упорный. В стихотворении «Camden Town» (из книги Шульпякова «Щелчок»), похоже, именно он совершал в Лондоне абсурдное жертвоприношение. Только что купленные ботинки «ставил на воду» («...которая покорно / их понесла куда-то в Копенгаген») – только потому, что они напомнили ему один эпизод детства... В «Книге Синана» мы словно присутствуем при ловле этих ботинок, уплывших двумя лакированными рыбами из Camden Town’а. Неслучайно образ рыбы периодически всплывает в романе. «Рядом тут же вырос мальчишка. “Бир миллион” — опять за рыбу деньги». Возможно, именно отсюда эта страсть героя к плаванию: он постоянно, даже в самых неподходящих местах, пытается плыть. В Москве: «Я раздевался и прыгал в липкую воду, залитую ослепительным солнцем. Плыл, расталкивая мусор. Баржа идет! осторожно! — кричала с берега». В Ташкенте: «Теплая парная вода подхватила и понесла, закрутила на каруселях. Мимо проносились гаражи, смутные какие-то фасады с выбитыми окнами, заборы». Наконец, в Стамбуле... «Посередине пролива меня подхватило течение... Я рванулся, закричал, но течение упрямо тащило под киль». Герой не просто пытается дважды войти в одно и то же течение. Он еще пытается плыть в нем, словно отождествившись с рыбой-детством... «Мимо проплывала кустистая набережная, и мальчишки, выжидая, когда мы поравняемся, прыгали в воду». 3 Стремительное течение воды – антитеза застывшему миру архитектуры. Имперскому миру Книги Синана. Миру отца героя – архитектора, заваленного чертежами, ушедшего из семьи, уехавшего с новой женой-турчанкой в Турцию... Этот мир архитектуры – не менее опасен и враждебен, чем водная стремнина. Вот один из лучших в романе эпизод-реминисценция с залезанием героя, еще школьником, «на башню» – пожарную вышку. Эпизод, полный страха, сердцебиения, острых мальчишеских слез: «Потому что земля внизу лежала как вода на дне колодца: темная, далекая. Потому что никто не знает, где я, и никто мне не поможет». И снова: та же самая жажда повторить, напиться детским страхом, испытать враждебность языка архитектуры карабкающемуся по нему маленькому телу. «С тех пор я много куда поднимался. На крыши и колокольни, строительные краны и средневековые соборы. Но перебирая в памяти восхождения, я вижу не шпили, а пожарную каланчу, которая одиноко торчит в моем детстве». В конце романа этот вечно превышающий нас и наше разумение язык отцовства, сухой язык камня и его фаллических башен превращается в навязчивый ужас: «Чем больше я занимался Синаном, тем меньше понимал, что происходит в моей жизни. Пока он делал карьеру, я растерял свою жизнь. Распался! Это его мечети поднимались все выше и выше — а мои перекрытия рушились! Это он возводил шедевры — а у меня росли катакомбы. Норы какие-то ветвились, пещеры. Пустота! Кто я? Откуда? Зачем? Один огромный михраб внутри!» Маски отцовства в романе. Это и смутно вспоминаемый собственный отец; и загадочный русский торговец оружием, и неуловимый профессор Абдулла Курбан. Наконец, сам Синан... И все они – не только как-то связаны с миром архитектуры (включая даже торговца, прочитавшего герою целую лекцию о стиле); они еще оторваны от мира деторождения. Лишь о Синане вскользь говорится, что у него были дети. О том, были ли дети у остальных (например, у отца героя в его новой семье) не сказано ничего. Ни слова об интимной жизни «отцов»... Обильно разлитая в романе эротика не дотекает до их строгих пределов. Их мир асексуален и выхолощен. Сцена обрезания христианского юноши Синана кажется скорее сценой кастрации. Вся радуга телесных наслаждений замкнута на главном герое – блудном сыне свинцово-каменного мира отцов. Все это выпадает на его долю: грамматика сосков, пунктуация поцелуев, морфология ягодиц. «Ягодицы шершавые, на ощупь напоминают крышку ноутбука» Роман пропитан какой-то «всемирно-отзывчивой» телесностью героя, его вдохновенным диалогом со своим телом. «Я отвинчиваю окно – горячий воздух лупит по лбу». «Я пригубил из наперстка, и по нёбу разлился густой матерчатый вкус». «Сел в середину ковра и погладил рукой рисунок. Ворс покалывал задницу». «Я вытирал шею и слушал, как сердце колотится в горле». Этот мир тела – нечто противоположное и асексуальному миру детства (детские реминисценции героя лишены какой-либо эротики) и асексуальному миру «отцов» с его архитектурами-империями. Что это? Попытка вырваться из языка литературы и языка архитектуры – в третий язык, язык живой, смакующей саму себя телесности? 4 Если да, то попытка утопическая. Может быть, потому, что тело героя, как и тело отцов, – не оплодотворяет. Хотя и по иной причине: если камень и свинец «отцов» не способен к оплодотворению априори, то живая и женолюбивая плоть героя-«сына» стремится наслаждаться, а не оплодотворять. Только один раз – и то, в воспоминаниях о любви, пережитой в студенческую пору, – заскребется мысль о собственных детях. Чтобы тут же быть отвергнутой. «Жить вместе, дети. Смешно. Жить на что? где?». «Иметь-детей» оказывается синонимом «житью-где» – в доме, квартире, части архитектуры. Герой словно избегает этой укорененности в архитектурном пространстве, предпочитая жить на съемных квартирах, у друзей, в гостиницах... Но, возможно, это чересчур морализаторское прочтение, и дело в другом. В невозможности пробиться – через литературу, историю, секс, архитектуру, рискованные авантюры и т.д. – к тому миру, который герой пытается познать. Гоняясь за двумя метафизическими зайцами – «детством» и «Азией», герой ловит, в итоге, не их – а, наоборот, чувство свободы от них, освобождения. Которое, как выясняется, ему и было нужно. «Отец, исламская архитектура, девушка – все вдруг оказалось эпизодами чужой книги. Чужой жизни. И я понял, что меня с ними уже ничего не связывает. Что здесь, в Стамбуле, мое прошлое наконец-то кончилось. Опустело». Отделяясь от героя, книга прилипает к читателю. ...Так получилось, что вскоре после прочтения этого романа еще только в сокращенном варианте в «Новом мире», я оказался на одной конференции в Иерусалиме. Пестрой международной группой мы стояли возле стены Старого Города. Услышав, что ее возвели по чертежам Синана, группа оживилась. Хорваты вспомнили какой-то акведук или мост, построенный у них Синаном; что-то вспомнили боснийцы... «А вы знаете одну известную легенду о Синане?» – спросил кто-то. «Когда уже были возведены стены Мечети Сулейманийя, султану доложили, что Синан приказал приостановить строительство, а сам целый день бездельничает... Султан отправился проверить. Так и есть: работы остановлены, сам Синан сидит в центре недостроенного здания, курит кальян. Разгневанный султан набрасывается на архитектора с угрозами... Тише, – просит его Синан. – Тише... я слушаю эхо дыма». Честно говоря, я пожалел, что этой легенды нет в «Книге Синана». Возможно, желание «слушать эхо дыма» примирило бы героя с растущей внутри него пустотой – которая только и способна резонировать на такие тонкие вещи, как дым. И «огромный михраб внутри», как воплощение этой пустоты – не есть ли одновременно пустота священная, резонирующая вере? Но, возможно, герой прав, и это уже эпизод из другой книги.