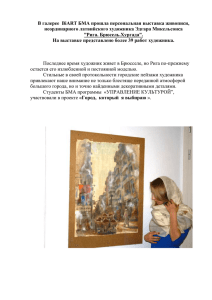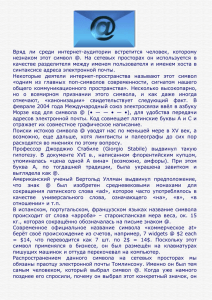Ю. В. Ковалев ЭДГАР ПО (История всемирной литературы.
advertisement
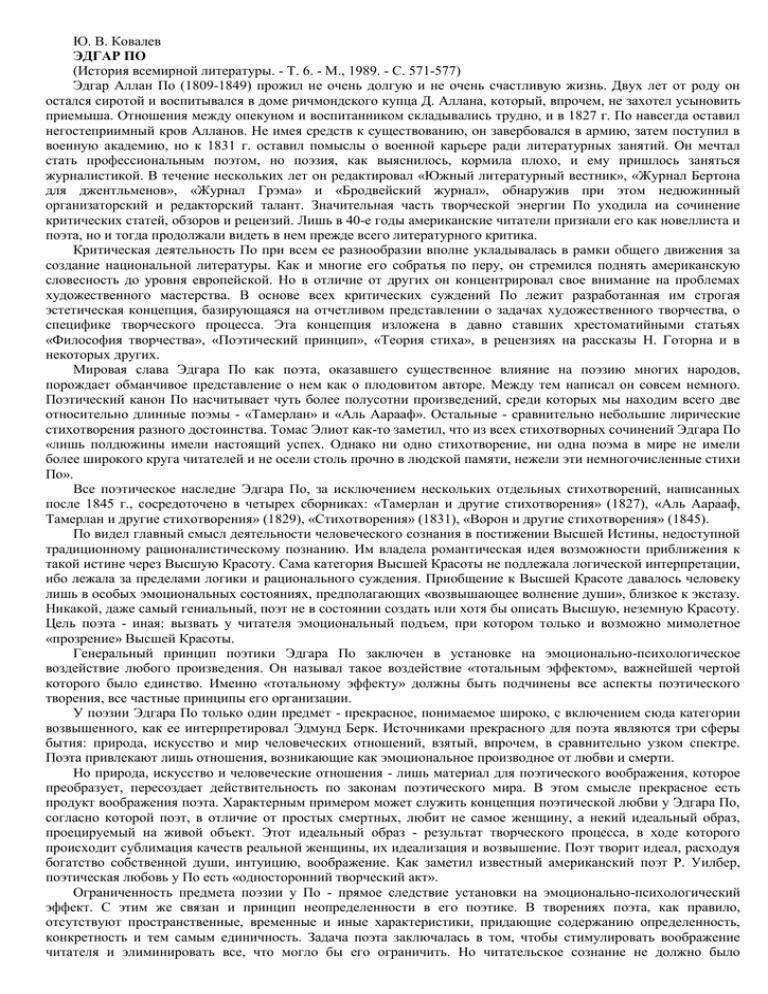
Ю. В. Ковалев
ЭДГАР ПО
(История всемирной литературы. - Т. 6. - М., 1989. - С. 571-577)
Эдгар Аллан По (1809-1849) прожил не очень долгую и не очень счастливую жизнь. Двух лет от роду он
остался сиротой и воспитывался в доме ричмондского купца Д. Аллана, который, впрочем, не захотел усыновить
приемыша. Отношения между опекуном и воспитанником складывались трудно, и в 1827 г. По навсегда оставил
негостеприимный кров Алланов. Не имея средств к существованию, он завербовался в армию, затем поступил в
военную академию, но к 1831 г. оставил помыслы о военной карьере ради литературных занятий. Он мечтал
стать профессиональным поэтом, но поэзия, как выяснилось, кормила плохо, и ему пришлось заняться
журналистикой. В течение нескольких лет он редактировал «Южный литературный вестник», «Журнал Бертона
для джентльменов», «Журнал Грэма» и «Бродвейский журнал», обнаружив при этом недюжинный
организаторский и редакторский талант. Значительная часть творческой энергии По уходила на сочинение
критических статей, обзоров и рецензий. Лишь в 40-е годы американские читатели признали его как новеллиста и
поэта, но и тогда продолжали видеть в нем прежде всего литературного критика.
Критическая деятельность По при всем ее разнообразии вполне укладывалась в рамки общего движения за
создание национальной литературы. Как и многие его собратья по перу, он стремился поднять американскую
словесность до уровня европейской. Но в отличие от других он концентрировал свое внимание на проблемах
художественного мастерства. В основе всех критических суждений По лежит разработанная им строгая
эстетическая концепция, базирующаяся на отчетливом представлении о задачах художественного творчества, о
специфике творческого процесса. Эта концепция изложена в давно ставших хрестоматийными статьях
«Философия творчества», «Поэтический принцип», «Теория стиха», в рецензиях на рассказы Н. Готорна и в
некоторых других.
Мировая слава Эдгара По как поэта, оказавшего существенное влияние на поэзию многих народов,
порождает обманчивое представление о нем как о плодовитом авторе. Между тем написал он совсем немного.
Поэтический канон По насчитывает чуть более полусотни произведений, среди которых мы находим всего две
относительно длинные поэмы - «Тамерлан» и «Аль Аарааф». Остальные - сравнительно небольшие лирические
стихотворения разного достоинства. Томас Элиот как-то заметил, что из всех стихотворных сочинений Эдгара По
«лишь полдюжины имели настоящий успех. Однако ни одно стихотворение, ни одна поэма в мире не имели
более широкого круга читателей и не осели столь прочно в людской памяти, нежели эти немногочисленные стихи
По».
Все поэтическое наследие Эдгара По, за исключением нескольких отдельных стихотворений, написанных
после 1845 г., сосредоточено в четырех сборниках: «Тамерлан и другие стихотворения» (1827), «Аль Аарааф,
Тамерлан и другие стихотворения» (1829), «Стихотворения» (1831), «Ворон и другие стихотворения» (1845).
По видел главный смысл деятельности человеческого сознания в постижении Высшей Истины, недоступной
традиционному рационалистическому познанию. Им владела романтическая идея возможности приближения к
такой истине через Высшую Красоту. Сама категория Высшей Красоты не подлежала логической интерпретации,
ибо лежала за пределами логики и рационального суждения. Приобщение к Высшей Красоте давалось человеку
лишь в особых эмоциональных состояниях, предполагающих «возвышающее волнение души», близкое к экстазу.
Никакой, даже самый гениальный, поэт не в состоянии создать или хотя бы описать Высшую, неземную Красоту.
Цель поэта - иная: вызвать у читателя эмоциональный подъем, при котором только и возможно мимолетное
«прозрение» Высшей Красоты.
Генеральный принцип поэтики Эдгара По заключен в установке на эмоционально-психологическое
воздействие любого произведения. Он называл такое воздействие «тотальным эффектом», важнейшей чертой
которого было единство. Именно «тотальному эффекту» должны быть подчинены все аспекты поэтического
творения, все частные принципы его организации.
У поэзии Эдгара По только один предмет - прекрасное, понимаемое широко, с включением сюда категории
возвышенного, как ее интерпретировал Эдмунд Берк. Источниками прекрасного для поэта являются три сферы
бытия: природа, искусство и мир человеческих отношений, взятый, впрочем, в сравнительно узком спектре.
Поэта привлекают лишь отношения, возникающие как эмоциональное производное от любви и смерти.
Но природа, искусство и человеческие отношения - лишь материал для поэтического воображения, которое
преобразует, пересоздает действительность по законам поэтического мира. В этом смысле прекрасное есть
продукт воображения поэта. Характерным примером может служить концепция поэтической любви у Эдгара По,
согласно которой поэт, в отличие от простых смертных, любит не самое женщину, а некий идеальный образ,
проецируемый на живой объект. Этот идеальный образ - результат творческого процесса, в ходе которого
происходит сублимация качеств реальной женщины, их идеализация и возвышение. Поэт творит идеал, расходуя
богатство собственной души, интуицию, воображение. Как заметил известный американский поэт Р. Уилбер,
поэтическая любовь у По есть «односторонний творческий акт».
Ограниченность предмета поэзии у По - прямое следствие установки на эмоционально-психологический
эффект. С этим же связан и принцип неопределенности в его поэтике. В творениях поэта, как правило,
отсутствуют пространственные, временные и иные характеристики, придающие содержанию определенность,
конкретность и тем самым единичность. Задача поэта заключалась в том, чтобы стимулировать воображение
читателя и элиминировать все, что могло бы его ограничить. Но читательское сознание не должно было
погружаться в стихию анархической, бесконтрольной свободы. Оно должно было «работать» в определенном
направлении. С этим связано еще одно качество поэзии Эдгара По - ее суггестивность, достигаемая с помощью
отчасти логического, но главным образом эмоционального подтекста. Сам поэт называл его «мистическим
смыслом», хотя к традиционному представлению о мистике он не имеет никакого отношения. Он заявлял, и
неоднократно, что применяет термин «мистический смысл к тому классу сочинений, в которых под
поверхностным прозрачным смыслом лежит скрытый, суггестивный».
Установка на неопределенность и суггестивность поэзии предопределяла ее метафоричность. Однако в
метафоризме По есть две особенности, которые необходимо учитывать: во-первых, метафоры у него
группируются вокруг символов, которые являются как бы маяками для читателя, плывущего по
«метафорическому морю»; во-вторых, сами метафоры обладают внутренним тяготением к символизму и во
многих случаях функционируют как символы. Разграничение между ними порою условно.
Содержательные аспекты символики По восходят к трем областям: природе, культуре и сознанию самого
художника. Вместе с Эмерсоном, хотя и независимо от него, поэт был убежден, что «символы возможны потому,
что сама природа - символ и в целом и в каждом ее проявлении» (Эмерсон). Из этого источника он черпал
щедрою рукою. Его стихотворения насыщены символикой красок, звуков, запахов. Под пером поэта
символический смысл обретают солнце и луна, звезды и море, озера, леса, день, ночь, времена года и т. д. Столь
же богатый источник являет собой человеческая культура, античные мифы и народные поверья, архитектурные
памятники и скульптура, Священное писание и Коран, фольклорные легенды и мировая поэзия, герои сказок и
герои истории. И наконец, последняя группа символов не имеет другого источника, кроме воображения поэта. Их
принято называть «искусственными», поскольку за ними в сознании человечества не закреплено никакого
значения. Естественно, что они наиболее трудны для расшифровки.
Другой характерной особенностью поэзии По является ее музыкальность. Пристрастие к музыке и
музыкальности было общим свойством поэтического сознания в романтизме. Подобно многим современникам,
Эдгар По выводил поэзию из музыки, однако связывал их друг с другом не только генетически, но и
функционально. В музыкальности стиха ему виделся путь к единству, эмоциональному воздействию,
организации «подтекста» (или «мистического смысла»), суггестивности.
Стихи Эдгара По и впрямь похожи на музыку. Для него понятие музыкальности включало всю звуковую
организацию стиха в органическом единстве с образно-смысловым содержанием. Многочисленные попытки
раскрыть секрет музыкальности стихов По чаще всего оканчивались неудачей потому, что критики
ограничивались рассмотрением «чистого звучания», отключая его от других элементов художественной системы,
не замечая при этом, что звук, взятый в изоляции, «пустеет», теряет эмоциональную окрашенность и
действенность. По никогда не уравнивал поэзию с музыкой. Он настаивал на том, что поэзия - это музыка в
сочетании с мыслью.
Пытаясь очертить границы деятельности поэтического таланта, Эдгар По писал: «Если и существует некий
круг идей, отчетливо и ощутимо выделяющийся посреди клокочущего хаоса умственной деятельности
человечества, - это вечнозеленый, сияющий рай, который доступен истинному поэту, и лишь ему одному, как
ограниченная сфера его власти, как тесно замкнутый Эдем его мечтаний и сновидений». Иными словами, По не
допускал выхода поэтического творчества за пределы жестко очерченной эмоционально-эстетической задачи и
тем самым обрекал поэзию на неподвижность, лишал ее способности выражать внутренний мир человека в его
сложности и богатстве. Уделом поэзии оставался «мир сновидений». «Истина бытия» была достоянием прозы.
Эдгар По начал писать прозу в 1831 г. За восемнадцать лет он написал две повести («Повесть о
приключениях Артура Гордона Пима», 1838, и «Дневник Джулиуса Родмена», 1840), философский трактат
«Эврика» (1848) и около семидесяти рассказов, печатавшихся в журналах и альманахах, а затем собранных в пять
сборников: «Гротески и арабески» (1840); «Романтическая проза Эдгара А. По» (1843); «Рассказы» (1845 и 1849)
и пиратское издание, опубликованное в Лондоне без ведома автора под названием «Месмеризм».
Основное ядро в прозаическом наследии Эдгара По составляет его новеллистика. Именно в
«малоформатной» прозе обнаружил он блистательное мастерство и достиг вершины художественного
совершенства.
Продолжая эксперименты, начатые Ирвингом, Готорном и другими современниками, По довершил дело
формирования нового жанра, придал ему черты, которые мы сегодня почитаем существенными при определении
американской романтической новеллы. Не удовлетворяясь практическими достижениями и сознавая
необходимость теоретического осмысления своего (и чужого) опыта, По разработал теорию жанра, которую в
общих чертах изложил в статьях о Готорне, опубликованных в 40-е годы XIX в.
Важным вкладом По в развитие американской и мировой новеллистики является практическая разработка
некоторых ее жанровых подвидов - детективного, научно-фантастического и психологического рассказа.
Центральное место в новеллистике По занимают психологические рассказы, которые нередко называют
«страшными» или «ужасными». Их главная тема - трагические последствия столкновения человеческого
сознания, воспитанного в духе гуманистических идеалов, с новыми бесчеловечными тенденциями,
возникающими в ходе прогресса американской буржуазной цивилизации. По был, вероятно, первым
американским писателем, который уловил в этих тенденциях угрозу бездуховности. Душа человеческая,
ужаснувшаяся при столкновении с миром, в котором для нее не оставалось места, боль и болезнь души, ее страх,
стали предметом художественно-психологического исследования. А результаты исследования зависели,
разумеется, от общей философско-эстетической позиции писателя.
Мировоззрение и самый тип сознания Эдгара По характеризуются значительной внутренней
противоречивостью. Напомним, что По вырос и сформировался как мыслитель и художник в Виргинии,
миновавшей уже к тому времени в своем историческом развитии блистательную полосу «виргинского
ренессанса» и вступившей в период глубокого упадка экономической, политической и духовной жизни.
Последние двенадцать лет жизни - самое плодотворное время - он провел в Филадельфии, Нью-Йорке и Бостоне,
т. е. в самом сердце буржуазной, деловой, коммерческой Америки, чьи политические идеалы, жизненный уклад и
нравственные принципы он глубоко презирал и ненавидел. Он и сам был деловым человеком, но в глубине души
всегда оставался «виргинским джентльменом», аристократом духа. Звучащие в рассказах По мотивы смерти,
упадка, разрушения, деградации личности и страха перед жизнью составляют острый контраст общему духу
американской национальной жизни того времени, но вполне согласуются с атмосферой виргинского «декаданса».
Ощущение угасания, безнадежности, бесцельности, характерное для современной По Виргинии, окрасило все
мироощущение писателя, легло в основу созданного его воображением вневременного и внепространственного
мира, в котором бьется в трагическом надрыве охваченная ужасом душа человека.
Среди психологических состояний, особенно привлекавших внимание По-художника, главное место
занимает чувство страха: страх перед смертью, страх перед жизнью, страх перед одиночеством, страх перед
людьми, страх перед безумием, страх перед знанием. Общепризнанной вершиной психологической новеллистики
По является «Падение дома Ашеров» - новелла, рисующая уже не страх перед жизнью или страх перед смертью,
но страх перед страхом жизни и смерти, т. е. особо утонченную и смертоносную форму ужаса души, ведущую к
разрушению личности.
Особняком стоят психологические рассказы, сюжетную основу которых образует принцип «запретного
плода». Они являют собой опыт художественной интерпретации «открытия», сделанного романтиками в области
социального поведения человека в новых условиях, предложенных буржуазно-демократическим обществом, где
видимая свобода личности вступила в противоречие с ежедневной, ежечасной зависимостью и невозможностью
свободного волеизъявления. Скованность, всесторонняя связанность человеческой воли были очевидным и
бесспорным фактом, природа же этой несвободы ускользала от понимания, казалась таинственной и фатальной.
Человек выглядел жертвой обстоятельств. Его поведение представлялось вынужденным. Обнажалось резкое
расхождение между нравственным сознанием личности и ее практическими действиями, между идеальными
намерениями и конкретными поступками. Эдгар По, подобно другим романтикам интерпретировавший
социально-психологические явления в категориях личностного сознания, усматривал здесь «болезнь души»,
сходную с давно замеченной психической аномалией, толкающей человека к нарушению запрета. Он обозначил
ее термином «дух извращения». «Дух извращения» представлялся писателю явлением распространенным и
характерным для современного состояния общества. Он неизменно настаивал на том, что здесь мы имеем дело с
болезнью, с отклонением от нормы.
Исследователи творчества По неукоснительно обращают внимание еще на одну психическую аномалию,
постоянно встречающуюся в его рассказах, - раздвоенное сознание, и ставят ее в один ряд с «духом извращения».
Интерес писателя к этой аномалии имеет иную природу и восходит скорее к проблемам метода и
повествовательной структуры, нежели социальной психологии. Давно замечено, что его повествование обычно
опирается на традиционную в романтической прозе пару: рассказчик - герой. Рассказчик олицетворяет
нравственно-психологическую норму, герой - отклонение от нее. Однако часто у По рассказчик и герой - одно
лицо. В нем воплощены и норма и отклонение, а повествование приобретает характер самонаблюдения. Отсюда и
вытекает со всей неизбежностью раздвоенность сознания, которое функционирует как бы на двух уровнях. Одно
принадлежит человеку, совершающему поступки, другое - человеку, описывающему и объясняющему их. Эта
раздвоенность есть прием, применяемый писателем вполне сознательно.
В разных рассказах степень раздвоенности сознания различна. В одних она едва ощущается, в других просматривается более отчетливо. Наиболее полно она выражена в рассказе «Вильям Вильсон», где степень
раздвоенности столь высока, что «два» сознания уже «не умещаются» в одном характере и каждое «требует» для
себя самостоятельного физического оформления. Отделив сознание нравственное и оценивающее от сознания
безнравственного и действующего, По дал «двум» героям одно имя, один возраст, одну внешность, но раздельное
существование. И только в последней фразе рассказа, в предсмертной фразе Вильяма Вильсона, убитого
Вильямом Вильсоном, писатель обнажает единство их двойственного бытия.
Пристрастие По-художника к всевозможным душевным аномалиям общеизвестно. Мало кто, однако,
замечал, что внимание его приковано к аномалиям, ведущим к нарушению социального и нравственного закона,
что символика безумия в рассказах По имеет глубокий общественный смысл, что «безумный, безумный мир» его
героев, построенный на основе тщательного наблюдения и анализа человеческой психики, является особой
формой отражения действительности.
Повышенное внимание По к психологии было обусловлено в значительной степени стремлением выяснить
природу сил, препятствующих нормальной и полноценной работе сознания. Всю жизнь По верил в Разум,
который один только в его глазах способен вывести человека и человечество из трагических противоречий
бытия. Недаром критики считают его главным рационалистом в романтизме. Естественно, что огромный интерес
для писателя представляла интеллектуальная деятельность человека. Интерес этот пронизывает все
новеллистическое наследие По. В наиболее концентрированном виде он проявлен в так называемых
«логических» его рассказах. Их всего четыре: «Убийства на улице Морг», «Похищенное письмо», «Тайна Мари
Роже» и «Золотой жук». Именно на этих четырех сочинениях базируется слава Эдгара По как зачинателя
детективной литературы.
Понятие логического рассказа шире, чем понятие рассказа детективного. Из логического рассказа в
детективный перешел основной сюжетный мотив: раскрытие тайны или преступления. Сохранился тип
повествования: рассказ - задача, подлежащая логическому решению. Перешла в детективный рассказ и
устойчивая пара характеров: герой - рассказчик. Герой - человек широкообразованный, тонко мыслящий,
эксцентричный, наделенный мощной логической способностью. Рассказчик - персонаж симпатичный,
энергичный, простоватый, хотя и благородный. Функция героя - раскрывать тайну, находить преступника;
функция рассказчика - строить неверные предположения, на фоне которых проницательность героя кажется
гениальной. Существенная особенность логических рассказов По состоит в том, что главным предметом,
концентрирующим на себе внимание автора, оказывается не преступление и не расследование, а человек,
ведущий его. Это Легран в «Золотом жуке» и Дюпен в остальных трех «рациоцинациях».
Сюжетная структура этих рассказов стереотипна. Она имеет два слоя: поверхностный и глубинный. На
поверхности - поступки героя, в глубине - работа его мысли. Поверхностный слой беден, но бедность физической
динамики компенсируется напряженным внутренним, интеллектуальным действием. Герой анализирует,
сопоставляет факты, подвергает сомнению всякую деталь и всякое предположение. В ход идут его огромная
эрудиция и мощная способность к логическому рассуждению. Его интеллект разрушает ошибочные построения и
на их месте возводит неуязвимую концепцию, содержащую решение задачи. При этом По раскрывает сам
процесс мышления, его принципы и логику. Пафос детективных рассказов не только в раскрытии тайны, но
прежде всего в демонстрации красоты и огромных возможностей разума, торжествующего над анархическим
миром «необъяснимого». Логические новеллы - исследование работы интеллекта и одновременно гимн ему.
В логических рассказах писатель рассматривает два типа сознания, которые условно можно означить как
тривиальное и нетривиальное. Тривиальное сознание представлено всеми персонажами, кроме Дюпена и
Леграна. Оно более или менее равнозначно здравомыслию и соответственно не признает никакого инакомыслия.
Его основные признаки - приверженность к прагматической логике и стремление отметать все, что не
укладывается в рамки примитивного рационализма, относя его к области «странного», «необъяснимого»,
«загадочного».
«Аналитические способности» Леграна и Дюпена - это продукт нетривиального сознания, которому
доступны интуитивные прозрения и которое способно поставить их под железный контроль логического анализа.
По высоко ценил этот тип сознания, полагая, что ему доступно решение любых проблем и задач, не только
криминальных, но научных, социальных, философских. В его иерархии интеллектов он уступает лишь сознанию
творческому.
Специфика повествования в логических рассказах По состоит отчасти в том, что момент интуитивного
озарения - всего лишь исходная точка «аналитических» рассуждений героя. Она теряется посреди множества
фактов, газетной информации, полицейских донесений, рассуждений рассказчика, посреди подробного описания
«странных» привычек Дюпена, его образа жизни, посреди разъяснений самого Дюпена, насыщенных
дедуктивными и индуктивными конструкциями. Ее легко не заметить. Это и случилось со многими
подражателями и последователями По, не увидевшими в «методе Дюпена» ничего, кроме дедукции.
Американские романтики, как известно, питали безграничную склонность придавать жизнеподобие самым
фантастическим своим домыслам. Простейшим и традиционным средством, к которому они прибегали, было
включение в повествование всевозможных бытовых подробностей и деталей. Эдгар По был первым, кому
пришла в голову мысль «достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами». В этих словах
Эдгар По сформулировал один из важнейших принципов научно-фантастической литературы.
Собственные опыты писателя в данной области могут быть разделены на несколько категорий, которые мы
условно обозначим как научно-популярные («Сфинкс», «Три воскресенья на одной неделе»), «технологические»
(«Ганс Пфааль», «История с воздушным шаром», «Mellonta Tauta»), сатирические («Разговор с мумией», «Тысяча
вторая сказка Шехерезады») и «метафизические» («Повесть скалистых гор», «Месмерическое откровение»,
«Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром»). Условность деления обусловлена тем, что ни одна из
этих категорий не существует в чистом виде, но всегда в комбинации с другими, и речь может идти лишь о
преобладающей тенденции. Объединяет их, пожалуй, только одно: все они так или иначе привязаны к какомунибудь научному открытию, изобретению, наблюдению, любопытному факту. При этом само открытие или
изобретение лишь в редких случах становится главным предметом изображения; чаще всего оно только повод,
предлог для размышления о вещах, лежащих в совершенно иной сфере человеческого опыта, средство сделать
правдоподобным невероятное.
Жюль Верн и Герберт Уэллс - корифеи, в чьем творчестве окончательно сложились два главных направления
научной фантастики (технологическое и социологическое), - единодушно признавали Эдгара По своим предтечей
и наставником. Жюль Верн даже посвятил его памяти один из своих романов. Это, однако, не дает нам оснований
видеть в американском писателе «творца жанра». Опыты Эдгара По были именно опытами. Они всего лишь
показали возможность существования научной фантастики как самостоятельного вида литературы. Реализация
этой возможности относится к более позднему времени. В заслугу писателю следует поставить разработку ряда
приемов, которые затем прочно вошли в поэтику научно-фантастического жанра и сохраняют свою
«работоспособность» до сих пор. По большей части они относятся к области взаимодействия вымысла и факта, к
способам «превращения» невероятного в правдоподобное и находят применение главным образом в
технологической фантастике.
Говоря о прозаическом наследии Эдгара По, невозможно обойти молчанием его попытки теоретического
осмысления рассказа как одного из ведущих жанров романтической литературы в США. Писатель исходил из
представления о рассказе как о журнальном жанре, рассчитанном на широкий круг читателей. Отсюда - основные
требования содержательного и формального характера, предъявляемые к «короткой прозе».
В замысле, считал По, важны прежде всего оригинальность и новизна (как необходимое условие
оригинальности). Новизна же должна быть не абсолютной, а только кажущейся. Абсолютная новизна может дать
интеллектуальное удовлетворение, кажущаяся - эстетическое. Как и в поэзии, важнейшим моментом является
воздействие на читательское сознание. Отсюда центральной категорией в теории рассказа становится «тотальной
эффект», достижению которого должны быть подчинены все компоненты произведения. Однако если в поэзии
эффект строился на принципе неопределенности, то в прозе эффект предполагался определенным и
однозначным. Эффект, по мысли По, являлся интегральной суммой многочисленных компонентов, включая
железную целесообразность всех звеньев сюжета, единство предмета и гармоническое единство стиля.
Наконец, отметим принцип достоверности, которому писатель придавал огромное значение. Для него тут
был заключен вопрос о доверии читателя к писателю, о внутреннем контакте между ними, без которого
невозможно достижение «тотального эффекта».
«Могущественная магия правдоподобия» составляет одно из краеугольных положений теории рассказа По. В
своем собственном творчестве По разработал целую систему приемов и способов, содействовавших достижению
эффекта достоверности. Она не прошла мимо внимания писателей и критиков. В свое время ее выразительно
охарактеризовал Достоевский в известной статье об американском авторе.
Теоретические представления Эдгара По о рассказе как жанре опираются главным образом на опыт
американской романтической прозы. Однако некоторые из сформулированных им положений могут быть
распространены за пределы романтической эстетики. Они сохраняют свое теоретическое и практическое
значение по сей день.
http://www.philology.ru/literature3/kovalev-89a.htm
A.M.Зверев. Вдохновенная математика Эдгара По
---------------------------------------------------------------------------По Э.А. Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Гордона
Пима. Эссе: Пер. с англ. / Э.А. По. - М.: НФ "Пушкинская библиотека", 2ООО
"Издательство ACT", 2003.
OCR Бычков М.Н.
---------------------------------------------------------------------------И современники, и потомки видели в нем личность, вызывающе
обособившуюся от того "человека толпы", чье темя, как тогда считалось,
украшает "шишка порядка", символизирующая страсть к "системе": к
предпринимательству, скопидомству и ханжескому благочестию. Современники его
за это ненавидели - с редким единодушием. Как изощрялись они в своих
инсинуациях и нападках, грязных сплетнях и грубой клевете! Все здесь
сплелось в тугой узел: зависть к таланту, страх перед отточенным пером
По-газетчика, ущемленное самолюбие ничтожеств, задетых его громкой
известностью, раздражение здравомыслящих, потешавшихся над "бреднями" - над
"Мореллой", "Лигейей", "Падением Дома Ашеров".
Эдгар Аллан По (1809-1849) рано испытал на себе эту острую неприязнь
десятков людей, чьи имена сохранились в истории только оттого, что с ними
связаны какие-то особенно злобные выходки против великого поэта. Шли годы неприязнь не ослабевала. И оборачивалась жестокостью, которая теперь может
показаться просто необъяснимой, чем-то вроде странной мании, что овладевала
многими героями его рассказов.
Так и тянулась через его биографию непрерывающаяся цепочка житейских
неудач, бедствий, крушений, выматывающих душу конфликтов с
недоброжелательным окружением, - по видимости часто мелочных, а по сути
принципиальных и своей неразрешимостью порождавших душевные травмы, приступы
отчаяния и безысходной тоски.
Его преследовали яростно, лишь ожесточаясь с новыми бедами, которые ему
щедрой рукой посылала судьба. Совсем молодой покинула этот мир Виргиния, его
Аннабель Ли, пленительная и незабвенная, навек уснувшая "в саркофаге
приморской земли". Он погибал от горя, порабощенный воспетой им в "Улялюм"
Ночью Ночей, когда, по католическому поверью, духи мертвых властвуют над
живыми. А в это самое время Саре Уитмен, его последнему романтическому
увлечению и последней надежде, уже нашептывали, что Эдгар По не сдержал
данного ей слова совладать со своими "пороками". И вот их помолвка
расстроилась, и еще одна ниточка, может быть, крепче других привязывавшая
его к жизни, оборвалась.
Но даже и после того, как хмурым осенним днем 1849 года его в
бессознательном состоянии подобрали на балтиморской улице и доставили в
госпиталь, где через четыре дня он скончался, - даже после такой развязки
травля не прекратилась. В "Нью-Йорк Трибьюн" был напечатан некролог,
сочиненный неким Людвигом. За этим псевдонимом скрывался Руфус Грисуолд,
бывший священник и мелкий литератор. По доверял ему - как выяснилось,
напрасно. Одному из общих приятелей Грисуолд как-то в порыве откровенности
показал бумаги, компрометировавшие имя поэта, - их был целый ящик, они
скапливались годами. И пошли в ход, когда писался некролог, а затем и
вступительная статья к посмертному трехтомнику 1850 года, в котором Грисуолд
старательно вымарывал неугодные ему абзацы. На пропитанных ненавистью
страницах вырисовывался образ пьяного дебошира и скандалиста, одержимого
демоном честолюбия, который заставлял его глумиться над святынями и высокими
идеалами, какими они были в представлении этого филистера, взявшегося судить
о поэте.
Лишь по неведению или по ошибке, писал Грисуолд, природа вложила
несомненный творческий дар в человека, который был явно недостоин выпавшего
ему жребия художника. И как же плохо он распорядился своим даром! Не
расплачивался с долгами, сжигал себя в оргиях, доверялся безумным фантазиям
и хотел, чтобы им доверились другие. А на попытки его образумить отвечал
цинической насмешкой над соотечественниками и попранием элементарных норм
общественного поведения. Что же, расплата пришла неотвратимо - выхолощенный
талант, психическая деградация и кабак, это жалкое утешение изгоя...
Минует без малого три десятилетия, и на оскорбительные для памяти По
наветы его душеприказчика, к тому времени успевшие приобрести авторитет
правдивых свидетельств, ответит с другого берега Атлантики Стефан Малларме:
Лишь в смерти ставший тем, чем был он изначала,
Грозя, заносит он сверкающую сталь
Над непонявшими, что скорбная скрижаль
Царю немых могил осанною звучала.
Как гидра некогда отпрянула, виясь,
От блеска истины в пророческом глаголе,
Так возопили вы, над гением глумясь,
Что яд философа развел он в алкоголе. {*}
{* Перевод И. Анненского.}
Малларме говорил от имени младшего поколения символистов - он был их
признанным лидером. Символисты без колебаний объявили По своим предтечей."
Неведомый американец" был еще в 1852 году открыт Шарлем Бодлером. Обратим
внимание на дату - она многое объясняет и в бодлеровской интерпретации, и в
самом интересе творца "Цветов Зла" к творцу "Ворона". Закончилось июньское
восстание 1848 года (Бодлер был на баррикадах), произошел бонапартистский
переворот. Мир окрасился для Бодлера в сумрачные, тусклые тона. Читая По, он
поражался глубокой родственности раскрывшегося перед ним мироощущения
собственным трагическим переживаниям. На несколько лет он посвятил себя
переводам и изучению творчества своего нового кумира. Его большая статья,
написанная в 1856 году, сыграла в дальнейшей литературной судьбе По
исключительную роль.
Бодлер воспринял творческую биографию По как пример и подтверждение
непреодолимого разлада между художником и буржуазным обществом, между
искусством и действительностью. Он писал, что Америка для По была только
"громадным варварским загоном, освещенным газом", и чувствовал поэт себя в
этой стране, словно узник в камере, "лихорадочно метался как существо,
рожденное дышать в мире с более чистым воздухом". Он находил, что и
личность, и произведения По отмечены "печатью безграничной меланхолии", а
гениальность американского писателя отождествлял с его поразительной
способностью передавать "абсурд, водворившийся в уме и управляющий им с
ужасной логикой; истерию, сметающую волю; противоречие между нервами и умом
человека, дошедшего до того, что боль он выражает хохотом" {Цит. по кн.:
Готье Т., Бодлер Ш. Искусственный рай. М, 1997. С. 192-213}.
Автор "Цветов Зла" представил Эдгара По как художника, с презрением
отвергшего вкусы и интересы "толпы", ушедшего в горние сферы надмирного
искусства и проникнутого духом мятежа против ложных, пошлых устремлений
окружающей жизни, которая ему не простила ни этого презрения, ни самого
бунта.
Сонет Малларме, в сущности, был только отголоском подобной
интерпретации, в Америке так и не привившейся, зато в Европе приобретшей
огромное влияние; у Блока были все основания сказать, что "Эдгар По имеет...
отношение к нескольким широким руслам литературы XIX века" {Блок А. Собр.
соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 5. С. 617.}. Тогда, в 1906 году, - да и позднее в поле зрения попадало обычно лишь одно "русло": символизм. Блок едва ли не
первым заметил, что от созданного По художественного мира протягиваются и
другие нити - к Жюлю Верну, Уэллсу, а с другой стороны - к Достоевскому.
Тем не менее из наследия По символизм почерпнул особенно много - и для
своих художественных теорий, и для поэтических принципов, и для всей
выразившейся в нем духовной ориентации. Характерна запись в дневнике Блока
от 28 октября 1912 года: находясь под впечатлением от навеянных образом
Лигейи стихов В. Пяста, поэт пишет о них: "...свои, близкие в возможности
мне, если я воспроизведу в себе утраченное об Э. По" {Там же. Т. 7. С.
171.}. Слово "утраченное" - не случайное, ведь символистская пора для Блока
уже давно позади. Но сохраняется чувство кровной связи со своим прошлым, а в
этом прошлом По - одно из самых притягательных, самых созвучных ранней
лирике Блока явлений мировой поэтической культуры. И не кто иной, как Блок,
дал, быть может, наиболее лаконичную и точную характеристику этого явления,
как его воспринимали символисты: "Эдгар По - воплощенный экстаз, "планета
без орбиты" в изумрудном сиянии Люцифера, носивший в сердце безмерную
остроту и сложность, страдавший глубоко и погибший трагически" {Там же. Т.
5. С. 537.}.
Торопясь очернить и дискредитировать По, добродетельный Руфус Грисуолд
не обманулся в своем предчувствии будущей славы этого художника и его
мощного духовного воздействия, - оттого и избрал пасквильный жанр. Нельзя
сказать, чтобы его усилия вовсе не принесли плодов. В обывательских
представлениях о "безумном Эдгаре" легенда, восходящая к печально
знаменитому некрологу, укоренилась на долгие десятилетия. Да и как не
заметить, что она наложила отпечаток на тот образ По, который возникал перед
Бодлером, Малларме или, например, Брюсовым, уверенно писавшим: "Мы, которым
Эдгар По открыл весь соблазн своего "демона извращенности"..." {Брюсов В.
Собр. соч.: В 7 т. М., 1977. Т. 6. С. 99.} - и возводившим к этому истоку
начало декадентства.
Ведь, собственно, и в том, и в другом случае речь шла об одних и тех же
чертах По как личности и как художника - об "экстазе", "извращенности",
галлюцинациях, меланхолии. И только оценки оказывались диаметрально
противоположными. У Грисуолда - уничижительными. У символистов восторженными.
Наверное, поэтому приблизиться к истинному Эдгару По можно, лишь
преодолев инерцию этой устойчивой легенды, в каком бы контексте очернительном или панегирическом - она ни выступала.
Но преодолеть ее не так просто. В частности, и оттого, что сама
биография По, лишь стараниями литературоведов очищенная от домыслов и
искажений, создавала для легенды обильную питательную среду.
В самом деле, до чего яркая, болезненная, сотрясаемая трагическими
страстями жизнь! Сын странствующих актеров, он в возрасте трех лет остается
сиротой и попадает на воспитание в семью оптового торговца табаком Аллана,
человека скорее расчетливого, чем добросердечного. К приемышу он год от года
относился все настороженнее, из не слишком заботливого опекуна превратившись
под старость в скрягу и гонителя.
Детство По - это закрытые лондонские пансионы (у Аллана были дела в
Англии, и семья прожила там пять лет), холодные чуланчики, превращенные в
дортуары, унылый будничный распорядок, зубрежка, педанты наставники. В
новелле "Вильям Вильсон" По опишет и окружавшую школьный участок высокую
каменную стену, утыканную битым стеклом, и массивные ворота с приваренными
железными шипами, и прогулки по воскресеньям колонной к соседней церкви и
обратно - как в остроге. Детство поэта было суровым и безрадостным. Оно
оказалось достойным прологом ко всему дальнейшему.
Юность началась очень рано, чуть ли не сразу по возвращении в Америку
летом 1821 года, и началась она кружением сердца. Несколько ранних
стихотворений По обращены к Елене. Так называл он Джейн Стенард, мать своего
одноклассника. Он боготворил эту женщину, поражавшую классической строгостью
черт лица, грациозностью и редкой начитанностью. Мало кто знал о трагедии,
разыгрывавшейся за стенами особняка окнами на Кэпитол-сквер. Джейн Стенард
страдала душевным расстройством. Она скончалась в апреле 1824 года, тридцати
лет от роду. И обрела бессмертие в стихах По.
Вскоре ему выпало пережить еще одно потрясение. Он тайно обручился с
Сарой Эльмирой Ройстер, дочерью одного из компаньонов Аллана. Жениху шел
семнадцатый год, невесте не исполнилось и четырнадцати. О помолвке узнали ее
родители: была перехвачена любовная записка, разразился семейный скандал.
Аллан дал ясно понять, чтобы в завещании от него не ждали особой щедрости.
Пылкому влюбленному предпочли молодого, но уже выдвинувшегося стряпчего,
человека со средствами и положением в обществе.
Эта история сказалась на отношениях между юношей и опекуном. Последний
наотрез отказался платить долги, которые его питомец успел наделать, учась в
Виргинском университете. По анонимно издал свою первую книгу - крохотный
сборник "Тамерлан и другие стихотворения" (1827). Образ Эльмиры витал над
этими страницами, выдававшими следы восторженного чтения Байрона, создателя
"восточных" поэм. Книжка не принесла ни признания, ни денег. Положение
становилось безвыходным. Спасла армия. По записался волонтером и, чтобы
скрыться от кредиторов, сменил имя - в полку его знали как Эдгара А. Перри.
Он прослужил два года и еще год учился в Вест-Пойнте, американской
военной академии. Время для него выдалось сравнительно благополучное.
Батарея, к которой он был приписан, стояла на острове Салливан у берегов
Южной Каролины, потом в Виргинии. Своей живописностью и безлюдьем эти места
пробуждали романтическую фантазию, здесь память возвращала к старинным
легендам, которые оживут в "Золотом жуке" и "Повести Скалистых гор".
Новой поэме, которую он в ту пору писал, было дано заглавие
"Аль-Аараф", так назван и второй сборник (1829). Согласно Корану, Аль-Аараф
- преддверие рая. Свой лимб По расположил на таинственной звезде, открытой в
XVI веке Тихо Браге и затем угасшей. Быть может, ему казалось, что к этому
мистическому лимбу приблизилась его собственная душа.
Но, если и так, иллюзия недолго держала По в своем плену. Из
Вест-Пойнта его изгнали за нарушение дисциплины. Сокурсники, ценившие его
эпиграммы-экспромты, собрали деньги, на которые По смог издать книгу, куда
вошло все лучшее, что он успел создать (1831), - дарители, не увидев в ней
ни сатир, ни куплетов, оставили ее без внимания. Разгоралось польское
восстание, и, вдохновясь примером Байрона, По решил драться за свободу
угнетенных, подал прошение - оно осталось без ответа.
Вместо Варшавы его ждал Балтимор и гостеприимство тетки по отцу. Там он
увидел семилетнюю Виргинию, свою кузину. Он сделал ее поверенной всех своих
тайн, и она носила записочки даме, за которой он ухаживал, не подозревая,
какое место займет этот ребенок в его жизни.
От стихов он перешел к прозе, сочинял новеллы. В 1833 году одна из них
- "Рукопись, найденная в бутылке" - выиграла конкурс, проводимый местным
журналом. Это было слабое утешение. Джон Кеннеди, известный в те годы
писатель, входивший в жюри, захотел познакомиться с юным новеллистом и
пригласил его отобедать. По пришлось отказаться - не в чем было пойти.
Терпеть лишения ему было суждено до самого конца своего пути. Правда,
случались и просветы. Заботами Кеннеди впервые получив в 1835 году
редакторскую должность, По проявил себя первоклассным журналистом.
Редактируемые им издания в мгновение ока поднимали тираж, а собственные дела
шли на поправку, но всякий раз все кончалось скандалами, разрывами и
очередным безденежьем.
Газеты с его рассказами рвали из рук, а когда нью-йоркская "Сан"
известила о необыкновенном перелете на воздушном шаре через Атлантику и
начала из номера в номер печатать "Историю с воздушным шаром", выдавая
фантазию По за истинное происшествие, перед редакцией стояла толпа,
нетерпеливо ожидавшая очередного выпуска, - о мистификации и не подозревали.
Тем не менее единственное сравнительно полное собрание новелл "Гротески и
арабески" (1840) расходилось туго и повторено не было. Оставалось править
чужие безграмотные рукописи да сочинять трактат о раковинах, коммерчески
куда более удачливый, чем любые "гротески".
Впрочем, не принесли облегчения и эти вынужденные компромиссы. Свести
концы с концами не удавалось, особенно с тех пор, как появилась семья.
Любовь к Виргинии - огромное чувство, которому мировая лирика обязана
несколькими шедеврами, - оказалась овеяна такой высокой романтикой, что
реальные обстоятельства забываются, отступая на дальний план. А ведь они
были тягостными. С трудом отыскался свидетель, под присягой подтвердивший
совершеннолетие невесты, столь же юной, как некогда была Эльмира. По
светским гостиным ползли намеки и перешептывания. Виргиния вынесла все - и
эту травлю, и затяжные депрессии, охватывавшие мужа с каждой неудачей, и
нищету. Но с болезнью она справиться не смогла.
Эдгар По пережил ее лишь на два с небольшим года. Осталось много
свидетельств о его конце. В частностях все они противоречат друг другу, но
сходны в главном - из них возникает образ человека полубезумного,
лихорадочно сжигающего себя, отчаянно цепляющегося за призрачные надежды и
воюющего против всего мира с тем предельным ожесточением, которое предвещает
скорый и трагический финал.
Не следует, однако, считать этот образ совершенно достоверным. Еще с
юности поэту сопутствовала репутация бунтаря, готового и даже стремящегося
переступить через любые нормы и каноны во имя своего великого предназначения
и бросающего толпе вызов осознанной - возвышенной, мессианской - порочностью
поведения. Эта репутация, конечно, не могла возникнуть на пустом месте. По
был романтиком не только в творчестве, он и как личность воплощал в себе
самые яркие черты романтического сознания.
А для такого сознания в той или иной форме неизбежен конфликт высоких
духовных устремлений и невзрачной прозы повседневного бытия, как неизбежно и
прямое столкновение с общепринятыми моральными заповедями и принципами. Они
всегда оказываются слишком убоги, слишком стеснительны для романтической
натуры, жаждущей абсолютной свободы. И, с другой стороны, они обязательно
заявят свою власть, порождая в душе романтика бурю противоречий, коллизии,
мучительные до безысходности и все-таки почти всегда разрешающиеся
примирением с презираемой "нормой", как оно ни оскорбительно для бунтаря.
Современники, включая и друзей, видели в По только байронического
героя, и поэтому столь многое в нем их удивляло. Они не могли постичь, каким
образом он, едва напечатав "Улялюм", умолял другую женщину занять место
умершей возлюбленной и даже пытался пробудить былое чувство в Эльмире,
которая теперь именовалась вдовой Шелтон. Их шокировала ликующая мелодия
"Колоколов", ворвавшаяся в "царство вздохов", когда самому По оставалось
жить всего несколько месяцев. Они слишком доверчиво отнеслись к тому как бы
напрашивающемуся впечатлению, которое По и сам стремился укрепить, когда, к
примеру, писал о себе: "Моя жизнь - каприз-импульс-страсть-жажда
одиночества-презрение к настоящему, разжигаемое страстностью ожидания
будущего".
Блок с его безошибочным нравственным слухом сумел понять эту непростую
- и столь типичную для романтической эпохи - натуру гораздо глубже, вспомнив
По в своих размышлениях о "дэндизме", затеплившемся от байроновской искры и
опалившем "крылья крылатых". Здесь "был великий соблазн - соблазн
"антимещанства"; да, оно попалило кое-что на пустошах "филантропии",
"прогрессивности", "гуманности" и "полезностей"; но, попалив кое-что там,
оно перекинулось за недозволенную черту" {Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М,
1962. Т. 6. С. 56-57.}.
К Эдгару По это последнее замечание применимо в значительно меньшей
степени, чем, например, к названному рядом Уайльду. Да и в целом статья
Блока "Русские дэнди" толкует о явлении, которое могло притязать лишь на
отдаленную схожесть с мирочувствованием, воплотившимся в творчестве
американского писателя. И все же Блок уловил черту, чрезвычайно существенную
для верного постижения той духовной настроенности, которая вызвала к жизни
яркую личность По, и той судьбы, которая была ему уготована.
Истины ради надо добавить, что в тогдашних американских условиях, в
пуритански ригористичной и гнетуще меркантильной среде, окружавшей поэта,
сам этот романтический "соблазн" приобрел характер действительно
радикального вызова, оборачиваясь драмой неподдельной и глубокой.
Во всем, что создано По, эта драма оставила свой ясный след.
Говоря о "презрении к настоящему", По, несомненно, помогал укрепиться
легенде о самом себе - он так поступал и раньше, когда, например,
рассказывал о своих необычайных приключениях в Петербурге, где никогда не
бывал, или с обманчивой достоверностью описывал плавания в южных морях, хотя
с той поездки ребенком в Англию и обратно ни разу не покидал родных берегов.
Романтикам было в высшей степени свойственно отождествлять вымысел и
реальность: родившийся в воображении образ, которому непременно присущ
оттенок исключительности и даже демонизма, накрепко прирастал к ним,
заставляя их самих в него уверовать, как в тот возвышающий обман, который
дороже тьмы низких истин. Трудно оказывалось различить за целостностью
творческой индивидуальности романтического поэта два эти облика "возвышенное" и "земное". Так и укреплялись представления об идеалистах,
загубленных грубым прозаизмом своей эпохи, о мечтателях, вынужденных обитать
среди плоских утилитаристов и рядом с ними похожих на пришельцев из иных
миров.
Когда, пленившись "Вороном" или "Улялюм", открывали том рассказов По и
за таинственной "Лигейей" читали математически точно рассчитанные новеллы о
сыщике Огюсте Дюпене, сама собой являлась мысль о глубокой разнородности
начал, сосуществующих в этом творческом мире. Пытались объяснить эту
разнородность вынужденными уступками вкусам и потребностям читателя
американских журналов того времени, которому требовались не откровения
великой, избранной души, а занимательность и простецкий юмор. Говорили о
двух Эдгарах По, о сочинителе развлекательных историй, который лишь мешал По
- творцу нетленных произведений, чье единственное назначение - искусство.
Неправомерность подобного противопоставления ясна, хотя нетрудно
понять, отчего оно возникло. Как поэт Эдгар По органично воплотил то
важнейшее для романтизма положение кантовской эстетики, что художественная
идея несводима ни к одному философскому понятию и ее до конца не выразить ни
одним языком, кроме метафорического. А в новеллах, даже самых
"таинственных", он добивался противоположной цели, считая, что и самое
невероятное поддается рациональному анализу, истолкованию, доступному всем и
каждому. От писателя требуется, преодолев "священный ужас", установить
"всего лишь ряд причин и следствий, вытекающих друг из друга как нельзя
естественней".
Два этих побуждения и в самом деле примирялись с трудом. Свидетельство
тому - статья "Философия творчества", где По взялся объяснить, как он
написал "Ворона". Он уверяет, что его работа шла "ступень за ступенью... с
точностью и жесткой последовательностью, с какими решают математические
задачи". Сначала нужно было подобрать отвечающую теме музыкальную
тональность, затем достичь единства интонации. Найти ключевое слово-рефрен.
Придать правдоподобие описываемым обстоятельствам.
Стихи, потрясшие стольких читателей (и, кстати - так велика власть
представлений о демонической натуре и беспросветном трагизме судьбы По, чуть ли не всегда относимые ими к памяти Виргинии, хотя "Ворон" опубликован
ровно за два года до ее смерти), анатомируются столь бесстрастно, словно у
нас на глазах разбирают и вновь собирают часовой механизм.
По здесь схож со своим Дюпеном, холодно и логично излагающим, каким
образом он отыскал ключ к мотивам преступлений, которые ускользали от
незадачливого префекта Г. Но стихи - это не убийства на улице Морг и не
тайна Мари Роже, и остается особая, не поддающаяся логическим сцеплениям
связь явлений и переживаний, - то, что немецкие романтики называли "светом
звуков", постигаемой лишь поэтическим чувством сущностью вещей в их единстве
при всей внешней разделенности. И сколько бы По ни старался ограничить
центральный образ стихотворения пределами объяснимого и реального (просто
какой-то ворон, механически затвердивший единственное слово и среди ночи
пытающийся проникнуть в окно, где горит свет), статью он заканчивает
все-таки размышлениями о символах и о "подводном течении смысла", которое,
конечно, не регулируется только причинами и следствиями, унося очень далеко
от всякой обыденности.
Ужас, тоска, самоистязание, перебиваемое безумными надеждами одолеть
власть смерти и страстной нежностью к той "святой, что там, в Эдеме, ангелы
зовут Линор", - все это сливается в прославленном "Nevermore", оттого и не
дающемся переводчикам, что "свет звуков" составляет истинную поэтическую
идею стихотворения. Ведь "Ворон" - это больше чем плач над умершей
возлюбленной, это прежде всего стихи, где созвучиями слов сближены понятия,
для обыденного восприятия несовместимые, а тем самым заявлено некое единство
мира. Открывается родственность там, где сознание "человека толпы" не найдет
ни близости, ни отдаленной переклички, и рушатся межевые столбы, разделившие
будничное и воображаемое, действительное и грезящееся, бытие и небытие.
Редкостная музыкальность стихов По была замечена и достойно оценена уже
его французскими первооткрывателями, а Брюсов впоследствии приведет в пример
"Колокольчики и колокола" как "стихи, в которых преобладающую роль играют не
образы... а звуки слов" {Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М, 1977. Т. 6. С.
106.}. Однако эта коренная особенность стихотворений По осмыслялась большей
частью скорее формально, чем философски: говорилось о звукописи, о необычной
организации строфы, богатстве внутренних рифм-ассонансов и т. п. Для
англоязычной просодии творчество По - явление исключительной значимости: оно
демонстрирует настоящую магию слова, доводя до совершенства мелодику,
технику параллелизма и повторов, искусство ритмических перебивов, построение
строфы в строгом соответствии с "законами формы и количества - законами
соотношений", над которыми По задумывался в своих критических эссе.
Он остался в истории поэзии и как художник, считавший поверхностной
самую мысль, будто гений несовместим с мастерством, обретаемым упорной и
вполне осознанной работой, так что в итоге самое тонкое переживание, самый
неуловимый оттенок мысли оказываются доступны словесному воплощению,
основывающемуся на точном расчете. Вдохновенная математика По отталкивала
его литературных современников, они замечали только геометрию, но не
находили в его стихах истинного чувства, которое придало бы произведению
завершенность и высокий смысл. В 1845 году вышла самая значительная
прижизненная книга По "Ворон и другие стихотворения". Рецензируя ее, поэт
Джеймс Рассел Лоуэлл заключает, что автор превосходно обтесал груду камней,
которых хватило бы на впечатляющую пирамиду, но все они так и остались
валяться перед площадкой для будущей постройки, не образовав хотя бы
фундамента.
По отплачивал таким рецензентам резкими нападками на "ересь
дидактизма", губительную для современной поэзии, и категорическими
утверждениями, будто художество и истина - две разные планеты. Целью поэзии
он объявил "создание прекрасного посредством ритма", решительно не принимая
стихотворений Лоуэлла, Лонгфелло и других поэтов, стремившихся "внедрить в
читателя некую мораль", которой якобы и определялась ценность произведения.
Этим своим высказываниям он больше всего обязан последующей репутацией жреца
чистого искусства, которое равнодушно к заботам общества и не знает высоких
нравственных порывов, - репутацией, основанной на недоразумении или, во
всяком случае, на пристрастности тех, кто ее создавал.
В поэзии, считал он, нет места для проповедников, которые выучились
рифмовать. Искусством ее делает музыка, сочетающаяся с нешаблонной мыслью.
Если это сочетание органично, поэту открывается дар предвидения, и его стихи
убеждают самой Красотой, самой гармонией - мысль уже не нуждается в
рассудочных доказательствах. Для По неприемлема аффектация и патетика, а
любая стилистическая неряшливость в его глазах пагубна для самого глубокого
творческого замысла.
Выпады По против "передовых гениев" не должны удивлять. Он защищал не
идею холодного формального совершенства, а главное в самой поэзии способность проникнуть за горизонт логического мышления, обретаемую лишь при
том условии, что создание искусства безупречно.
К самому себе он был невероятно строг и, наверное, поэтому стихов
написал немного. Совсем небольшой оказалась итоговая книжка, собранная уже
после его смерти. Свой поэтический расцвет он пережил в самые последние
годы, когда появились и "Ворон", и "Аннабель Ли", и "Улялюм", и "Колокола".
Это вершины романтической лирики. В стихотворениях, писавшихся под конец
жизни, наиболее глубоко воплотилась давняя мысль По о родстве поэзии и
музыки - не случайно эти стихи вдохновили Равеля, Дебюсси, Рахманинова.
Здесь По достиг того единства впечатления, которое считал нормой истинного
поэтического творчества. Он выступил тем "поэтом неопределенности", который
в дальнейшем одних привлекал именно многосмысленностью метафор и "светом
звуков", а других раздражал неясностью, неуловимостью содержания.
Если судить по канонам сухой логики, это содержание и впрямь неясно,
ибо оно сопротивляется любым попыткам рационального пересказа, - но как раз
этого По и добивался. Целью поэзии для него была Красота, а Правда
оставалась областью прозы. Для романтической теории искусства такое
разделение естественно. И оно отнюдь не привело ни к надмирности, ни к
эстетству, не обеднило лирику Эдгара По.
В ней перед читателем предстает драма личности, переживающей муку и
счастье бытия с предельной обостренностью и оттого чуждой, неприемлемой для
окружающей жизни. Обычный для романтиков лирический сюжет По сумел наполнить
неподдельной, захватывающей трагедийностью. Ослепительно яркие метафоры и
сложнейшие, иногда глубоко зашифрованные символы, которыми насыщены "Улялюм"
или "Эльдорадо", для него никак не являлись самоцелью. Они лишь помогали
отчетливо выразить умонастроение, вызывавшее все эти метания духа, рушащиеся
иллюзии, порывы к потустороннему и болезненные конфликты с невзрачностью
эпохи.
Такое умонастроение в конечном счете порождалось знакомым каждому
романтику разладом мечты и действительности. Однако воплотилось оно в
образах настолько своеобычных, что и в богатейшей романтической лирике не
сыскать аналогий стихам По и созвучий с этой трагической музыкой, с этими
резкими перепадами испепеляющей тоски и минутной, но беспредельной радости,
с этим удивительным поэтическим миром, в котором породнены алгебра и
гармония.
Как все романтики, По обожествлял способность творческого воображения,
которое для него стояло намного выше, чем фантазия. Ему казалось, что лишь в
поэзии воображение обретает для себя подлинный простор. Проза, обращенная к
обыденному, всегда до какой-то степени им связана. Сочетания элементов, как
они ни новы, должны быть в прозе узнаваемы, иначе произведение утратит
убедительность.
Но в глазах По совершенно ошибочной была концепция подражания природе и
ее художественного "исправления" в согласии с человеческими понятиями о
прекрасном. Он спорил с этими идеями как критик, спорил и как новеллист.
Проза, живописуя Правду, то есть оставаясь в границах достоверного, как бы
широко ни понимать эту категорию, вместе с тем становилась и царством
фантазии. Менее всего была она призвана изображать безликий и тягучий быт
или нравы ненавистных По нуворишей. Все экстраординарное, отклоняющееся от
унылой "нормы", таинственное, страшное, все, что способно питать фантазию
романтика, он считал истинным достоянием новеллиста. Но при этом
обязанностью писателя оставался трезвый, аналитический взгляд. Нужно было
проникнуть в механику событий и объяснить их, какими бы причудливыми они ни
выглядели.
Еще одним отличительным качеством хорошей прозы По считал краткость.
Лишь однажды он испытал свои силы в большей форме, написав в 1838 году
"Приключения Артура Гордона Пима", и остался неудовлетворен. Сюжет плавание по Антарктике вблизи Южного полюса - требовал завершения,
обещанного автором, но так и оставшегося в планах. Вместо По за продолжение
полвека спустя взялся Жюль Верн, доведя рассказ до конца в своем "Ледяном
сфинксе".
Проза По была прозой поэта, и требования к ней у него были во многом те
же, что и к стихам: лаконизм, точность и то "сочетание новизны и
скромности", которое он находил идеалом истинно поэтического. А кроме того присутствие тайны. Бывало, и даже не раз, что тайна представала
мистификацией. Впрочем, и в этих случаях читатель был вправе чуть не до
заключительного абзаца ожидать трагической развязки.
Трагизм и пугающая шутка сближались едва ли не до полной
неразличимости. Эту характерную черту искусства По, быть может, лучше всех
почувствовал и передал Федерико Феллини. В 1968 году он снял фильм "Тоби
Данмит", в основу которого легла новелла "Не закладывай черту своей головы"
(лента вошла в киноальманах "Три шага в облаках"). Новелла носит
острогротескный характер и преследует полемические цели: По метил в
любомудров от литературы, с которыми непримиримо враждовал. Собственно, это
литературная обработка типичной для американского фольклора "небылицы", где
властвуют яркая выдумка, необузданная комедийность и попахивающий
жестокостью розыгрыш. У По множество таких новелл, менее всего подкрепляющих
традиционную репутацию обреченного бунтаря, над которым всевластен "демон
извращенности". Наоборот, в них чувствуется перо газетчика, не чуждого
грубоватых приемов фельетонного письма и привычного к нескрываемым
передержкам, к шутовству, к фарсу.
Феллини, перенеся действие в наши дни, сохранил гротеск и юмор, передав
обыденность фона, на котором развертываются события невероятные и нелепые вроде описанного в новелле По пари с чертом, в итоге унесшим голову
неудачливого спорщика. Однако эта "экстраваганца", если воспользоваться
авторским определением подобных новелл, у Феллини не столько смешит, сколько
внушает ощущение реальности кошмара, не пригрезившегося, а происходящего
посреди самой заурядной будничности. Бред и явь смешиваются, срастаются,
точно перепутавшиеся корни старых деревьев, и чистым произволом явилась бы
попытка обособить подлинное от фантастического.
По любил повторять строку из байроновского "Дон Жуана": "Правда всякой
выдумки странней". Так обосновывал он право писателя на самую смелую
фантазию, которая, однако, должна была сохранять убедительность истинного
факта.
"Угрюмый призрак-страх", о котором он рассказывал в "Падении Дома
Ашеров", бродит по страницам многих его новелл, однако при всей мрачности
колорита они бесконечно далеки от "готической" прозы с привидениями и
ужасами, увлекавшей тогдашних читателей. По не раз пародировал эту
литературу с ее пристрастием к изощренным кошмарам и безвкусной бутафории, к
мелодраматической патетике и поставленным на котурны злодеям и садистам. Как
и его герою Родерику Ашеру, По был присущ талант "живописать идею".
Фантастические ситуации и жестокие развязки его новелл, где страх изображен,
кажется, во всех своих проявлениях, всегда заключают в себе характерную для
романтиков мысль о неотвратимости и трагизме разлада с бытием. Нетрудно
заметить, как целенаправленны обрушивающиеся на персонажей По удары судьбы.
Жертвой становится Красота, слишком хрупкая и неприспособленная для этого
мира.
Подчас, как в "Маске Красной Смерти" или в "Лигейе", писатель поддается
фаталистическим настроениям, и тогда Тьма "обретает неодолимую власть надо
всем". Такие рассказы особенно ценились в среде декадентов, считавших По
своим предтечей. И в самом деле, он предвосхитил отдельные мотивы подобной
литературы. "Овальный портрет", например, уже содержит метафору, столь
притягательную для Уайльда, - искусство, убивающее живую жизнь. Но были и
намного более интересные переклички - уже с литературой XX века.
Сегодняшнему читателю "Вильяма Вильсона" наверняка вспомнятся рассказы
Франца Кафки: та же незримая, но всемогущая сила порабощения личности, та же
отчаянная и безнадежная борьба за физическое выживание, хотя намеренно не
прояснены причины, приведшие к описываемой страшной ситуации.
Впрочем, такими параллелями не следует увлекаться. По не любил
аллегорий, считая их низшей ступенью творчества. Он не любил обобщать и
питал подлинную страсть к конкретике описания, достоверности мотивировок,
рациональности рассказа даже о событиях невероятных и мистических. Брюсов,
имея в виду "Лигейю", характеризовал По как художника, описавшего "позорную
комедию, коей название "Червь-победитель"" {Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М.,
1977. Т. 6. С. 221.} и упрекнул американского поэта в неправоте: ведь если
лишь эта комедия разыгрывается на сцене бытия, имеет ли смысл жить? Но
подобное восприятие По однопланово и поверхностно.
Гораздо глубже понял его Достоевский, опубликовавший три рассказа По в
первом же номере своего журнала "Время". Он особо отметил "силу
воображения", дополняемую и корректируемую "силой подробностей": "В По если
и есть фантастичность, то какая-то материальная, если б только можно было
так выразиться" {Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. М., 1979. Т. 19.
С. 89.}. Вот этой "материальной фантастичностью" и определяется не только
художественный строй произведений По, а в известном смысле - сам характер
выраженного им мироощущения. Действительность у него нередко оказывается
где-то на грани ирреального, и все же она опознаваема. Это современная ему
американская действительность, какой постигало ее сознание романтика, так
целостно воплотившееся в Эдгаре По. Острый глаз художника улавливал в
будничности, на вид благополучной и спокойной, потаенные драмы и безысходные
душевные муки, которые запечатлены в его "гротесках и арабесках" причудливо, сложно, фантастично, однако почти всегда с неукоснительной
художественной точностью.
Об одной из своих новелл он писал: "Своеобразие "Ганса Пфааля"
заключается в попытке достигнуть правдоподобия, пользуясь научными
принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой
темы". То же самое можно сказать о большинстве других прозаических
произведений По, идет ли речь о "гротесках" или о "логических рассказах",
как он называл цикл, посвященный Дюпену. Даже для его притч характерны
строгая рассчитанность композиции и своеобразный фактографизм, не
допускающий чрезмерно смелых полетов воображения. Так, в новелле "Король
Чума", где, кажется, всевластны условность и мрачная символика, на самом
деле содержатся картины эпидемии холеры, которую По наблюдал в Балтиморе
летом 1835 года.
А "логические" новеллы о Дюпене, истинном аналитике, научившем своих
бесчисленных младших коллег от Шерлока Холмса до Эркюля Пуаро исходить не из
правил игры, а из того, что этими правилами как раз не предусмотрено (и тем
самым указавшем основное правило детективной интриги), больше всего поражают
тем, как далеки от простого и обычного сами происшествия, которые описаны в
"Убийстве на улице Морг" и в "Тайне Мари Роже". Сюжеты этих новелл по-своему
представляют собой точно такие же "арабески", как и мистические фантазии
"Падения Дома Ашеров". Да и неудивительно: ведь По всегда интересовало все
небанальное, редкостное, взрывающее - пусть даже крайне жестоким способом размеренный ход повседневности и обнажающее истинный трагизм, который таится
за ее безликостью.
Традиционно однотомники его избранных рассказов завершает "Прыг-Скок",
новелла о королевском шуте, отплатившем за годы унижений страшной местью. В
герое этого рассказа часто находят сходство с самим По, натурой
демонической, обреченной, но не покоряющейся своему суровому жребию. Таким
видели его и парижские "проклятые поэты", и русские символисты, и тысячи
читателей в разных уголках света. Оттенок демонизма и впрямь свойственен
если не личности Эдгара По, то тому художнику, чей образ сохранили для нас
"Ворон", "Улялюм", "Лигейя".
Для эпохи романтизма подобный герой типичен. Однако даже и здесь По не
соответствует канонам. Его демонизм того рода, который имел в виду Гете, в
разговоре с Эккерманом заметив, что Мефистофель "слишком негативен,
демоническое же проявляется только в безусловно позитивной деятельной силе"
{Эккерман И.П. Разговоры с Гете. М., 1981. С. 412.}.
У По эта деятельная сила проявила себя умением различать зло, какими бы
масками оно ни было скрыто, и, шокируя умеренно либеральных, свято верящих в
"прогресс" соотечественников, резко сказать о том, насколько убог их мир,
насколько он чужд истинной жизни во всех ее бесчисленных тайнах, во всей ее
жестокости и щедрости.
Думая о его нелегкой и причудливой судьбе, вспоминаешь строки
Заболоцкого:
Догорит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха.
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.
Страсти, бушевавшие вокруг имени По, давно улеглись, и потускнело то в
его наследии, что было лишь ворохом огней, - но бездна его стиха и сегодня
все та же таинственная и целомудренная бездна, а сердце поэта светит все так
же ярко.
http://www.kulichki.com/moshkow/INOFANT/POE/poe0_2.txt
Символизм в новеллистке Эдгара Алана По
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………3
ГЛАВА
1.
Варианты
интерпретации
понятия
«символ»
в
философско-научном
контексте………………………………………………………………………………………….4
1.1.
Исторические интерпретации понятия «символ»……………………………...4
1.2.
Научное осмысление символа в ХХ веке………………………………………6
1.3.
Критерии распознавания символа в тексте…………………………………….8
ГЛАВА 2. Природа символа в творчестве Эдгара Алана По………………………..11
2.1. Биографический аспект в становлении идеостиля Эдгара По…………………11
2.2. Творчество Эдгара По в контексте романтизма………………………………...13
2.3. Самобытность и значение творчества Эдгара По……………………………….15
2.4. Символизм в поэтическом и прозаическом текстах писателя………………….16
ГЛАВА 3. Типы символа в новеллах Эдгара Аллана По…………………………….18
3.1. Символика в фантастических новеллах………………………………………….18
3.2. Психологические новеллы и новеллы «убийц»…………………………………22
3.3. Символика и детективный жанр………………………………………………….24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………26
БИБЛИОГРАФИЯ……………………………………………………………………...28
ВВЕДЕНИЕ
Творчество Эдгара Аллана По (1809 – 1849) – одно из самых сложных явлений американской литературы, во
многом и сейчас еще не осознанное до конца, несмотря на обилие исследований (особенно начиная со второй
половины ХХ века).
Исследователей до сих пор поражает многообразие его творчества, глубина прозрений, которые стали
понятны только в ХХ веке, новаторство в тематике и форме, причем все это наблюдалось сразу, с ранней юности,
как будто писателем была прожита не одна кроткая жизнь, а много жизней всего его поколения.
Поэтому актуальность нашей работы заключается в том, что творчество Эдгара По до сих пор не
осмысленно до конца и требует дальнейшего исследования.
Новизной работы можно считать сочетание методов исследования. Которые в совокупности своей дают
новый взгляд на интерпретацию природы символа в произведениях Эдгара По. Также мы разграничиваем
произведения в зависимости от степени абстрактности/ конкретности символов.
Объектом исследования является новеллистка Эдгара По, а его предметом – символика в новеллах Эдгара
По.
Отсюда – проблема работы: в чем своеобразие символизма в новеллах Эдгара По?
Из нее логично вытекает и цель исследования: определить своеобразие символизма в новеллах Эдгара По.
Задачи, помогающие раскрыть данную цель, следующие:
1)
Рассмотреть объем понятия «символ» и определить критерии распознавания символа в тексте.
2)
Выявить особенности идеостиля Эдгара По и рассмотреть сходства и различия в символике
поэтических и прозаических произведений автора.
3)
Определить роль символов в новеллистке Эдгара По.
4)
Выявить значение его творчества для последующего развития мировой и русской литературы.
Методология исследования: биографический метод, описательный, герменевтический, типологический,
историко-литературный, структурно-семиотический
Общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения.
Структура курсовой работы: Введение, три главы, Заключение и Библиография.
ГЛАВА 1. Варианты интерпретации
понятия «символ» в философско-научном контексте
1.4.
Исторические интерпретации понятия «символ»
В рамках нашего исследования важную теоретико-методологическую роль занимает категория «символ» и
его определение.
Сразу заметим, что до сих пор «символ» трактуется как один из самых туманных и неопределенных в науке.
Еще А. Ф. Лосев заметил, что «понятие символа и в литературе и в искусстве является одним из самых туманных,
сбивчивых и противоречивых понятий». [20, c.6]
Несмотря на это, символ является одной из центральных категорий философии, эстетики, культурологи и
литературоведения.
Проблемами изучения природы символа занимались многие - от Платона и Аристотеля до М.М. Бахтина и
Ю.М. Лотмана. Возможно, что такое количество интерпретаций данного термина и повлекло за собой его
«туманность».
Проанализируем историю интерпретации символа.
Философско-эстетическое рассмотрение символа происходит в античности. До этого сама рефлексия над
термином была невозможно, поскольку мифологическое сознание предполагает символические формы и смыслы
в их нераздельном тождестве.
Т. Ушакова замечает по этому поводу: «в мифологическом, дофилософском, мышлении, символическая
форма и ее смысл существуют нерасчлененно, поэтому какой-либо осмысляющий природу символа взгляд
исключен». [21, c.2]
Первым шагом в осмыслении понятия стало учение Платона о мире идей, в котором наш мир сводился лишь
к тени идеального мира.
Аристотель же, сказав «Платон мне друг, но истина дороже», провозглашает единство формы и содержания
и трактует символ с позиций его «знаковости». Он выделяет три компонента символа-слова (звук, душевное
состояние и предмет), подразделяет символы на условные («имена») и естественные («знаки»).
В Средние века, когда популярность приобретает философская герменевтика, противопоставляются «два
вида употребления языка — ясный и темный, логос и миф». [21, c. 3] Т. Ушакова подчеркивает, что «уже в это
время начинает чувствоваться, хотя она и не называется, проблема различения истинного и неистинного
символа». [21, c.3]
В Новое время понятие символ переосмысливается и дорабатывается. Особенно нужно выделить работу в
этом направлении немецких романтиков, так как они переосмыслили это понятие совершенно в новых
мировоззренческих координатах. Стоит также подчеркнуть, что и творчество самого Эдгара По укладывается в
контекст Романтизма. Для миропонимания романтиков важное значение приобретает концепция «двоемирия»,
противопоставление «Очарованного Там» и реальности. Поэтому символ трактуется подчас мистически, как
связующее звено между этими мирами и поддающееся расшифровке только избранным. Одним из основных
трудов в русле романтического мышления является многотомный труд Ф.Крейцера «Символика и мифология
древних народов» (1810 − 1812), где дается классификация типов символа.
Стоит подчеркнуть также и важность для романтиков концепции И.В.Гёте, который понимал все формы
природного и человеческого творчества как значащие и говорящие символы живого и вечного становления.
Но, в отличие от романтиков, И.В.Гёте не наделял символ мистической потусторонностью, а видел в нем
выражение органичных жизненных начал.
Противоречит романтическому миропониманию трактовка символа, предложенная Гегелем. Он подчеркнул
в структуре символа более рационалистическую, знаковую сторону. Его идеи повлияли на философскую мысль
во второй половине ХIХ века.
В конце XIX века научная интерпретация понятия «символ» возвращается в эстетическую сферу благодаря
литературной теории символизма, согласно которой истинный символ, помимо неисчерпаемости смысла,
передает на сокровенном языке намеков и внушения нечто невыразимое, неадекватное внешнему слову. [13, c.
977 – 978]
В Символизме символ становится центральной категорией. В этой художественной системе через поэзию
символ связал себя не только с прозой, драматургией, критикой и литературоведением, но и с другими видами
искусства (живопись, музыка, оперный театр, танец, скульптура, оформление книги и интерьера) и модусами
гуманитарного знания (философия, богословие), а также с рефлексией на тему «конца-начала века» (декадансамодернизма) [13, c. 978]. Заметим также, что символизм часто черпает идеи из романтизма. Так, Мелларме,
Бодлер, Бальмонт, Брюсов и Блок подчеркивали значимость для символизма произведений Эдгара По.
В русском символизме развивается противопоставление аллегории символу как эстетическому идеалу. На
этом свойстве символа, например, делает акцент Бальмонт в статье «Элементарные слова о символической
поэзии». [4, c. 368 - 369] Поэзия, по мнению символистов, это «приотворенные двери в вечность»[6, c. 27]. И
старшие, и младшие символисты видели в символе идеальный художественный образ.
Острый интерес к природе символа в эпоху модернизма привел к тому, что символ стал рассматриваться и
строго научно, «академически». В то же время и в научном контексте дают о себе знать идеи символа,
предложенные символистами.
1.2. Научное осмысление символа в ХХ веке
Научное осмысление символа в ХХ веке выдвигает следующие его концепции:
1. Концепция Э.Кассирера: он вложил в понятие «символ» предельно широкий смысл, трактуя человека как
«животное символическое»; а язык, миф, религии, искусство и науку – как суть «символической формы»,
посредством которых человек упорядочивает окружающий его хаос.
2. Концепция К.Г. Юнга, вытекающая из его теории архетипов, постулирует проявление в символе
коллективного бессознательного. Юнг подразделял символы на индивидуальные и коллективные. Основным
критерием символа ученый выделял естественность и спонтанность его возникновения [24, c. 49]/
3. Для Гадамера, представителя и во многом основоположника научной герменевтики важно разграничение
символа и знака. По его концепции, сущность знака состоит в указании, а сущность символа — в
представительстве. Знак указывает вовне себя, символ же не только указывает, но и представляет, выступая
заместителем. [7]
4. Религиозный философ П. Флоренский выдвинул в качестве одной из основных идей в своей философии
мысль о том, что в символе обязательно присутствует символизируемое (особенно ярко Флоренский
демонстрирует это на примере иконописи).
Философ писал: «…в имени — именуемое, в символе — символизируемое, в изображении реальность
изображенного присутствует <…> символ есть символизируемое» [23, c. 5].
5. В интерпретации А.Ф.Лосева символ – это бесконечный знак, т.е. знак с бесконечным количеством
значений. Одной из основных характеристик символа А.Ф.Лосев полагает тождественность означаемого и
означающего. «Символ есть арена встречи обозначающего и обозначаемого, которые не имеют ничего общего
между собой [14, c. 51]
6. Концепция символа, предложенная Лотманом, дополняет теорию Лосева. По Лотману, «символ связан с
памятью культуры, и целый ряд символических образов пронизывает по вертикали всю историю человечества
или большие ее ареальные пласты». «Символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу
культуры — он всегда пронзает этот срез по вертикали, проходя из прошлого и уходя в будущее» [15, c. 123,
147].
7. Концепция С.С. Аверинцева представляет собой своеобразный синтез теорий символа. Согласно этой
концепции, «всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ); но категория
символа указывает на выход образа за собственные пределы, на присутствие некоего смысла, нераздельно
слитого с образом, но ему не тождественного. Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре
символа как два полюса, немыслимые один без другого (ибо смысл теряет без образа свою явленность, а образ
вне смысла рассыпается на свои компоненты), но и разведенные между собой, так что в напряжении между ними
и раскрывается символ. Переходя в символ, образ становится «прозрачным»; смысл «просвечивает «сквозь него»,
будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива» [1, c. 826].
Все эти концепции актуальны и востребованы и по сей день. Но «туманность» понятия «символ» так и
остается в науке. Для примера возьмем несколько определений символа:
1. Львов-Рогачевский В. Символ // Словарь литературных терминов: B 2 т. Т. 1. Стлб. 773-774.
«С. Происходит от греческого слова symbolon — связь, сущность в немногих знаках. Обычно под символом
мы разумеем картинное изображение с переносным иносказательным значением. <...> Там, где нельзя дать
предмет, там рождается символ для выражения несказанного, неизреченного путем соответствий между внешним
миром и миром наших мечтаний, при этом видимый предмет, посредством которого художник иносказательно
выражает свои идеи и неясные настроения, не только есть нечто, но и означает нечто, намекая на нечто иное,
стоящее вне его сущности, но связанное с ним больше, чем простой ассоциацией. Пользуясь символами,
художник не показывает вещи, а лишь намекает на них, заставляет нас угадывать смысл неясного, раскрывать
«слова-иероглифы» <...>».
2) Квятковский А. Поэтический словарь. (с. 263).
«Символ <...> многозначный предметный образ, объединяющий (связующий) собой разные планы
воспроизводимой художником действительности на основе их существенной общности, родственности. С.
строится на параллелизме явлений, на системе соответствий; ему присуще метафорическое начало, содержащееся
и в поэтических тропах, но в С. оно обогащено глубоким замыслом. Многозначность символического образа
обусловлена тем, что он с равным основанием может быть приложен к различным аспектам бытия. Так, в
стихотворении Лермонтова «Парус» <...> родство двух разноплановых явлений (личность и стихия) воплощено в
символическом образе одинокого паруса <...> (с. 263)».
3) Машбиц-Веров И. Символ // Словарь литературоведческих терминов. С. 348-349.
«С. <...> — предметный или словесный знак, условно выражающий сущность к.-л. явления с определенной т.
зр., к-рая и определяет самый характер, качество С. (революционного, реакционного, религиозного и др.). С.
могут служить предметы, животные, известные явления, признаки предметов, действия и т. п. (напр., лотос — С.
божества и вселенной у индусов; хлеб-соль — С. гостеприимства и дружбы; змей — С. мудрости; утро — С.
молодости; голубой цвет — С. надежды; символичны танцы, обряды). <...> В основе своей С. имеет всегда
переносное значение. Взятый же в словесном выражении — это троп (см.) <...>».
4) Литературная энциклопедия терминов и понятий // Т.Н.Красавченко. - М.: "Интелвак", 2003. - С. 976 - 978.
«Символ есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и он есть знак, наделенный всей органичностью и
неисчерпаемой многозначностью образа. Переходя в символ, образ становится «прозрачным»: смысл
«просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива».
Итак, что такое «символ»? Емко и в то же время лаконично трактует данное понятие польский литературовед
Ежи Фарино: «Символ – это понятийная система, свернутая (или редуцированная) до одного элемента,
обладающего статусом реального объекта» [22, c. 90]. На наш взгляд, это ясное определение в данном
исследовании может выступать в качестве базисного.
Однако отметим, что и другие определения и концепции не будут нами игнорироваться при анализе текстов.
1.3. Критерии распознавания символа в тексте
Как видно, определений символа очень много, но, по замечанию Т. Ушаковой, «критерии распознавания его
в тексте и отличие его от близких ему явлений довольно смутные» [21, c.5]. «Критерии различия, - продолжает
автор, - в конечном итоге предполагают интуитивный путь исследования: если символ глубоко индивидуально
познаваем, он может быть и глубоко индивидуально распознаваем. Возможность точного различения этих
категорий в тексте и четких критериев этого различения не более вероятна, чем точность в науке о литературе
вообще» [21, c.5].
Все-таки попробуем ограничить те различия, которые помогут нам в распознавании символа не только
интуитивным методом.
Во-первых, отметим, что символ и родственная ему аллегория не могут рассматриваться наравне с другими
тропами, потому что он возможен не только в литературе, но и в «изобразительных искусствах (живопись,
скульптура, театр, кино), и в обрядовой практике, и в любой иной идеологической сфере общества» [22, c.88].
Тогда как метафора и сравнение, с которыми сопоставляется символ, вне словесного выражения
невозможны.
«Метафора принадлежит уровню языка описания, которого лишены остальные (несловесные) искусства» [22,
c.88].
Во-вторых, прочтение символа, исходя из определения, предложенного Ежи Фарино, связано с
восстановлением той системы, из которой взят этот символ. То есть при анализе текста нужно опираться на тот
контекст, которой отправляет нас к символической природе того или иного объекта. Приведем пример: крест в
разных системах воспринимается по-разному. Для религиозного мышления – это символ веры, для символики
средневековой (перекрещение костей на пиратском флаге) – это символ предостережения, смерти, риска, а в
современной системе дорожных знаков (заметим, уже знаков, а не символов) это всего лишь «остановка
транспортных средств запрещена».
Правило действует и в обратном направлении: чтобы нечто стало символом, оно должно стать элементом
конкретной системы.
В-третьих, в пределах одного и того же произведения символы выстраиваются в парадигмальную систему,
отличаясь друг от друга степенью абстрактности, или «по признаку материальности: «более материален, чем…»
или «более идеален, чем…», вплоть до потери связи их с породившей их понятийной системой и превращения в
незначимый предмет» [22, c.91].
Отметим также, что есть символы в произведениях, которые берутся уже готовыми из культурных систем. А
есть символы, которые создаются автором в пределах его собственного творчества или даже в пределах одного
произведения.
Ежи Фарино отмечает еще и то, что символы могут быть взаимоэквивалентными, (то есть для распознавания
в тексте мы можем применить и метод «синонимического» подбора). Исследователь также оговаривает и тот
момент, что символы эквиваленты, если они взяты из одной и той же системы. [22, c.94].
В любом случае в тексте должно быть указание, что построенный в нем мир значим и на абстрактном
уровне, это не просто текст, а текст-сообщение.
Теперь обратимся к актуальной проблеме различения символа и аллегории. Обычно выделяют несколько
различительно-опознавательных черт этих понятий:
1. Символ возникает ненамеренно, естественно, часто бессознательно, «не-интеллектуально» и познается во
многом интуитивно. Естественна в нем и связь между планом выражения и планом содержания. Аллегория
создается волей рассудка и «разгадывается» интеллектуально. Связь между планом выражения и планом
содержания в аллегории, как правило, условна.
2. Значение символа не может быть до конца определено. Символ неисчерпаем, бесконечен. Символ
знаменует собой тайну. Аллегория, напротив, выражает конкретный смысл, и достигает своей цели как
литературный прием, если этот смысл в ней открыт.
3. Символ несет в себе опыт культуры и потенциал тех значений, которые он приобрел в результате своего
развития. Аллегорическое значение также может не исчерпываться текстом. Однако внетекстовые значения
аллегории по преимуществу заранее определены и конкретны. [21, c. 8].
Ежи Фарино так определяет различие понятий «аллегория» и «символ»: «Если символ единит мир,
преобразует его в систему, в универсальную модель, то аллегория анализирует мир, преобразовывает его в текст
и из мира строит текст о мире же». [22, c.100].
ГЛАВА 2. Природа символа в творчестве Эдгара Алана По
2.1.
Биографический аспект в становлении идеостиля Э. По
Бальмонт в своей статье «Гений открытия» так писал об Эдгаре Алане По: «Смотря налицо Эдгара По и
читая его произведения, получаешь представление о громадной умственной силе, о крайней осторожности в
выборе художественных эффектов, об утонченной скупости в пользовании словами, указывающей на великую
любовь к слову, о ненасытимой алчности души, о мудром хладнокровии избранника, дерзающего на то, перед
чем отступают другие, о торжестве законченного художника, о безумной веселости безысходного ужаса,
являющегося неизбежностью для такой души, о напряженном и бесконечном отчаянии» [2, c.32].
В самом деле, удивительная и, к сожалению, трагическая судьба писателя как будто сама формировала в
этом талантливом человеке новое, невиданное доселе, мироощущение, новый взгляд на мир, недооцененный
современниками и в последствии такой важный для потомков. Многое из жизни и творчества писателя
выбивалось из привычных понятий и стандартов, но только через трагическую реальность его жизни и
творчества можно приоткрыть тайну прозрений и открытий, сделанных Эдгаром По.
Эдгар По (1809—1849) был сыном бродячих актеров. Он рано лишился родителей и был усыновлен
состоятельным торговцем Джоном Аланом.
Жена торговца— Анна Фрэнсис Килинг, женщина редкой красоты и обаяния, окружила ребенка заботой и
вниманием, заменив ему мать.
Поэтому детство Эдгара можно до какой-то степени назвать беззаботным. С раннего возраста он выказал
одаренность во всех предметах, которыми занимался, от математики до литературы. Был прекрасным
спортсменом. Однако беззаботность эта была именно «до какой-то степени». По сути, детство Эдгара По – это,
как пишет А.М. Зверев, «закрытые лондонские пансионы, холодные чуланчики, превращенные в дортуары,
унылый будничный распорядок, зубрежка, педанты-наставники» [19, c.4].
Но все же в молодом Эдгаре, несмотря ни на что, есть некое юношеское веселье, радость от самого
существования. Может быть, этим как раз обусловлено его отношение к женщине как таковой.
Некоторые могут назвать увлечение молодого человека матерью своего друга безрассудством, а некоторые
назовут это «благородным томлением сердца». Но так или иначе, а увлечение По Джейн Стенард (прообразом
Елены в его стихах) уже несет в себе некую трагичную печать, ведь Джейн страдала душевным расстройством.
Может быть, как раз это и послужило в дальнейшем поводом для разработки невротического, безумного типа
персонажа в психологической прозе Эдгара По.
Безрассудством можно считать и тайное обручение 17-летнего Эдгара и 14-летней Эльмиры, дочери одного
из компаньонов Аллана. И опять трагедия – молодые были разлучены, а Эдгар, к тому же, лишен наследства.
Опекун полностью отворачивается от своего названного сына, и он практически становится нищим.
На собранные друзьями По деньги ему удается анонимно издать свой первый сборник стихов "Тамерлан и
другие стихотворения" (1827).
«Образ Эльмиры, - пишет А.М. Зверев, - витал над этими страницами, выдававшими следы восторженного
чтения Байрона, создателя "восточных" поэм» [19, c.5].
Но книга не приносит ни дохода, ни признания, и Эдгар уходит в армию, где проводит 2 года. «Батарея, к
которой он был приписан, стояла на острове Салливан у берегов Южной Каролины, потом в Виргинии. Своей
живописностью и безлюдьем эти места пробуждали романтическую фантазию, здесь память возвращала к
старинным
легендам, которые оживут в "Золотом жуке" и "Повести Скалистых гор"» [19, c.6].
После По возвращается, живет у своей тетки, где знакомится с Виргинией – своей будущей женой и музой.
Именно в это время Эдгар По обращается в своем творчестве к прозе. И в 1833 году выигрывает конкурс со
своей новеллой «Рукопись, найденная в бутылке».
Признание так и не приходит к нему. Всю жизнь Эдгара По преследуют несчастья и беды. Писатель
сражается с действительностью, как может. Он показывает себя как талантливый журналист и редактор, за
газетами с его колонками выстраиваются очереди возле издательства, но критики жалуют его лишь ехидными
нападками.
Эдгар счастлив со своей женой Виргинией (образ Эльмиры), несмотря на все материальные беды и
компромиссы.
Судьба, как и раньше, лишает Эдгара и самого ценного – любви. Виргиния умирает в следствии болезни, а
Эдгар переживает ее лишь на два года. Так описывает А.М. Зверев это время перед кончиной Эдгара: «Осталось
много свидетельств о его конце. В частностях все они противоречат друг другу, но сходны в главном - из них
возникает образ человека полубезумного, лихорадочно сжигающего себя, отчаянно цепляющегося за
призрачные надежды и воюющего против всего мира с тем предельным ожесточением, которое предвещает
скорый и трагический финал» [19, c. 9].
Эта Трагичность судьбы писателя откладывает глубокий отпечаток на все его творчество. Иначе, может
быть, и не было бы Эдгара По такого, которого мы знаем, человека, по словам Бальмонта, «из расы причудливых
изобретателей нового» [2, c.35].
Русский поэт, зачарованно читая произведения По, пишет о своем учителе проникнутые безграничным
восхищением и трепетом строки: «Идя по дороге, которую мы как будто уже давно знаем, он вдруг заставляет
нас обратиться к каким-то неожиданным поворотам и открывает не только уголки, но и огромные равнины,
которых раньше не касался наш взгляд, заставляет нас дышать запахом трав, до тех пор никогда нами не
виданных и, однако же, странно напоминающих нашей душе о чем-то бывшем очень давно, случившемся с
нами где-то не здесь. И след от такого чувства остается в душе надолго, пробуждая или пересоздавая в ней
какие-то скрытые способности, так что после прочтения той или другой необыкновенной страницы, написанной
безумным Эдгаром, мы смотрим на самые повседневные предметы иным, проникновенным взглядом. События,
которые он описывает, все проходят в замкнутой душе самого поэта; страшно похожие на жизнь, они
совершаются где-то вне жизни, out of space - out of time, вне времени - вне пространства, их видишь сквозь
какое-то окно и, лихорадочно следя за ними, дрожишь, оттого что не можешь с ними соединиться» [2, c.35-36].
2.2.
Творчество Эдгара По в контексте романтизма
Слова Бальмонта подчеркивают бесспорную самобытность и новизну всего творчества Эдгара По. И это
действительно так. Все в творчестве Эдгара По отмечено новизной языка, замысла и художественной манеры.
В тоже время часто его ставят в ряд американских романтиков, и это небезосновательно. Однако стоит
учитывать своеобразие американского романтизма. В котором не было единой творческой концепции.
Обособлено друг от друга стоят имена Вашингтона Ирвинга, Натаниэля Готорна, Фенимора Купера. В полной
литературной и общественной изоляции находился и Эдгар По, принадлежащий к поздним романтикам.
Отличие это существенно. Так, если у В. Ирвинга и Ф. Купера нет героев с надломленной психикой, их
душевный мир лишен внутреннего конфликта, гармоничен и целостен, то у Эдгара По все уже по-другому:
человек противопоставлен не только «толпе стяжателей и пошляков», но вынужден бороться и с собственной
психикой. Отсюда – основные темы поэзии По: скорбь, тоска, страдания.
Проблема двоемирия стала одной из определяющих черт творчества Э. По. Романтическое противоречие
идеала и действительности проявлялось не только в содержании, в методе разрешения конфликтов, но и в стиле,
в особенностях формы, структуры художественного произведения, в отдельных приемах создания образа.
Окружающая среда нередко предстает в произведениях Эдгара По как ненастоящее, неистинное, являющееся
пустой видимостью в сравнении с подлинным, идеальным миром, существующим за пределами ее. Поэтому во
многих новеллах мы сталкиваемся с ощущением действительности как некоего сна («Повесть крутых гор»).
Герою кажется, что все происходящее с ним и вокруг него есть только сон, только странная, смутная греза.
Подлинное же, истинное, настоящее бытие лежит за пределами непосредственно существующего, что часто
подтверждается мистическими явлениями и символами. Это обуславливает заданность текста, когда жизненные
явления изображаются как символы какой-то другой, нездешней жизни и имеют значение не сами по себе, а лишь
как намек на подлинную и высшую жизнь, скрывающуюся за видимым бытием.
Во многих рассказах По двоемирие реализуется в переплетении сказочно-фантастического и реальнобытового. Эти два мира образуют мир единый, но раздвоенный, полный внутреннего брожения, неустойчивости,
беспокойства. Сочетание мистического с предметным образует диссонанс, характерный для романтического
искусства [11, c. 87].
Двоемирие отражается в разорванности сознания героя По. В нем часто сосуществуют и непрерывно
соперничают две души: прозаическая, привязывающая его к земле, и поэтическая, уносящая в небесные выси.
Особый смысл в творчестве Эдгара По как романтика приобретает тема смерти, которая выступает и как
нечто страшное, неведомое, и как нечто избавляющее от противоречий, а как высшая сила, и как переход между
мирами. Эта тематика разработана По до мельчайших подробностей, поэтому иногда его называют «поэтом
смерти».
Однако в самом образе смерти мы можем угадать уже модернистскую пару Эроса и Танатоса, где одно не
может существовать без другого. Красота становится частью смерти. Особенно ярко это проявляется в
стихотворении “Спящая”, которое поэт сам считал лучшим из всего созданного им в поэзии:
Любовь моя, ты спишь. Усни
На долги дни, но вечны дни!
Пусть мягко червь мелькнет в тени!
(Пер. К. Бальмонта).
В этом смешении прекрасного и безобразного Э. По напоминает не только символистов, но и немецких и
французских романтиков.
2.3.
Самобытность и значение творчества Эдгара По
Самобытность творческого метода писателя столь велика, что он, пользуясь романтической тематикой,
традиционными для романтиков идеями, образами, во многом отходил от них.
Вот, что пишет по этому поводу Бальмонт: «Колумб новых областей в человеческой душе, он первый
сознательно задался мыслью ввести уродство в область красоты и, с лукавством мудрого мага, создал поэзию
ужаса. Он первый угадал поэзию распадающихся величественных зданий, угадал жизнь корабля как
одухотворенного существа, уловил великий символизм явлений моря, установил художественную, полную
волнующих намеков связь между человеческой душой и неодушевленными предметами, пророчески
почувствовал настроение наших дней и в подавляющих мрачностью красок картинах изобразил чудовищные неизбежные для души - последствия механического миросозерцания» [2, c. 35].
Поэтому для различных литературных школ и направлений стало возможно заимствование у писателя
отдельных положений и приспособление их к собственным потребностям. Поэтому же Э. По оказался «отцом
символизма», «прародителем импрессионизма и футуризма».
Так, символисты открыто провозгласили Эдгара По своим предтечей. Им был восхищен Мелларме, к нему
обращался Бодлер, который говорил, что и личность, и произведения По отмечены «печатью безграничной
меланхолии», воспевал поразительную способность По передавать «абсурд, водворившийся в уме и
управляющий им с ужасной логикой; истерию, сметающую волю; противоречие между нервами и умом
человека, дошедшего до того, что боль он выражает хохотом» [8, c. 192].
Восхищение американским писателем передалось и русским символистам. Так, Блок говорил о нем: «Эдгар
По имеет...отношение к нескольким широким руслам литературы XIX века» [5, c. 617].
Блок также точно пометил и то, что творчество По повлияло и на художественный мир Жюля Верна, Уэллса,
Достоевского.
И такие, с одной стороны, несвязанные параллели не случайны. По замечанию Юрия Олеши, в Эдгаре По
«великий математик был поэтом», а «великий поэт — математиком» [22, c. 10].
Из этой формулы становится понятно, как удалось По создать великолепную модель интеллектуального
детектива, по сути, нового жанра, так благодатно используемого после него. При этом Эдгар По выступает
тонким психологом, коего еще не видела мировая литература. Обладая редчайшей интуицией, По предвосхитил
некоторые выводы современной психиатрии и парапсихологии. В частности, именно он разработал тему
двойничества. Глубиной психологического проникновения отличаются его новеллы «Падение дома Эшеров»,
«Без дыхания» и др.
Особый цикл образуют «страшные» новеллы, в которых присутствуют мотивы потусторонней жизни, теснее
связывая творчество По с романтизмом и символизмом: «Маска смерти», «Черный кот», «Низвержение в
Мальстрем». Интересовала его и тема заживо погребенных людей.
2.4. Символизм в поэтическом и прозаическом текстах писателя
Творчество Эдгара По при всем при этом не укладывается ни в одну навязываемую ему схему, будь то
романтизм, декаданс, символизм. Впрочем, символическое, как мы отмечали выше, для творчества По очень
важно. Хотя по проявлению своему символизм По неоднороден. Особенно это касается символов в прозаической
и поэтической стихиях.
А.М. Зверев пишет: «Когда, пленившись «Вороном» или «Улялюм», открывали том рассказов По и за
таинственной «Лигейей» читали математически точно рассчитанные новеллы о сыщике Огюсте Дюпене, сама
собой являлась мысль о глубокой разнородности начал, сосуществующих в этом творческом мире. Пытались
объяснить эту разнородность вынужденными уступками вкусам и потребностям читателя американских
журналов того времени, которому требовались не откровения великой, избранной души, а занимательность и
простецкий юмор. Говорили о двух Эдгарах По, о сочинителе развлекательных историй, который лишь мешал
По - творцу нетленных произведений, чье единственное назначение – искусство» [19, c. 12].
Далее исследователь замечает, что неправомерность такого противопоставления очевидна. И действительно,
разница в символизме прозы и поэзии По – только в том, что как поэт Эдгар По утверждает символ как некую
идею, которую нельзя выразить ни на одном языке, кроме метафорического, а как прозаик пытается воплотить
символ в реальности, найти отголоски идеи непосредственно в этом мире.
Даже логически выверенные, интеллектуальные рассказы По про Дюпена не являются самодостаточными
лишь в смысле авантюрного детектива. Здесь сам интеллект избранного человека, романтического персонажа
становится предметом исследования. И часто в прозе сами образы становятся символами. Особое значение также
в прозаическом тексте приобретает роль звука, голоса, тени, вещи, части тела человека. Поэтому проза,
нацеленная самим автором на Правду, во многих рассказах ограниченная миром достоверного, «становилась и
царством фантазии» [19, c. 18].
«Проза По, – совершенно точно формулирует А.М. Зверев, - была прозой поэта, и требования к ней у него
были во многом те же, что и к стихам: лаконизм, точность и то "сочетание новизны и скромности", которое
он находил идеалом истинно поэтического. А кроме того - присутствие тайны» [19, c. 18]. Далее исследователь
называет прозу По «материальной фантастичностью», где действительность оказывается где-то на грани
ирреального [19, c. 19].
ГЛАВА 3. Типы символа в новеллах Эдгара Аллана По
Для символов в новеллах По характерно то качество, которое мы отметили в первой главе – степень
абстрактности. В некоторых произведениях символы очевидны и принадлежат к виду общекультурных, а в
некоторых – более приближены к материальному миру, и часто это совпадает с символами, которые относятся к
чисто авторским.
Поэтому для удобства анализа условно разделим их на несколько типов:
1.
Новеллы с элементами фантастики: «В смерти – жизнь», «Маска красной смерти», «Повесть Крутых
гор», «Разговор с Мумией», «Бес противоречия».
2.
Новеллы на тему «человек и внешне непреодолимое», где воспевается могущество природы, ее
величие и сила, то есть эстетическая категория возвышенного в трактовке, близкой Шиллеру, а по сути
воспроизводится экзистенциальная ситуация: «Низвержение в Мальстрем», «Колодец и маятник», «Заживо
погребенные».
3.
Новеллы психологические, где анализируется состояние преступника: «Человек толпы», «Сердцеобличитель», «Черный кот», «Бочонок амонтильядо».
4.
Новеллы с детективной основой: «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Похищенное
письмо», «Золотой жук», «Ты еси муж, сотворивый сие».
Оговоримся, что данное разделение носит исключительно утилитарный характер, помогает облегчить нам
практический анализ текста и носит условный характер, не претендуя на авторитетность.
Так, в некоторых новеллах 3 типа мы можем обнаружить и фантастическое начало.
3.1.
Символика в фантастических новеллах
Наш анализ мы начали с фантастических повестей Эдгара По, потому что именно в них символы отличаются
высокой степенью абстрактности. В то же время даже в самых фантастических повестях мы можем встретить
неожиданные для романтизма документальность и точность деталей. Стоит также оговориться, почему мы
называем произведения По не рассказами, а новеллами. Дело в том, что в новелле как в самостоятельном жанре
необходим элемент неожиданной развязки, в отличие от рассказа, похожего на новеллу объемом,
пространственно-временной, сюжетной и образной наполненностью.
В русской литературе новелла не так широко известна, как в мировой. В России этот жанр интенсивно
разрабатывался уже в серебряном веке, тогда как в мировой литературе это был уже традиционный жанр.
Высокая степень абстрактности символа в фантастических новеллах По часто совпадает с тем, что сами
символы рассматривать можно на общекультурном уровне. Так, в новелле «В смерти – жизнь» писатель
использует символ портрета как символ перехода из одного мира в другой. Тема отражения, запечатленного
образа человека является давней и рождает символы, близкие этой системе: зеркало, отражение в воде и т.д. В
качестве семантического значения этого символа подходит значение не только перехода в иной мир, но и
пропажи души. Стоит в этом контексте вспомнить, что до сих пор в сохранившихся нетронутыми цивилизацией
племенах (по крайней мере, во многих из них) фотография себя считается воровством души. В литературе эта
тема тоже не нова и продолжает развиваться. Самым известным в этом плане становится «Портрет Дориана
Грея» Оскара Уальда (1913).
Композиция новеллы – рассказ в рассказе – позволяет автору ввести читателя в романтическое
миропонимание. Сначала мы узнаем, что персонаж увлечен опиумом и, дабы унять боль, принимает непомерно
большую дозу наркотика. Это вводит и его, и читателей в мир переходный, туманный, странный. И уже в этом
состоянии персонаж находит портрет, который ошеломляет его своей живостью.
Потом, в повести о портрете, мы знакомимся с художником и его женой. Художник тоже является
романтическим героем. Его странность и угрюмость многих пугают, но эта странность является как раз
признаком избранности.
Произведение заканчивается тем, что, дописав портрет и взглянув на него, художник восклицает: «Да ведь
это сама жизнь!». А потом, оглянувшись на мертвую жену, жизнь которой как бы перешла в портрет, говорит:
«Но разве это – смерть?» [18, c. 74].
В этих репликах заключается ключ ко всей новелле: с одной стороны. Художник настолько талантлив и
влюблен в жену, что выполняет непосильную задачу: запечатлевает жизнь на холсте, фиксирует ее, изымая из
потока времени в вечность. С другой стороны, сиюминутная жизнь кажется для него не столь важной по
сравнению с тем, что она перешла в искусство.
Тема сиюминутности, тленности жизни продолжается и в новелле «Красная маска смерти», где
подчеркивается и еще более углубляется значение смерти как чего-то непостижимого и управляемого не
человеком, а другой, могущественной силой. Новелла буквально наполнена символикой: это и цвета комнат
(голубой, красный, зеленый, оранжевый, белый, фиолетовый, черный), и оркестр, и часы в седьмой, черной
комнате, и сам образ Маски Смерти.
Яркость, цветовая насыщенность произведения явно имеет экспрессионистский характер.
Цвет комнат, на наш взгляд, символизирует саму жизнь человека, периоды его взросления, становления и
старения. Именно поэтому белая комната находится подле черной: «седая» старость в то же время обладает
целомудренностью. Интересно и их освещение, когда свет падает из фонарей за окном: это перекликается с
концепцией мира Платона, где наш мир – лишь тень. Отбрасываемая идеальным миром.
И если комнаты – это человеческие бытие в реальности, то автором это бытие описывается так: «Все это
казалось порождением какого-то безумного горячего бреда. Многое здесь было красиво, многое –
безнравственно, многое – bizarre, иное наводило ужас, а часто встречалось и такое, что вызывала невольное
отвращение. По всем семи комнатам во множестве разгуливали видения наших снов. Они – эти видения, корчась и извиваясь, мелькали тут и там, в каждой новой комнате меняя свой цвет, и чудилось, будто дикие звуки
оркестра – всего лишь эхо их шагов» [19, c. 78]. Обратим внимание на значение теней – это наши заблуждения и
суждения, а звуки оркестра уподобляются нашему дикому и неумело танцу жизни. Так и проходит жизнь – в
диком темпе, погруженная в фантомы разума и чувства. И только бой черных часов заставляет всех застыть в
испуге перед Вечностью и неизбежностью.
Маска Красной смерти тоже включает в себя семантику Вечности и Неизбежности, судьбы, от которой
нельзя убежать. Интересно, что принца Просперо новость о Маске застает в голубой комнате, находящейся в
противоположном от черной конце. Автор называет комнату комнатой в восточном стиле. Голубой – цвет
безмятежности и грез [9].
В то же время это – жизнь в расцвете, самое ее начало. И бег принца за незваным гостем в черную комнату –
как будто скоропостижная смерть.
Так важная в контексте творчества Э. По тема смерти, о чем мы подробнее говорили во второй главе,
продолжается и в новелле «Повесть Крутых гор». Однако здесь центральной проблематикой становится
двойничество. Огюст Бедлоу как зеркальное отражение погибшего Олдеба. Здесь сами образы в их парности и
составляют символику. Мир реальный и идеальный порождает двойничество, возможное на уровне зеркального
отражения. Но такое отражение доступно только романтическому герою, избранному, поэтому-то Огюст наделен
в тексте чертами нервозности, странности. Многие его не понимают, а сам он как бы отстранен от всех.
Интересно, что переход Огюста в иную реальность тоже сопровождается применением опиума. Но эта
деталь важна в контексте всего творчества автора: прежде. Чем заглянуть за границы реального, нужно обрести
состояние, близкое к опьянению или помешательству.
Смерть Берлоу повторяет смерть Олдеба: второй умирает от ядовитой стрелы в висок, а первый – от
ядовитого кровососа, прикрепленного врачом к виску больного по ошибке.
Здесь степень абстрактности символов не так высока, как в «Маске Смерти», а в новелле «Ангел
Необъяснимого» символ становится еще более материальным и прикрепленным к тексту. Сам образ этого ангела
– чисто контекстуальный. К общекультурным символам можно отнести лишь состояние персонажа – его
опьянение. Но здесь это не переход в другую реальность, а как раз то состояние, в котором человек проживает
свою жизнь. Не даром Ангел Необъяснимого все время повторяет: «Ты, говорю, ферно, пьян, как свинья. Сидишь
прямо тут, а меня не фидишь» [18, c. 243]. То есть, человек, подобно пьяному, не замечает очевидных вещей,
живет как во сне, неверно трактуя реальность. Сама же реальность выступает как начало выше человека, где все
случайности неслучайны.
Но есть фантастические новеллы, где очевидные на первый взгляд символы теряют свое значение в
результате потери своей системы и становятся исключительно фантастическими образами. Так это происходит в
новелле «Разговор с Мумией», где вековая мудрость египтян превращается не в символ, а просто в факт,
подкрепленный в тексте ссылками на древние источники (повествователя все время одергивает молчаливый
слушатель и подсказывает: прочтите это или то) и логическим объяснением всех чудес (бальзамирование живого,
жизнь по 800 лет и т.д) [18, c. 294].
В то же время происходит развенчание самого мифа и его символической природы. Мумия ничем не
отличается от современных американцев, кроме опыта и принадлежности к другой культуре.
3.2.
Психологические новеллы и новеллы «убийц»
Еще раз оговоримся, что разделение наше достаточно условно. Так, практически все новеллы воспроизводят
экзистенциальную ситуацию, где герой находится на волоске от гибели, и поэтому для него возможны прозрения,
недоступные для людей обыкновенных.
И даже при разговоре о самой экзистенциальности мы не имеем в виду именно экзистенциализм как
философское направление, сформировавшееся в систему только в ХХ веке. Мы говорим лишь о художественном
типе мышления [10]. Отметим все же и то, что сами ужасы, воспетые Эдгаром По, не чужды и экзистенциализму
в ХХ веке.
К новеллам на тему «человек и внешне непреодолимое», где воспевается могущество природы, ее величие и
сила, то есть эстетическая категория возвышенного в трактовке, близкой Шиллеру, а, по сути, воспроизводится
экзистенциальная ситуация, относится «Низвержение в Мальстрем».
В этом произведении мы имеем дело с авторским символом, где Мальстрем выступает в качестве такового.
Так как это авторский символ, указание на его значение должно быть в тексте. Помимо этого, вся система, из
которого выходит этот символ, выстраивается именно в данном произведении. О символическом значении
Мальстрема говорит сам персонаж. И вот он в воронке Мальстрема, на волоске от гибели: «я по-прежнему не мог
ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная
тому узкому колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из
Времени в Вечность» [18, c. 65].
Помимо этого значения Мальстрем, как мы и отметили выше, является символом Величия непостижимой и
неукротимой природной стихии.
Герой, только полюбив ее, сосредоточив свое внимание на любовании «Пляски смерти», может избежать
саму смерть. Примирение с участью характерно и для «Колодца и маятника». Здесь степень символизации очень
низкая. Система символов выстраивается самими персонажами. Камера Инквизиции, примеры которой есть и в
реальности, созданный монахами символ прохождения ада и раскаяния. Здесь символ приобретает конкретику.
Колодец как ад и маятник как неизбежная кара – это виды пыток, которые можно расшифровывать как символы
только в символической системе Инквизиции. [18, c. 82].
Неизбежность, ужас и отчаяние воспроизводятся и в новелле «Заживо погребенные». Но здесь – лишь
описания случаев и психологическое состояние заживо погребенного. Степень символизации очень мало, но все
же присутствует, о чем свидетельствует образы печального духа и Ангела-Утешителя, явившихся рассказчику и
написание с заглавной буквы таких слов, как «Отчаяние» и «Надежда». В этом контексте стоит заметить, что и
отчаяние, и надежда имеют чуть ли ни главную роль в художественном экзистенциальном сознании.
Особняком стоят в творчестве По новеллы, воспроизводящие психологию убийц: «Человек толпы», «Сердцеобличитель», «Черный кот», «Бочонок амонтильядо».
В новелле «Человек толпы» мы видим общекультурный символ преступника, о чем говорит его внешний
облик, напоминающий образ дьявола, и невозможность остаться наедине с собой.
Но если здесь мы лишь по внешним проявлениям наблюдаем смятение грешной души, то в «Черном коте»
рассказчиком становится уже сам преступник. Черный кот – с одной стороны, общекультурный символ,
предвещающий беду (в европейских поверьях). Но в новелле он становится символом совести персонажа,
лакмусовой бумажкой, по которой повествователь понимает степень своего греха. В то же время для персонажа
обозначаемое (преступление, повешение кота) и обозначающее (неизбежное наказание от кота) отрываются. Если
после казни кота персонаж ищет похожего животного, то здесь можно говорить о его раскаянии в содеянном.
Но как только он находит похожего кота, сразу становится понятным неизбежность наказания. Отсюда –
ненависть и отвращение к новому животному. Кот как воплощение наказания и страха перед ним, таким образом,
становится важнее самого преступления. Здесь идет граница между рассудком и безумием, когда убийство жены
никак не трогает, а вот отсутствие кота действует воодушевляющее.
Внешними, мистическими символами являются здесь портрет кота на уцелевшей после пожара стене и образ
виселицы на груди второго кота [18, c. 192].
Однако нужно сказать, что символика в подобных произведениях чаще воспроизводится в системе
персонажного мышления. То есть символ становится символом только в расстроенном сознании нездорового
человека, как, например, в новелле «Сердце-обличитель». Здесь убийца действительно безумен, что
подчеркивается самой первой фразой: «Правда! Я нервный – очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж
уродился; но как можно называть меня сумасшедшим?» [18, c. 99].
Интересно, что на убийство герой решается не из-за ненависти к старику, а из-за его «Дурного Глаза»: «не
сам старик досаждал мне. А его Дурной Глаз» [18, c. 100].
Этот «Дурной Глаз», слепой и белесый – общекультурный символ, который отсылает нас и к разным глазам
дьявола, и к видению слепого того, что скрыто. Но в данном тексте символ становится таковым только для
главного персонажа, так как для всех глаз старика – лишь внешнее уродство.
Что же значит для главного персонажа этот глаз? Помимо уже указанных значений, это символ преступления
(совершенного ранее, возможно) и наказания, символ боязни мук совести, что характерно для многих новелл
Эдгара По.
Однако муки совести выражаются подчас именно только в символах, осознаются героями не рассудком, а
предчувствием. Неосознание своего греха, отсутствие раскаяния мы можем видеть в герое ««Бочонка
амонтильядо». Здесь убийство совершается без раскрытия его и без каких-либо внешних последствий для
преступника. Видимо, это связано со смыслом произведения, где символизация (опять же на авторском уровне)
касается бочонка амонтильядо, на который убийца «заманивает» свою жертву. Вино здесь – все то желаемое
уверенным в себе человеком (жертва). Вино же – средство убийства. Убийца входит в некоторую игру с жертвой,
делает вид, что принимает ее правила, а на самом деле «жульничает», добиваясь своей цели.
Здесь поводом для убийства оказывается месть за оскорбление, то есть нечто, лежащее в области
социального статуса. Получается, что и убийство, и причина его, и даже средство направлены в произведении на
то, чтобы показать уродства и несоответствия системе ценностей тех воспеваемых качеств общества, которые
делают одного популярным, а второго – оскорбленным.
3.3. Символика и детективный жанр
Новеллы с детективной основой, такие, как «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Похищенное
письмо», «Золотой жук», «Ты еси муж, сотворивый сие» в наименьшей степени обладают таким свойством. Как
символизация образов.
Однако здесь мы можем говорить о псевдосимволизации, когда, например, золотой жук якобы помогает
найти сокровище. Потом, в развязке, мы видим, что найденное сокровище – результат точных вычислений,
умственного труда. Но все же некая таинственность остается. Остается она и в том, что возможно существование
такого жука, и в том, что поиски сокровища невозможны были бы без него.
Персонажи как будто сами соблюдают до конца правила общения с этим магическим жуком. Слуга Легранга
Юпитер думает, что странности с его хозяином начались после укуса насекомого, а сам Легран, как будто для
шутки, берет жука в поисках клада и заставляет Юпитера продеть через глазницу черепа не пулю, а именно жука.
Здесь возникает ситуация некоего двоемыслия, когда человек и верит, и не верит одновременно. Хотя в новелле
«Ты еси муж, сотворивый сие» двоемыслия нет. Здесь повествование с детективно-мистической основой в конце
превращается в разумное, реальное объяснение. Повествователь говорит о том, что с самого начала заподозрил
Чарли, нашел труп убитого им друга и подстроил его «воскрешение». Однако мы можем говорить о том, что для
Чарли Челноук ожил и стал символом его преступления (как в случае с черным котом), отсюда – возможность
покаяния Чарли и его последующая смерть.
Еще важный символ здесь – само имя Чарли: «Никогда еще не бывало на свете человека по имени Чарльз,
который не был бы храбрым, честным и откровенным малым, душа нараспашку» [18, c. 252]. Здесь имя
выступает как символ добродетели, но в контексте самой новеллы он превращается в символ заблуждения, в
символ человеческих стереотипов, не дающих подчас людям увидеть очевидного.
С точки зрения этого значения можно говорить о некоторой символизации (безусловно, авторской) и в
контексте повестей о Дюпене. С первого взгляда, логически выверенные. Воспевающие разум человека, эти
новеллы все-таки обладают романтическим содержанием. Прежде всего это касается самого Дюпена,
романтического персонажа, не похожего на других, на людей толпы, людей со стереотипным мышлением.
Дюпену доступны прозрения именно романтического толка, прозрения в иной мир. Так, например, описывая
состояние Дюпена при «разгадке» человека, рассказчик замечает: «пустой, ничего не выражающий взгляд его
был устремлен куда-то вдаль…Я… забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем». [18, c.
22].
О «романтичности» дедуктивного метода говорят и сами слова Дюпена: «Материальный мир изобилует
аналогиями с миром нематериальным, а потому не так уж далеко от истины то правило риторики, которое
утверждает, что метафору или уподобление можно использовать не только для украшения описания, но и для
усиления аргументации». [18, c. 99].
Действительно, сами детективные сюжеты Эдгара По – не самоцель. Так, в «Мари Роже» даже не развязки.
Здесь главное, что неоднократно подчеркивается и рассказчиком, - сам герой Дюпен, его способности заглянуть
за рамки стереотипного мышления человека толпы.
Возможно, здесь и стоит говорить о некоторой степени символизации образа Дюпена. Иначе могло ли так
случиться, что этот образ в последствии в литературе станет знаковым и часто эксплуатированном?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В процессе развития культуры и науки понятие «символ» переосмысливается и дополняется, приобретает
все новые трактовки: символ как архетип, как знак, как образ и т.д. Особенно важно в контексте нашего
исследования понимание символа через призму романтического художественного мышления, так как
произведения Эдгара По часто причисляются именно к данному типу мышления.
В качестве базисного определения в нашей работе мы опираемся на следующее: «Символ – это понятийная
система, свернутая (или редуцированная) до одного элемента, обладающего статусом реального объекта» [22, c.
90]. При этом в исследовании учитывается и иной опыт определения символа.
Критерии определения символа в тексте часто туманны и неопределенны, как и само понятие. Однако мы
опираемся на такие качества символа, как неравноположенность его по отношению к другим тропам, связь с
определенной системой, парадигмальный способ построения в тексте, взаимоэквивалентность.
Так же отметим, что существуют авторская символика (построение системы символов в творчестве писателя
или в определенном произведении) и общекультурная символика, имеющая давнюю историю.
2. Самобытность, неповторимость творческого наследия Эдгара По во многом определила его трагическая
судьба. Трагизм, тоска, скорбь порождают тяготение писателя к художественной системе романтизма. Он
принадлежит к поздним романтикам, что во многом определяет усложнение образа персонажа, где
противопоставления ведутся уже не только на уровне «человек – толпа», но и на уровне внутренних
психологических оппозиций.
При соблюдении всех формальных требований романтизма, Эдгар По все-таки часто не укладывается в его
рамки, предвосхищая в своем творчестве искания символистов, футуристов, реалистов.
В своей творческой лаборатории писатель разрабатывает новые жанры, формы, образы, что влияет на
последующее развитие мировой литературы (фантастической, психологической, символической, массовой).
В то же время именно символ играет большую роль во всех произведениях автора, как поэтических, так и
прозаических. Отличие символа в поэзии – его идейная заданность, непрекословная обращенность к
трансцендентному миру. Символизм прозы По более материален, нацелен на распознавание иррационального в
этом мире.
3. В новеллах Эдгара По символизм неоднороден и выражается с разной степенью абстрактности. Так, если в
большинстве фантастических произведений символы являются общекультурными и весьма абстрактными, в
психологических новеллах, не утрачивая своей общекультурности, выражают неустойчивость расстроенного
сознания, то в детективных новеллах степень абстрактности минимальна, а символы приобретают статус
авторских и приближенных к конкретике.
Случается и так, что в новелле явный общекультурный символ достигает такой степени конкретики, что
теряет свой статус символа и превращается лишь в факт действительности («Разговор с мумией»).
Символы в новеллах По отсылают нас к разным системам, в зависимости от замысла автора. Здесь
просвечиваются и религиозная система, и философская, и система суеверий и, наконец, система, конструируемая
в пределах авторского текста.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Аверинцев С.С. Символ в искусстве // Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти т. — М.: Советская
энциклопедия, 1962-1978. — Т. 7. — 1972.
2. Бальмонт К.Д.. Гений открытия. - СПб.: ООО "Издательство "Кристалл"", 1999.
3. Бальмонт К.Д. Поэзия как волшебство//Бальмонт К.Д. Стозвучные песни: Избр. Стихи и проза. Ярославль,
1990.
4. Бальмонт К.Д. Элементарные слова о символической поэзии//Русская литература ХХ века. Дооктябрьский
период. Хрестоматия. - Л., 1991.
5. Блок А. Собр.соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 5.
6. Брюсов В. Ключи тайн//Брюсов В. Собрание сочинений: В 7т., Т. 6, М., 1975.
7. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
8. Готье Т., Бодлер Ш. Искусственный рай. М, 1997.
9. Давыдова О.С. Рождение символа: от «Алой» к «Голубой розе». http://iai.rsuh.ru/print.html?id=51140
10. Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века. – М.: Флинта-Наука, 2002.
11. Ковалев Ю. Э.А.По. Новеллист и поэт. Л., 1984.
12. Квятковский А. Поэтический словарь. - М.: Советская Энциклопедия. 1966 г.
13. Литературная энциклопедия терминов и понятий // Т.Н.Красавченко. - М.: НПК "Интелвак", 2003.
14. Лосев А.Ф. проблема символа и реалистическое искусство. - М., 1976,
15. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. - М., 1999.
16. Львов-Рогачевский В. Символ // Словарь литературных терминов: B 2 т. Т. 1.
17. Машбиц-Веров И. Символ // Словарь литературоведческих терминов. С. 348-349.
18. По Э.А. Избранный произведения в двух томах. Том 2. – М., «Художественная литература», 1972.
19. По Э.А. Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Эссе: Пер. с англ. /
Э.А. По. - М.: НФ "Пушкинская библиотека", "Издательство ACT", 2003.
20. Созина Е.К. Теория символа и практика художественного анализа: Учебное пособие по спецкурсу.Екатеринбург, 1998.
21. Ушакова Т. А. Символ и аллегория в поэзии Н. Гумилева // http://www.gumilev.ru/main.phtml?cid=5000147
22. Фарино, Ежи. Введение в литературоведение. Учеб. Пособие. – СПб, Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2004.
23. Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из
соловецких писем. Завещание. М.,1992.
24. Юнг К.Г. К вопросу о подсознании//Юнг К.Г., фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж.Л., Якоби И., Яффе А.
Человек и его символы. М., 1997.
www.free-lance.ru/users/jull26rus/upload/f_48d22011a3fba.doc