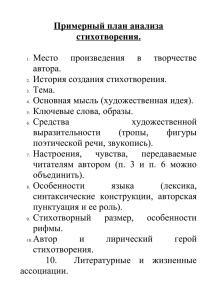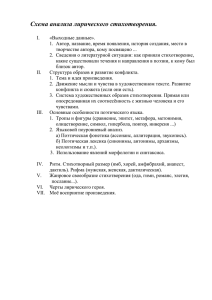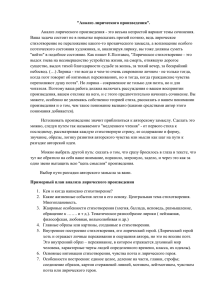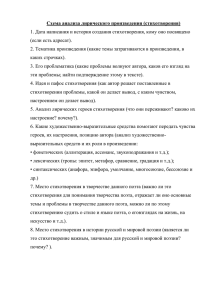Опубликовано: Коммуникация как предмет междисциплинарных
advertisement

Опубликовано: Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований: сб. науч. тр.: в 2 ч. / под ред. С.С. Ваулиной. – Калининград : изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. – Ч. 1. – С. 281-289. Т.Е. Автухович (Гродно) ЭКФРАСИС КАК ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА И. БРОДСКОГО) Тезис М.М. Бахтина о том, что текст есть пространство эстетической коммуникации, место встречи двух сознаний – автора и читателя, является сегодня азбучной истиной для каждого литературоведа. Это, однако, не отменяет необходимости исследовать конкретные ее реализации в разных текстах. В своей статье я остановлюсь на проблеме коммуникативной специфики жанра экфрасиса, который в последнее десятилетие стал объектом пристального внимания. Исследование экфрасиса в аспекте коммуникации, возможно, даст новый импульс осмыслению данного жанра вообще и методологии его изучения в частности, поскольку, на мой взгляд, представление об экфрасисе и методологии его анализа накопило некоторую инерционную «усталость» и нуждается в новых подходах. На примере творчества И. Бродского я попытаюсь рассмотреть продуктивность коммуникативного подхода к анализу жанра экфрасиса. Сегодня основные направления в изучении экфрасиса определяются двумя положениями. Во-первых, имеет место традиционная, восходящая к античности соревновательная концепция, согласно которой писатель (поэт) в словесном описании некоего артефакта стремится превзойти границы своего искусства [4, с. 87]. При таком подходе экфрасис выступает как явление межсемиотического перевода, и его целью считается расширение возможностей языка одного искусства средствами другого и авторская рефлексия над потенциальным обновлением своего языка. В рамках такого понимания взаимодействие читателя с экфрасисом сводится к наблюдению за данным соперничеством, восхищению возможностями словесной живописи и размышлению над спецификой разных искусств. Во-вторых, имеет место концепция, которую можно назвать интерпретативной, или герменевтической, в соответствии с которой экфрасис предстает вовсе не как словесная иллюстрация, а как запечатление акта восприятия и толкования произведений искусства, то есть герменевтическая процедура [8, с. 65]. Целью так понятого экфрасиса является диалог поэта с культурой, соответственно читатель, знакомясь с экфрасисом, становится участником данного диалога и выявляет специфику поэтической интерпретации произведения искусства. В проекции на проблему референтности экфрасис как произведение, описывающее изображение предмета, при обоих подходах выполняет вторичную, вспомогательную, функцию, выступая как мимесис третьей степени [6, c. 46-48], в то время как автор экфрасиса в лучшем случае заслужит оценку талантливого интерпретатора. Соответственно задача литературоведа, приступающего к анализу экфрастического текста, то есть присоединяющегося к диалогу поэта и художника, сводится к тому, чтобы в первом случае установить границы между реальным и фиктивным, настоящим и условным [7, c. 379], во втором – оценить совершенство поэтической интерпретации произведения искусства. Думается, в этих концепциях упущены или не до конца проговорены два существенных момента: во-первых, функции экфрасиса и условия его восприятия читателем изменялись от эпохи к эпохе, во-вторых, и это главное, не вполне очевидным и уж никак не универсальным является ответ на вопрос о внутренней мотивации для поэта к созданию такого описания: общие ссылки на эстетизм того или иного поэта, на преимущественное внимание не к реальной действительности, а к ее эстетически преображенным аналогам не объясняют выбор конкретного артефакта для его поэтического описания; равным образом общая закономерность, согласно кото- рой экфрасис «всплывает» в поэзии (в литературе в целом) в моменты слома художественного языка и поиска новых соотношений между действительностью и литературой, также не всегда приложима к конкретным поэтическим текстам. То же можно сказать и о герменевтической концепции: принимая идею диалога автора поэтического экфрасиса с культурой в целом, нельзя не задаться вопросом о том, почему именно на этого художника, на это произведение пал выбор поэта? И с кем автор экфрасиса ведет диалог: с картиной (то есть выступает в качестве интерпретатора), с собой (в связи и по поводу картины) или с потенциальным читателем? Другими словами, неясной остается коммуникативная сущность экфрасиса. На мой взгляд, данные вопросы побуждают изменить точку зрения на экфрасис и рассматривать данный жанр как особым образом, по модели метафоры, организованный, способ лирического самовыражения, в котором артефакт выступает в качестве tertium comparationis. Целью написания экфрасиса для поэта действительно является понимание, но не столько описываемого им произведения искусства, сколько самого себя. Диалог с культурой оказывается средством самопознания. Частично об этом писал Л. Геллер, по словам которого экфрасис есть обмен информацией поверх барьеров времени и культуры [3, с. 19]. Еще ближе к нашему пониманию слова М. Цимборской-Лебоды об «антропологической перспективе мимесиса» как «явления этической интеракции читателя с произведением» [8, c. 55], поэта с произведением искусства. В любом случае обращение поэта к данному артефакту инспирировано его собственными психологическими, нравственными, мировоззренческими проблемами, решение которых представляется настолько сложным, что предполагает посредничество культурного опыта. Экфрасис в таком понимании выступает как закодированный текст с многоуровневой структурой, предполагающий множественность прочтений. Главным в экфрасисе является не референт (будь то описываемый артефакт или инспирировавшая его дей- ствительность), а дискурс – то, что текст говорит читателю об авторе, о его взаимоотношениях с миром, историей и культурой, о характерном для него структурировании границ между действительностью и реальностью, а также о языке, на котором автор экфрасиса ведет свой диалог с читателем. Соответственно сам экфрасис оказывается наиболее сложным в плане организации эстетической коммуникации жанром, поскольку требует от читателя: а) расшифровки разнообразных кодов – биографических, живо- писных, мифологических, культурных, литературных, которые не просто использует, но накладывает друг на друга поэт в своем высказывании о неназываемом, превращая текст в полном смысле слова в герметичный; б) понимания автокоммуникативной сущности экфрасиса; в) анализа поэтики взгляда, которая в экфрасисе приобретает сюжетообразующее значение. В свою очередь цель читателя поэтического экфрасиса не сводится к тому, чтобы представить в воображении описываемый артефакт или познакомиться с его интерпретацией поэтом, – как идеальный итог чтения выступает экспликация его потаенного метафизического, экзистенциального и металитературного содержания. Данный подход я покажу на примере стихотворения И. Бродского «Фонтан» [2, c. 206-207]. Стихотворение «Фонтан», на наш взгляд, может рассматриваться именно как экфрасис. Возможно, инспирацией стихотворения стал знаменитый Львиный каскад в Нижнем парке Петергофа. Семантика запустения, определяющая визуальный облик описываемого скульптурного изображения и пространства вокруг него, соответствует реальному состоянию Нижнего парка в момент написания стихотворения: каскад был уничтожен во время Великой Отечественной войны и восстановлен только к 2000 г. На соотнесенность стихотворения с реальным объектом садово-паркового искусства указывают такие детали описания, как скамейка, ограда («барьер»), куст рядом с фонтаном, крапива, опутавшая вентиль крана, цветущие гиацинты, а также констатация тишины («Ни свистка, ни крика. / Никаких голосов»), состояния природы («Неподвижна листва») и времени суток («Спускается вечер»), которые позволяют рассматривать стихотворение как отражение эпизода, связанного с посещением Бродским Петергофа. Вместе с тем содержание перерастает рамки простого описания произведения искусства и реального события в жизни поэта. Сюжет стихотворения по мере развертывания выявляет пересечение любовной и творческой тем, которые в конечном итоге переводятся в план метафизических размышлений о любви, жизни и смерти. О возможности многоуровневого прочтения свидетельствуют как сложная партитура стихотворения, в котором трагическая модальность высказывания «подсвечивается» иронией, так и ключевые образы стихотворения, которые, будучи рассмотренными через призму мифологического кода, приобретают метафорический смысл. Имплицитный сюжет стихотворения проясняется биографическим контекстом. 1967 год, когда был написан «Фонтан», в жизни поэта отмечен двумя событиями: кратким примирением с М. Басмановой, завершившимся в начале 1968 г., несмотря на рождение сына, окончательным разрывом, и борьбой за издание первой в Советском Союзе книги стихов «Зимняя почта», которая должна была выйти в ленинградском отделении издательства «Советский писатель», – эта борьба тоже окончилась неудачей. Ощущение надвигающегося жизненного перелома и в то же время желание избежать его пронизывает стихотворение, проявляясь и в пророческой строке «Ты не будешь любим и забыт не будешь», и в афористической констатации психологического состояния лирического героя в строке «Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде». Переживание Бродским творческого кризиса, обусловленного невостребованностью, невозможностью реального контакта с широкой читательской аудиторией, отразилось в актуализации традиционного для поэзии «фонтанного» мифа [5, с. 48-66], семантическая многоплановость которого позволяет данному образу выступать и в качестве иконического знака рукотворной гармонии, и в качестве метафоры поэтического творчества, и в качестве символического обобщения устремленности человека к горнему миру и тщетности попыток преодолеть свою земную природу. Стихотворение Бродского вступает в полемические отношения с поэтической традицией: мотив запустения вокруг фонтана отвергает его традиционную семантику как принадлежности идиллического хронотопа, мотив пересохших уст и проржавевшей гортани ставит под сомнение возможность поэтического творчества, строки «Разгласит / твой побег / дождь и снег. / И, не склонный к простуде, / все равно ты вернешься в сей мир на ночлег» имплицитно содержат отсылку к тютчевскому «Фонтану» с его романтической концепцией человека, который устремляется к небу в усилии преодоления своей земной сущности, но возвращается к земле, исчерпав энергию порыва, – у Бродского эта концепция снижается, с одной стороны, упоминанием о «простуде» как возможном, хотя и не неизбежном, следствии контакта со стихией воды, с другой стороны, отрицанием самой возможности окончательного «побега» в запредельный мир. Вода в стихотворении Бродского выступает во всей семантической емкости этого архетипического образа, что обусловливает разнонаправленные цепочки читательских ассоциаций. В процессе развертывания поэтического высказывания вода в зависимости от ближайшего контекста выступает в разных значениях. Так, строки «Пересохли уста, / и гортань проржавела: металл не вечен. / Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен» соотносят фонтан с лирическим героем стихотворения (фонтан-лев выступает в качестве его двойника), соответственно, во-первых, вода здесь может выступать и как эквивалент жизненных сил человека, и как метафора поэтической речи; во-вторых, возникают два направления интерпретации сюжета стихотворения – как осмысления творческого и экзистенциального кризиса лирического героя. В обоих случаях можно говорить об актуализации в стихотворении архетипического сюжета смерти-воскресения. На возможность такой интерпретации указывают, прежде всего, семантически отмеченные элементы стихотворения – его начало, кульминация и конец. Безмолвие и неподвижность природы, акцентированные в начале стихотворения, вызывают ассоциацию с царством смерти, что коррелирует с образом заглохшего фонтана, которому «кто-то» наглухо перекрыл кран. Разнонаправленность читательских конкретизаций местоимения «кто-то» снимается указанием на «кран, хоронящийся в кущах»: слово «кущи» отсылает сразу и к кустарнику рядом с заброшенным фонтаном (в соответствии с народной этимологией слова), то есть актуализирует предметный, реальный план стихотворения, и к «райским кущам», что соотносится с сюжетом смерти-воскресения лирического героя, – в данном случае возможна ассоциация с изгнанием героя из рая, поскольку райские кущи выступают как место блаженства в райском саду под божественной сенью; и к традиции экзегетического толкования библейских текстов, которая связывает со словом «кущи» семантику страдания и искупительной жертвы Христа. Соответственно в качестве виновника переживаемой лирическим героем драматической ситуации («кого-то», кто завертел кран) может выступать и реальное лицо, и судьба, и высшая сила. Начальные строфы, таким образом, содержат указание на пережитый кризис, на утрату божественного покровительства, на начало инициации лирического героя как результат выхода за пределы «рая» неведения и на утрату поэтического голоса как необходимое условие страданияискупления лирического героя. В этом контексте начинающийся дождь («теплый дождь моросит»), с одной стороны, актуализирует семантику воды как знака ритуального омовения-очищения, с другой стороны, отсылает к воде как первовеществу, воскрешающему=оплодотворяющему землю. Кроме того, дождь несет и дополнительную семантику – он выступает как проводник богов, глашатай судьбы, посредник между небесным и земным миром, который оживляет погибших. Воскресение в имплицитном сюжете стихотворения может означать и возрождение к жизни в ином качестве, и новое обретение творческой энергии. Мифологический код восприятия стихотворения подтверждается и проясняется при актуализации скрытой семантики других образов. Так, фраза «Гиацинты цветут» вводит пласт значений, каждое из которых соотносится с одним из возможных прочтений стихотворения. Прежде всего, гиацинт (в буквальном переводе с греческого – цветок весенних дождей) может конкретизировать время действия – весна, вторая половина апреляначало мая. Значима в метафорическом сюжете стихотворения и отсылка к древнегреческому мифу о прекрасном юноше Гиацинте, который был другом и возлюбленным Аполлона: когда однажды Аполлон и Гиацинт соревновались в метании диска, влюбленный в Гиацинта ревнивый Зефир направил диск ему в голову; юноша умер, а на месте, куда упали капли его крови, выросли цветы-гиацинты. К мифу о Гиацинте восходят связанные с цветком мотивы молодости, красоты и одновременно горя, страдания, боли; вырастающий из крови цветок олицетворяет воскресение природы весной и в то же время символизирует весеннюю зелень, обожженную жаром летнего солнца. Многоплановая семантика образа формирует пучок разнонаправленных ассоциаций, которые метафорически связываются с обозначенными выше смыслами ключевых образов фонтана, воды, кущей. Любопытное дополнение к мифологическому подтексту стихотворения предлагает фраза «крапива опутала вентиль»: крапива на языке символов выступает как предвестие смерти, запустения и разрухи, что соответствует предложенной выше интерпретации первых строк стихотворения как изображения царства смерти. В то же время с крапивой связана семантика уколов любви, клеветы, предательства, жизни, полной страдания и отчаяния, что в свою очередь проясняет одну из причин «пересыхания уст» у лирического героя стихотворения, утраты им жизненной и творческой энергии и, наряду с мифологической семантикой гиацинтов, связывает метафорический сюжет стихотворения с его биографическим контекстом. Кульминацией сюжета предстает сцена «оживления»-пробуждения льва-фонтана и его «побега»-«похищения» с «сородичами»-тенями, возникшими из тьмы наступающей ночи. Лев, царь зверей, традиционно выступает как символ мощи, достоинства и благородства, что привносит нравственный смысл в характеристику лирического героя. В греческой мифологии лев – творение солнечного бога Аполлона, то есть опосредованно, через миф, связан с другими образами стихотворения. Оживлениепобег фонтана-льва, которое можно представить как результат игры воображения, стимулированного игрой ночных теней (на уровне экфрастического описания скульптурного сооружения), являет собой игровое воплощение авторского мифа, который визуализирует имплицитный архетипический сюжет смерти-воскресения. Соотнесенность обоих сюжетов устанавливает сам Бродский, завершая повествование о «побеге»-воскресении следующими строками: «Ты не будешь любим и забыт не будешь. / И тебя в поздний час из земли воскресит, / если чудищем был ты, компания чудищ» (курсив мой. – Т.А.). Местоимение «ты» носит объектный характер, адресатом обращения является лирический герой стихотворения. В то же время финальные строки стихотворения отвергают идею побега как спасения и условия воскресения: «все равно ты вернешься в сей мир на ночлег. / Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде. / Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди, / и голубки – в ковчег». Образ голубки в христианской традиции выступает как символ души, прошедшей очищение; возвращение голубки с оливковой ветвью на Ноев ковчег олицетворяет верность своему прошлому как пристанищу души. Таким образом, в своей совокупности ключевые и второстепенные образы формируют метафорический сюжет, прочтение которого через биографический контекст и мифологический код позволяет определить содержание экфрасиса как преодоление лирическим героем жизненного и творческого кризиса, как обретение мудрости через очищение страданием. Соответственно метафизическое содержание произведения может быть осмыслено как расширение границ Бытия, как выход за пределы видимого мира. Наконец, металитературное содержание «Фонтана» демонстрирует дистанцирование Бродского от барочной традиции использования античных и христианских мифов как зеркал, многократно отражающих драму лирического героя. Экфрастическое описание скульптурного изображения, таким образом, не является в стихотворении самоценным, а оказывается только способом – через подключение литературного интертекста, мифологического кода – для разрешения ряда актуальных для автора проблем. Важную роль в стихах Бродского играет поэтика взгляда. Именно движение взгляда определяет лирический сюжет данного стихотворения: от описания реального артефакта поэт переходит к изображению разыгрывающегося в его воображении сцены его оживления, чтобы затем направить свой взор в библейскую традицию и восстановить уже в читательском воображении сюжет с голубкой. Это сочетание внешнего, внутреннего и, если можно так сказать, культурного зрения отражает ключевой принцип поэтики Бродского, основанный на совмещении внутреннего и внешнего зрения («вещей слепоты» и «слепого зрения» [см.: 9, с. 8-9]), который можно интерпретировать как совмещение, с одной стороны, глубокой литературной проекции на основе поэтики интер- и контекстуальности и актуализации архетипической семантики («внутреннее зрение»), с другой стороны – поэтики экфрастичности («внешнее зрение»). Таким образом, Бродский предлагает читателю усложненную коммуникацию, смысл и цель которой заключается в использовании конкретного биографического факта (посещение знаменитого ленинградского пригорода), описания конкретного произведения искусства (фонтан Львиного каскада в Нижнем парке Петергофа) для решения собственных – жизненных, экзистенциальных и творческих проблем. Читатель, оказываясь свидетелем этой автокоммуникации, должен стать участником обращенного к нему диалога поэта о ценностях. Организация коммуникативного пространства экфрасиса в творчестве И. Бродского будет постоянно усложняться, эволюционируя от очевидной соотнесенности с биографическими реалиями и конкретными артефактами («Иллюстрация (Л. Кранах “Венера с яблоками»”)»; «Фонтан») к освобождению от «привязки» к ним и соответственно усилению металитературного («На выставке Карла Вейлинка») и доминированию метафизического («Посвящается Пиранези») содержания, когда отсылка к конкретным художникам и их произведениям выступает только как ориентир, обозначающий направление читательского креативного сотворчества в диалоге с поэтом. Список литературы 1. Автухович Т.Е. Экфрасис И. Бродского «Иллюстрация (Л. Кранах “Венера с яблоками»”)»: риторика чтения // Художественный текст: современные интерпретации: сб. науч. тр. / под ред. С.С. Ваулиной. Калининград: изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. 2. Бродский И. Фонтан // Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Т. II. СПб, 2001. 3. Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: сборник трудов Лозаннского симпозиума / под ред. Л. Геллера. М.: изд-во «МИК», 2002. 4. Мних Р. Сакральная символика в ситуации экфрасиса (стихотворение Анны Ахматовой «Царскосельская статуя») // Экфрасис в русской литературе: сборник трудов Лозаннского симпозиума / под ред. Л. Геллера. М.: изд-во «МИК», 2002. 5. Разумовская А.Г. Статуи и фонтаны в творчестве И.Бродского // Разумовская А.Г. И. Бродский: метафизика сада. Псков, 2005. 6. Рубинс М. Пластическая радость красоты: Акмеизм и Парнас. СПб.: Академический проект, 2003. 7. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 8. Цимборска-Лебода М. Экфрасис в творчестве Вячеслава Иванова (Сообщение – Память – Инобытие) // Экфрасис в русской литературе: сборник трудов Лозаннского симпозиума / под ред. Л. Геллера. М.: изд-во «МИК», 2002. 9. Ямпольский М. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК «Культура», 1993.