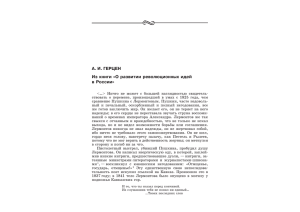А. Немзер "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН" И ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
advertisement
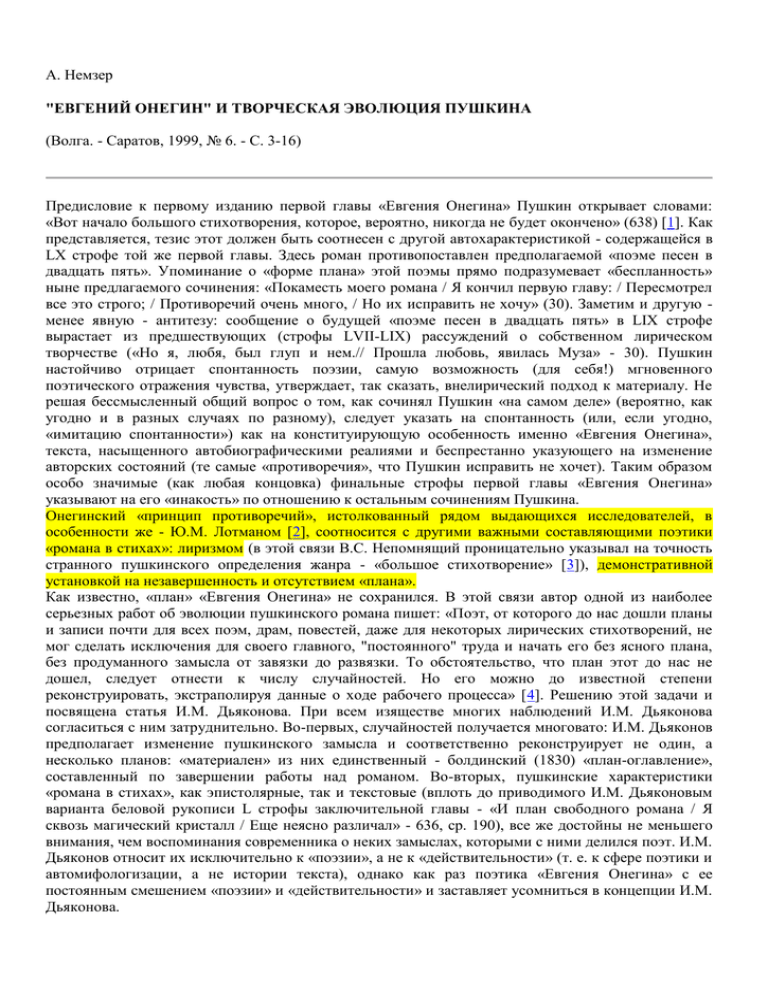
А. Немзер "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН" И ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПУШКИНА (Волга. - Саратов, 1999, № 6. - С. 3-16) Предисловие к первому изданию первой главы «Евгения Онегина» Пушкин открывает словами: «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, никогда не будет окончено» (638) [1]. Как представляется, тезис этот должен быть соотнесен с другой автохарактеристикой - содержащейся в LX строфе той же первой главы. Здесь роман противопоставлен предполагаемой «поэме песен в двадцать пять». Упоминание о «форме плана» этой поэмы прямо подразумевает «беспланность» ныне предлагаемого сочинения: «Покаместь моего романа / Я кончил первую главу: / Пересмотрел все это строго; / Противоречий очень много, / Но их исправить не хочу» (30). Заметим и другую менее явную - антитезу: сообщение о будущей «поэме песен в двадцать пять» в LIX строфе вырастает из предшествующих (строфы LVII-LIX) рассуждений о собственном лирическом творчестве («Но я, любя, был глуп и нем.// Прошла любовь, явилась Муза» - 30). Пушкин настойчиво отрицает спонтанность поэзии, самую возможность (для себя!) мгновенного поэтического отражения чувства, утверждает, так сказать, внелирический подход к материалу. Не решая бессмысленный общий вопрос о том, как сочинял Пушкин «на самом деле» (вероятно, как угодно и в разных случаях по разному), следует указать на спонтанность (или, если угодно, «имитацию спонтанности») как на конституирующую особенность именно «Евгения Онегина», текста, насыщенного автобиографическими реалиями и беспрестанно указующего на изменение авторских состояний (те самые «противоречия», что Пушкин исправить не хочет). Таким образом особо значимые (как любая концовка) финальные строфы первой главы «Евгения Онегина» указывают на его «инакость» по отношению к остальным сочинениям Пушкина. Онегинский «принцип противоречий», истолкованный рядом выдающихся исследователей, в особенности же - Ю.М. Лотманом [2], соотносится с другими важными составляющими поэтики «романа в стихах»: лиризмом (в этой связи В.С. Непомнящий проницательно указывал на точность странного пушкинского определения жанра - «большое стихотворение» [3]), демонстративной установкой на незавершенность и отсутствием «плана». Как известно, «план» «Евгения Онегина» не сохранился. В этой связи автор одной из наиболее серьезных работ об эволюции пушкинского романа пишет: «Поэт, от которого до нас дошли планы и записи почти для всех поэм, драм, повестей, даже для некоторых лирических стихотворений, не мог сделать исключения для своего главного, "постоянного" труда и начать его без ясного плана, без продуманного замысла от завязки до развязки. То обстоятельство, что план этот до нас не дошел, следует отнести к числу случайностей. Но его можно до известной степени реконструировать, экстраполируя данные о ходе рабочего процесса» [4]. Решению этой задачи и посвящена статья И.М. Дьяконова. При всем изяществе многих наблюдений И.М. Дьяконова согласиться с ним затруднительно. Во-первых, случайностей получается многовато: И.М. Дьяконов предполагает изменение пушкинского замысла и соответственно реконструирует не один, а несколько планов: «материален» из них единственный - болдинский (1830) «план-оглавление», составленный по завершении работы над романом. Во-вторых, пушкинские характеристики «романа в стихах», как эпистолярные, так и текстовые (вплоть до приводимого И.М. Дьяконовым варианта беловой рукописи L строфы заключительной главы - «И план свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще неясно различал» - 636, ср. 190), все же достойны не меньшего внимания, чем воспоминания современника о неких замыслах, которыми с ними делился поэт. И.М. Дьяконов относит их исключительно к «поэзии», а не к «действительности» (т. е. к сфере поэтики и автомифологизации, а не истории текста), однако как раз поэтика «Евгения Онегина» с ее постоянным смешением «поэзии» и «действительности» и заставляет усомниться в концепции И.М. Дьяконова. Ни одно пушкинское сочинение (исключая незаконченного «Езерского», о чем ниже) не строится по «онегинским» принципам; ни одно пушкинское сочинение не имеет столь длительной истории. Пушкин мог годами вынашивать некоторые замыслы (например, драматических сцен, обычно именуемых «Маленькими трагедиями») - но они именно что ждали своего часа. Пушкин мог долго (хотя все же несоизмеримо с «онегинским семилетием») заниматься неким сюжетом, при этом существенно перестраивая первоначальные планы, - но и в таком случае он не приобщал публику к творческому процессу. Из текста «Капитанской дочки» сложно почерпнуть информацию об эволюции пушкинских воззрений на екатерининскую государственность, роль дворянства и пугачевский бунт, хотя такая эволюция несомненно имела место. Противоречия (достаточно часто являющиеся не оплошностями, но «обломками» измененных замыслов) можно обнаружить у многих писателей - конструктивным принципом они становятся именно в «Евгении Онегине». И.М. Дьяконов прав, характеризуя пушкинский труд пушкинским же эпитетом «постоянный». Другой его эпитет - «главный» - вызывает сомнение. Несомненно для Пушкина с его унаследованным от классицизма чувством литературной иерархии, вовлеченностью во внутрилитературную борьбу и обостренным вниманием к собственной эволюции почти всегда была актуальной мысль о «главном» (на данный момент) сочинении. Над текстами такого рода Пушкин работал весьма целеустремленно и спешил представить их на суд публики (желательно - печатно, но эквивалентом издания могло быть и распространение в литературном кругу). В онегинскую хронологическую раму помещаются несколько таких произведений: «Цыганы» (задержка с полным изданием поэмы выкупалась ее известностью среди петербургских литераторов и публикацией репрезентативных отрывков в «Полярной звезде» и «Северных цветах»), «Борис Годунов» (на него Пушкин возлагал особые надежды еще в пору ссылки; невозможность публикации переживалась им весьма болезненно; ср. также многочисленные авторские чтения трагедии сперва в Москве, а затем и в Петербурге), «Полтава» (писалась сверхинтенсивно; очень короткий промежуток отделяет завершение поэмы - предисловие окончено 31 января 1829 - от книжного издания - конец марта) [5]. Каждое из названных сочинений - значимая и маркированная веха пушкинской эволюции. Работа над «Евгением Онегиным» ведется параллельно, словно бы формально отрицая саму возможность изменений пушкинской творческой системы, а по сути - демонстрируя их явственность. Если это и «главное» произведение, то, в первую очередь, не для аудитории, а для самого поэта. Каждый новый крупный текст Пушкина в определенной мере «снимает» предшествующие - «Евгений Онегин» мирно уживается со всеми. Роман не только писался, но и печатался «спустя рукава» [6]. Пушкин явно не спешил представить публике свое «лучшее произведение» [7]. В эпистолярии конца 1823 - начала 1824 годов постоянны цензурные опасения, разумеется, небезосновательные, но явно преувеличенные. Кажется, Пушкин склонен представить своим корреспондентам (с текстом незнакомым) «Евгения Онегина» ультрасатирическим, резким, а потому «непроходимым» сочинением (отсюда вызывающие законное недоумение исследователей слова «захлебываюсь желчью» в письме А.И. Тургеневу от 1 декабря 1823 [8]). Еще интереснее, что к моменту, когда Пушкин решается на публикацию первой главы (в начале ноября 1824 Л.С. Пушкин повез ее рукопись в столицу [9]), уже закончены главы вторая и третья. Если первая глава могла вызвать претензии достаточно «дикой» цензуры (не столько по сатирической, сколько по эротической линии), то две последующих были куда более безопасны. Однако Пушкин вовсе не торопится вынимать их из-под спуда, а быстрое и благожелательное решение одиозного цензора А.С. Бирукова (цензурное разрешение первой главы датируется 29 декабря [10]) его планов не меняет. Вторая и третья главы увидят свет соответственно в 1826 и 1827 годах, то есть в пору, когда будут завершены три следующих. Разумеется, свою роль играли меркантильные соображения, однако они работали на общую «медленную» стратегию Пушкина; ср. характерную попытку самооправдания в предисловии к первому изданию третьей главы: «Эта медленность произошла от посторонних обстоятельств. Отныне издание будет следовать в бесперерывном порядке: одна глава тотчас за другой» (639). «Бесперерывным», впрочем, порядок публикаций так и не стал. Вероятно, паузы между главами (как и указания на пропуски в тексте, сделанные «самим автором» специальная оговорка в предисловии к первой главе - 638) важны были Пушкину для создания «биографического» эффекта. Так, задержка с публикацией второй и третьей («деревенских») глав провоцировала их приурочение к периоду михайловской ссылки. При этом Пушкин не ставил перед собой специальной цели ввести читателей в заблуждение; вторая глава в печатном издании была сопровождена «документальной» пометой: «Писано в 1823 году», однако это указание оказывалось «слабее» содержания, невольно проецируемого на не всегда внятные данные о жизни сочинителя. Публикаторская стратегия в случае «Евгения Онегина» предполагала прерывистость, отражающую и усиливающую прерывистость собственно композиционную. В романе большинство глав завершается резкими и неожиданными смысловыми обрывами: первая - практически бессюжетная; третья - где вдруг взвинтившаяся интрига тормозится на кульминации демонстративным: «Докончу после как-нибудь» (73); пятая - где лишь намечается вторая кульминация: «Пистолетов пара, / Две пули - больше ничего - / Вдруг разрешат судьбу его»; шестая - где автор отказывается отвечать на внутренние вопросы «горожанки молодой» о судьбах персонажей: «Со временем отчет я вам / Подробно обо всем отдам, // Но не теперь. Хоть я сердечно / Люблю героя моего, / Хоть возвращусь к нему конечно, / Но мне теперь не до него» (135); седьмая - с ее пародийным вступлением (163). Напротив, переход от четвертой главы к пятой подчеркнуто гладок: два описания прихода зимы (89-91 и 97-99), приглашение на именины Татьяны в финале главы четвертой и их «предыстория» (сон героини) - в пятой. Именно там, где «связность» не нужна, Пушкин о ней заботится, как бы потаенно намекая на действительную «бесперерывность» в работе над этими главами, вновь информируя нас о том, как пишется роман. Метатекстовая природа «Евгения Онегина» многократно обсуждалась исследователями. В данном случае хотелось бы обратить внимание на то, что «метароманность» не в последнюю очередь обусловлена своеобразной «дневниковой» природой повествования. Именно дневник (едва ли не в большей мере, чем даже лирика) обеспечивает доминирование автора над описываемой реальностью, позволяет резко менять точку зрения на тот или иной феномен («принцип противоречий», сказывающийся прежде всего на отношении к заглавному герою), может надолго оставляться, предполагает сильные умолчания, частые ретроспекции и домашнюю семантику, наконец, мыслится текстом принципиально незавершенным: дневник может быть оборван либо смертью пишущего, либо его волевым решением. «Евгений Онегин» и был своеобразным пушкинским «дневником», что обусловило его качественное отличие от остальных сочинений поэта. При этом «дневниковая» природа текста не требовала последовательной манифестации. Предполагая (не исключено, что с колебаниями) обнародование «романа в стихах», Пушкин «маскирует» его под повествование «обычное», то есть имеющее сюжет и развязку. Скрытая («дневниковая») и открытая («сюжетная») установка образуют еще одно значимое противоречие. При этом немаловажно, что уже первая строфа романа намечает вполне определенную перспективу. Кода размышлений героя - «Когда же чорт возьмет тебя» (5) - предполагает ассоциацию с романом Ч.Р. Метьюрина «Мельмот-скиталец»: герой иронически самоуподобляется Мельмоту-племяннику, отправляющемуся к одру дяди; в дальнейшем герой Пушкина будет несколько раз именоваться «Мельмотом» (т. е. сопоставляться уже не с племянником-свидетелем, но демоническим персонажем Метьюрина [11]). «Мельмотовский» (заданный именем) код был весьма важен для последующего движения романа. С одной стороны, он позволял автору варьировать отношение к герою. Его демонизм то представал модной маской, «пародией» (здесь зачин романа корреспондирует, прежде всего, с седьмой главой и тем, что дошло до нас от первоначальной главы восьмой, «Странствие»), то обретал черты серьезные (сон Татьяны, тесно связанный с пушкинским интересом к народной трактовке разбойника-оборотня; в некоторых работах Ю.М. Лотман высказывал осторожные предположения о превращении Онегина в волжского разбойничьего атамана - в устных выступлениях ученого идея эта развертывалась более смело и отчетливо [12]). Нас, однако, в данном случае интересует другой поворот проблемы. Упомянув Мельмота, Пушкин указывает на возможность развязки и окончания того самого сочинения, что мыслится им (см. выше) не предполагающим завершения. Подобная композиционная двойственность, как представляется, восходит к вполне определенному образцу - Байронову «Дон-Жуану». Связь «Евгения Онегина» с поэмой Байрона констатируется Пушкиным уже в письме к Вяземскому от 4 ноября 1823 года: «Вроде "Дон-Жуана" - о печати и думать нечего» [13]. Поэма Байрона не окончена, а в написанной своей части знакома Пушкину не целиком. 24 марта 1825 (то есть полтора года спустя) Пушкин сообщал А.А. Бестужеву, что читал лишь первые пять песен «Дон-Жуана» [14], то есть первую и вторую (опубликованы в июле 1819), и третью, четвертую, пятую (опубликованы в августе 1821). Как известно, за этими двумя подачами последовал долгий перерыв - завершив в конце ноября 1820 пятую песнь, Байрон едва не бросил «Дон-Жуана»; работа над поэмой возобновилась в июне 1822, а через год с небольшим (июль 1823) были опубликованы шестая, седьмая и восьмая песни. Байроновская работа над «Дон-Жуаном» совсем не похожа на пушкинское писание «свободного романа» - она как раз отличалась редкостной интенсивностью (с июня 1822 по май 1823 Байрон написал 11 песен и начало следующей, семнадцатой, что осталась неоконченной; самая короткая из них - девятая - состоит из 85 октав, то есть 680 строк). Однако начинающий «Евгения Онегина» Пушкин не мог знать о таком развитии творческой истории «Дон-Жуана»: он видел свободное, изобилующее отступлениями, говорливое повествование, что доходит до читателя порциями, подчиняясь авторскому своеволию (значимость почти двухгодичного перерыва между пятой и следующими песнями). Ясно, что такое повествование читалось Пушкиным как «открытое» (особенно на фоне жестко структурированных восточных поэм). И все же «Дон-Жуан» мог - в любой момент - обрести вполне определенный сюжетный итог: Байрон не только взял в герои персонажа общеизвестной легенды, но и счел нужным напомнить о ней в первой же октаве первой песни: «Ведь он, наш старый друг, в расцвете сил / Со сцены прямо к черту угодил» [15]. Любопытно не только чертыхание (ср. у Пушкина), но и сочетание «открытости» с неотменяемым финалом (инфернальным, как и в случае Мельмота-Онегина). Байроновский герой вроде бы и не похож на своего прототипа из легенды, но в то же время неслучайно носит имя, рождающее четкие ассоциации. Пушкинский «мельмотовский» ход был тонко соотнесен с байроновским - специально оговоренным - выбором в герои Дон-Жуана. Здесь примечательны два обстоятельства. Во-первых, Пушкин, демонстративно начиная роман монологом героя, подчиняется Горациеву правилу (знаменитое In medias res), специально оспоренному Байроном в 6-7 строфах первой песни, однако дальше он - вполне по Байрону («Мой метод начинать всегда с начала» [16]) - обращается к предыстории (отец, воспитание, «досюжетное» бытие героя - то, что все это изложено гораздо лаконичнее, чем у Байрона, нас не должно смущать; установка на краткость и семантическую сгущенность для Пушкина неизменна в любом жанре). То есть и знаково дистанцируясь от Байрона, Пушкин, по сути, вышивает узор по его канве. Во-вторых, сквозь Онегина-Мельмота явно проглядывает Онегин-Жуан. Метьюриновские мотивы должны были прикрыть замысел, возникновение которого легко объяснимо, - Пушкин, одушевленный байроновской идеей, примеривался к сюжету о русском Дон-Жуане. В первой главе специально акцентируется «гениальность» Онегина в «науке страсти нежной» (8), которой посвящены 4 строфы (VIII, X, XI, XII); как известно, в черновых рукописях (221-226) эта тема разрабатывалась еще подробнее (ср. в окончательной редакции обозначение цифрами пропущенных строф IX, XIII, XIV). «Дон-жуановский» ореол оказывается важным и в дальнейшем. Сперва негативно - Онегин, нарушая ожидания как героини, так и читателей, реагирует на признание Татьяны «антилитературным» образом, ведет себя как корректный джентльмен. Затем прямо провокативное ухаживание за Ольгой на именинах Татьяны (разумеется, Онегин «поклялся Ленского взбесить / И уж порядком отомстить» - 111, однако избирает он для своей мести именно «дон-жуановскую» методу). «Дон-жуановский» след заставляет внести некоторые коррективы в устоявшиеся представления о движении пушкинского замысла. При первом печатном издании главы шестой (1828) за текстом следовал список опечаток, предваренный авторским примечанием: «В продолжении издания I части Евгения Онегина вкралось в нее несколько значительных ошибок...» (639), закрывалась же книга словами: «Конец первой части» (641). Таким образом Пушкин дважды указал на то, что шесть глав составляют целое - первую часть. Естественно, что как первые читатели, так и исследователи предполагали, что Пушкин намеревается (намеревался) написать еще шесть глав. Не оспаривая этого предположения, заметим, что никакими конкретными данными о материале гипотетических глав мы не располагаем - нам известно лишь то, что так или иначе вошло в окончательный состав романа. Привязанность материала так называемой «десятой главы» (исключая, вероятно, некоторые совершенно неподцензурные строки, статус которых неясен вовсе [17]) к первоначальной восьмой главе («Странствие») убедительно доказана И.М. Дьяконовым [18]. Гораздо менее достоверными кажутся весьма смутные (что само по себе характерно) предположения того же исследователя о «каких-то событиях, связанных (может быть, косвенно, имея в виду надежды на опубликование) с декабрьским движением», из которых должно было бы «вытекать» «роковое расставание Онегина с Татьяной» [19]. Гипотетичны и упоминавшиеся выше соображения Ю.М. Лотмана о «разбойничьем» эпизоде в судьбе Онегина. Даже если мы признаем догадку Ю.М. Лотмана основательной (что, на наш взгляд, хорошо бы согласовывалось с загадочным сном Татьяны), трудно предположить, что такой сюжет развился бы в несколько глав (лаконизм присущ Пушкину не в меньшей мере, чем страсть к симметрии). Гораздо более вероятным кажется иное решение. В двенадцатой главе «Дон-Жуана» (строфы 54-55) Байрон размышляет о плане своей поэмы: «Двенадцать песен написал я, но / Все это лишь прелюдия пока» и «Две дюжины я мысленно считал / В поэме глав, но Феб великодушно / Ее стоглавой сделать пожелал» [20]. Согласно Байрону, его первоначально ограниченный, ориентированный (пусть иронически) на классические образцы замысел (24 песни, то есть столько же, сколько в «Илиаде» и «Одиссее») сам собой преобразуется в «безразмерный» («сто» здесь, разумеется, не точная цифра, но символ). При этом все же вводится мотив «срединности», и, строго говоря, читатель ставится перед дилеммой: он может поверить, что поэма стала «стоглавой», то есть «открытой» (ср. предисловие к первой главе пушкинского романа), но может и зафиксировать внимание на «классической» модели, к которой Байрону легко вернуться. (Полагаем, что так Байрон и намеревался поступить.) Пушкин в шестой главе (половина от половины классической поэмы; впрочем, «Энеида», заменившая римлянам разом обе гомеровских эпопеи, состоит из 12 песен) вновь перелицовывает Байрона: его не предполагающий окончания роман вдруг вводится в рамки. Кстати, лишь наше - не всегда в достаточной мере отрефлектированное - знание о пушкинском лаконизме заставляет предполагать замысел именно «двенадцатиглавого» романа. (А почему за «первой частью» должна последовать только «вторая»? Что в принципе мешает явиться «третьей» и «четвертой»? Только наша обоснованная уверенность в том, что «так длинно» Пушкин писать не мог.) В результате читатели шестой онегинской главы оказываются в том же положении, что и читатели двенадцатой песни «Дон-Жуана»: по-прежнему возможен «открытый» вариант, но вероятен и вариант классический (12 глав). Обратим внимание на еще одно сходство «квазисрединных» глав байроновского и пушкинского повествований. Пушкин заканчивает шестую главу развернутым (строфы XLIII-XLVI) прощанием с юностью. Возрастное изменение («Так, полдень мой настал» - 136) мотивирует необходимость на время оставить героя («Но мне теперь не до него» - 136). После тридцатилетия [21] должно пуститься в «новый путь» (136), что подразумевает и новое отношение к любимому роману (или как это и произошло - его окончание). Двенадцатая песнь «Дон-Жуана» открывается размышлением о «среднем возрасте». Байрон работал над ней в октябре-декабре 1822 года, т. е. накануне своего тридцатипятилетия - традиционно именно эта дата полагается серединой жизненного пути. (Пушкин и здесь соответствовал своей любимой формуле из «Первого снега»: «И жить торопится, и чувствовать спешит».) Меру внутренней серьезности Байроновых шутливых строк подтверждает его дальнейшая судьба. Тридцатипятилетний поэт должен жить иначе, чем прежде: Байрон отправляется в Грецию, итог года подводится стихотворением «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет» с его пафосом «новой« жизни (или смерти, что в данном случае одинаково). Упоминавшееся выше рассуждение о параметрах собственной поэмы у Байрона отделено от возрастных ламентаций полусотней октав, существенно, однако, что темы «срединности» жизни и текста возникают в пределах одной песни. То, что Пушкин отнес обе эти темы в конец шестой главы (т. е. сделал байроновский философский зачин - кодой), вновь демонстрирует нам его принцип «сдвинутого» цитирования (все не так, но так). В любом случае прощание с юностью предполагало новую жизненную стратегию, что не могло не сказаться на предстоящих главах «Евгения Онегина». Как представляется, перенос «конфликта романа из микрокосма частной жизни <...> в макрокосм большой истории», о котором вслед за С.М. Бонди пишет И.М. Дьяконов [22], не мог сполна разрешить эту проблему, хотя в 1826 году, когда в основном писалась шестая глава, и был для Пушкина весьма важным. К осени 1829 года, после «рокового термина» (работа над «Странствием» и заключительной главой) ситуация стала еще сложнее. Дабы понять, от чего Пушкин уходил, следует хотя бы бегло коснуться крайне противоречивой системы его приоритетов второй половины 1820-х годов (после возвращения из ссылки). Общеизвестно, что выработанный в Михайловском историзм (создание «Бориса Годунова» и связанное с ним пристальное чтение летописей, Шекспира и Карамзина) обусловил пушкинское «примирение с действительностью», сделал возможным для него диалог с властью в лице императора Николая I. Отсюда раннее, оптимистичное пушкинское «государственничество», идеализация Петра Великого (в неоконченном романе о «царском арапе» существенно стремление изобразить царя человеком, а не грозным божеством, как будет позднее, в «Полтаве»), параллель Петр - Николай I в «Стансах». Широкий («шекспировский») взгляд на новейшую историю предполагает «человеческое измерение», а потому надежды на милосердие нового государя (в частности, амнистию членов тайных обществ) для Пушкина вопрос стратегии, а не тактики. Прошлое должно уйти (отсюда особая неприязнь к императору Александру, чье царствование подвело страну к едва не разразившейся гражданской войне), благой порыв (а не негодные средства!) декабристов - получить со временем справедливую оценку, а те, в свою очередь, по достоинству оценить нового государя, который в начале своего царствования просто не мог действовать иначе. Стихи, отправленные в «каторжные норы», не противоречат «Стансам», но их продолжают и даже ими подразумеваются [23]. Эта широкая историко-политическая программа не была принята (и даже, кажется, понята) ее потенциальными адресатами: властью (диалог с императором складывался неровно, Пушкин оставался «в подозрении», амнистия декабристов не входила в планы императора, кажется, всю жизнь сильно преувеличивавшего масштабы заговора), декабристами (ответ А.И. Одоевского на пушкинское послание переводил дело в иную плоскость не амнистия, а неведомо какая революция), ближайшим пушкинским окружением (название «самооправдательного», точнее - еще раз разъясняющего идею «Стансов», стихотворения «Друзьям» - подразумевает отнюдь не какую-то «прогрессивную среду» вообще; легче всего представить адресатом этого текста Вяземского). Противовесом идейному одиночеству должны были служить какие-то безусловные ценности. Кроме уже упомянутого историзма (неизбежно государственнического) следует указать на устойчивое пушкинское представление о самоценности поэзии [24]. Отсюда две линии в дальнейшем творчестве Пушкина. С одной стороны, мощь исторического процесса (и людей, гениально угадавших его вектор) может теперь осмысливаться без гуманистических обертонов. В «Полтаве» не идет речи о человеческих параметрах личности Петра (или о его частных политических ошибках, хотя одна из них обусловливает гибель Кочубея и Искры). Петр - «весь, как божия гроза», а божество неподсудно, оправдано грядущим - «Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, / Огромный памятник себе». (Дабы воплотить такую концепцию истории, Пушкину понадобилось обратиться к одической - ломоносовской - традиции.) Никакой «своей правды» у своевольных противников Петра (то есть воплощаемой им истории) нет и быть не может - демонический Мазепа изображен безусловным злодеем. Здесь, вероятно, Пушкину был важен инцестуальный мотив - ср.: «Он должен быть отцом и другом / Невинной крестницы своей»; любовь к Марии не оттеняет политические преступления гетмана, но им полностью соответствует. Слова «Что он не ведает святыни» так же точны (внутри пушкинской поэмы), как и последующие о презрении к свободе и равнодушии к отчизне [25]. В «Полтаве» предложено не оправданиеосмысление истории (и государства и государя как ее орудий), но их безусловная апология [26]. Апологетическому переживанию истории лишь по видимости противостоит так называемый «эстетизм», явленный в «Поэте» (1827), «Поэте и толпе» (1828) и сонете «Поэту» (1830). Ни в одном из этих стихотворений Пушкин ничего не говорит о «содержании» тех творений, что недоступны черни. Он отказывается не столько от исторических или политических тем (за «звуками сладкими» может в принципе таиться что угодно), сколько от историко-политической позиции, от целеполагания, от еще недавно столь необходимого диалога с обществом и властью. Поэзия неподсудна, как и история. Что - вопреки сложившемуся мнению - вовсе не служит поэту как личности индульгенцией. Напротив, слова «И меж детей ничтожных мира / Быть может, всех ничтожней он» [27] абсолютно серьезны, и подтверждением тому - большая часть пушкинской лирики второй половины 1820-х годов. Здесь доминируют мотивы вины, одиночества, оставленности, обреченности на бесконечное (и бессмысленное) странствие. Особенно сильно мрачные краски сгущаются в 1828 году («Воспоминание», «Дар напрасный, дар случайный...» - подарок к собственному дню рождения, предшествующему «роковому» тридцатилетию, «Не пой, красавица, при мне...», «Предчувствие«, «Утопленник», «Ворон к ворону летит...», «Анчар»). Кавказское путешествие 1829 года несколько сместило акценты, но и в этом году остается значимой тема недостижимого счастья, неразделенной, хоть и просветленной любви («На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...»), конструируемая семейная идиллия «Зимнего утра» сопряжена с пронизанными мотивом одиночества «Дорожными жалобами» и «Зима. Что делать нам в деревне?», а с «Монастырем на Казбеке» соседствует фиксирующее торжество «равнодушной природы» и человеческую обреченность «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Ни оправданность истории, ни величие истинной поэзии не могут утолить человеческой тоски. В этом контексте должны быть увидены последние главы «Евгения Онегина». Но прежде напомним основные вехи «эволюции» заглавного героя. Как известно, пушкинские колебания в отношении к Онегину проявились уже в первой главе, в начале которой «молодой повеса» (5) с его «остывшими чувствами» (21) осмысливается иронически, а начиная с XLV строфы - как странный, но близкий автору человек. Вопрос о сути Онегина и в дальнейшем остается открытым. Во второй главе герой практически не характеризуется, в третьей он становится предметом «мифотворчества» Татьяны («Кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель...» - 67, «Грандисон» или «Ловлас»?), что должно быть опровергнуто последующими событиями («Но наш герой, кто б ни был он, / Уж верно был не Грандисон» - 55). Автор не оспаривает версии «Онегин-Ловлас», скорее даже намекает - с известными поправками на эпоху - на такую возможность («Ты в руки модного тирана, / Уж отдала судьбу свою» - 57), но и она снимается сюжетом, когда в главе четвертой «очень мило поступил / С печальной Таней наш приятель» (80), в той же XVIII строфе говорится о «прямом благородстве» души Онегина и злоречии его врагов-друзей. Ситуация меняется в пятой главе (сперва пророческий сон Татьяны, открывающий в Онегине демона-оборотня, но, заметим, никак не чьего-либо подражателя, затем - провокативные игры на именинах, бытовая изнанка демонизма). В шестой и седьмой главах Онегин судится строже всего. Романтически презирающий всякую толпу герой убивает Ленского не по своей - преступной - воле, а потому что «в это дело / Вмешался старый дуэлист» (122), подчиняясь «общественному мненью» (в смысле Грибоедова, чей стих Пушкин цитирует, обозначив в 38 примечании источник) [28]. В седьмой главе Татьяна, ознакомившись с библиотекой Онегина, ставит вопрос «Уж не пародия ли он?» (149), контекст же заставляет признать вопрос риторическим, подразумевающим утвердительный ответ. Позиции героини и автора в XXIV-XXV строфах максимально сближаются («Ужель загадку разрешила? / Ужели слово найдено?» - 149). Именно «разгадав» Онегина, Татьяна решается на самоотвержение, исполнение воли матери. Ясно, что именно в шестой и седьмой главах Онегин наиболее дискредитирован. Ясно, что такой взгляд на «своевольного героя» (мнящего себя независимым, но подчиняющегося косным нормам) обусловлен пушкинским антиромантизмом 1826-28 годов, тем признанием «силы вещей», что предполагало отрицание индивидуализма. Отсюда демонстративный перенос внимания на Татьяну - вплоть до последней LV - строфы, где возвращение к герою квалифицируется как боковой ход («И в сторону свой путь направим, / Чтоб не забыть, о ком пою» с последующим пародийным «вступлением» - «Пою приятеля младого...» - 163). Видимо, по той же «антионегинской» линии Пушкин предполагал двигаться и в первом варианте восьмой главы («Странствие»). Показательны саркастические ноты в черновых вариантах строфы <5> с неожиданным онегинским патриотизмом «В Hotel des Londres что в Морской» (475-476, 495). Однако вступительные строфы (позднее в переработанном виде вошедшие в заключительную главу) рисуют более сложную картину. Пушкин не случайно перепробовал здесь много вариантов (473-475, 493, 494-495, 169). Если слова «Блажен, кто признал голос строгой / Необходимости земной, / Кто в жизни шел большой дорогой, / Большой дорогой столбовой» (473) исполнены лирической серьезности, то заключение того же первого чернового варианта строфы <1> («И небу дух свой передал / Как сенатор иль Генерал» - 474) уже кажутся «чужой речью». (Эта двойственность перейдет в окончательный текст, где за кодой X строфы восьмой главы - «О ком твердили целый век: / N. N. прекрасный человек» - следует энергичное опровержение строфы XI «Но грустно думать, что напрасно / Была нам молодость дана...» - 169-170.) Правильная (как у людей) оказывается чреватой пошлостью, норма - обрядом, подчинение традиции - подчинением толпе. В этих строфах, писавшихся в октябре 1829 года, обнаружился тот внутренний конфликт творчества Пушкина второй половины 1820-х годов, что был рассмотрен выше. Приговор Онегину грозил обернуться приговором самому себе, своему «лирическому голосу». При этом тема странствия не давала возможности оправдать героя: либо привычная онегинская «тоска» на фоне мощных исторических воспоминаний, российских просторов и серьезной политики («декабристская» линия новейшей истории), либо «разбойничий демонизм», угадываемый Ю.М. Лотманом. Глава осталась не только неотделанной, но и явно недописанной (даже «болдинской осенью» она достигла лишь 34 строф), «противоречия» ее не обрели конструктивного смысла. 24 декабря 1829 Пушкин начал работать над главой девятой, явно мысля ее финальной. Глава начиналась с воспоминаний лицейской юности, с темы рождения поэта - такой зачин не мог быть прихотью, он предполагал (как и вышло) окончательное прощание с прежней жизнью, неотъемлемой частью которой был «свободный роман». Иначе говоря, к этому моменту Пушкин почувствовал потребность «свернуть» свое «большое стихотворение» [29]. «Болдинская осень» 1830 года была посвящена подведению итогов. Предстоящая женитьба означала конец скитаний, а напряженный политический контекст (революция во Франции, чреватая общеевропейскими переменами и, возможно, новым столкновением Европы и России) сулил возможность более продуктивного диалога с императором (добрым знаком стало августейшее разрешение публикации «Бориса Годунова»). Предстояла новая жизнь - манящая и пугающая, суровая, но допускающая возможность счастья и творчества (об этом написана болдинская «Элегия»). Резкое завершение «Евгения Онегина» было актом знаковым. И здесь для Пушкина вновь оказывается важным опыт «Дон-Жуана». Выше мы говорили о том, как Пушкин приравнивал собственное тридцатилетие к тридцатипятилетию Байрона, чья поэма осталась незаконченной из-за смерти автора. Альтернативой смерти становилась «новая жизнь» (то, что поэт нашего века назовет «вторым рожденьем»; вероятно, с этим связан мотив ранней смерти в последней онегинской строфе) - мнимая незавершенность пушкинского романа становилась эквивалентом реальной незавершенности байроновской поэмы. Но этим дело не ограничилось. Последней онегинской главе предпослан эпиграф из Байрона, а описание петербургского «большого света» ориентировано на «английские» (последние) песни «Дон-Жуана» [30]. В английских главах Байрон примеривается к традиционной для дон-жуановской легенды развязке. Жуан пугается призрака, леди Амондевил поет романс о монахе, объясняющий появление привидения. Правда, в последней - 123 - строфе шестнадцатой песни призрак оказывается графиней Фиц-Фальк, соблазняющей соблазнителя, а начальные (последние из написанных) строфы песни семнадцатой повествуют об утренней встрече тайных любовников, но перспектива перехода от фривольной игры к возмездию (явление настоящего монаха-призрака) кажется вполне вероятной. Пушкин, позаботившись об эффекте «неоконченности», в то же время как бы дописывает «донжуановский» сюжет. Онегин впервые влюблен по-настоящему, он выслушивает отповедь любимой, «Но шпор незапный звон раздался, / И муж Татьяны показался, / И здесь героя моего / В минуту, злую для него, / Читатель, мы теперь оставим, / Надолго... навсегда» (189). В бытовых петербургских декорациях разыгрывается та же мизансцена, что будет воспроизведена в декорациях, так сказать, «легендарно-испанских», месяц с небольшим спустя. Девятая, ставшая восьмой, глава «Евгения Онегина» завершена 25 сентября, а «Каменный гость» - 4 ноября 1830. На близость Онегина заключительной главы и Дон Гуана проницательно указывала Ахматова, связывая ее с «лирическими» и даже «автобиографическими» мотивами в обрисовке этих персонажей [31]. Так из-под «мельмотовской» маски Онегина в последний момент выглянула маска байроновского героя. Прощание предполагало оглядку на начало «большого стихотворения» [32]. И это же прощание заставило Пушкина максимально сблизиться со своим героем и пересмотреть приговор, вынесенный в седьмой главе. Теперь укоризны Онегину - удел «самолюбивой ничтожности», решительно оспариваемой автором (169). Открытие в бесприютном Онегине того «я», от которого Пушкин стремился уйти, обусловило последний (после болдинского завершения) этап работы над романом летом 1831 года. Результатом ее стало появление «Письма Онегина к Татьяне», явно свидетельствующего о настоящем чувстве героя, что прежде почитался неспособным на страсть, и исключение главы «Странствие». Пушкин предпочел разрушить явно нравившийся ему симметричный «девятиглавый» план и пойти на композиционный разрыв (специально оговоренный в первом издании восьмой главы), дабы не продолжать линию принижения Онегина [33]. Вместе с «Евгением Онегиным» окончилась пушкинская молодость. На новом этапе поэт постоянно обращался к тем серьезным историческим, политическим и экзистенциальным проблемам, что были поставлены во второй половине 1820-х годов. Но писать «свободный роман» он больше не хотел и не мог. Это касается не только собственно продолжения Онегина [34], но и «Езерского». Обратившись к любимой строфе и свободной разговорной интонации, но отказавшись от «странного» героя (Езерский подчеркнуто дистанцирован от романтических персонажей, в родстве с которыми был Онегин: «Не второклассный Дон Жуан, / Не демон - даже не цыган, / А просто гражданин столичный, / Каких встречаем всюду тьму» [35]), поэт вскоре понял, что новый «роман в стихах» не выстраивается. Вместо «Езерского» появился «Медный всадник», простой герой которого получил благородное имя, что «Звучит приятно; с ним давно / Мое перо к тому же дружно». Пушкинские прощания никогда не бывали окончательными. Примечания 1. «Евгений Онегин» цитируется по изд.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 тт. [Л.], 1937. Т. 6. Страницы указываются в скобках; межстрочные интервалы обозначаются знаком /, межстрофные - //. 2. Лотман Ю.М. К эволюции построения характера в романе «Евгений Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3; Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста // Лотман Ю.М. Пушкин. Статьи и заметки. 1960-1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 395-411. Далее это издание именуется сокращенно: Лотман. Пушкин. 3. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983. С. 251-252. 4. Дьяконов И.М. Об истории замысла «Евгения Онегина» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 78. 5. Кроме того, из крупных сочинений в онегинское семилетие был написан «Граф Нулин», шла работа над явно претендующим на «главенство» - после неудачи с изданием «Бориса Годунова» и до «Полтавы» - но оставленным романом о «царском арапе», формировались замыслы современного прозаического повествования большой формы («Роман в письмах», «Гости съезжались на дачу...»). Осознав болдинской осенью 1830 года роман завершенным, Пушкин сразу же реализует замыслы «Повестей Белкина», «Домика в Коломне» и «маленьких трагедий». 6. Выражение из письма к П.А. Вяземскому от 4 ноября 1823: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 тт. Л., 1979. Т. Х. С. 57. 7. Там же. С. 66 (письмо Л.С. Пушкину от января - начала февраля 1824). 8. Там же. С. 62. 9. . Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. Л., 1991. Сост. М.А. Цявловский. Изд. второе, испр. и доп. С. 471. 10. Там же. С. 486. Бируков, видимо, действовал по прямому указанию министра народного просвещения А.С. Шишкова - накануне Жуковский читает главу А.С. Шишкову. Там же. С. 485. 11. См.: Eugene Onegin: A Novel in Verse by Aleksandr Pushkin. Translated from the Russian with a Commentary by Vladimir Nabokov. N.-Y., 1964. Vol. 2. P. 35; Лотман Ю.М. Три заметки о Пушкине. 1. «Когда же чорт возьмет тебя» // Лотман. Пушкин. С. 342; ср.: там же. С. 547. 12. См., например, статьи «Пушкин и "Повесть о капитане Копейкине" (К истории замысла и композиции "Мертвых душ")» // Лотман. Пушкин. С. 266-280; «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия» // Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория литературы. СПб., 1997. С. 712-729 и воспоминания В.С. Баевского // Russian Studies. 1994. V. I. № 1. С. 17. 13. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. Х. С. 57. Пушкин педалирует «неподцензурность» своего нового произведения (см. выше), стараясь заранее настроить своих корреспондентов (будущих читателей) на «байроновскую» волну. Существенно, что указание на сходство с «Дон-Жуаном» делается уже по завершении первой главы (22 октября 1823 года). Таким образом, внутритекстовое отмежевание от Байрона (LVI строфа) никоим образом не отменяет ориентации на «Дон-Жуана». Утверждающаяся в этой строфе «разность между Онегиным и мной» (28), героем и автором противопоставлена поэтическим принципам «восточных поэм». Байроновский Дон-Жуан (в отличие от Гяура, Конрада, Лары) тоже отнюдь не двойник автора. 14. Там же. С. 103 15. Байрон Дж. Г. Соч.: В 3 тт. М., 1974. Т. 3. С. 12. Перевод Т. Гнедич. 16. Там же. С. 13. 17. Ср. Лотман Ю.М. О композиционной функции «десятой главы» «Евгения Онегина» // Лотман. Пушкин. С. 468-471. 18. Дьяконов И.М. О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина» // Русская литература. 1963. № 3. С. 37-61; Дьяконов И.М. Об истории замысла «Евгения Онегина». С. 92 и сл. 19. Там же. С. 98. 20. Байрон Дж. Г. Указ. соч. С. 397-398. 21. В разговоре с Кс.А. Полевым как раз в связи XLIV строфой шестой главы Пушкин назвал эту дату «роковым термином». См.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х тт. М., 1974. Т. 2. С. 62. 22. Дьяконов И.М. Указ. соч. С. 92-93. 23. Эта, долго по советским цензурным условиям не проговариваемая публично, но в общем-то простая мысль была впервые четко заявлена в наделавшей в свою пору много шума статье: Непомнящий В.С. Судьба одного стихотворения // Вопросы литературы. 1984. № 6. 24. Любопытно, что мысль о самодостаточности истории (ее ценности вне зависимости от сегодняшнего политического контекста, а стало быть необходимости внеаллюзионного отношения к прошлому) и самодостаточности (боговдохновенности) поэзии возникают у Пушкина одновременно - в «Песни о вещем Олеге» (1822), явно полемической по отношению к рылеевским «Думам» и вызвавшей законное неудовольствие Рылеева и Александра Бестужева. Эпистолярный спор Пушкина с издателями «Полярной звезды» (1825) постоянно выходит на проблемы самодостаточной истории и самодостаточной поэзии (ср., в частности, декабристское недовольство «свободным романом» и его героем). Подробный анализ этой эпистолярной дискуссии предпринят Н.Я. Эйдельманом. См.: Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. М., 1979. С. 286-305. Здесь, вероятно, следует отметить, что пушкинская защита Жуковского, подвергавшегося в 1824-25 годах систематическим порицаниям со стороны едва ли не всех «младших» литераторов, обусловлена не только личной приязнью и уважением к заслугам старшего собрата. В Жуковском Пушкин справедливо видел образец свободного творца, создателя не зависящей от локальных обстоятельств самодостаточной поэзии. Не случайно «Песнь о вещем Олеге» развивает мотивы «Графа Гапсбургского» Шиллера-Жуковского (сакральность поэзии, равенство певца и властителя), что подчеркнуто их метрико-строфическим родством. В этой связи см.: Немзер А.С. «Сии чудесные виденья...» Время и баллады Жуковского // Зорин А.Л., Немзер А.С., Зубков Н.Н. «Свой подвиг свершив...» М., 1987. С. 223-226. 25. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 тт. Л., 1977. Т. IV. С. 213, 220, 182, 187. Ср. также пушкинские замечания о Мазепе в «Опровержениях на критики» с прямым указанием на значимость «интимного» сюжета для концепции поэмы: «Прочитав в первый раз в "Войнаровском" сии стихи: Жену И страдальца обольщенную их Кочубея дочь, я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства». Цит. по: Пушкин А.С. Указ. соч. Т. VII. С. 134. 26. В 1830-х годах эта концепция становится для Пушкина абсолютно неприемлемой. 27. Там же. Т. III. С. 23. 28. Ю.М. Лотман убедительно показал, как Онегин, постоянно нарушая поведенческие нормы, стремился сорвать дуэль; см.: Лотман. Пушкин. С. 533-534, 679. Это не снимает вины с героя. 29. А это значило, что проблематичный «двенадцатиглавый» план отвергнут окончательно. Предположение о том, что Пушкин сперва ставит смысловую точку, а затем сочиняет еще три «временно пропущенных» главы, радикально противоречит «дневниковой», свободной, спонтанной природе «Евгения Онегина». 30. Ср. наблюдение Ахматовой: «Байроновский прием: "There was..." и "There were..." - "Тут был...", "Тут были..."». Цит. по: Ахматова Анна. О Пушкине. М., 1989. С. 179. 31. Там же. С. 191-193. Для Ахматовой байроновский подтекст этих сочинений не значим. 32. Наряду с оглядкой на Байрона, его поэму, героя, жизнь и уход (характерно, что, завершив своего «ДонЖуана», Пушкин в Болдино же сочиняет своего «Беппо» - «Домик в Коломне», пародирующий «Евгения Онегина» и ему сопутствующий), в заключительной главе чрезвычайно важна оглядка на другого пушкинского поэтического учителя - Жуковского. Если байроновские реминисценции относятся преимущественно к сфере проблемного героя, то отголоски поэзии Жуковского сопутствуют неизменной героине. «Спутник странный» и «милый идеал» суть полюса, заданные, вероятно, самыми важными для Пушкина поэтами-современниками. Отметим также, что финальная строфа «Евгения Онегина» отсылает не столько к эпиграфу «Бахчисарайского фонтана» и связанной с его рецепцией декабристской проблематикой, сколько к стихам Жуковского - переводу посвящения к «Фаусту», превращенному русским поэтом в посвящение к долго писавшимся «старинной повести» «Двенадцать спящих дев». У Пушкина, как и у Жуковского, речь идет не просто о неумолимом ходе времени-истории, но о распаде круга читателей-слушателей. Ср.: «К ним не дойдут последней песни звуки; / Рассеян круг, где первую я пел; / Не встретят их простертые к ним руки; / Прекрасный сон их жизни улетел. / Других умчал могущий Дух разлуки; / Счастливый край, их знавший, опустел; / Разбросаны по всем дорогам мира - / Не им поет задумчивая лира» (цит. по: Жуковский В. А. Соч.: В 3-х тт. М., 1980. Т. 2. С. 74) и «Но те, которым в дружной встрече / Я строфы первые читал... / Иных уж нет, а те далече, / Как Сади некогда сказал...» (190). Проблеме «Поэзия Жуковского в "Евгении Онегине"» рассматривается нами в специальной статье. 33. Разумеется, немаловажен был здесь и политический аспект. Однако скорее всего он сводился к автоцензуре, понятной в лето польского восстания и холерных бунтов, когда Пушкин занял жестко государственническую позицию. Поэт безусловно мог освободить «Странствие» от взрывоопасных эпизодов (судьба «декабристских» строф, уже отошедших в имеющую особый - и неясный - статус «Х песнь»), а противопоставление скучающего Онегина великой стране со славным прошлым никак не входило в противоречие с государственным курсом. Пушкин, однако, предпочел иное - неожиданное - решение. Композиционный смысл «Отрывков из Путешествия Онегина», опубликованных в первом полном издании романа, достаточно подробно истолкован в известных работах Ю.Н. Чумакова и Ю.М. Лотмана. 34. См.: Левкович Л.Я. Наброски послания о продолжении «Евгения Онегина» // Стихотворения Пушкина 18201830-х годов. Л., 1974. 35. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 тт. Т. IV. С. 250-251. http://www.philology.ru/literature2/nemzer-99.htm Ю.М. Лотман ПРОБЛЕМА ВОСТОКА И ЗАПАДА В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЗДНЕГО ЛЕРМОНТОВА (Лермонтовский сборник. - Л., 1985. - С. 5-22) Тема Востока, образы восточной культуры сопровождали Лермонтова на всем протяженииего творчества, в этом сказалось переплетение многих стимулов - от общей "ориентальной" ориентации европейского романтизма до обстоятельств личной биографии поэта и места "восточного вопроса" в политической жизни России 1830 - 1840-х гг. Однако в последние годы (даже, вернее, в последние месяцы) жизни поэта интерес этот приобрел очертания, которые теперь принято называть типологическими: Лермонтова начал интересовать тип культуры Запада и тип культуры Востока и, в связи с этим, характер человека той и другой культуры. Вопрос этот имел совсем не отвлеченный и отнюдь не только эстетический смысл. Вся послепетровская культура, от переименования России в "Российские Европии" [1] в "Гистории о российском матросе Василии Кориотском" до категорического утверждения в "Наказе" Екатерины II: "Россия есть страна европейская", была проникнута отождествлением понятий "просвещение" и "европеизм". Европейская культура мыслилась как эталон культуры вообще, а отклонение от этого эталона воспринималось как отклонение от Разума. А поскольку "правильным, согласно известному положению Декарта, может быть лишь одно" [2] всякое неевропейское своеобразие в быту и культуре воспринималось как плод предрассудков. Романтизм с его учением о нации как личности и представлением об оригинальности отдельного человека или национального сознания как высшей ценности подготовил почву для типологии национальных культур. Для Лермонтова середина 1830-х гг. сделалась в этом отношении временем перелома: основные компоненты его художественного мира - трагически осмысленная демоническая личность, идиллический "ангельский" персонаж и сатирически изображаемые "другие люди", "толпа", "свет" - до этого времени трактовались как чисто психологические и вечные по своей природе. Вторая половина 1830-х гг. отмечена попытками разнообразных типологических осмыслений этих, по-прежнему основных для Лермонтова, образов. Попытки эти идут параллельно, и синтетическое их слияние достаточно определенно наметилось лишь в самых последних произведениях поэта. Наиболее рано выявилась хронологическая типология - распределение основных персонажей на шкале: прошедшее - настоящее - будущее (субъективно оно воспринималось как "историческое", хотя на самом деле было очень далеко от подлинно исторического типа сознания). Центральный персонаж лермонтовского художественного мира переносился в прошлое (причем черты трагического эгоизма в его облике сглаживались, а эпический героизм подчеркивался), образы сатирически изображаемой ничтожной толпы закреплялись за современностью, а "ангельский" образ окрашивался в утопические тона и относился к исходной и конечной точкам человеческой истории. Другая развивавшаяся в сознании Лермонтова почти параллельно типологическая схема имела социологическую основу и вводила противопоставление: человек из народа - человек цивилизованного мира. Человек из народа, которого Лермонтов в самом раннем опыте - стихотворении "Предсказание" ("Настанет год, России черный год") попытался отождествить с демоническим героем (ср. также образ Вадима), в дальнейшем стал мыслиться как ему противостоящий "простой человек" [3]. Внутри этой типологической схемы произошло перераспределение признаков: герой, персонифицирующий народ, наследовал от "толпы" отсутствие индивидуализма, связь со стихийной жизнью и безличностной традицией, отсутствие эгоистической жажды счастья, культа своей воли, потребности в личной славе и ужаса, внушаемого чувством мгновенности своего бытия. От "демонической личности" он унаследовал сильную волю, жажду деятельности. На перекрестке двух этих влияний трагическая личность превратилась в героическую и эпическую в своих высших проявлениях и героико-бытовую в своем обыденном существовании. С "демонической личностью" также произошли трансформации. Прикрепясь к современности, она сделалась частью "нынешнего племени", "нашего поколения". Слившись с "толпой", она стала карикатурой на самое себя. Воля и жажда деятельности были ею утрачены, заменившись разочарованностью и бессилием, а эгоизм, лишившись трагического характера, превратился в мелкое себялюбие. Черты высокого демонизма сохранились лишь для образа изгоя, одновременно и принадлежащего современному поколению, и являющегося среди него отщепенцем. Весь комплекс философских идей, волновавших русское мыслящее общество в 1830-е гг., а особенно общение с приобретавшим свои начальные контуры ранним славянофильством [4], поставили Лермонтова перед проблемой специфики исторической судьбы России. Размышления эти привели к возникновению третьей типологической модели. Своеобразие русской культуры постигалось в антитезе се как Западу, так и Востоку. Россия получала в этой типологии наименование Севера и сложно соотносилась с двумя первыми культурными типами, с одной стороны, противостоя им обоим, а с другой, - выступая как Запад для Востока и Восток для Запада. Одной из ранних попыток, - видимо, под влиянием С.А. Раевского, славянофильские симпатии которого уже начали в эту пору определяться, коснуться этой проблематики была "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова". Перенесенное в фольклорную старину действие сталкивает два героических характера, но один из них отмечен чертами хищности и демонизма, а другой, энергия которого сочетается с самоотречением и чувством нравственного долга, представлен как носитель идеи устоев, традиции. Не сводя к этому всей проблематики, нельзя все же не заметить, что конфликт "Песни" окрашен в тона столкновения двух национально-культурпых типов. Одним из источников, вдохновивших Лермонтова, как это бесспорно установлено, была былина о Мастрюке Темрюковиче из сборника Кирши Данилова. В этом тексте поединку придан совершенно отчетливый характер столкновения русских бойцов с "татарами", представляющими собирательный образ Востока: А берет он, царь-государь, В той Золотой орде, У тово Темрюка-царя, У Темрюка Степановича, Он Марью Темрюковну, Сестру Мастрюкову, Купаву крымскую Царицу благоверную... <. . . . . . . . . . . . . . . . . .> И взял в провожатые за ней Три ста татаринов, Четыре ста бухаринов, Пять сот черкашенинов. [5] По-видимому, внимание Лермонтова было приковано к этой былине именно потому, что в основе её - поединок между русским богатырем и черкесом, - особенность, сюжетно сближающая ее с рядом замыслов Лермонтова. Фигура .. Любимова шурина Мастрюка Темрюковича, Молодова черкашенина [6] - превращена у Лермонтова в царского опричника Кирибеевича. И хотя он и просится у царя "в степи приволжские", чтобы сложить голову "на копье бусурманское" (4, 105), но не случайно Калашников называет его "бусурманский сын" (4, 113). Антитеза явно "восточного" имени Кирибеевич и подчеркнутой детали - креста с чудотворными мощами на груди Калашникова - оправдывает это название и делается одним из организующих стержней сцены поединка. Обращает на себя внимание то, что в основу антитезы характеров Кирибеевича и Калашникова положено противопоставление неукротимой и не признающей никаких законных преград воли одного и фаталистической веры в судьбу другого. В решительную минуту битвы ...подумал Степан Парамонович: "Чему быть суждено, то и сбудется; Постою за правду до последнева!" (4, 114) Дальнейшее оформление национально-культурной типологии в сознании Лермонтова будет происходить позже - в последние годы его жизни. В этот период характеристики, в общих чертах, примут следующий вид - определяющей чертой "философии Востока" для Лермонтова станет именно фатализм: Судьбе, как турок иль татарин, За всё я ровно благодарен; У бога счастья не прошу И молча зло переношу. Быть может, небеса востока Меня с ученьем их пророка Невольно сблизили. (2, 167) В "Ашик-Керибе" психологию Востока выражает Куршуд-бек словами: "...что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует" (6, 201). Если "Ашик-Кериб" имеет подзаголовок "Турецкая сказка", то "Три пальмы" помечены Лермонтовым как "Восточное сказание". Здесь попытка возроптать против предназначения и просить "у бога счастья" наказывается как преступление. Но ведь именно эта жажда личного счастья, индивидуальность, развитая до гипертрофии, составляет сущность человека Запада. Два полюса романтического сознания: гипертрофированная личность и столь же гипертрофированная безличностность - распределяются между Западом и Востоком. Образом западной культуры становится Наполеон, чья фигура вновь привлекает внимание Лермонтова в то время, когда романтический культ Наполеона уже ушел для него в прошлое ("Воздушный корабль", "Последнее новоселье"). Если в ранней "Эпитафии Наполеона" Лермонтов, цитируя Пушкина ("Полтава"), называет Наполеона "муж рока" и развивает эту тему: "...над тобою рок" (1, 104), то в балладе "Воздушный корабль" Наполеон - борец с судьбой, а не исполнитель ее воли: Зовет он любезного сына, Опору в превратной судьбе... (2, 153) [7] Величие, слава, гений - черты той романтической культуры, которая воспринимается теперь как антитеза Востоку. Фатализм, как и волюнтаристский индивидуализм, взятые сами по себе, не препятствуют героической активности, придавая ей лишь разную окраску. Вера в судьбу, так же как демоническая сила индивидуальности, может вдохновлять человека на великие подвиги. Об этом размышляет Печорин в "Фаталисте": "...мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, - а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!" (6, 343). Альтернатива мужества, связанного с верой в предназначение рока, и мужества вопреки року отражала философские раздумья эпохи и выразилась, например, в стихотворении Тютчева "Два голоса". Однако в типологию культур у Лермонтова включался еще один признак - возрастной. Наивному, дикому и отмеченному силой и деятельностью периоду молодости противостоит дряхлость, упадок. Именно таково нынешнее состояние и Востока и Запада. О дряхлости Запада Лермонтов впервые заговорил в "Умирающем гладиаторе". Здесь в культурологическую схему введены возрастные арактеристики: "юность светлая", "кончина", старость ("к могиле клонишься...", "пред кончиною"). Старость отмечена негативными признаками: грузом сомнений, раскаяньем "без веры, без надежд", сожалением - целой цепью отсутствий. Это же объясняет, казалось бы, необъяснимый оксюморон "Последнего новоселья": Мне хочется сказать великому народу: Ты жалкий и пустой народ! (2,182) Великий в своем историческом прошлом - жалкий и пустой в состоянии нынешней старческой дряхлости. Гордой индивидуальности гения противопоставлена стадная пошлость нынешнего Запада, растоптавшего те ценности, которые лежат в основе его культуры и в принципе исключены из культуры Востока: Из славы сделал ты игрушку лицемерья, Из вольности - орудье палача... (2, 182) Но современный Восток также переживает старческую дряхлость. Картину ее Лермонтов нарисовал в стихотворении "Спор": Род людской там спит глубоко Уж девятый век. Все, что здесь доступно оку, Спит, покой ценя... Нет! не дряхлому Востоку Покорить меня!.. (2,194) Однако противопоставление (и сопоставление) Востока и Запада нужно было Лермонтову не само по себе - с помощью этого контраста он надеялся выявить сущность русской культуры. Русская культура, с точки зрения Лермонтова, противостоит великим дряхлым цивилизациям Запада и Востока как культура юная, только вступающая на мировую арену. Здесь ощущается до сих пор еще мало оцененная связь идей Лермонтова с настроениями Грибоедова и его окружения. Грибоедов в набросках драмы "1812 год" хотел вложить в уста Наполеона "размышление о юном, первообразном сем народе, об особенностях его одежды, зданий, веры, нравов. Сам себе преданный, - что бы он мог произвести?" [8]. То, что именно Наполеону Грибоедов отдавал эти мысли, не случайно. Для поколения декабристов, Грибоедова и Пушкина с 1812 г. начиналось вступление России в мировую историю. В этом смысл слов Пушкина, обращенных к Наполеону: Хвала! он русскому народу Высокий жребий указал... (II, 2, 60) В этом же причина вновь обострившегося в самом конце творчества интереса Лермонтова к личности Наполеона. Русская культура - Север - противостоит и Западу и Востоку, но одновременно тесно с ними связана. С молодостью культурного типа Лермонтов связывает его гибкость, способность к восприятию чужого сознания и пониманию чужих обычаев. В повести "Бэла" рассказчик говорит: "Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения" (6, 223). Не случайно в образе Максима Максимыча подчеркивается легкость, с которой он понимает и принимает обычаи кавказских племен, признавая их правоту и естественность в их условиях. Значительно более сложной представляется Лермонтову оценка "русского европейца" человека послепетровской культурной традиции, дворянина, своего современника. Еще Грибоедов говорил об отчужденности этого социокультурного типа от своей национальной стихии: "Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателейнаблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому я принадлежу. Им казалось дико всё, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! <...> Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами" [9]. Тот же "класс полуевропейцев" у Лермонтова предстает в осложненном виде. Прежде всего, характеристика его конкретизируется исторически. Кроме того, на него переносятся и черты "демонического" героя, и признаки противостоявшей ему в системе романтизма пошлой "толпы". Это позволяет выделить в пределах поколения и людей, воплощающих его высшие возможности, - отщепенцев и изгоев, - и безликую, пошлую массу. Общий результат европеизации России - усвоение молодой цивилизацией пороков дряхлой культуры, передавшихся ей вместе с вековыми достижениями последней. Это скепсис, сомнение и гипертрофированная рефлексия. Именно такой смысл имеют слова о плоде, "до времени созрелом". В современном ему русском обществе Лермонтов видел несколько культурнопсихологических разновидностей: во-первых, тип, психологически близкий к простонародному, тип "кавказца" и Максима Максимыча; во-вторых, тип европеизированной черни, "водяного общества" и Грушницкого, и, в-третьих, тип Печорина. Второй тип, - чаще всего ассоциирующийся, по мысли Лермонтова, с петербургским, характеризуется полным усвоением мишурной современности "нашего времени". Европа, которая изжила романтизм и оставила от него только фразы, "довольна я собою", "прошлое забыв", которую Гоголь назвал "страшное царство слов вместо дел" (Г, 3, 227), полностью отразилась в поколении, собирательный портрет которого дан в "Думе". Отсутствие внутренней силы, душевная вялость, фразерство, "ни на грош поэзии" (6, 263) - таковы его черты. Европеизация проявляется в нем как отсутствие своего, т. е. неискренность и склонность к декламации. Не случайно про Грушницкого сказано, что он умеет говорить только чужими словами ("он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы") и храбрость его - "не русская храбрость" (6, 263). Значительно сложнее печоринский тип. Во-первых, его европеизация проявилась в приобщении к миру титанов европейской романтической культуры - миру Байрона и Наполеона, к ушедшей в прошлое исторической эпохе, полной деятельного героизма. Поэтому если европеизм Грушницкого находится в гармонии с современностью, то Печорин в ссоре со своим временем. Но дело не только в этом. Для того чтобы понять некоторые аспекты печоринского типа, необходимо остановиться на главе "Фаталист". Проблема фатализма переживала момент философской актуализации в период конфликты между романтическим волюнтаризмом и историческим детерминизмом в европейской и русской философии 1830-1840-х гг. [10]. Повесть "Фаталист" рассматривается обычно как монологическое изложение воззрений самого автора - его реплика в философской дискуссии тех лет. Результатом такого подхода является стремление отождествить мысль Лермонтова с теми или иными изолированными высказываниями в тексте главы. Правильнее, кажется, считать, что о мысли Лермонтова можно судить по всей архитектонике главы, по соотношению высказываемых в ней мыслей, причем главной задачей главы является не философская дискуссия сама по себе, а определение в ходе этой дискуссии характера Печорина. Только такой подход способен объяснить завершающее место "Фаталиста" в романе. При всяком другом "Фаталист" будет ощущаться - явно или скрыто - как необязательный привесок к основной сюжетной линии "Героя нашего времени". Повесть начинается с философского спора. Сторонником фатализма выступает Вулич. Защищаемая им точка зрения характеризуется как "мусульманское поверье", и сам Вулич представлен человеком, связанным с Востоком. Ввести в повесть русского офицерамагометанина (хотя в принципе такая ситуация была возможна) означало бы создать нарочито-искусственную ситуацию. Но и то, что Вулич серб, выходец из земли, находившейся под властью турок, наделенный ясно выраженной восточной внешностью, уже в этом отношении достаточно выразительно. Вулич - игрок. Азартные игры: фараон, банк или штосc - это игры с упрощенными правилами, и они ставят выигрыш полностью в зависимость от случая. Это позволяло связывать вопросы выигрыша или проигрыша с "фортуной" - философией успеха и - шире - видеть в них как бы модель мира, в котором господствует случай: Что ни толкуй Волтер или Декарт Мир для меня - колода карт, Жизнь - банк; рок мечет, я играю, И правила игры я к людям применяю. [11] (5, 339) Как и в философии случая, Рок карточной игры мог облачаться в сознании людей и в мистические одежды таинственного предназначения, и в рациональные формулы научного поиска - известно, какую роль азартные игры сыграли в возникновении математической теории вероятностей. Воспринимал ли игрок себя как романтика, вступающего в поединок с Роком, бунтаря, возлагающего надежду на свою волю, или считал, что "судьба человека написана на небесах", как Вулич, в штоссе его противником фактически оказывался не банкомет или понтер, а Судьба, Случай, Рок, таинственная и скрытая от очей Причинность, т. е. как бы ее ни именовать, та же пружина, на которой вертится и весь мир. Не случайно тема карт и тема Судьбы оказываются так органически слитыми: Арбенин <...> (Подходит к столу; ему дают место.) Не откажите инвалиду, Хочу я испытать, что скажет мне судьба И даст ли нынешним поклонникам в обиду Она старинного раба! (5, 283-284) Но Судьба и Случай употребляются при этом как синонимы: Смотрел с волнением немым, Как колесо вертелось счастья. Один был вознесен, другой раздавлен им... (5, 281) Между тем, с точки зрения спора, завязывающего сюжет "Фаталиста", Судьба и Случай антонимы. Лермонтов подчеркивает, что и вера в Рок, и романтический волюнтаризм в равной мере не исключают личной храбрости, активности и энергии. Неподвижность и бессилие свойственны не какой-либо из этих идей, а их современному, вырожденному состоянию, когда слабость духа сделалась господствующей в равной мере и на Западе и на Востоке. Однако природа этих двух видов храбрости различна: одна покоится на сильно развитом чувстве личности, эгоцентризме и рационалистическом критицизме, другая - на влитости человека в воинственную архаическую традицию, верности преданию и обычаю и отказу от лично-критического начала сознания. Именно на этой почве и происходит пари между Вуличем и Печориным, который выступает в этом споре как носитель критического мышления Запада. Печорин сразу же задает коренной вопрос: "...если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок?" (6, 339) [12]. Печорин, который о себе говорит: "Я люблю сомневаться во всем" (6, 347) - выступает как истинный сын западной цивилизации. Имена Вольтера и Декарта были упомянуты Казариным не для того, чтобы сыскать рифму к слову "карт": Лермонтов назвал двух основоположников критической мысли Запада, а процитированные выше слова Печорина прямая реминисценция из Декарта, который первым параграфом своих "Начал философии" (главы "Об основах человеческого познания") поставил: "О том, что для разыскания истины необходимо раз в жизни, насколько это возможно, поставить все под сомнение" [13]. Печорин не только оспорил идею фатализма, заключив пари с Вуличем, но и практически опроверг его. Фатализму он противопоставил индивидуальный волевой акт, бросившись на казака-убийцу. Однако Печорин не человек Запада - он человек русской послепетровской европеизированной культуры, и акцент здесь может перемещаться со слова "европеизированной" на слово "русской". Это определяет противоречивость его характера и, в частности, его восприимчивость, способность в определенные моменты быть "человеком Востока", совмещать в себе несовместимые культурные модели. Не случайно в момент похищения Бэлы он "взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла, и туда" (6,233). Поразительно, что в тот самый момент, когда он заявляет: "Утверждаю, что нет предопределения", - он предсказывает Вуличу близкую смерть, основываясь на том, что "на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы". Западное "нет предопределения" и восточное "неизбежная судьба" почти сталкиваются на его языке. И если слова: "... видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь", - звучат пародийно, то совсем серьезный смысл имеет утверждение Печорина, что он сам не знает, что в нем берет верх - критицизм западного человека или фатализм восточного: ".. .не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил" (6, 343-344). И показательно, что именно здесь Печорин - единственный случай в романе! -не противопоставляется "простому человеку", а в чем-то с ним сближается. Интересна реплика есаула, который парадоксально связывает покорность судьбе с русским, а не с восточным сознанием: "Побойся бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; - ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь" (6, 346). [14] Но особенно характерна реакция Максима Максимыча. Он решительно отказался от всяких умствований, заявив: "...штука довольно мудреная!" (правда, до него и Печорин "отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги" (6, 344), но, но сути дела, высказался в духе не столь далеком от печоринского. Он допустил оба решения: критическое ("эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны") и фаталистическое ("видно, уж так у него на роду было написано"). Проблема типологии культур вбирала в себя целый комплекс идей и представлений, волновавших Лермонтова на протяжении всего его творчества: проблемы личности и ее свободы, безграничной воли и власти традиции, власти рока и презрения к этой власти, активности и пассивности так или иначе оказывались включенными в конфликт западной и восточной культур. Но для воплощения общей идеологической проблематики в художественном произведении необходима определенная сюжетная коллизия, которая позволяла бы столкнуть характеры и обнажить в этом столкновении типологию культур. Такую возможность давала традиция литературного путешествия. Сопоставление "своего" и "чужого" позволяло одновременно охарактеризовать и мир, в который попадает путешественник, и его самого. Заглавие "Героя нашего времени" непосредственно отсылало читателей к неоконченной повести Карамзина "Рыцарь нашего времени" [15]. Творчество Карамзина, таким образом, активно присутствовало в сознании Лермонтова как определенная литературная линия. Мысли о типологии западной и русской культур, конечно, вызывали в памяти "Письма русского путешественника" и сюжетные возможности, которые предоставлял образ их героя. Еще Федор Глинка ввел в коллизию корректив, заменив путешественника офицером, что делало ситуацию значительно более органичной для русской жизни той эпохи. Однако сам Глинка не использовал в полной мере сюжетных возможностей, которые давало сочетание картины "радостей и бедствий человеческих" с образом "странствующего офицера", "да еще с подорожной по казенной надобности" (6, 260). Образ Печорина открывал в этом отношении исключительные возможности. Типологический треугольник: Россия-Запад-Восток - имел для Лермонтова специфический оборот - он неизбежно вовлекал в себя острые в 1830-е гг. проблемы Польши и Кавказа. Исторически актуальность такого сочетания была вызвана не только тем, что один из углов этого треугольника выступал как "конкретный Запад", а другой как "конкретный Восток" в каждодневной жизни лермонтовской эпохи. Культурной жизни Польши, начиная с XVI в., была свойственна известная "ориентальность": турецкая угроза, опасность нашествия крымских татар, равно как и многие другие историко-политические и культурные факторы, поддерживали традиционный для Польши интерес к Востоку. Не случайно доля польских ученых и путешественников в развитии славянской (в том числе и русской) ориенталистики была исключительно велика. Наличие в пределах лермонтовского литературного кругозора уже одной такой фигуры, как Сенковский, делало эту особенность польской культуры очевидный. Соединение черт католической культуры с ориентальной окраской придавало, в глазах романтика, которого эпоха наполеоновских войн приучила к географическим обобщениям, некоторую общность испанскому и польскому couleur locale. Не случайно "демонические" сюжеты поэм молодого Лермонтова свободно перемещаются из Испании в Литву (ср. географические пределы художественного мира Мериме: "Кармен" - "Локис"). Традиция соединения в русской литературе "польской" и "кавказской" (с ее метонимическими и метафорическими вариантами - "грузинская" и "крымская") тем восходит к "Бахчисарайскому фонтану" Пушкина, где романтическая коллизия демонической и ангельской натур проецируется на конфликт между польской княжной и ее восточными антиподами (крымский хан, грузинская наложница). То, что в творческих планах Пушкина "Бахчисарайский фонтан" был связан с замыслом о волжских разбойниках, т.е. с романтической попыткой построить "русский" характер, заполняет третий угол треугольника. Слитость для русского культурного сознания тем Польши и Кавказа (Грузии) была поэтически выражена Пастернаком: С действительностью иллюзию, С растительностью гранит Так сблизили Польша и Грузия, Что это обеих роднит. Как будто весной в Благовещенье Им милости возвещены Землей - в каждой каменной трещине, Травой - из-под каждой стены [16]. Именно таковы границы того культурно-географического пространства, внутри которого перемещается "странствующий офицер" Печорин. Для круга представлений, соединенных у Лермонтова с именем и образом его героя, не безразлично, что генетически связанный с ним одноименный персонаж "Княгини Лиговской" - участник польской кампании 1830 г.: "Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат, любезничал с многими паннами..." (6, 158). В 1833 г. у Вознесенского моста на Екатерининском канале судьба столкнула Печорина с Красинским. Обычно в этом сюжетном эпизоде видят конфликт петербургского "демона" с бедным чиновником, миленьким человеком в духе "натуральном школы". Должно заметить, что уже внешность Красинского: "большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица" (6, 132) - мало гармонирует с образом "маленького человека", забитого чиновника. Это внешность аристократа, хотя и сброшенного с вершин общества. Далее выясняется, что Красинский совсем не ничтожный чиновник: он столоначальник. Вспомним, что для Акакия Акакиевича из "Шинели" Гоголя такой чин безоговорочно относил человека к разряду "начальников", которые "поступали с ним как-то холодно-деспотически": "Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: "перепишите", или: "вот интересное, хорошенькое дельце" (Г, 3, 143). Как начальник стола Красинский должен был быть титулярным или, может быть, даже надворным советником, т. е. иметь чин 9-го или 8-го класса, что равнялось армейскому майору или капитану. А Печорин даже после нескольких лет службы на Кавказе, к тому же переведенный из гвардии в армию, что всегда связывалось с повышением на чин или два (в случае немилости - резолюция "перевести тем же чином"), был только прапорщиком. От Красинского многое зависит, и князь Лиговской вынужден приглашать его к себе и принимать не только в кабинете, но и в гостиной, представляя его дамам, - ситуация, решительно невозможная для "маленького человека". В петербургском светском обществе Красинский чужак, но он хорошо воспитан, и после его ухода дамы находят, "quil est tres bien <что он очень приличен"> (6, 179). Но Станислав Красинский беден, он разорен. Отец его "был польский дворянин, служил в русской службе, вследствие долгой тяжбы он потерял большую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну" (6, 172-173). Вероятно, конфликт Печорин Красинский должен был получить в романе сюжетное развитие. Может быть, к нему имел бы в дальнейшем отношение оборванный эпизод с "похождением" Печорина в дом графа Острожского и с графиней Рожей. Не случайно именно появление Красинского обрывает этот рассказ Печорина. Для "польской атмосферы" "Княгини Лиговской" вряд ли случайно, что фамилия приятеля Печорина - Братицкий. Конечно, Лермонтов имел здесь в виду лишь распространенную польскую аристократическую фамилию, часто звучавшую в Петербурге: потомки великого коронного гетмана и генерал-аншефа русской службы графа Франца-Ксаверия КорчакБраницкого традиционно придерживались прорусской ориентации и служили в Петербурге в гвардии. Однако интересно, что несколько позже, в 1839-1840 гг., именно Ксаверий КорчакБраницкий, друг Лермонтова и участник "кружка шестнадцати", будет развивать мысли о том, что историческая миссия России, объединившей славян, лежит на Кавказе и - шире - на Востоке. Таким образом, можно предположить, что в глубинном замысле "русский европеец" Печорин должен был находиться в культурном пространстве, углами которого были Польша (Запад) - Кавказ, Персия (Восток) - народная Россия (Максим Максимыч, контрабандисты, казаки, солдаты). Для "Героя нашего времени" такая рама в полном ее объеме не потребовалась. Но можно полагать, что именно из этих размышлений родился интригующий замысел романа о Грибоедове, который вынашивал Лермонтов накануне гибели. Интерес Лермонтова к проблеме типологии культур, выделение "всепонимания" как черты культуры, исторически поставленной между Западом и Востоком, включает Лермонтова в еще одну историко-литературную перспективу: обычно, и с глубоким на то основанием, исследователи, вслед за Б.М. Эйхенбаумом, связывают с Лермонтовым истоки толстовского творчества. Проведенный нами анализ позволяет прочертить от него линию к Достоевскому и Блоку. Мыслям Лермонтова, о соотношении России с Западом и Востоком не суждено было отлиться в окончательные формы. Направление их приходится реконструировать, а это всегда связано с определенным риском. Чем теснее нам удастся увязать интересующий нас вопрос с общим ходом размышлений Лермонтова в последние месяцы его жизни, тем больше будет гарантий простив произвольности в наших, поневоле гипотетических, построениях. Общее же направление размышлений Лермонтова в эти дни можно охарактеризовать следующим образом: добро и зло, небо и земля, поэт и толпа, позже герой печоринского типа и "простой человек". Запад и Восток и многие другие основополагающие пары понятий строились Лермонтовым как непримиримые, полярные. Устойчивой константой лермонтовского мира была, таким образом, абсолютная полярность всех основных элементов, составлявших его сущность. Можно сказать, что любая идея получала в сознании Лермонтова значение только в том случае, если она, во-первых, могла быть доведена до экстремального выражения и, во-вторых, если на другом полюсе лермонтовской картины мира ей соответствовала противоположная, несовместимая и непримиримая с ней структурная экстрема. По такой схеме строились и соотношения персонажей в лермонтовском мире. Эта схема исключала всякую возможность контактов между ними: лермонтовский герой жил в пространстве оборванных связей. Отсутствие общего языка с кем бы то ни было и чем бы то ни было лишало их возможности общения и с другим человеком, и с вне его лежащей стихией. И именно в этом коренном конструктивном принципе лермонтовского мира в последние месяцы его творчества обнаруживаются перемены. Глубокая разорванность сменяется тяготением к целостности. Полюса не столько противопоставляются, сколько сопоставляются, между ними появляются соединяющие средостения. Основная тенденция - синтез противоположностей. Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение "Выхожу один я на дорогу". Стихотворение начинается с обычной в поэзии Лермонтова темы одиночества: "один я" отсылает нас к длинному ряду стихотворений поэта с аналогичной характеристикой центрального образа ("Один я здесь, как царь воздушный" и др.). Однако если сам герой выделен, исключен из окружающего его мира, то тем более заметным делается контраст его со слитностью, соединением противоположностей, гармонией, царящими в этом мире. "Небо" и "земля" верх и низ, обычно трагически разорванные в лермонтовской картине мира, здесь соединены: не только туман, лежащий между ними и занимающий срединное пространство (обычно в лермонтовской картине мира или отсутствующее, или резко отрицательно оцененное, связанное с понятиями пошлости, ничтожества, отсутствия признаков), но и лунный свет соединяют небо и землю. Лунный свет, обычный спутник романтического пейзажа, может выступать как знак несоединимости земли и неба (ср. "лунный свет в разбитом окошке" у Гоголя, лунный свет, скользящий по могилам, в типовом предромантическом пейзаже, подчеркивание ирреальности лунного света и проч.). Здесь функция его противоположна: он блестит на камнях "кремнистого пути", соединяя верхний и нижний миры пространства стихотворения. Еще более существенно, что глаголы контакта - говорения, слушания - пронизывают это пространство во всех направлениях: сверху вниз ("Пустыня внемлет богу") и из края в край ("...звезда с звездою говорит"). Вторая строфа дает одновременно привычное для Лермонтова противопоставление поэтического "я" и окружающего мира и совершенно необычное для него слияние крайностей мирового порядка в некоей картине единого синтеза: голубое сияние неба обволакивает землю, и они соединены торжественным покоем, царствующим в мире. Противопоставление героя и мира идет по признакам наличия-отсутствия страдания ("больно", "трудно") и времени: поэтическое "я" заключено между прошедшим ("жалею") и будущим ("жду"). Эти понятий неизвестны "торжественно и чудно" спящему вокруг него миру. В первой строфе миру личности посвящена половина первого стиха, во второй - половина строфы. Третья полностью отдана носителю монолога. Строфа эта занимает в стихотворении центральное место. Уже первый стих содержит в себе противоречие: лермонтовский герой взят в обычном своем качестве ("один") и одновременно в состоянии перехода к чему-то новому. "Выхожу <...> на дорогу..." - намек на выход в бесконечное пространство мира. Этому переходному моменту - моменту преображения - и посвящена третья строфа. И не случайно она декларативно начинается с отказа от будущего и прошлого, отказа от времени: Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть... (2, 208) Третий стих строфы вводит пушкинскую тему "покоя и воли": Я ищу свободы и покоя! Это естественно вызывает в памяти и пушкинскую антитезу. Пушкин колебался в выборе решения: На свете счастья нет, но есть покой и воля... (П, 3, 258) Я думал: вольность и покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан... (П, 5,155) Однако само противопоставление счастья свободе и покою было для него постоянным. Для Лермонтова жажда счастья связывалось с европейским личностным сознанием, а включение европейца в культуру Азии влекло отказ от этой индивидуалистической потребности. Ср. в стихотворении "Я к вам пишу случайно; право": Судьбе, как турок иль татарин, За всё я ровно благодарен; У бога счастья нe прошу... (2, 167) Можно предположить, что семантика отказа от счастья (а в логическом развитии "поэтики отказов" - от жизни) присутствует и в заключительном стихе третьей строфы лермонтовского текста. Свобода и покой отождествляются здесь со сном. А мотив сна в поэзии Лермонтова неизменно имеет зловещую окраску ухода из жизни. Это "мертвый сон" "Сна", предсмертный бред Мцыри, сон замерзающей Сосны, "луч воображения" умирающего гладиатора и, наконец, "несбыточные сны" клонящегося к могиле "европейского мира". В таком контексте желание "забыться и заснуть" воспринимается как равносильное уничтожению личности, самоуничтожению и, в конечном итоге, смерти. Правда, такому восприятию противоречит зафиксированное уже нашей памятью "спит земля", связывающее образ покоя не со смертью, а с космической всеобщей жизнью. И именно потому, что в творчестве Лермонтова имелась уже устойчивая традиция совершенно определенной интерпретации мотива сна, становится особенно ясно, что последние две строфы целиком посвящены опровержению этой семантической инерции и созданию совершенно нового для Лермонтова образа сна. Сон оказывается неким срединным состоянием между жизнью и смертью, бытием и небытием, сохраняя всю полноту жизни, с одной стороны, и снимая конечность индивидуального бытия, - с другой. Исчезает различие между днем и ночью, индивидуальной и космической жизнью. Уничтожается антитеза "покой-счастье": "я" преодолело изоляцию (оно "внемлет"), сделалось доступно любви. Синтетическое состояние: соединение свободы, покоя и счастья, личного и безличного, бытия и забвения связано со срединным положением во вселенной. Поэтическое "я" оказывается в центре мироздания, из времени переходит в вечность ("вечно зеленея..."). Сам образ дуба, венчающий стихотворение, ведет к архаическим представлениям "мирового дерева", соединяющего небо и землю, расположенного в середину космоса и связующего все его сферы. Итак, смысл стихотворения - в особой функции срединной сферы. В своем синтетизме это срединное царство предоставляет положительную альтернативу разорванности мира экстремальных ценностей. Подобная концепция непосредственно связана с проблемами культурной типологии. В полемике 1840-х гг. оформляется культурная антитеза Запад Россия. При различии аксиологических оценок ее разными группами характер противопоставления объединяет всех спорящих. Позиция Лермонтова в этом отношении ближе к Грибоедову и отчасти к Пушкину. Россия мыслится как третья, срединная сущность, расположенная между "старой" Европой и "старым" Востоком. Именно срединность ее культурного (а не только географического) положения позволяет России быть носительницей культурного синтеза, в котором должны слиться печоринско-онегинская ("европейская") жажда счастья и восточное стремление к "покою". Экстремальным явлениям природы: бурям, грозам, величественным горным пейзажам приходят на смену спокойные, но полные скрытой силы "срединные" образы пейзажей "Родины" и "Любил и я в былые годы". Вспомним неприязнь Тютчева к безбрежным равнинам, которые, как ему казалось, уничтожали его личное бытие. Для Лермонтова последнего периода поэтическое "я" не растворяется в "лесов безбрежном колыханье", а "забывается и засыпает", погружаясь в этот простор, приобретая всеобщее бытие и не теряя личного. Можно предположить, что именно по этим путям шли размышления Лермонтова о своеобразии русской культуры на рубеже Запада и Востока. Примечания 1. Русские повести первой трети XVIII века. М. - Л.,1965, с. 191. 2. Декарт P. Избр. произв. [M.], 1950, с. 265. 3. См.: Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. М., Л., 1964, с. 113-177. 4. См.: Егоров Б.Ф. Славянофилы и Лермонтов. - В кн.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 508-510 (здесь же основная литература вопроса). 5. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.; Л., 1958, с. 32-33. Проблемы фольклоризма Лермонтова, в особенности в связи с “Песней про купца Калашникова”, детально рассмотрены в работе В.Э. Вацуро (см. раздел “Лермонтов” в кн.: Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Л., 1976), где также дан обзор литературы вопроса. 6. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым, с. 33. 7. Здесь и далее выделения в цитатах мои - Ю.Л. Сопоставление этих двух текстов, но в ином аспекте см. в заметке Е.М. Пульхритудовой “Воздушный корабль” (Лермонтовская энциклопедия, с. 91). 8. Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Спб., 1911, т. 1, с. 262. 9. Грибоедов А.С. Полн. собр. соч., Пг., 1917, т. 3, с. 116-117. Статья Грибоедова "Загородная поездка" была опубликована в № 76 "Северной пчелы" от 26 июня 1826 г. и вполне могла быть известна Лермонтову, интересовавшемуся Грибоедовым и знавшему многих людей из его окружения. Приведем одно до сих нор оставшееся незамеченным свидетельство интереса к Лермонтову в близком к Грибоедову кругу. В третьем издания "Семейства Холмских" Д.Н. Бегичева (М., 1841), - романе, наполненном прямыми литературными ссылками на Державина, Крылова, Дмитриева, Грибоедова, - бросается в глаза странно глухая отсылка: "Слышали мы, где-то и от кого-то, не упомним, что земное Правосудие может ошибаться, может быть вовлечено в заблуждение; но - есть Всевидящий Судия, и от Него нет ничего сокровенного!" (ч. 6, с. 350). Цензурное разрешение на печатание этой книги датировано 29 мая 1838 г.: зашифрованная ссылка на "Смерть Поэта" сделана, таким образом, по самым горячим следам и не может быть истолкована иначе, чем свидетельство внимания и симпатии к Лермонтову. 10. См.: Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961, с. 281-283; Михайлова Е. Проза Лермонтова. М., 1957, с. 337-339; Тойбин И. М. К проблематике новеллы Лермонтова "Фаталист". - Учен. зап. Курск. гос. пед. ин-та. Гуманитарный цикл, 1959, вып. 9, с. 19-56; Асмус В. Круг идей Лермонтова. - В кн.: Лит. насл. М., 1941, т. 43-44, с. 102-105; Бочарова А.Я. Фатализм Печорина. - В кн.: Творчество М.Ю. Лермонтова. Пенза, 1965, с. 225-249 (Учен. зап. Пензенск. гос. пед. ин-та. Сер. филол., вып. 14). Краткие, но исключительно содержательные высказывания по интересующей нас проблеме см.: Нумпан Я. Два аспекта "лермонтовской личности". - В кн.: Сборник студенческих научных работ (краткие сообщения), Тарту, 1973, с. 26-28 (ср. также другую работу этой исследовательницы: Проблема русского национального характера в творчестве М.Ю. Лермонтова: (К вопросу о позиции Лермонтова в идейной борьбе 30-40-х годов), - В кн.: Tallinna Pedagogilino Institulit 17 uliopilaste toa-dlislikll konveronts. Tallinn, 1972, lk. 6-7). 11. Об игре в штосс как модели мира, управляемого случаем, см.: Лотман Ю.М. Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века, - В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту, 1975, т. 7. с. 120-142. 12. Б.М. Эйхенбаум обратил внимание на близость к этому вопросу рассуждений Л.Н. Толстого в черновой редакции эпилога "Войны и мира", также считавшего фатализм чертой восточного сознания: "В чем состоит фатализм восточных? - Не в признании закона необходимости, но в рассуждении о том, что если все предопределено, то и жизнь моя предопределена - свыше и я не должен действовать" (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 15, с. 238-239; Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове, с. 282). 13. Декарт Р. Избр. произв., с. 426. 14. Интересно, что в диалоге есаула и казака-убийцы второй раз проигрывается, уже на народном уровне, конфликт волюнтарного и фаталистического сознания. Есаул призывает казака: "Покорись", подтверждая это ссылкой на судьбу и на то, что противиться судьбе - "это только бога гневить", а казак дважды отвечает ему: "Не покорюсь!". Печорин же, выступающий в этом эпизоде как сила, направленная против непокорной личности, "подобно Вуличу", "вздумал испытать судьбу". 15. Слово "рыцарь" в заглавии повести Карамзина, вероятно, рассчитано было на то, чтобы вызвать у читателей ассоциацию с Дон-Кихотом. Не случайно в начале "Писем русского путешественника" Карамзин писал: "... воображайте себе странствующего Друга вашего рыцарем веселого образа" (Карамзин Н.М. Избр. соч.: В 2-х т. М.; Л., 1964, т. 1, с. 93). Вероятно, изображение жизненного странствия героя входило в замысел. Карамзина. 16. Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965, с. 461. http://www.philology.ru/literature2/lotman-85.htm Ю. Н. Тынянов О КОМПОЗИЦИИ "ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА" (Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977. - С. 52-78) 1 Все попытки разграничить прозу и поэзию по признаку звучания разбиваются о факты, противоречащие обычному представлению о звуковой организации стиха и звуковой неорганизованности прозы. С одной стороны, существование vers libre и freie Rhythmen с неограниченной свободой просодии, с другой - такая ритмически и фонически организованная проза, как проза Гоголя, Андрея Белого, в Германии Гейне и Ницше, - указывают на необычайную шаткость понятия о звуковой организации поэзии и прозы, на отсутствие ясного раздела меж ними с точки зрения этого принципа - и в то же время на удивительную стойкость и разграниченность видов поэзии и прозы: до какой бы ритмической и звуковой в широком смысле организованности ни была доведена проза, она от этого не воспринимается как стихи [1]; с другой стороны, как бы близко ни подходил стих к прозе по своему звучанию, - только литературной полемикой объясняются приравнения vers libre к прозе. Здесь следует обратить внимание на один факт: художественная проза с самого начала новой русской литературы в звуковом отношении организуется не менее заботливо, чем стих. Она развивается у Ломоносова под влиянием теории красноречия, с применением правил ораторского ритма и эвфонии, и ломоносовская риторика, столь важная как нормативно-теоретический фактор развития литературы, в существенном относится наравне с поэзией и к прозе. Но звуковые особенности прозы Ломоносова и Карамзина, будучи ощутительными для их современников, теряют свою ощутимость с течением времени; к явлениям окончаний известных ритмических разделов в их прозе (клаузулам) мы склонны относиться скорее как к явлениям синтактикосемантическим, нежели к звуковым [2], а явления эвфонии в их прозе учитываются нами с трудом. Между тем поэзия с течением времени теряет ощутимость другого элемента слова; привычные группы и связи слов теряют семантическую ощутимость, оставаясь ассоциативно связанными главным образом по звуку (окаменение эпитетов). Было бы, однако, поспешным заключать, что прозаический и стихотворный виды отличаются тем, что в стихах исключительно важную роль играет внешний знак слова, а в прозе столь же исключительную роль играет его значение. Это подтверждается явлением, которое можно назвать явлением семантического порога. Исключительная установка на имманентное звучание в поэзии (заумный язык, Zungenrede) влечет за собою сугубую напряженность в искании смысла и таким образом подчеркивает семантический элемент слова; наоборот, полное небрежение звуковой стороной прозы может вызвать звуковые явления (особые стечения звуков etc.), которые перетянут центр тяжести на себя. Кроме того, с одной стороны, звуковая организация прозы и влияние на нее в этом отношении поэзии вне сомнений. С другой стороны, семантический принцип поэтического слова не только встречается, но я каноничен для одной из традиций русской поэзии. Теория ломоносовской и державинской оды возлагает на поэтическое слово эмоционально-убедительные функции ораторской речи; поэтому поэзия конструируется здесь по произносительно-слуховому признаку слова; слова вступают в связь эмоционально-звуковую; тропы являются «сопряжением далековатых идей», произведенным не по логической нити, связывающей основные значения слов, а по эмоциональной нити (ораторская внезапность и поразительность) [3]. Но с этой теорией слова вступают в борьбу враждебные принципы младшей ветви, сознательно противополагающей себя старшей одической, - ветвь русской poesie fugitive [4] (Богданович, Карамзин, М.И. Муравьев, Батюшков), где важную роль начинает играть семантическая сторона слова; теории эмоциональноубедительного поэтического слова противополагается теория логически-ясного слова; в тропах важно не извращение семантической линии слов, а напротив, большая их ясность. Вследствие этого слова вступают в связи не по эмоциональной окраске или звуковому признаку, но по основным, узуальным (словарным) семантическим их пунктам. Здесь новая теория поэтического слова близится к теории слова прозаического; поэзия начинает учиться у прозы. Кн. Вяземский пишет по поводу стихотворений Карамзина: «Можно подумать, что он держался известного выражения: c'est beau comme de la prose. Он требовал, чтобы все сказано было в обрез и с буквальною точностью. Он давал простор вымыслу и чувству; но не выражению» [5]. Равно и Батюшков писал в 1817 году: «Для того, чтобы писать хорошо в стихах - в каком бы то ни было роде, писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами, надобно много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытал на себе, что этот способ мне удавался; рано или поздно писанное в прозе пригодится: «Она питательница стиха», сказал Альфьери, - если память мне не изменила» [6]. Пушкин пишет прозаические планы и программы для своих стихов; проза здесь воочию является питательницей стихов [7]. И, словно в ответ Батюшкову, пишет любомудр Ив. Киреевский, близкий к архаической, старшей традиции «высокой» (эмоционально-убедительной) традиции: «Знаешь ли ты, отчего ты до сих пор ничего не написал? Оттого, что ты не пишешь стихов. Если бы ты писал стихи, тогда бы ты любил выражать даже бездельные мысли, и всякое слово, хорошо сказанное, имело бы для тебя цену хорошей мысли, а это необходимо для писателя с душой. Тогда только пишется, когда весело писать, а тому, конечно, писать не весело, для кого изящно выражаться не имеет самобытной прелести, отдельной от предмета. И потому: хочешь ли быть хороший писателем в прозе? - пиши стихи» [8]. Таким образом, и проза для Батюшкова, и стихи для Киреевского являются источниками нового смысла, средствами для какого-то смыслового сдвига внутри прозы и внутри поэзии. Проза и поэзия, по-видимому, отличаются не имманентным звучанием, не последовательно проведенным в поэзии принципом установки на звучание, а в прозе - принципом установки на семантику, - а, в существенном, тем, как влияют эти элементы относительно друг друга, как деформирована звуковая сторона прозы ее смысловой стороной (установкой внимания на семантику), как деформировано значение слова стихом [9]. Деформация звука ролью значения - конструктивный принцип прозы; деформация значения ролью звучания - конструктивный принцип поэзии. Частичные перемены соотношения этих двух элементов - движущий фактор и прозы и поэзии. Если внутрь прозаической конструкции внесены стиховые звучания, - они деформируются установкой на значение; если в стиховой конструкции применен принцип сцепления словесных масс по семантическому принципу, то и он неизбежно деформируется принципом звучания. Благодаря этому проза и поэзия - замкнутые семантические категории; прозаический смысл всегда отличен от поэтического; с этим согласуется тот факт, что и синтаксис, и самая лексика поэзии и прозы существенно различны. Но при внесении в стих прозаических принципов конструкции (а равно и при внесении в прозу стиховых принципов) несколько меняется соотношение между деформирующим и деформируемым, хотя замкнутые семантические ряды поэзии и прозы и не нарушаются, - так происходит обогащение прозы новым смыслом за счет поэзии и обогащение поэзии новым смыслом за счет прозы. (Ср. приведенное выше письмо. Ив. Киреевского.) Таким образом, в прозе и в поэзии звучание и значение слова неравноценны: изучение отдельно то семантики, то звучания в поэзии и прозе (может быть, необходимое при первичном расчленении материала и полезное педагогически) в сущности расчленяет взаимно обусловливающие друг друга и притом неоднозначащие элементы. Изучая звучание в прозе, мы не должны упускать из виду, что оно деформировано семантикой; говоря о поэтической семантике, мы обязаны помнить, что имеем дело с деформированным смыслом. Лучше всего это сказывается при изучении поэтического стиля, богатого прозаизмами, и стиля прозы с явным внесением стиховых приемов. Прозаические ингредиенты, вступая в конструкцию стиха, становятся элементами метра, инструментовки и т.д. и подчиняются его принципу - деформации значения звуком. Благодаря необычайному освежению звуковой стороны прозаизмов, происходящему от того, что они вступают в звуковые связи с соседними словами, стихами и т.д., слова и выражения, совершенно бесцветные и неразличимые в прозе, становятся крайне ощутительными смысловыми элементами в поэзии [10]. Подобно этому, внесение рифм и т.п. в прозу именно благодаря семантической антиципации - повышает звуковую их ощутительность; так, шаблонные для стихов рифмы не будут такими в прозе. Так обогащаются взаимно поэзия и проза [11]. Но как только прозаизм, внесенный в поэтический ряд, всецело вовлекается в него, начинает деформироваться звучанием наравне с элементами поэтической речи - смысловое освежение исчезает - он целиком переходит в поэтический ряд и становится элементом поэтической речи. Напротив, некоторые стиховые звучания (известные ритмы) могут прочно срастись с звуковым составом прозы, стать привычными с звуковой стороны, потерять звуковую свежесть. Особую важность, следовательно, приобретает здесь историческая постановка вопроса. Итак, мы не вправе относиться к семантическим элементам стихотворной речи так же, как к семантическим элементам речи прозаической. Смысл поэзии иной по сравнению со смыслом прозы. Такая ошибка возникает легче всего, когда обычный для прозы вид (роман, например), тесно спаянный с конструктивным принципом прозы, внедрен в стих. Семантические элементы здесь прежде всего деформированы стихом. Крупнейшей семантической единицей прозаического романа является герой - объединение под одним внешним знаком разнородных динамических элементов. Но в ходе стихового романа эти элементы деформированы; сам внешний знак приобретает в стихе иной оттенок по сравнению с прозой. Поэтому герой стихового романа не есть герой того же романа, переложенного в прозу. Характеризуя его как крупнейшую семантическую единицу, мы не будем забывать своеобразной деформации, которой подверглась она, внедрившись в стих. Таким стиховым романом был «Евгений Онегин»; и такой деформации подверглись все герои этого романа. 2 Там, где речь шла о тех литературных родах, где стих, по-видимому, должен бы играть второстепенную, служебную роль - в драме, например, - Пушкин всегда подчеркивал примат словесной, стиховой стороны в таких произведениях. Он писал о лобановском переводе «Федры»: «Кстати о гадости - читал я «Федру» Лобанова - хотел писать на нее критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Расина - перо вывалилось из рук. И об этом у вас шумят, и это называют ваши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина! Voulez-vous decouvrir la trace de ses pas [12] - надеешься найти Тезея жаркий след иль темные пути - мать его в рифму! вот как всё переведено! А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии! План и характеры «Федры» верх глупости и ничтожества в изобретении - Тезей не что иное, как первый Мольеров рогач; Ипполит, le superbe, le fier Hyppolite - et meme un peu farouche [13], Ипполит, суровый скифский <...> - не что иное, как благовоспитанный мальчик, учтивый и почтительный D'un mensonge si noir [14]... и проч. прочти всю эту хваленую тираду и удостоверишься, что Расин понятия не имел о создании трагического лица. Сравни его с речью молодого любовника Паризины Байроновой, увидишь разницу умов. А Терамен - аббат и сводник - Vous-meme ou seriez vous [15] etc... - вот глубина глупости!» [16]. Незачем понимать этот отзыв как отрицательный; Пушкин устанавливает у Расина тот закон, который тот сам установил и с точки зрения которого его и следует судить, - род, в котором писал Расин (не как жанр, а как преобладание известного момента формы) ; таким преобладающим моментом у Расина был стиль, уже - стих. Так же отстаивает Пушкин право на «ничтожный план» и «отсутствие происшествий» в поэме: «Байрон мало заботился о планах своих произведений или даже вовсе не думал о них: несколько сцен, слабо между собою связанных, были ему достаточны для сей бездны мыслей, чувств и картин. <...> Что же мы подумаем о писателе, который из поэмы «Корсар» выберет один токмо план, достойный нелепой испанской повести, и по сему детскому плану составит драматическую трилогию, заменив очаровательную глубокую поэзию Байрона прозой надутой и уродливой, достойной наших подражателей покойного Коцебу? <...> Спрашивается: что же в Байроновой поэме его поразило - неужели план? о miratores!..» [17]. Таким образом, «нескольких сцен, слабо между собою связанных», «плана, достойного нелепой повести», вполне достаточно для «очаровательной и глубокой поэзии». Еще решительнее отзыв об «Эде» Баратынского: «Перечтите его «Эду» (которую критики наши нашли ничтожной, ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий) <...>» [18]. И здесь не только суждение критика, но и отголосок практической борьбы. Пушкин охотно идет навстречу упрекам критики относительно невыдержанности «характеров», бледности «героев», несовершенства плана [19]. По-видимому, не здесь лежал центр тяжести поэм; по-видимому, стиховой план, стиховой герой были для Пушкина чем-то таким, к чему нельзя было предъявлять требование, как к плану и к герою повести или романа. В «Евгении Онегине» «несовершенство» плана и «характеров» перестает быть оправданною, подразумеваемою особенностью стиховой формы и само становится моментом композиции. Было бы ошибочно думать, что это «несовершенство» было и для Пушкина извиняемым или хотя бы оправдываемым; что обозначение пропуска строф и стихов диктовалось действительно желанием не прерывать связи романа; что Пушкин чувствовал незавершенность плана и стремился закончить роман. В предисловии к первой главе «Онегина» (когда уже были готовы три главы) Пушкин говорит о «недостатке плана» полуиронически: «Дальновидные критики заметят, конечно, недостаток плана. Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного», причем автор признавал, что «первая глава представляет нечто целое». Насколько осторожная оговорка относительно «целого романа» была сделана всерьез, выясняется из сопоставления предисловия с последней строфой первой главы: Я думал уж о форме плана, И как героя назову <...> Противоречий очень много, Но их исправить не хочу. Заявление о форме плана стоит в связи с аналогичными отступлениями, делающими предметом романа сам роман (с этой точки зрения «Евгений Онегин» - не роман, а роман романа). Строка же «И как героя назову» после многочисленных упоминаний имени героя ироническое введение к строке «Противоречий очень много». Такова же игра на противоречиях в последней строфе седьмой главы: Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою, И в сторону свой путь направим. Чтоб не забыть о ком пою... Таким образом, о герое легко позабыть, и возвращение к нему - есть тоже отступление в романе отступлений («В сторону свой путь направим»). Сюда же относится ироническое примечание Пушкина к III главе: «В прежнем издании, вместо домой летят, было ошибкою напечатано зимой летят (что не имело никакого смысла). Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». В проекте предисловия к восьмой и девятой главам [20] Пушкин уже явно ироничен: «Вот еще две главы «Евгения Онегина» - последние, по крайней мере для печати... Те, которые стали бы искать в них занимательности происшествий, могут быть уверены, что в них еще менее действия, чем во всех предшествовавших, Осьмую главу я хотел было вовсе уничтожить и заменить одной римской цифрою, но побоялся критики. К тому же многие отрывки из оной были уже напечатаны». Особый интерес приобретает здесь вопрос о пропуске строф. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что некоторые цифры, которые должны обозначать пропущенные строфы, стоят как бы на пустом месте, ибо строфы эти никогда и не были написаны. Сам Пушкин объясняет пропуск строф следующим образом: «Что есть строфы в «Евгении Онегине», которые я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означается место, где быть им надлежало. Лучше было бы заменять эти строфы другими или переправлять и сплавливать мною сохраненные. Но виноват, на это я слишком ленив. Смиренно сознаюсь также, что в «Дон-Жуане», есть две выпущенные строфы». Заметка писана в 1830 г., и после ранее сказанного Пушкиным о плане и связи романа это его замечание и вообще звучит иронически, но он еще подчеркивает иронию ссылкой на лень и на литературный источник, в котором пропуски точно так же играли композиционную роль. Если припомнить, что Пушкин в предисловии к последней главе и к «Отрывкам из путешествия Онегина» говорит о пропуске целой главы, станет еще яснее, что вопрос здесь идет не о связи и не о стройности плана. Вот что пишет Пушкин в этом предисловии: «П.А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит, однако ж, плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. - Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинах, важным для него, а не для публики». Таким образом, пропуск целой главы, вызвавший действительно тонкое замечание со стороны Катенина [21] о немотивированности и внезапности перемены в героине (напоминающей театральное преображение), объявляется «выгодным для читателей» и не мотивируется вовсе. Тогда начинает казаться странной щепетильность Пушкина по отношению к перерыву связи рассказа, который, по его словам, вызвал пустые цифры и пропуск отдельных стихов. Анализ пропущенных строф убеждает, что с точки зрения связи и плана можно было бы не отмечать ни одного пропуска - ибо все они касаются либо отступлений, либо деталей и бытовых подробностей, и только немногие вносят новые черты в самое действие, план (не говоря уже о пустых цифрах). Собственно, уже одно существование пустых цифр, ненаписанных строф освобождает нас от указания на особую роль пропусков, как и на то, что сами удаленные строфы и строки были удалены не по их несовершенству или личным и цензурным соображениям [22]. Дело становится более ясным, хотя не менее сложным, если попять эти пропуски как композиционный прием, все значение которого, значение необычайного веса, - не в плане, не в связи, не в происшествиях (фабула), а в словесной динамике произведения. В этих цифрах даются как бы эквиваленты строф и строк, наполненные любым содержанием; вместо словесных масс - динамический знак, указывающий на них; вместо определенного семантического веса - неопределенный, загадочный семантический иероглиф, под углом зрения которого следующие строфы и строки воспринимаются усложненными, обремененными семантически. Какого бы художественного достоинства ни была выпущенная строфа, с точки зрения семантического осложнения и усиления словесной динамики - она слабее значка и точек; это относится в равной или еще большей мере к пропуску отдельных строк, так как он подчеркивается явлениями метра [23]. Та же установка на словесный план и в окончании «Евгения Онегина», и в так называемых попытках продолжения его. Подлинным концом «Евгения Онегина» является, собственно, не LI строфа VIII главы, а следовавшие за нею, не только совершенно не приуроченные к какому-либо действию, но и вообще не внедренные в роман «Отрывки из путешествия Онегина», заканчивавшие как «Последнюю главу «Евгения Онегина»» (1832), так и прижизненное издание всего романа (1833). Мотивировано помещение «Отрывков» было предисловием, часть которого нам пришлось цитировать выше: «Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, к коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифрой; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последнею главою «Евгения Онегина» и пожертвовать одною из окончательных строф <...>» (Далее следует ссылка на замечание Катенина о вреде, нанесенном этим исключением плану, о происшедшей из-за этого внезапности и немотивированности перехода от Татьяны - уездной барышни к Татьяне - знатной даме.) Предисловие к последней главе, в которой подробно описывается замена девятого нумера восьмым («во избежание соблазна») и подчеркивается немотивированность перемены в героине, было тем более иронично, что оно вовсе не оправдывало помещения отрывков вслед за восьмой главой. Здесь Пушкин опять подчеркивал словесную динамику своего романа, и, несомненно, концом «Евгения Онегина» и являются «Отрывки из путешествия», помещение которых только так и можно объяснить [24]. Отступления в этих отрывках сгущены и сконцентрированы до пределов отступлений в круге одного предложения, одной фразы, которые, собственно, и тянутся от 63-го стиха до конца (стих 203): 63. Я жил тогда в Одессе пыльной... 91. А где, бишь, мой рассказ несвязный? В Одессе пыльной, я сказал. Я б мог сказать: в Одессе грязной 109. Однако в сей Одессе влажной Еще есть недостаток важный. И наконец, заключительная строка всего «Евгения Онегина» (ибо ею кончается роман) 203-й стих «Отрывков»: Итак, я жил тогда в Одессе... [25] Здесь кульминационный пункт всего романа; то, что Пушкин подчеркнул в LI (последней) строфе восьмой главы: И вдруг Как я с Онегиным моим, - умел расстаться с ним, здесь было реализовано им; композиционная сущность отступлений здесь сгущена до пределов языковой, синтаксической игры и необычайно подчеркнута чисто словесная динамика «Онегина». Что касается попыток «продолжения» - то, по-видимому, приходится говорить с большой осторожностью о действительном продолжении «Евгения Онегина». Здесь одно предварительное замечание. Из семи приводимых по этому поводу П.О. Морозовым отрывков (вернее, восьми: второй естественно распадается на два, ибо вторая половина его писана другим метром и повторяет тему первого отрывка), три (писанные в 1833 году) обычно относятся к началу неизвестного «послания к Плетневу и к друзьям» и только остальные (писанные в 1835 году) - к собственно «продолжению». Основывается это различение на различии метра и строфы; первые два отрывка (представляющие, повидимому, одно целое) писаны пятистопным ямбом, причем первый из них представляет в строфическом отношении композицию октавы, второй же характерно не выдержан: начало писано тем же пятистопником, но затем Пушкин колеблется и попадает снова в онегинский четырехстопник: Ты говоришь: «Пока Онегин жив, Дотоль роман не кончен; нет причины Его кончать <...> и т.д. Со славы, вняв ее призванью, Сбирай оброк хвалой и бранью и т.д. Третий отрывок писан александрийским стихом. Простого сопоставления первых отрывков с другими достаточно для того, чтобы показать, что все они одинаково являются вариациями одной темы, - и если первые отрывки признаны (по вполне достаточным основаниям) началом «продолжения», то такое же начало «продолжения» и в остальных. I Ты мне советуешь, Плетнев любезный, Оставленный роман мой продолжать <...> Ты думаешь, что с целию полезной Тревогу славы можно сочетать. А для того советуешь собрату <...> Брать с публики умеренную плату. Оброк пустой для нынешних людей. Неужто жаль кому пяти рублей? <...> II Ты говоришь: «Пока Онегин жив, Дотоль роман не кончен; нет причины Его кончать; к тому же план счастлив ...кончины <...> III Вы за Онегина советуете, други, Опять приняться мне в осенние досуги; Вы говорите мне: «Он жив и не женат Итак, еще роман не кончен: это клад! В его свободную, вместительную раму Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму. Прихлынет публика, платя тебе за вход, Что даст тебе и славу и доход». IV В мои осенние досуги <...> Вы мне советуете други Рассказ забытый продолжать. <...> Что должно своего героя Как бы то ни было женить, По крайней мере - уморить. <...> V Вы говорите: «Слава богу! Покамест твой Онегин жив, Роман не кончен. <...> Со славы, вняв ее призванью. Сбирай оброк <...> И с нашей публики меж тем Бери умеренную плату». <...> Таким образом, перед нами не октавная строфа и alexandrins послания, - а октава и alexandrins «продолжения Онегина» [26]. Это одно уже достаточно говорит за то, что при «готовом герое» и «славном плане» продолжение должно было быть совершенно самостоятельной вариацией; эмоциональный тон начала также совершенно иной: И, потчуя стихами, век железный Рассказами пустыми угощать. «Ряд картин» в «свободной, вместительной раме» романа должен был быть иным и только объединяться знакомым синтетическим знаком героя («герой готовый»); при этом «продолжение» (а на деле новое, самостоятельное произведение), может быть, должно было пародически выделиться на фоне «Онегина»: <...> должно своего героя Как бы то ни было женить. По крайней мере - уморить. Таким образом, «продолжение» было вызвано не незавершенностью романа (пародической), а использованием его «рамы» для новых целей. Пушкин сделал все возможное, чтоб подчеркнуть словесный план «Евгения Онегина». Выпуск романа по главам, с промежутками по нескольку лет, совершенно очевидно разрушал всякую установку на план действия, на сюжет как на фабулу; не динамика семантических значков, а динамика слова в его поэтическом значении. Не развитие действия, а развитие словесного плана. 3 В словесном плане «Онегина» для Пушкина было решающим обстоятельством то, что это был роман в стихах. В самом начале работы над «Онегиным» Пушкин писал князю Вяземскому: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах дьявольская разница! В роде «Дон-Жуана» - о печати и думать нечего; пишу спустя рукава». Предстояло слияние целого прозаического рода со стихом - и Пушкин колеблется. «Евгений Онегин» для него то роман, то поэма; главы романа оказываются песнями поэмы; роман, пародирующий обычные сюжетные схемы романов путем композиционной игры, колеблясь, сплетается с пародической эпопеей. 16 ноября 1823 года он пишет: «Пишу теперь новую поэму <...>»; 1 декабря 1823 года: «<...> пишу новую поэму <...> Две песни уже готовы»; 8 февраля 1824 года: «Об моей поэме нечего и думать <...>»; 13 июня 1824 года: «Попытаюсь толкнуться ко вратам цензуры с первой главой или песнью Онегина»; 24 марта 1825 года: «Ты сравниваешь первую главу с «ДонЖуаном» <...>»; в том же письме: «Дождись других песен... <...> 1-я песнь просто быстрое введение <...>»; в начале апреля 1825 года: «<...> готов поместить в честь его целый куплет в 1-ю песнь Онегина <...>»; 23 апреля 1825 года: «Толстой явится у меня во всем блеске в 4-й песне Онегина <...>»; в конце апреля 1825 года: «<...> пересылаю тебе 2 главу Онегина <...>»; 8 июня 1825 года: «Передай мне его мнение о 2-й главе Онегина <...>»; 14 сентября 1825 года: «<...> 4 песни Онегина у меня готовы <...> Радуюсь, что 1-я песнь тебе по нраву <...>»; 27 мая 1826 года: «В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь»; 1 декабря 1826 года: «Во Пскове, вместо того чтобы писать 7-ю главу Онегина, я проигрываю в штос четвертую <...>»; декабрь 1827 года: «<...> ты не можешь прислать мне 2-ю главу <...> благодаря тебя во всех книжных лавках продажа 1-й и 3-й глав остановилась»; в конце марта 1828 года: «<...> включить неприязненные строфы в 8-ю гл. Онегина?»; в конце февраля 1829 года: «Позволю послать вам 3 последние песни Онегина»; в начале 1829 года: «Кто этот атенеический мудрец, который так хорошо разобрал IV и V главу?»; 9 декабря 1830 года: «2 последние главы Онегина»; в октябре и ноябре 1830 года: «Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатанию четвертой и пятой песни «Евгения Онегина». Разбор сих глав, напечатанный в «Атенее» и т.д.; тогда же: «Г-н Б. Федоров в журнале, который начал было издавать, разбирая довольно благосклонно IV и V главу <...>»; «Шестой песни не разбирали <...>»; «Критику VII песни в «Северной Пчеле» пробежал я в гостях <...>», тогда же: «При появлении VII песни Онегина журналы вообще отозвались об ней весьма неблагосклонно. Я бы охотно им поверил, если бы их приговор не слишком уж противоречил тому, что говорили они о прежних главах моего романа. После неумеренных и незаслуженных похвал, коими осыпали 6 частей одного и того же сочинения <...>»; «В одном из наших журналов сказано было, что VII глава не могла иметь никакого успеху <...>»; «Вот еще две главы «Евгения Онегина» <...> Осьмую главу я хотел было вовсе уничтожить <...>». В пушкинском листке «Евгений Онегин» разбит на 3 части по 3 песни. 4 Стиховая форма давала себя чувствовать в колебаниях между поэмой и романом, песнью и главой. Но в стихотворном тексте Пушкин именно поэтому подчеркивал роман [27], который, совмещаясь со стихом (и смещаясь таким образом), становился особо ощутимым: Впервые именем таким Страницы нежные романа Мы своевольно освятим (II, 24), С героем моего романа <...> Позвольте познакомить вас (I, 2). Покаместь моего романа Я кончил первую главу (I, 60), В начале моего романа (Смотрите первую тетрадь) (V, 40). Роман этот сплошь литературен: герои и героини являются на фоне старых романов как бы пародическими тенями; «Онегин» как бы воображаемый роман: Онегин вообразил себя Гарольдом, Татьяна - целой галереей героинь, мать - также. Вне их - штампы (Ольга), тоже с подчеркнутой литературностью. Онегин: Как Child-Harold, угрюмый, томный В гостиных появлялся он (I, 38). Онегин жил анахоретом <...> Певцу Гюльнары подражая, Сей Геллеспонт переплывал, Потом свой кофе выпивал (IV, З6, 37). Ольга: Всегда скромна, всегда послушна, Всегда как утро весела, Как жизнь поэта простодушна, Как поцелуй любви мила, Глаза как небо голубые, Улыбка, локоны льняные, Движенья, голос, легкой стан, Все в Ольге... но любой роман Возьмите и найдете верно Ее портрет: он очень мил, Я прежде сам его любил, Но надоел он мне безмерно (II, 23). Татьяна: Ей рано нравились романы; Они ей заменяли все (II, 29). Воображаясь героиней Своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной (III, 10). Мать: Она любила Ричардсона <...> Сей Грандисон был славный франт (II, 30). (Следует при этом отметить близкое родство первоначального очерка Татьяны, влюбленной в Ричардсона, с очерком ее матери.) Подчеркнуты пародически все штампы романа: Господский дом уединенный, Горой от ветров огражденный, Стоял над речкою. <...> Огромный, запущенный сад, Приют задумчивых дриад (II, 1). Почтенный замок был построен, Как замки строиться должны (II, 2). И тут же, в следующей строфе, пародическая противоположность: Он в том покое поселился, Где деревенский старожил Лет сорок с ключницей бранился, В окно смотрел и мух давил (II, 3). Один среди своих владений <...> В своей глуши мудрец пустынный <...> И раб судьбу благословил (II, 4). Везде, везде перед тобой Твой искуситель роковой (III, 15). Блистая взорами, Евгений Стоит подобно грозной тени, И как огнем обожжена Остановилася она (III, 41). Быть может, чувствий пыл старинный Им на минуту овладел (IV, 11). И пилигримке молодой Пора, давно пора домой, <...> Но прежде просит позволенья Пустынный замок навещать (VII, 20). В возок боярский их впрягают (VII, 32). Стремится к жизни полевой, В деревню, к бедным поселянам (VII, 53). Она его не будет видеть; Она должна в нем ненавидеть Убийцу брата своего (VII, 14). (Последние два примера даны в мотивировке героини, сквозь ее призму.) Этот план высокого романа сочетается с планом романа бытового, который дают разговоры и повествовательные приемы. Вопрос о прозаической подпочве эпоса, о том прозаическом плане, на котором развивалась поэма, вставал не раз перед Пушкиным. Он писал по поводу «Кавказского пленника»: «Описание нравов черкесских, самое сносное место во всей поэме, не связано ни с каким происшествием и есть не что иное, как географическая статья или отчет путешественника. Характер главного лица (лучше сказать единственного лица), а действующих лиц - всего-то их двое, приличен более роману, нежели поэме <...>». По поводу «Бахчисарайского фонтана» он также писал: «Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины. Aux douces loix des vers je pliais les accents De sa bouche aimable et naive» [28]. Если вспомнить при этом прозаические планы и программы стихов, станет очевидно, что соотношение прозы и поэзии было для Пушкина обычным [29]; наличность программ и планов Пушкина доказывает нам, что общий композиционный строй его произведений восходит к плану, прозаической схеме; таким образом, отступления «Евгения Онегина» несомненно основной композиционный замысел, а не вторичное явление, вызванное стихом [30] (недаром один критик назвал их «наростами Стерна»), - но никогда оно не делалось само по себе самостоятельным, ощутимым моментом произведения, всегда оно так и оставалось подпочвой. 5 Сопряжение прозы с поэзией, бывшее в «Евгении Онегине» композиционным замыслом, делалось ощутимым само по себе и становилось само в ходе произведения источником важных следствий. Приведу несколько примеров такого динамического использования. Роман начинается с речи Онегина: «Но, боже мой, какая скука С больным сидеть и день и ночь, Не отходя ни шагу прочь! Какое низкое коварство Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарство, Вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя?» Эта прямая речь как начало романа интересна, но она еще интереснее как начало романа в стихах. Ход разговорной интонации вторгается в стих: то, что в прозе ощутимо исключительно со стороны значения, - в стихе ощущается именно вследствие необычного сочетания разговорной интонации со стихом. Интонационные приемы развиваются у Пушкина все ярче - раз интонация ощутилась: «Представь меня». - «Ты шутишь. - «Нету». (III, 2) (в пределах одного стиха три интонации). «Но куча будет там народу И всякого такого сброду...» - И, никого, уверен я! (IV, 49); - И, полно, Таня! В эти лета Мы не слыхали про любовь (III, 18) (яркая разговорная интонация с вводом интонационного словечка и). - Дитя мое, ты нездорова; Господь помилуй и спаси! Чего ты хочешь, попроси... Дай окроплю святой водою, Ты вся горишь... - «Я не больна: Я... знаешь, няня... влюблена» (III, 19) (отрывистая интонация диалога; повторения). - Итак, пошли тихонько внука С запиской этой к О... к тому... К соседу... да велеть ему Чтоб он не говорил ни слова, Чтоб он не называл меня... (III, 34) (еще более отрывистая интонация, недосказанное слово). Князь на Онегина глядит. - Ага! давно ж ты не был в свете (VIII, 17) (интонационный жест). «А я так на руки брала! А я так за уши драла! А я так пряником кормила!» (VII, 44) (однообразная, возрастающая интонация). Эти разговорные интонации, естественно возникающие при диалоге и становящиеся особо значительными в стихе, Пушкин использует и в других целях; он употребляет [их] в повествовании, когда интонационный налет как бы делает самое повествование некоторою косвенною речью героев: Ее находят что-то странной, Провинциальной и жеманной, И что-то бледной и худой, А впрочем очень недурной (VII, 46). Та, от которой он хранит Письмо, где сердце говорит, Где все наруже, все на воле, Та девочка... иль это сон?.. Та девочка, которой он Пренебрегал в смиренной доле, Ужели с ним сейчас была Так равнодушна, так смела? (VIII, 20) А он не едет; он заране Писать ко прадедам готов О скорой встрече; а Татьяне И дела нет (их пол таков); А он упрям, отстать не хочет, Еще надеется, хлопочет (VIII, 32). У! как теперь окружена Крещенским холодом она! (VIII, З3). Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась, Иль стала вдруг бледна, красна... У ней и бровь не шевельнулась; Не сжала даже губ она (VIII, 19). Последний пример - на границе интонаций, даваемых сквозь призму героев, и интонации, вводимой уже без всякой мотивировки, как авторская речь. Авторские ремарки, обращения etc. были определенным приемом прозы; автор иногда выдвигался до степени действующего лица; иногда оставался лицом, но бездействующим [31]; иногда был лицом сказывающим. При интенсивности семантического принципа в прозе - прием этот остается едва приметным («я» у Достоевского); но в стихе этот прием чрезвычайно ярко выделился тем, что все эти авторские ремарки, в интонационном отношении выдвигаясь как обособленные предложения, нарушали обычный интонационный строй стихов - становились интонационной игрой: Латынь из моды вышла ныне: Так, если правду вам сказать, Он знал довольно по латыне (I, 6). Замечу кстати: все поэты Любви мечтательной друзья (I, 57). И запищит она (бог мой!): Приди в чертог ко мне златой!.. (II, 12). Враги его, друзья его (Что, может быть, одно и то же) Его честили так и сяк. <...> Уж эти мне друзья, друзья! (IV, 18). Так он писал темно и вяло (Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут ни мало Не вижу я; да что нам в том?) И наконец перед зарею <...> (VI, 23) (величина обособл[енного] предлож[ения]). А что? Да так. Я усыпляю Пустые черные мечты (IV, 19). Еще есть недостаток важный; Чего б вы думали? - воды. (Отрывки из «Путешествия Онегина»). Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется vulgar. (He могу... (VIII, 15). Люблю я очень это слово, Но не могу перевести (VIII, 16). Последний пример особенно интересен тем, что перерыв происходит на границе двух строф, что создает на конце первой строфы как бы жест. Пушкин идет далее, внося интонационные словечки в авторские обращения: Кого твой стих боготворил? И, други, никого, ей-богу! (I, 58) Тьфу! прозаические бредни <...> А где, бишь, мой рассказ несвязный? (Отрывки из «Путешествия Онегина») Гм! Гм! Читатель благородный, Здорова ль ваша вся родня? (IV, 20). Последний пример в особенности интересен, так как делает интонационные словечки особо ощутимыми, делая их с стиховой, метрической стороны эквивалентами настоящих слов. То же и в разговорном сокращении: Да щей гоpшок, да сам большой (Отрывки из «Путешествия Онегина»). Интонация влияет даже на метрические особенности произведения: Визг, хохот, свист и хлоп, Людская молвь и конский топ! (V, 17) (в изд. 1828 г.; сдавшись на указания критики, Пушкин заменил слишком смелый в метрическом отношении стих: Лай, хохот, пенье, свист и хлоп!). Этот прием сгущается до введения жестов: Татьяна ах! а он реветь (V, 12). То, что в прозаическом романе имело бы значимость чисто семантическую, воспринималось бы как известный сюжетный пункт, то в стихе становится ощутимым конкретным моторным образом: Вдруг топот!.. кровь ее застыла Вот ближе! скачут... и на двор Евгений! «Ах!» - и легче тени Татьяна прыг в другие сени, С крыльца на двор, и прямо в сад, Летит, летит; взглянуть назад Не смеет; мигом обежала Куртины, мостики, лужок, Аллею к озеру, лесок, Кусты сирен переломала, По цветникам летя к ручью, И задыхаясь на скамью (III, 38) Упала... (III, 39). В этом отрывке яснее всего сказывается динамическая сила стиха; enjambement здесь обретает свой примитивный смысл моторного образа: и на двор (повышение и пауза, делающаяся более ощутимой именно оттого, что ее здесь не должно быть, оттого, что предыдущий стих связан с последующим) - Евгений (понижение и снова пауза); замечательную динамическую силу приобретают при этом стихи от enjambement взглянуть назад Не смеет; мигом обежала до Упала... Эти стихи совершенно не воспринимаются с точки зрения их значения - они являются как бы преградой для моторного образа - и поэтому упала достигает конкретности словесного жеста [32], конкретности, достигнутой исключительно стиховой динамикой [33]. 1) Подобно этому и простейшие явления прозаического романа деформировались стихом до степени ощутимости, которая становилась комической (именно вследствие того, что явление прозы, где семантика являлась организующим принципом, было преобращено в явление стиха, где таким принципом были фонические элементы). Такого эффекта Пушкин достиг уже в 34-й строфе III главы, где разговорные интонации как бы разрушили слово; но разрушенный элемент, не играющий в прозе роли самостоятельного слова, являющийся лишь его эквивалентом, в стихе является равноправным метрически членом, стиховым словом: С запиской этой к О... к тому К соседу... В 37-й строфе той же главы: Задумавшись, моя душа, Прелестным пальчиком писала На отуманенном стекле Заветный вензель О да Е. Здесь прием сгущен; по конкретность образа отступает на задний план перед чисто фоническим явлением уподобления стихом букв равноправным словам (даже рифмующим). То же в каламбурном виде в черновике 32-й строфы той же главы: И думала: что скажут люди И подписала: Т. Л. То же с различной силой в разных местах: И подпись: t. a. v. Annete (IV, 28). О ком твердили целый век: N. N. прекрасный человек (VIII, 10). Письмо: князь N. покорно просит (VIII, 21). Шестого был у В. на бале, Довольно пусто было в зале R. С. как ангел хороша («Альбом Онегина», 5). Вчера у В., оставя пир, R. С. летела как зефир («Альбом», 9). Вечор сказала мне R. C.: Давно желала я вас видеть. Зачем? - мне говорили все, Что я вас буду ненавидеть. («Альбом», 6). И, наконец, сгущение приема: Боитесь вы графини -овой Сказала им Элиза К. Да, возразил N. N. суровый, Боимся мы графини -овой, Как вы боитесь паука. («Альбом», 2). Обычный прозаический прием сокращения фамилий начальной буквой или окончанием (Элиза К., графини -овой) здесь приобрел совершенно необычное значение именно вследствие внедрения в стих [34], вследствие того, что эти обрывки слов не только играют роль самостоятельных слов, но, рифмуя с полными словами (-овой - суровый; Элиза К. паука), приобретают даже тень какого-то смысла. Крайне характерно, что Пушкин колебался в первом стихе; в черновом варианте он читается: Боитесь вы княжны -овой, причем стих, разрушаясь метрически, заставлял бы думать о пропуске и был бы несомненным прозаизмом (в прозе такие начертания имеют чисто зрительный характер и при громком чтении их ощущается неловкость). Отвергнув этот вариант, Пушкин следовал принципу: не роман, а роман в стихах. Наконец, подчеркнутая игра приемом в черновом отрывке из «Альбома Онегина»: Вчера был день довольно скучный; Чего же так хотелось ей? Сказать ли первые три буквы? К-Л-Ю-Клю... возможно ль, клюквы! 2) Подобно этому слово второстепенного значения, категория отношений (частицы etc.) выдвигаются стихом, их метрической ролью в стихе на степень полноправных слов. Этим отчасти и определяется разница языка поэзии и прозы; поэтический язык с трудом примиряется с второстепенными словами (ибо, который и т.д.) Чему-нибудь и как-нибудь (I, 5). То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему (I, 7) Что? Приглашенья? В самом деле, Три дома на вечер зовут (I, 15). Вдруг получил он в самом деле От управителя доклад (I, 52). Но так как с заднего крыльца Обыкновенно подавали Ему донского жеребца (II, 5). Но вот Неполный, слабый перевод (III, 81). 3) Особенно ярко сказывается эта роль стиха с его фоническим деформированием на именах собственных и на иностранных словах. 4) Точно так же соединение слов - играющий в прозе различную роль прием пересчета - в зависимости от стиховой природы приобретает совершенно иной смысл. Слова: бор, буря, ведьма, ель Еж, мрак, мосток, медведь, метель И прочая <...> (V, 24). Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башни, казаки, Аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах И стаи галок на крестах (VII, 38). Несомненно, здесь особый комизм пересчета не только в интонационной равности перечисляемых разных предметов (что есть и в прозе), но и в их метрической равности, в стиховой монотонии [35]. 5) Цитаты; комический синтаксис; мозаика. 6) Таким образом, слово выдвигается из обычных своих границ, начинает быть как бы словом-жестом. 6 Деформация романа стихом выразилась и в деформации малых единиц, и в деформации больших групп - и наконец, деформированным оказался в итоге весь роман; из слияния двух стихий, из их взаимной борьбы и взаимного проникновения родилась новая форма. Деформирующим элементом в «Евгении Онегине» был стих; слово как элемент значащий отступило перед стиховым словом, было затемнено им. Это коснулось малых групп романа в стихах: второстепенные слова, словечки, выражающие отношения грамматических категорий, силою стиха, своею метрическою ролью в нем приравнивались к равноправным словам; то же произошло и с условными обозначениями, в прозе являющимися всегда сближением с действительностью (сокращенные слова, начальные буквы); играя роль метрического, а иногда и рифмующего слова (т.е. в широком смысле - слова стихового), слова эти деформировались и относительно своего смысла, приобретали по соседству некоторую смысловую (комическую) окраску; при вводе в стиховой механизм интонационных словечек - они становились конкретными до степени звукового жеста. Отрезки романа, обычно построенные разно в прозе, производят впечатление мотивированных реальной действительностью. Эти отрезки могут не соответствовать развитию фабулы, но силою большего сродства худож[ественной] прозы с прозаическою речью, - неизбежно выделение существенного от менее важного (хотя бы и в условном значении этого слова); стиховые отрезки воспринимаются именно как стиховые, единообразие их освящено стихом - существенное приравнено к несущественному: динамика Стерна в «Тристраме Шенди» казалась отступлением, в «Евгении Онегине», где отступления приравнены к «действию» самим стихом, - этого не происходит. Эмоциональная смена в прозаическом романе всегда ощутима, в стиховых отрезках она естественно создается самим стихом. Деформирующим элементом в «Евгении Онегине» был стих. Таким образом: метрическая природа стиха, далее, его звуковая в узком смысле природа и, наконец, строфа. aAaAbbBBcDDcEE Для всей организации строфы характерно, что только один ритмический период построен по принципу перекрестных рифм; на этот один период приходится три с парными рифмами и один с опоясывающими. Важно при этом и расположение периодов: после перекрестного идут сразу два парных, затем опоясывающий, а кончается строфа опять-таки парным. При этом в строфе - перевес мужских парных над женскими: мужских шесть, женских всего две. На рифме раньше всего [в] теории и практике поэтической речи ясна деформирующая роль звучания по отношению к смыслу. Если для большинства критиков XIX века рифма является только фоническим элементом [36], то уже Шлегель подчеркнул всю важную роль рифмы во власти ее над смыслом - александрийский стих, смысловая роль рифмы в сонете. Для них рифма была явлением смысловым; смысл двух слов, фонически сближенных, взаимно пересекается; степень и направление этого пересечения определяется многими факторами: 1) фактором стиховой близости рифмующих слов (деформация смысла в стихах с перекрестными рифмами будет более слаба, чем в стихах с опоясывающими или парными) ; 2) фактором родства, грамматической близости рифмующих слов (деформация смысла родственных или близких грамматически слов будет иной, нежели при сопряжении слов несходных грамматических категорий); 3) фактором фонической близости рифмующих слов (фонически далекие слова, как известно, также вступают в рифму - ассонанс etc.; важное влияние имеет здесь и качество рифмы - мужской, женской, дактилической etc. - и привычность ее) [37]. Пушкин сознательно относился к смысловой роли рифм. Переход к белому стиху был для него переходом к новой семантике стиха. В «Мыслях на дороге» он пишет: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собою камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудной и чудной, верной и лицемерной и проч.? Много говорили о настоящем русском стихе. А.X. Востоков определил его с большою ученостию и сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным» [38]. Обычная рифма, однако, может быть использована именно вследствие своей крепкой ассоциативной связи: пламень, тащущий за собою камень, тем самым является семантически смещенным словом. Значение неожиданной рифмы сходно с банальной; и она семантически смещает слово; но тогда как в банальной рифме смещенным оказывается главным образом первое слово (пламень, в котором уже как бы дана тень камня), а второе слово, уже ожидаемое, при этом играет служебную роль, в неожиданной рифме столь же смещенным оказывается в первую очередь второе слово, только затем ассоциативно связывающееся с первым и смещающее его [39]. Примечания 1. Вид «petites poemes en prose» (Baudelaire) и «стихотворений в прозе» (Тургенев и мн. др.) и основан на полной неслиянности стиха с прозою; некоторая реакция на стихотворную форму в этом виде только подчеркивает ее принадлежность к прозе. 2. Таково, по-видимому, наше отношение к инверсиям прилагательного у Карамзина, объяснявшимся вначале их звуковою ощутимостью, но с течением времени начавшим ощущаться исключительно с их синтактикосемантической стороны. Здесь уместно напомнить любопытное суждение Шевырева о том, что народная песня с ее дактилическими окончаниями повлияла на прозу Карамзина, определив се дактилические клаузулы (и вследствие этого деформировав синтаксис). См.: «Москвитянин», 1842, ч. II, № 3, стр. 160-162. 3. Поэтому семантическая линия слов оказывалась как бы изломанной, и Ломоносов переводит термин троп как «отвращение», ср. у шишковца «извращение». 4. Легкой поэзии (франц.). 5. П.А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VII. СПб., 1882, стр. 149. 6. К.Н. Батюшков. Сочинения, т. II. СПб., 1885, стр. 331-332. 7. Таким образом, проза (не имманентная, а принцип) является первичной для Пушкина и всей указанной традиции. По нашему мнению, проза Пушкина естественно сформировалась из стиховых планов. (Иначе - у Б.М. Эйхенбаума, см. «Проза Пушкина»). 8. И.В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. I. М., 1861, стр. 15 (письмо к Кошелеву, 1828). 9. Выяснение семантической деформации слова со стороны стиха составляет предмет особой нашей работы. В последующем изложении частичным доказательством вышесказанного послужат примеры из «Евгения Онегина»; ср. в особенности: метризация слова; рифма и инструментовка как семантический фактор; происхождение и роль галлицизмов в прозе и [их] деформация в стихе. 10. Это зависит, кроме того, от того, что прозаизм ощущается именно как прозаизм, т.е. ассоциируется сразу по двум рядам - прозаическому и поэтическому. 11. Как далеко могут идти такие обогащения, не превращая прозы в поэзию и поэзии в прозу, пока соблюден конструктивный принцип, - доказывают явления, как крайности vers libre, с одной стороны, стихотворения в прозе, с другой, на что я уже указывал. При этом разделение на стихи часто является лишь показателем стиховой природы речи, ее конструктивного принципа, а стиховые собственно (моторно-динамические) функции такого разделения низводятся до минимума. 12. Хотите вы отыскать следы его шагов (франц.). 13. Надменный, гордый Ипполит, даже несколько дикий (франц.). 14. Столь черной ложью (франц.). 15. Где были бы вы сами (франц.). 16. Л.С. Пушкину, январь-февраль 1824 г. 17. «О трагедии Олина «Корсер» (1827). 18. «Баратынский» (1830). 19. Ср. о «Кавказском пленнике»: «Характер Пленника неудачен» (В.П. Горчакову, октябрь-ноябрь 1822 г.): «Простота плана близко подходит к бедности изобретения; описание нравов черкесских, самое сносное место во всей поэме, не связано ни с каким происшествием и есть не что иное, как географическая статья или отчет путешественника» (Н.И. Гнедичу, 29 апреля 1822 г.). О «Братьях разбойниках»: «Замечания твои насчет моих «Разбойников» несправедливы; как сюжет c'est un tour de force, это не похвала, напротив; но как слог я ничего лучше не написал» (П.А. Вяземскому, 14 октября 1823 г.). О «Бахчисарайском фонтане»: «Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины» (А.А. Бестужеву, 8 февраля 1824 г.). 20. Предисловия и примечания были для Пушкина еще одним сильным средством для подчеркивания или обнажения самой динамики романа, для создания романа романа, а кроме того, мотивированным вводом прозаических введений и отступлений, которые, таким образом, оттеняли стих. К остальным произведениям Пушкин дает редкие и скупые предисловия и примечания 4. В виде колоссального введения к первой главе «Евгения Онегина» был помещен «Разговор книгопродавца с поэтом» - любопытный пример композиционного внедрения целого произведения. 21. Сделанное с точки зрения «плана». 22. М. Гофман. Пропущенные строфы «Евгения Онегина». - «Пушкин и его современники», вып. XXXIIIXXXV. Пб., 1922, стр. 2. 23. Эти соображения не ослабеваются, а подкрепляются тем, что пропуск глав (и перестановка их) - частый прием композиционной игры (Стерн, Байрон, Кл. Брентано, Пюклер-Мускау, Гофман и т.д.). 24. В особенности это станет ясным, если принять во внимание, что Пушкин в первое полное издание «Евгения Онегина» не только не внес никаких неотделанных отрывков, но исключил не только предисловие 1-го и 2-го изд. I главы - «Разговор книгопродавца с поэтом», некоторые примечания, но и четыре раньше печатавшихся строфы (I глава - 36-я строфа, V гл. - 37-я и 38-я строфы, VI гл. - 47-я строфа, перенесенная в примечания), оставив в то же самое время на конец «Отрывки из путешествия Онегина». 25. Интересно при этом, что у Пушкина была готова целая строфа (см. М. Гофман. Пропущенные строфы..., стр. 254-255), начинавшаяся этим стихом, но он предпочел кончить «Онегина» именно отрывком, первой строкой. 26. Характерно колебание Пушкина в метре продолжения между пятистопником и четырехстопником (7-й отрывок): Ты мне велишь, мой строгий судия, На прежний лад... настроя, Давно забытого героя, Когда-то бывшего в чести, Опять на сцену привести. Если чтение В.Е. Якушкина («Русская старина», 1884, кн. 12, стр. 525) и П.О. Морозова правильно и 2-й отрывок не состоит из двух отдельных, то пред нами любопытное колебание 5-стопного и 4-стопного ямба [...]. 27. Так же и в подзаголовке во всех изданиях: роман в стихах. 28. Из чернового письма Н.И. Гнедичу от 29 апреля 1822 г. и письма А.А. Бестужеву от 8 февраля 1824 г. 29. Прозаические программы были первичным явлением для Пушкина по сравнению со стихами, что согласуется с карамзинской традицией (слова). Нельзя не указать при этом на возможность постановки вопроса о происхождении пушкинской прозы из стиховых планов и программ. (Другое разрешение вопроса см. у Б.М. Эйхенбаума). 30. Вопреки мнению М.Л. Гофмана о том, что отступления в «Евгении Онегине» - не общий композиционный замысел, а порождены стихом, «формой лирического романа». 31. Намеки на это и в «Евгении Онегине» («Онегин, добрый мой приятель»); и рисунок: Пушкин с Онегиным; «Скитаясь в той же стороне, Онегин вспомнил обо мне» («Путешествие Онегина»). 32. Ср. с термином «звуковой жест». 33. Большую роль играют здесь внутренние рифмы, которые в соединении с enjambement еще более нарушают границы ритмических рядов: 1) и на двор Евгений! «Ах!» и легче тeнu Татьяна прыг в другие сени 2) лужок лесок переломала ручью скамью Упала. мигом обежала 34. Весь отдельный отрывок построен на этом приеме, представ[ленном] как бы экспери[ментально]. 35. Ср. I, 35, где картина утра «А Петербург неугомонный...» комична вследствие разрешения строфы: И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке, не раз Уж отворял свой васисдас. 36. На неправильность такой постановки вопроса могут указать явления, как рифма Маяковского, где фонический элемент отступает перед смысловым. 37. С той же точки зрения мы относимся и к так называемой инструментовке стиха (очей очарованье, «Талисман» etc.). 38. О том же кн. Вяземский Ум говорит свое, Хочу ль сказать, к кому Державин рвется в стих, а попадет Херасков. в послания к а был Феб В.А. Жуковскому вздорщица из русских (1821): свое. ласков, 39. Вот почему богатая рифма вовсе не является предпочтительно ценной перед банальной - все дело зависит от того, какую деформацию смысла она собою являет. (Ср. полемику Панаева с Павловой по поводу богатых рифм - при бедной рифме Некрасова.) http://www.philology.ru/literature2/tynyanov-77g.htm Р. Якобсон ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ "ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА" (Якобсон Р. Работы по поэтике. - М., 1987. - С. 219-224) Крым, писал Пушкин незадолго до смерти (в письме к Н.Б. Голицыну 10 ноября 1936 г.), есть "колыбель моего Онегина". Поэт считал путешествие по Кавказу и Крыму, совершенное им в 1820 году с семьей генерала Раевского, счастливейшим временем своей жизни. Воспоминания о тайной, но незабываемой любви Пушкина к Марии Раевской обнаруживаются в его романе в стихах, причем не только в лирических отступлениях, но и в некоторых чертах Татьяны Лариной. В 1825 г., незадолго до восстания декабристов, Мария Раевская вышла замуж за князя Волконского, двадцатью годами ее старше, а впоследствии героически последовала за ним в Сибирь, куда он был сослан на каторгу за участие в восстании. Историки литературы нашли также черты сходства между Евгением Онегиным и братом Марии Александром Раевским, известным прототипом пушкинского "Демона", лирического стихотворения 1823 г. Живя у Раевских в Крыму, Пушкин увлекся произведениями Байрона, влияние которого на Пушкина постепенно угасает и окончательно преодолевается в "Евгении Онегине". На основе незавершенного лирического наброска "Таврида", посвященного крымской теме и датируемого 1822 г., Пушкин вырабатывает оригинальное строфическое построение, реализованное в первой главе "Евгения Онегина", над которой он начал работать в мае следующего года в Кишиневе. В письмах он сообщает, что доволен началом новой поэмы, что, по его собственным словам, случается с ним довольно редко. Поэт настаивает на том, что это лучшее его произведение. Когда выходят в свет первые главы романа, их встречает исключительный успех. "4-я и 5-я песни Онегина составляют в Москве общий предмет разговоров, - сообщает "Московский Вестник", - и женщины, и девушки, и Литераторы, и светские люди, встретясь, начинают друг друга спрашивать: читали ли вы Онегина, как вам нравятся новые песни, какова Таня, какова Ольга, каков Ленский и т.д." ["Московский вестник", 1828 г., ч. VII, № 4 (статья NN)]. Аналогично писал один журнал в 1840 году: "Его читают во всех закоулках русской империи, во всех слоях русского общества. Всякий помнит наизусть несколько куплетов. Многие мысли поэта вошли в пословицу" ["Библиотека для чтения", 1940 г., т. 39]. Ведущие русские критики считали "Евгения Онегина" самой оригинальной книгой Пушкина, а знаменитый Белинский писал: "Оценить такое произведение значит - оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности" [1]. И прославление и отрицание пушкинского творческого наследия опирается прежде всего на "Евгения Онегина". И даже если для новой символистской и постсимволистской эпохи "Онегин" и кажется более "историческим", "музейным" произведением, чем, скажем, более "современные" "Медный всадник" и "Пиковая дама", все же остается в силе и по сей день утверждение одного из современников Пушкина: "Сном Татьяны восхищаются все - и охотнику до бреду, и охотники до истины, и охотники до Поэзии" ["Московский Вестник", 1828, ч. VII, № 4 (статья NN)]. В этом душном и зловещем сне, созданном Пушкиным в те дни, когда грозный террор навис над заключенными декабристами, реальность бреда преображается в фантастическую поэзию, неожиданно и невероятно приближающую образ пылкой Татьяны к лирике сегодняшнего дня, а беглый эскиз ее ужасных видений удивительно близок современному живописному гротеску параноидного толка. В марте 1824 г. Пушкин писал другу из тогдашнего места своего изгнания - Одессы: "...пишу пестрые строфы романтической поэмы - и беру уроки чистого афеизма" (письмо П.А. Вяземскому [?] от марта 1824 г.). Эта поэма, или "роман в стихах", и есть "Евгений Онегин". Что связывает его с романтизмом? В современных историко-литературных исследованиях справедливо подчеркивается, что движущей силой этого произведения является ирония романтизма, которая преподносит нам одну и ту же вещь с противоречивых точек зрения то гротескно, то серьезно, то одновременно и гротескно и серьезно. Эта ирония есть отличительная черта проникнутого безнадежным скептицизмом героя, однако она выходит за рамки данной характеризующей функции и фактически окрашивает всю фабулу романа, как если бы мы глядели на нее глазами его героя. Современник поэта удачно сравнивал "Онегина" с музыкальным каприччио и справедливо указывал, что поэт "попеременно играет то умом, то чувством, то воображением, попеременно весел и задумчив, легкомыслен и глубок, насмешлив и чувствителен, едок и добродушен; - он не дает дремать ни одной из душевных наших способностей, и, не занимая каждой из них надолго, ни одной не утомляет" ["Сын Отечества", 1828 г., ч. 118, № 7]. Устранение жесткой системы ценностей, постоянное взаимопереплетение высоких и низких, а порою и иронических, суждений об одном и том же предмете стирают границу между торжественным и обычным, между трагическим и комическим. У Пушкина мы видим высочайшее искусство proprie communia dicere [говорить своими словами общеизвестное], восхищавшее Мериме и Тургенева, и в то же время искусство говорить просто о сложнейших вещах - ту особенность романа в стихах, которая очаровывала самого утонченного из русских романтических поэтов - Баратынского. Пушкинские языковые приемы производили впечатление случайного подбора естественных и даже небрежных слов и в то же время выбора обдуманного, выверенного, строгого. Как справедливо отметил Белинский, в романе Пушкина отрицание похоже на любование. Так, несмотря на сатирическое отображение в романе русского общества - как городского, так и поместного, те критики, которые видели в нем желанный противовес сатирически направленной литературе (А.В. Дружинин), отнюдь не ошибались. Действительно, даже сам поэт дает противоречивые ответы на вопрос о том, есть ли сатира в "Онегине". Элегические строки о кончине Ленского сменяются указанием другой возможности - предположительным счастливым концом, отрицанием бессмысленной смерти, картиной того славного будущего, которое, быть может, ожидало юного поэта; однако непосредственно вслед за этим рисуется противоположная альтернатива - постепенное духовное увядание Ленского. Благоговейный пафос предшествующего образа тем самым снимается, и трагическая смерть юноши получает некоторое оправдание. Высочайшая драма Онегина - его страстная любовь к Татьяне - представлена на двух уровнях, трагическом и фарсовом, между тем как роман сводится в конце к комической ситуации: поклонника застает супруг его возлюбленной. Действие романа на этом завершается, и в заключение перед читателем воспроизводится две основных лирических мотива, проходящих через все произведение. Это, с одной стороны, идеальный образ Тани и в отдалении тень воспоминаний поэта, которые время от времени возникают на фоне этого образа; и, с другой стороны, это тема прошедшей, ничем невосполнимой юности. Эта тема пронизывает роман, и еще Герцен проницательно заметил, что Онегин убивает в Ленском свой юношеский идеал и что поздняя любовь Онегина к Татьяне - это лишь последняя трагическая греза невозвратимой юности. Образ юности и образ Татьяны составляют канву чистого лиризма в романе Пушкина. Есть у нас ремонт балкона сайт хороший. Поэт-повествователь сознательно направляет внимание на стихотворный строй произведения: "... теперь я пишу не роман, а роман в стихах - дьявольская разница" - так поясняет Пушкин (в письме к П.А. Вяземскому 4 ноября 1823 г.). И автор, и читатель, а также непосредственные действующие лица повествования - постоянные, активные характеры в "Евгении Онегине". Их взгляды на мир по-разному переплетаются, и это взаимопроникновение субъективных смыслов создает впечатление надличностной, олимпийской объективности произведения. Внутренние противоречия намеренно вводятся автором как особый компонент произведения, как признает в конце первой главы Пушкин в соответствии с поэтикой романтизма; допустимы и колебания смысла. Слишком жесткая определенность умертвила бы развитие поэмы; вместе с тем следовало усилить неясное впечатление свободного течения романа, лишенного строгого плана. В первоначальном предисловии к первой главе автор прямо высказывал сомнения в том, что поэма будет вообще когда-то закончена. По собственному расчету Пушкина, он работал над "Онегиным" семь лет, четыре месяца и семнадцать дней (с 9 мая 1823 г. по 25 сентября 1830 г.); окончательная редакция последней главы была готова еще через год. За этот период в жизни Пушкина и его друзей в Российской империи и в Европе произошло много событий. Его взгляды и кругозор существенно изменились. Изменилась и его концепция романа в стихах, его отношение к героям; фабула приняла новую форму и новые направления. С каждой новой главой "Онегина" менялся и возраст поэта, и все дальше оставалась позади утраченная юность. События его жизни стали динамикой его произведения; изменение во взглядах автора вызывало противоречия между отдельными частями романа, усиливало его жизненность. Чередование различных точек зрения на одну и ту же вещь полностью согласуется с поэтикой Пушкина и, таким образом, оказывается справедливым парадокс, проницательно подмеченный Белинским: самые недостатки "Евгения Онегина" составляют его величайшие достоинства [в "Статье восьмой" о Пушкине - см. В.Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 7. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 431-432]. Каждый пушкинский образ столь гибок и многозначен и проявляет столь удивительные ассимилятивные свойства, что легко согласуется с самыми разнообразными контекстами. С этим связана и поистине изумительная способность Пушкина к поэтическому перевоплощению. Поэтому разные критики по-своему осмысляют черты автора "Онегина". В известных инвективах против "Онегина" Писарев утверждает, что Белинский любил того Пушкина, которого он сам создал; но можно с равным основанием сказать, что Писарев испытывал неприязнь к тому Пушкину, котого он сам сфабриковал, и то же самое можно повторить mutatis mutandis относительно любой попытки однобокой интерпретации творения Пушкина. Если мы вслед за внимательным Добролюбовым осознаем, что Пушкин вовсе не вкладывал в свои образы какой-то один смысл, то мы поймем тщетность бесконечных споров по поводу того, как интерпретировать смысловое многообразие романа эпистемологически - как богатство содержания или как отсутствие содержания - и как оценивать его этически - как нравственный урок или как проповедь безнравственности. Мы поймем, как "Евгений Онегин" может стать проявлением бессильного отчаяния для одного выдающегося писателя и выражением полного эпикурейства для другого и каким образом могли появиться такие противоречивые суждения о главном герое романа, как панегирик Белинского и порицание Писарева. Размышление Татьяны об Онегине в строфе XXIV седьмой главы, представляющее собой цепь противоречивых, полных сомнения вопросов, выразительный пример пушкинской колеблющейся характеристики. аналогичное раздвоение образа, которое, однако, оправдано эволюционно ("Ужель та самая Татьяна...?", "Как изменилася Татьяна!") отличает характеристику Татьяны в последней главе (строфы XX и XXVIII). Либо такого рода колеблющаяся характеристика вызывает у читателя представление об уникальной, сложной, неповторимой индивидуальности, либо, если читатель привык к ясно очерченной обрисовке образов, у него складывается впечатление (здесь мы процитируем несколько пресловутых выражений, имевших хождение в критике пушкинского времени), что в романе "нет характеров" ["Атеней", 1828 г., ч. I, № 4, статья В.], "герой романа есть только связь описаний" ["Московский телеграф", 1825 г., ч. 2, № 5, статья Н.А. Полевого], "характеристики бледны", "Онегин изображен не глубоко", "Татьяна лишена типичных черт" и т.п. Последующие попытки различных комментаторов осмыслить Онегина как тип приводили либо к выводам, которые по иронии судьбы противоречили друг другу, либо к таким парадоксальным формулировкам, как "типичное исключение". Именно предположение о том, что Онегин представляет прежде всего исторический тип, ведет к обычной ошибке, которую вслед за Герценом повторил известный историк Ключевский в отдельном очерке ["Предки Евгения Онегина"]. Онегинизм должен быть следствием неудачи декабрьского восстания 1825 г.; Онегин, - говорят критики, - это сломленный декабрист. Историко-литературные исследования показали, однако, что, в соответствии с некоторыми деталями романа, его действие относится к первой половине 20-х годов, а завершается весной 1825 г. Более того, две трети общего объема "Евгения Онегина" были написаны до конца 1825 г. Как красноречиво свидетельствуют письма Рылеева и Бестужева к Пушкину, надлом Евгения был совершенно неприемлем и чужд будущим декабристам, равно как им были чужды холодная проповедь Онегина влюбленной Татьяне, изъявление любви "равнодушной княгине" и фактически все существование Онегина (здесь нельзя не согласиться с Герценом). Попытки однозначной оценки социальной тенденции романа также были неудачны. Пушкин начал роман в эпоху бурных революций. Он сообщает об этом своим друзьям иносказательно (на случай полицейской проверки корреспонденции). Он пишет, что "захлебывается желчью" в своей новой поэме [в письме к А.и. Тургеневу 1 декабря 1823 г.] и что "если когда-нибудь она и будет напечатана, то, верно, не в Москве и не в Петербурге (письмо к А.А. Бестужеву 8 февраля 1824 г.). Настроения безысходности, которые, в связи с усиливающейся реакцией в России и с поражением революционного движения в Европе, охватывают Пушкина в период бессарабской ссылки, сначала ассоциируются с бунтом. Это наиболее ярко отражено в лирике Пушкина данного периода. Безысходность усиливается, поэт постепенно приспосабливается к цензуре, его бунт все в большей мере утаивается. В конце концов даже внешне безобидные фразы приобретают трагическую окраску в свете зловещих событий, связанных с декабрем 1825 г. В последней строфе романа цитата из Саади, которая не так давно казалась невинно-орнаментальной - "иных уж нет, в те далече" [2], приобретала смысл воспоминания о казненных и томящихся в неволе декабристах, а смерть Ленского ассоциировалась с заточением его прототипа, поэта Кюхельбекера. Тема смирения усиливается с каждой главой и достигает кульминации в заключительных словах Татьяны: Но я другому отдана; Я буду век ему верна [3]. В своей знаменитой речи о Пушкине Достоевский - в противоположность Белинскому находит в этих словах не трагедию смирения перед жизнью, а апофеоз смирения, и он пытается обосновать его эстетически и распространить его на все творчество Пушкина. Однако тезис Татьяны повторяется вскоре после заключительной главы "Онегина" (завершенной в конце сентября 1830 г.) в прозе поэта - в повести "Метель" (октябрь 1830 г.) и в романе "Дубровский" (1832-1833) - как открытое, явное выражение смирения, и здесь уже невозможно применить интерпретацию Достоевского эстетически. Более того, этот мотив совершенно чужд творчеству молодого Пушкина: он открыто осмеивается в "Графе Нулине" (1825), а в поэме "Цыганы" (1823-1824), на которую ссылается Достоевский, дерзко осуждается именно тот, кто стремится к постоянной верности. Отличная возможность - выбрать холодильник на Техника.Ру Если автор "Униженных и оскорбленных" хотел приписать произведению Пушкина смысл решительного предостережения против "фантастического" революционного действия, то и антипод Достоевского Писарев в своей полемике с Белинским склонен отстаивать ту же самую позицию: "Весь "Евгений Онегин" - не что иное, как яркая и блестящая апофеоза самого безотрадного и самого бессмысленного quatu quo" [4]. Относительно недавно расшифрованные фрагменты еще одной главы романа раскрывают явную ошибочность этой тенденциозной, однобокой интерпретации. Эта глава, содержащая сжатый очерк революционной борьбы против реакции в России и Европе, отвечала внутренней, духовной потребности поэта: о публикации столь оппозиционных, столь явно направленных против самодержавия мыслей нельзя было и думать, даже одно только распространение рукописи грозило бы поэту суровой карой. В октябре 1830 г., опасаясь обыска, он сжег ее и оставил лишь зашифрованную запись начальных строк некоторых строф: Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда... Восстание декабристов должно было составить основное содержание этой главы - ведь действие предшествующей главы заканчивается за несколько месяцев до этого восстания. Какую роль суждено было играть в нем Евгению? Суждено ли было Татьяне принять героический жребий княгини Марии Волконской? Здесь мы можем обратиться к знаменитым словам Достоевского о великой тайне, которую Пушкин унес с собой в могилу и которую мы без него разгадываем. Примечания 1. В.Г. Белинский. "Сочинения Александра Пушкина" (ред. Н.И. Мордовченко), Л., 1937, с. 385 [из "Статьи восьмой" о Пушкине - см. В.Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 7, м., Изд-во АН СССР, 1955, с. 431]. 2. Ранее Пушкин использовал эту цитату из Саади в качестве эпиграфа к "Бахчисарайскому фонтану". 3. Именно этот мотив безнадежного смирения Пушкин непосредственно связывает в "Путешествии Онегина" с признанием своего отступления от романтизма, которое некоторые советские критики по чистому недоразумению принимают за революционный элемент в творческом развитии поэта. 4. Д.И. Писарев. Пушкин и Белинский (1865). - Полн. собр. соч. в 6 томах, 4-е изд., т. V (Санкт-Петербург, 1904), с. 63 [см. Д.И. Писарев. "Сочинения", т. 3. М., ГИХЛ, 1956, с. 357]. http://www.philology.ru/literature2/jakobson-87c.htm В. Э. Вацуро ЛЕРМОНТОВ (История всемирной литературы. - Т. 6. - М., 1989. - С. 360-369) Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) явилось высшей точкой развития русской поэзии послепушкинского периода и открыло новые пути в эволюции русской прозы. С именем Лермонтова связывается понятие «30-е годы» - не в строго хронологическом, а в историко-литературном смысле, - период с середины 20-х до начала 40-х годов. Поражение декабрьского восстания породило глубокие изменения в общественном сознании; шла переоценка просветительской философии и социологии, основанной на рационалистических началах, - но поворот общества к новейшим течениям идеалистической и религиозной философии (Шеллинг, Гегель) нес с собой одновременно и углубление общественного самоанализа, диалектическое мышление, обостренный интерес к закономерностям исторического процесса и органическим началам народной жизни. Творчество Лермонтова чрезвычайно полно отразило новый этап эволюции общественного сознания, причем в ускоренном виде: вся его литературная жизнь - от ученических опытов до «Героя нашего времени» продолжается неполных тринадцать лет (1828-1841), за которые им было написано более 400 стихотворений, около 30 поэм, 6 драм и 3 романа. Путь Лермонтова начинается под знаком байронической поэмы. Уже одно это было актом самоопределения поэта: ни архаическая литературная среда Благородного пансиона, где он учился в 1828-1830 гг., ни новое поколение литераторов, обособившееся от пансионских учителей и создавшее «Общество любомудрия», занятое проблемами эстетики, истории, шеллингианской философии, отнюдь не сочувствовали «русскому байронизму». Между тем творчество Байрона и Пушкина периода «южных поэм» становится для будущего поэта основным эстетическим ориентиром. «Русский байронизм» был явлением не привнесенным, а органическим; одним из частных выражений складывающейся романтической системы литературного мышления 30-х годов. Романтический индивидуализм, с характерным для него культом титанических страстей и экстремальных ситуаций, лирическая экспрессия, сменившая гармоническую уравновешенность и сочетавшаяся с философским самоуглублением, - все эти черты нового мироощущения искали себе адекватных литературных форм. С первых шагов Лермонтов обнаруживает тяготение к балладе, романсу, лиро-эпической поэме и равнодушие к элегии или антологической лирике, характерным для 20-х годов. «Байроническая» (лирическая) поэма, первые русские образцы которой дал Пушкин в 1821-1824 гг., к концу десятилетия переживает в России свой расцвет, приобретая роль ведущего жанра. Такая поэма несет в себе определенную концепцию: в центре ее - герой - изгой и бунтарь, находящийся в войне с обществом и попирающий его социальные и нравственные нормы (ср. у раннего Лермонтова «Преступник», 1829; «Атаман», 1831); над ним тяготеет «грех», преступление, обычно облеченное тайной и внешне предстающее как страдание. Страдания героя - важная концептуальная черта поэмы. Все повествование концентрируется вокруг узловых моментов духовной биографии героя; оно отступает от эпического принципа последовательно хронологического изложения событий, допуская временные смещения, сюжетные эллипсисы («вершинная композиция»); оно строится как диалог, приближаясь к лирической драме, или, напротив, как монолог-исповедь, в которой эпическое начало как бы растворяется в субъективно-лирической стихии («Исповедь», 1830—31). В концепции такой лирической драмы или поэмы особое место принадлежит любви; отвергнутый обществом, герой как бы сосредоточивает все свои душевные силы на одном объекте - своей возлюбленной, образ которой, воплощая в себе «ангельское начало», контрастирует обычно с главным героем. Создается особая шкала этических ценностей: любовь равноценна жизни; утрата ее - смерти, и с концом любви (смертью или изменой возлюбленной) прекращается и физическое существование героя. В той или иной степени эта художественная концепция прослеживается во всех сколько-нибудь крупных замыслах раннего Лермонтова, вплоть до ранних редакций «Демона». Идущая от Байрона и Пушкина литературная традиция подсказывала географические и временные координаты лирической поэмы. Обычно это юг и Восток или европейское средневековье, где искали «естественные» характеры и пылкие страсти, не подчиненные «прозаическим» требованиям современного социального этикета. «Восток» Лермонтова это, как правило, Кавказ, который он повидал в детстве; кроме того, поэт опирался как на литературные, так, по-видимому, и на устные сведения о быте, этнографии и истории горских народов («Каллы», 1830-1831, «Измаил-Бей», 1832; «Аул Бастунджи», 1833-1834; «Хаджи-Абрек», 1833). Хотя эти поэмы не лишены традиционного «ориентального» экзотизма, работа над ними оказалась для Лермонтова школой исторического и литературного изучения культуры, быта и психологии народов Кавказа - школой, которая очень помогла впоследствии автору «Беглеца» и «Героя нашего времени». Главная цель «средневековых» поэм Лермонтова состояла почти исключительно в разработке центрального характера («Литвинка», 1832); в то же время эти произведения подготовили поэмы, основанные на национальном материале («Последний сын вольности», 1831; «Боярин Орша», «Песня про царя Ивана Васильевича...»). Работа над поэмами накладывает свой отпечаток и на лирику Лермонтова 1830-1831 гг., предопределяя особенности лирического субъекта. В эти годы идет формирование личности поэта; его напряженная духовная жизнь находит выход в нескольких мучительных увлечениях, следующих одно за другим (Е. П. Сушковой, Н. Ф. Ивановой, В. А. Лопухиной); эпизоды интимной биографии закрепляются в сериях стихотворений, связанных единством лирического адресата и отражающих разные стадии развивающегося чувства; в этом смысле условно говорят о лирических циклах - «сушковском», «ивановском», «лопухинском». Эти «циклы» обычно рассматриваются как лирический дневник; действительно, в нем явственно ощущается автобиографическая основа, однако это, конечно, литературная автобиография, и самые границы «циклов» неизбежно размыты и условны. Как и в поэмах, переживания лирического субъекта отличаются напряженным драматизмом; в этих стихах доминируют мотивы неразделенного чувства, измены и пр.; Лермонтов как бы соотносит свое лирическое «я» с трагическими судьбами реальных поэтов прошлого, которые стали уже предметом литературного обобщения, - с А. Шенье и прежде всего с Байроном. Эти аналогии формируют лирическую ситуацию, - с ожиданием гибели, нередко казни, изгнания, общественного осуждения. Здесь юный Лермонтов вновь находит опору в байроновской поэзии; в стихах 1830—1831 гг. многократно варьируются байроновские строки, ключевые формулы и лирические мотивы, в том числе и эсхатологические, почерпнутые из «Сна» и «Тьмы». Отчасти под воздействием Байрона в его творчестве возникает особый жанр «отрывка» - лирического размышления, медитации. Эти «отрывки» также приближены к лирическому дневнику, однако в их центре не событие, а определенный момент непрерывно идущего самоанализа и самоосмысления. Это самоанализ, придающий ранней лирике Лермонтова особый характер «философичности», свойственный всему его поэтическому поколению, во многом еще подчинен принципу романтического контраста. Лермонтов мыслит антитезами покоя и деятельности, добра и зла, земного и небесного, наконец, антитезой собственного «я» и окружающего мира. Однако в его стихах уже содержатся элементы диалектики, которые затем получат развитие. В лирике 1830-1831 гг. мы находим и непосредственно социальные, и политические мотивы и темы. Следует заметить, что политическая лирика в прямом смысле, столь характерная для русской литературы 20-х годов, в творчестве Лермонтова редкость; социально-политические проблемы, как правило, присутствуют в нем неявно, в сложной системе философских и психологических опосредований, хотя именно на их основе вырастает тот пафос скептицизма и отрицания, которым проникнуто все лермонтовское литературное наследие. Но в 1830-1831 гг. эти проблемы выступают в наиболее обнаженной форме. Московский университет, где учится в эти годы Лермонтов, жил философскими и политическими интересами; в нем сохранялся еще и дух демократической и независимой студенческой корпорации, порождавший поэзию Полежаева (о котором Лермонтов вспомнил затем в «Сашке») и студенческие кружки и общества Станкевича, Герцена и Белинского. О связи Лермонтова с этими кружками нет никаких сведений, однако он, несомненно, разделял свойственный им дух политической оппозиции. Антитиранические и антикрепостнические идеи нашли у него выражение еще раньше - в «Жалобах турка» (1829), а в интересующее нас время - в целой серии стихов, посвященных европейским революциям 1830-1831 гг. («30 июля (Париж) 1830 года», «10 июля 1830»). Происходит конкретизация байронической фигуры изгоя и бунтаря; возникает так называемый «провиденциальный цикл», где лирический субъект оказывается непосредственным участником и жертвой социальных катаклизмов; отсюда, между прочим, и обостренный интерес Лермонтова не только к событиям Французской революции («Из Андрея Шенье», 1830-1831), но и к не стершейся в памяти общества эпохе пугачевщины («Предсказание», 1830). В драме «Странный человек» (1831) сцены угнетения крепостных достигают почти реалистической социальной конкретности; самый «шиллеризм» этой драмы, во многом близкой юношеской драме Белинского «Дмитрий Калинин», был очень характерным проявлением настроений, царивших в московских университетских кружках. Так подготавливается проблематика первого прозаического опыта Лермонтова - романа «Вадим» (1832-1834) с широкой панорамой крестьянского восстания 1774-1775 гг. Это роман еще тесно связан с лирикой и поэмами Лермонтова: как и поэмы, он построен по принципу единодержавия героя, контрастного сопоставления центральных характеров («демон» - Вадим, «ангел» - Ольга); характер Вадима близок к «герою-злодею» байронической поэмы. Сюжетные мотивы и концептуальные моменты романа (физическое уродство героя, намечающийся мотив инцеста, экстремальность чувств и поведения, наконец, повышенная экспрессивность языка) сближают его с прозой «неистовой школы» (ранний Бальзак, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго); однако повествовательно-бытовая сфера с народными сценами и «прозаическими» героями (Юрий) по мере развития сюжета приобретала все большую автономность, оказываясь средоточием социальных конфликтов. Может быть, поэтому роман остался незаконченным. Роман о Вадиме пишется уже в Петербурге. В 1831 г., оставив Московский университет, Лермонтов переезжает в столицу и 1832-1834 годы проводит в стенах Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Малопродуктивные в творческом отношении, эти годы были важны, однако, для внутренней эволюции Лермонтова; уже к 1832 г. «лирическое неистовство» двух предшествующих лет идет на спад и начинается постепенное возвращение к лиро-эпическим формам, но уже на новой основе. Стихи 1832 г. - уже не лирический дневник; объективное начало в них опосредованно, а круг жизненных впечатлений и образных средств шире. «Парус» написан именно в 1832 г., как и «Желанье», «Тростник», «Два великана», где ощущаются симптомы более углубленного освоения народной поэзии. В 1835 - начале 1837 г. Лермонтов общается с петербургскими литераторами. О его окружении в это время известно мало; мы знаем, однако, что в него входили люди, близкие к формирующемуся славянофильскому лагерю (С. А. Раевский, А. А. Краевский). В этом общении у Лермонтова укрепляется уже определившийся интерес к проблемам национальной истории и культуры, а также - к сюжетному характерологическому повествованию на современном материале, первыми опытами которого были его ранние драмы. Незаконченный роман «Княгиня Лиговская» (1836) знаменовал этот этап его эволюции; возникнув, как и «Странный человек», на интимной автобиографической основе, он оказался первой попыткой создания социального характера: фигуры Печорина, молодого столичного офицера из высшего общества, Веры, его бывшей возлюбленной, вышедшей замуж за старого князя Лиговского, - все это первые абрисы будущих персонажей «Героя нашего времени»; поведение их и способ мышления обусловлены средой и обстоятельствами, и они уже предопределяют конфликт между Печориным и бедным дворянином Красинским - как можно думать, центральный драматический узел всего повествования. Соответственно меняется и роль бытовой сферы: если в раннем творчестве Лермонтова герой существовал вне быта и даже был противопоставлен ему как носитель духовного начала миру «существенности», то теперь Лермонтов обращается к социальному бытописанию, прямо предвосхищающему «физиологии» начала 40-х годов; едва ли не впервые в русской литературе он дает описание «петербургских углов» - социальный городской пейзаж, который станет затем органической принадлежностью натуральной школы. Наконец, в «Княгине Лиговской» обрисовывается и образ автора-повествователя, с прихотливой, изменчивой системой эмоциональных оценок, с автобиографическими отступлениями, философскими медитациями, иронией, которая теперь становится излюбленным способом повествования у Лермонтова: ею окрашены стихи 18331835 гг. и ряд поэм на современные темы: «Сашка» (1835-1836), «Тамбовская казначейша» (1836-1838). В «Маскараде», который пишется одновременно к «Княгиней Лиговской» (1836), сдвиги в художественном сознании обозначаются еще более резко. «Маскарад» был первым произведением, которое Лермонтов считал достойным обнародования и стремился увидеть его на сцене; однако драма была запрещена по причине «слишком резких страстей» и отсутствия моралистической идеи «торжества добродетели». В жанровом отношении «Маскарад» близок к мелодраме и романтической драме (в частности, французской) 30-х годов; в сатирическом изображении общества Лермонтов во многом следует за Грибоедовым. Мотивы «игры» и «маскарада», организующие драму, - социальные символы высокого уровня обобщения. Однако наиболее значительное достижение Лермонтова характер Арбенина, заключающий в себе глубокий и неразрешимый внутренний конфликт: отделивший себя от общества и презирающий его, герой «Маскарада» оказывается органическим его порождением, и его преступление с фатальной предопределенностью утрачивает черты «высокого зла» в трагическом смысле и низводится до степени простого убийства. Шкала этических и эстетических ценностей, существовавшая в байронической поэме и в ранних поэмах Лермонтова, парадоксально переворачивается: с утратой Нины для героя не наступает смерть, несущая функцию катарсиса, но продолжается жизнь, причем в состоянии сумасшествия, а не высокого романтического безумия. Поведение герояпротагониста оказывается соотнесенным с судьбой окружающих его людей, которая становится мерой его моральной правомочности. Это был кризис романтического индивидуализма, следы которого обнаруживаются в ряде произведений Лермонтова 18361837 гг. В эти годы меняется концепция и жанровая структура лермонтовской поэмы - и переходным явлением оказывается «Боярин Орша» (1835-1836). «Орша» еще связан с байронической традицией, конкретнее - с «Гяуром» и «Паризиной», и вместе с тем это первая из оригинальных и зрелых поэм Лермонтова. Прежде всего в ней ясно ощущается древнерусский колорит - не только в бытовой и этнографической определенности, но и в самой психологии Орши. Лермонтов пытается создать исторический характер. Орша - боярин времени Ивана Грозного, сумрачный феодал, живущий законами традиции и боярской чести. Нарушение их он рассматривает как преступление и вершит суд над собственной дочерью, уличенной в прелюбодеянии. Для него невозможны исповедь, лирический монолог; он подан в эпических, а не лирических красках. Напротив, Арсений прямой наследник героев юношеских поэм (ср. «Литвинка»). В поэме разрушилось единодержавие героя: протагонист и антагонист не уступают друг другу ни по силе характера, ни по силе страдания, но если на стороне Арсения правда индивидуального чувства, то за Оршей - правда обычая, традиции, общественного закона. То, что Орша выдвигается на передний план повествования, свидетельствует о переоценке самих концептуальных основ байронической поэмы. Этот процесс завершается в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837), где герои «Орши» как бы поменялись местами: «невольник чести» XVI в., носитель традиции и незыблемых нравственных устоев, воплощающий в себе национальный и исторический колорит, характер, - Калашников - здесь окончательно выдвигается на первое место. Его противник Кирибеевич, с его культом индивидуальной храбрости, удали и страсти, - прямое продолжение Арсения, но он побежден и дискредитирован. В «Песне» действует критерий народной этики, и он-то меняет ценностные характеристики, оправдывая Калашникова и его самовольный суд над героем-индивидуалистом. Своего рода аналогом «Песни» в лирике Лермонтова было «Бородино» (1837) - «микроэпос» о народной войне 1812 г., где героем и рассказчиком одновременно представал безымянный солдат, носитель «народного», внеличного начала. Само действие, хотя и исторически локализованное, рисовалось в эпической манере и развивалось, по существу, в эпическом времени. Облик рассказчика предопределил сказовую форму повествования и ту систему ценностей, которая обозначалась в стихотворении: героическое время подъема народного самосознания противопоставлялось измельчавшему настоящему: «Да, были люди в наше время!.. Богатыри - не вы!» Концепции «Бородина» и «Песни» во многом соотносились друг с другом: в «Песне» также существуют и эпическое время, и эпические характеры, и народный сказ, ориентированный на былину, историческую песню и фольклорную балладу. «Песня» и «Бородино» были первыми значительными печатными выступлениями Лермонтова, сразу же привлекшими к себе внимание; литературная же известность его началась ранее, в феврале 1837 г., когда в Петербурге стало распространяться его стихотворение «Смерть Поэта», воспринятое как голос нового поэтического поколения, наследующего Пушкину. В стихотворении содержалась концепция жизни и гибели Пушкина, во многом опиравшаяся на пушкинские статьи и стихи, частью ненапечатанные, как «Моя родословная». Заклеймив Дантеса как заезжего авантюриста, Лермонтов перенес затем тяжесть вины на общество, уже описанное им в «Маскараде», и на его правящую верхушку - «новую аристократию», не имевшую за собой национальной и культурной традиции («надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов»). Заключительные шестнадцать строк стихотворения были истолкованы при дворе почти как призыв к революции. Ближайшие друзья Пушкина приветствовали стихотворение как литературное выступление и как гражданский акт. Началось следствие «о непозволительных стихах»; находясь под арестом, Лермонтов пишет серию стихотворений, составивших так называемый «тюремный цикл» («Сосед», «Узник»); мотивы его ощущаются и в таких поздних шедеврах, как «Соседка» и «Пленный рыцарь». Первая кавказская ссылка поэта в марте 1837 г. неожиданно раздвинула диапазон его творчества. В Пятигорске, Ставрополе, Тифлисе расширяется круг его связей; он знакомится со ссыльными декабристами и близко сходится с крупнейшим поэтом декабристской каторги - А. И. Одоевским; в Тифлисе вступает в контакт с культурной средой, группировавшейся вокруг А. Чавчавадзе (тестя Грибоедова), одного из наиболее значительных представителей грузинского романтизма. Наконец, он впервые близко соприкасается с народной жизнью, видит быт казачьих станиц, русских солдат, многочисленных народностей Кавказа. Все это прямо проецируется на его творчество, укрепляя, в частности, уже определившиеся фольклористические интересы; в 1837 г. Лермонтов записывает народную сказку об АшикКерибе, стремясь передать характер восточной речи и психологию «турецкого» (тюркского, т. е., по-видимому, азербайджанского) сказителя; в «Дарах Терека» (1839), «Казачьей колыбельной песне» (1838), «Беглеце» (1837-1838) из фольклорной стихии вырастает народный характер, с чертами этнической и исторической определенности. Общение с А. И. Одоевским отразилось в прочувствованном стихотворении на его смерть («Памяти А. И. Ого», 1839) и в стихотворениях, где улавливаются следы знакомства с одной из лучших (ненапечатанных) элегий Одоевского 30-х годов - «Куда несетесь вы, крылатые станицы...» «Спеша на север издалека» (1837) и «Последнее новоселье» (1841). Но едва ли не наиболее важное поле для социально-психологических наблюдений открылось Лермонтову там, где он столкнулся с представителями иных общественных и психологических генераций - со ссыльными декабристами, с близким к ним доктором Майером (прототип Вернера в «Герое нашего времени») и др. Эти контакты не были простыми и легкими; поздние воспоминания М. А. Назимова показывают, что обе стороны ощущали психологический барьер, возникавший из-за контраста двух типов социального поведения; лермонтовский скептицизм и ирония, внешнее равнодушие к, казалось бы, незыблемым этическим и эстетическим ценностям оказывались неприемлемыми для «поколения 1820-х годов» (он оттолкнул при первой встрече и Белинского, привыкшего к мировоззренческим спорам в философских кружках); но и для Лермонтова открытая исповедальность его собеседников представала почти профанацией, и он намеренно принимал на себя ролевую маску «светского человека». Эта система отношений, осмысленная в социально-психологических категориях, окажется очень существенной в проблематике «Героя нашего времени». Уже в «Бородине» Лермонтов ставил вопрос об исторической судьбе поколений в современном ему обществе; качественно новым явлением была «Дума» (1838) с ее беспощадным самоанализом, где Лермонтов едва ли не впервые поднялся над собственным рефлектирующим сознанием, оценивая его со стороны как порождение времени, исторически обусловленный и преходящий этап в развитии общества. В этом отношении «Дума» - прямой пролог к «Герою нашего времени», замысел которого уходит своими истоками во впечатления 1837-1838 гг.; она дает как бы первоначальный абрис общей концепции романа, персонифицированной в образе Печорина. К тем же проблемам, но с несколько иной стороны Лермонтов подходит в стихотворении «Не верь себе» (1839), где происходит переоценка традиционно романтической темы «поэт и толпа»: в прямом противоречии с традицией, «толпа» оказывается ценностно значительнее «поэта», ибо концентрирует в себе тяжелый и выстраданный душевный опыт. Все эти социально-философские идеи пронизывают зрелую лирику Лермонтова, над которой он работает параллельно с романом и двумя своими центральными поэмами - «Демоном» и «Мцыри» - уже в Петербурге, куда он вернулся в январе 1838 г., по хлопотам родных получив «прощение» и перевод в лейб-гвардии Гродненский полк. Три последних года биографии Лермонтова - 1838-1840 и часть 1841 г. - были годами его литературной славы. Вернувшись в столицу, он принят в прежнем пушкинском кругу, знакомится с Жуковским, Вяземским, В. Ф. Одоевским, В. А. Соллогубом, Плетневым, семейством Карамзиных, попадает в атмосферу литературных исканий пушкинского кружка и становится свидетелем собирания и посмертного издания пушкинских сочинений. В его поэзии и прозе вновь оживают пушкинские начала; так, в «Штоссе» улавливаются вариации мотивов незаконченных повестей Пушкина из светской жизни, в «Тамаре» (1841) интерпретируется тема Клеопатры, «Журналист, читатель и писатель» (1840) содержит отзвуки борьбы пушкинского круга с «торговой словесностью». Эта связь в глазах пушкинского кружка даже заслоняет новаторство Лермонтова в разработке поднятых Пушкиным тем; более длительный и прочный контакт устанавливается у Лермонтова с «Отечественными записками», сразу принявшими его как первостепенную и самостоятельную культурную величину; именно Белинский - основной критик журнала с 1839 г. - оказывается наиболее глубоким толкователем Лермонтова за всю историю его критического восприятия. В «Отечественных записках» появляется в свет большинство прижизненных и первых посмертных публикаций лермонтовских стихов, а также отдельные повести из «Героя нашего времени» («Бэла», «Фаталист», «Тамань»). Почти все эти произведения связаны друг с другом единой проблематикой: в центре их - анализ современного общества и современной психологии. Он присутствует и в любовной лирике - конечно, неявно, как намек на отдаленные и глубокие причины коллизии. Непосредственно в тексте он реализуется как мотив взаимного непонимания и разобщенности. В современном обществе утрачены естественные формы коммуникации - и оно фатально обрекает своих членов на одиночество. Возникает противопоставление: искусственное общество - естественное начало («Как часто пестрою толпою окружен...», 1840) и рядом с ним - мотив безнадежной любви, фатальной невозможности соединения («Утес», 1841; «Сон», 1841; «Завещание», 1840; «Они любили друг друга так долго и нежно...», 1841; «На севере диком стоит одиноко...», 1841). В «Журналисте, читателе и писателе» Лермонтов рассматривает конкретные формы социальной (литературной) коммуникации и устами Писателя прокламирует неизбежность отказа от творчества. Так конкретизируется та общая картина социальной жизни, которая нарисована в «Думе»: современное поколение - «сумеречное», «промежуточное», отравленное современной цивилизацией, преждевременно состарившееся и утратившее полноту жизненных сил. Суд над этим замкнутым в самом себе обществом еще раз произносится в «Пророке» (1841), произносится как бы извне, с точки зрения неких общечеловеческих ценностей. Все эти проблемы будут поставлены в «Герое нашего времени» и на ином уровне обобщения - в «Демоне» и «Мцыри». «Демон» и «Мцыри» завершают линию ранних поэм Лермонтова. Первая - четвертая редакции «Демона» пишутся в 1829-1831 гг., пятая - в 1833-1834 гг., шестая - в 1838 г., и только в 1839 г. появляется окончательная, восьмая редакция. Замысел поэмы складывался с трудом и эволюционировал вместе с лермонтовским творчеством. В первой - пятой редакциях герой возникал как обобщенная схема характера «героя-преступника» байронической мистерии. Демон влюблялся в смертную (монахиню), пытаясь найти в этой любви путь к преображению, выход из бесконечного одиночества и страдания. Однако монахиня была возлюбленной ангела, и любовь Демона уступила место ненависти и желанию мстить; он соблазняет и губит монахиню. Уже в это время наметился абрис центрального монолога Демона, обращенного к возлюбленной, о своем одиночестве, вражде с богом и стремлении переродиться в любви. Монолог этот - демонический обман, соблазн. Возлюбленная Демона, впавшая в грех, рисуется как обуреваемая экстатической чувственной страстью. Ее гибель - это победа Демона, но достигнутая ценой полного внутреннего опустошения. Уже в пятой редакции, однако, меняется облик героини: она получает более разработанную и мотивированную психологическую биографию, и поэтому особое значение приобретает «соблазняющий» монолог искусителя, где все более проступают ноты отрицания существующего миропорядка. В этой редакции намечается и тема искупления, которая приобретает затем значение одной из центральных в поэме. В шестой редакции Лермонтов находит для поэмы окончательное место действия - Кавказ и погружает сюжет в сферу народных преданий, бытовых и этнографических реалий, но главное - окончательно материализует облик героини. Фигура Тамары становится теперь рядом с образом Демона. Происходит то же разрушение единодержавия героя, какое мы прослеживаем в других лермонтовских поэмах, и совершенно так же деформируется первоначальная идейная структура. Заметим, что в промежутке между пятой и шестой редакциями «Демона» пишутся «Маскарад» и «Княгиня Лиговская», а также «Два брата»; во всех трех произведениях появляется женский образ, играющий значительную роль, а иногда служащий своего рода мерилом моральной правомочности героя. «Маскарад» в особенности близок «Демону» по проблематике и концепции. В изменившемся замысле мотив ревности Демона к ангелу, как и мотив любви ангела к Тамаре, уходит на задний план; проблема переносится в философско-этическую плоскость. В «грехопадении» Тамары открывается высший смысл: оно - жертвенное страдание, которое самоценно и ставит личность почти на грань святости (ср. в «Оправдании»: «...прощать святое право // // Страданьем куплено тобой»). Подобно Демону, Тамара наделена той полнотой переживания, которая исчезла в современном мире. Ключевыми становятся слова ангела: «Она страдала и любила, // И рай открылся для любви». Эта концепция очистительной любви своеобразно преломляется в поздней лермонтовской лирике в мотиве посмертной любви, преодолевающей законы общества и самой земной жизни («Сон», 1841; «Любовь мертвеца», 1841; «Нет, не тебя так пылко я люблю», 1841; «Выхожу один я на дорогу...», 1841). Последняя редакция «Демона» содержит то же переосмысление индивидуалистической идеи, которое свойственно всему позднему творчеству Лермонтова. Вместе с тем переоценка эта не есть «разоблачение», дискредитация героя; побежденный Демон остается существом бунтующим и страдающим, а в его богоборческих монологах слышится и непосредственный авторский голос. К 1839 г., по-видимому, Лермонтов считал замысел «Демона» исчерпанным. В «Сказке для детей» (1840) он вспоминает о «безумном, страстном, детском бреде» - о Демоне, от которого он «отделался стихами». Летом того же года поэт заканчивает новую поэму «Мцыри», также завершающую цепь замыслов, восходящих еще к 1830-1831 гг. Мцыри, в отличие от Демона, - антипод байронического героя. Юноша-монах, в детстве оторванный от родины и воспитанный в монастыре, - вариант естественного человека, прошедшего через всю романтическую литературу и получившего новую интерпретацию у Л. Н. Толстого. Стимул его поведения - не страсть, не осознанная вражда с обществом, а любовь к свободе и инстинктивное стремление к деятельности. Родина, куда бежит из монастыря Мцыри, есть для него идеальное воплощение этой свободы и смутных, детских воспоминаний о родственных привязанностях. Природа, окружавшая его за стенами монастыря, ощущается им как родная стихия; он живет инстинктом и эмоцией; полудетское наивное чувство любви, которое пробуждается в нем при виде первой встреченной девушки, ничего не имеет общего с полуинтеллектуальной-получувственной страстью Демона; рыбка, поющая ему любовную песню, грузинка с кувшином на голове как бы слиты для него воедино и ассоциативно связаны с ощущением родины и природы. Это сочетание почти детской слабости с героической силой духа, наивности и мужественной решительности, определяющее характер Мцыри, было новым открытием Лермонтова. Устами этого естественного человека произносится суд над монастырскими законами, символизирующими законы общества. Мцыри и Демон, во всем противоположные друг другу, сближаются в своем неприятии действительности. Есть и другой сближающий момент, существенный в концепции обеих поэм: и Мцыри и Демон - могучие личности с нереализованными возможностями. Их героический порыв и усилия принципиально не могут достигнуть цели. Эта идея пространственно закреплена мотивом кругового движения Мцыри: здесь его путь, потребовавший стольких трудов и подвигов, совершается в ближайших окрестностях монастыря. Разные варианты художественной идеи «бесцельного действия», остановленного порыва мы находим во многих лирических стихах позднего Лермонтова - в первую очередь, в его «тюремной лирике»; социальное же обоснование оно получает в «Герое нашего времени». «Мцыри» и «Демон» - высшие достижения Лермонтова в жанре поэмы и своего рода квинтэссенция той поэтической манеры, которая была представлена им в русской литературе. Она отличалась от пушкинской романтической экспрессивностью, внешне казавшейся импровизационностью. На первый план выступает некий общий эмоциональный тон, захватывающий читателя и вовлекающий его в стиховой поток, который подчиняет себе отдельное слово и отдельный образ. По сравнению с Пушкиным, у Лермонтова иная мера точности поэтического слова: оно часто «неточно» в строго логическом смысле и воспринимается лишь в эмоциональном контексте целого. Идейные и стилистические тенденции позднего творчества Лермонтова получили развернутое воплощение в «Герое нашего времени» (1838-1840), как «Демон» и «Мцыри» опиравшемся на более ранние замыслы, прежде всего «Княгиню Лиговскую». Однако на этот раз Лермонтов отказался от последовательного повествования романного типа и предпочел форму отдельных новелл, объединенных им потом в довольно сложное композиционное целое. Он нарушил хронологическую последовательность изложения и построил роман по принципам, близким «вершинной композиции» байронической поэмы. Однако этот принцип был им переосмыслен функционально и подчинен единому заданию: увидеть героя романа под несколькими углами зрения и глазами нескольких лиц, а затем предоставить слово ему самому, использовав форму дневника. Так возникает «Бэла» (рассказ о Печорине Максима Максимыча, записанный «автором-повествователем»), «Максим Максимыч» (наблюдения автора над Печориным и самим Максимом Максимычем) и три новеллы «Журнала Печорина», рассказанные героем от первого лица («Княжна Мэри», «Тамань», «Фаталист»). Такое построение постепенно «приближало» героя к читателю, но лишь до определенных пределов. Предыстория Печорина во многом остается скрытой; на некоторые ее эпизоды сделан лишь намек. Характер Печорина не развивается, а раскрывается, причем не до конца, и это также связывает его с романтической традицией. Социальный фактор, детерминирующий развитие и поведение личности, был отмечен Лермонтовым еще к «Княгине Лиговской», однако подробный его анализ - достояние уже более поздних этапов русской литературы. Центр тяжести в «Герое нашего времени» перенесен на результат - на личность, им сформированную. Художественно исследуются строй мысли и чувства и стимулы поведения этой личности, и с таким заданием неразрывно связан своеобразный художественный «объективизм», который исключает возможность однозначной трактовки Печорина: «светлые» и «темные» стороны его личности взаимообусловлены и неотделимы друг от друга, а иной раз переходят друг в друга. Эта особенность романа решительно противоречила традиционно сложившейся шкале этических ценностей, существовавшей в современном Лермонтову романе, где «осуждение» или «оправдание» героя вытекало неизбежно из самого повествования. В предисловии к роману Лермонтов прямо указал на эту его особенность и отделил себя от «моралистов», преследовавших дидактические цели. Аналитизм «Героя нашего времени» был сродни психологизму ранних французских реалистов; самое понятие «тип», употребленное Лермонтовым, было заимствовано из терминологического обихода «физиологов». Тип Печорина - явление глубоко национальное и своеобразное. Лермонтовский «герой времени» отличается от всех остальных прежде всего тем, что он несет в себе черты органически развившегося поколения, определенного социально и хронологически и обозначившего собою целый этап в истории русского общества. Сама субъективность романа, неоднократно отмеченная Белинским под впечатлением личности Лермонтова («Печорин - это он сам»), во многом способствовала своеобразию психологизма. В «Дневнике Печорина» события пропущены сквозь рефлектирующее сознание в том его варианте, который был порожден русской духовной жизнью 30-х годов. Основным предметом авторского внимания и является это сознание, предопределяющее ценностные ориентации, эмоциональную жизнь, характер межличностных взаимоотношений и, соответственно, логику внешнего поведения героя. Его главная черта - скептический аналитизм, постоянно ревизующий духовные ценности. Первая среди них - любовь, со времени Пушкина становящаяся в русской литературе едва ли не центральным мерилом личностной правомочности героя. Ревизия начинается с «естественной любви», одного из важнейших философско-этических понятий XVIII и начала XIX в. («Бэла»), и распространяется на любовь «романтическую» («Тамань») и «светскую» («Княжна Мэри»). То же самое происходит с понятием «дружбы» - и Лермонтов, словно намеренно, рассматривает три ипостаси проблемы: дружбу «патриархального» типа («Бэла», «Максим Максимыч»), закрепленную литературной традицией дружбу сверстников одного социального круга, включающую и кодекс сословной чести, и, наконец, дружбу интеллектуальную (Печорин - Грушницкий и Печорин - Вернер в «Княжне Мэри»). На всех уровнях и во всех вариантах социально-психологический тип современного человека является непреодолимым препятствием для реализации этического идеала, и это словно подчеркивается линией «Печорин - Вера»: идеал, который, казалось бы, вот-вот осуществится, предстает ускользающим и недостижимым. Мир героев романа представляет собою систему образов, в центре которой находится Печорин, и его личность во всех своих противоречиях вырисовывается из этой суммы отношений, в которые он вступает с окружающими. Этот принцип, как мы видели, является как все крепнущая тенденция в поздних поэмах и драмах Лермонтова, где происходит постепенное разрушение первоначального типа байронического героя. Генетически связанный с этим типом, Печорин уже прямо подается как личность, детерминированная общественной психологией, как порождение индивидуалистического, разомкнутого, лишенного коммуникативных связей общества, и в то же время как выдающаяся личность с нереализованными возможностями. Из этой двойственности вырастает и проблема вины, так как для Лермонтова - автора «Демона» и «Маскарада» любая личность уже не только замкнутый в себе микромир, но и часть макромира, и судьба людей, с которыми он сталкивается, так или иначе оказывается его мерилом ценности. Поэтому даже конфликт Печорин - Грушницкий гораздо глубже, чем противопоставление истинного и ложного, оригинала и пародии и т. п. Грушницкий есть часть социального мира, в котором действует Печорин, один из «других людей» (Максим Максимыч, «ундина», княжна Мэри, Вера, Вулич), в чьей судьбе «герой нашего времени» вольно или невольно сыграл фатальную роль. Логикой событий он оказывается жертвой, а Печорин - убийцей товарища. Зло возникает как бы само собой, из самого хода вещей. Заключительная новелла «Фаталист» закономерно кадансирует все построение, раскрывая его более глубокие мировоззренческие основы: роль Печорина как непременного действующего лица пятого акта драмы в существе своем предопределена: он проверяет свою личную способность к деятельности, но он не может проверить надличностные законы своего поведения. «Герой нашего времени» открывал путь реализму второй половины века. Но вырастал роман из романтической литературы, не отбрасывая традицию, а функционально меняя и переосмысляя ее, так же, как это мы видим в ряде европейских современных ему литератур. Он носил на себе черты переходности, и последующие реалисты, воспринимая лермонтовский метод психологического анализа, «диалектики чувства» и развивая далее социальные характеры, подвергнут критической переоценке многое, начиная с образа Печорина. В 1840-1841 гг. творческая жизнь Лермонтова достигает особой интенсивности; он обращается к углубленному изучению национальных основ русской жизни («Родина», 1841), одновременно его привлекают проблемы «восточного» мировоззрения («Тамара», 1841; «Три пальмы», 1839; «Спор», 1841); он задумывает обширный роман-эпопею и начинает писать поэмы социально-психологического характера («Сказка для детей», 1840). Вторичная ссылка на Кавказ и затем трагическая гибель прервали жизнь поэта в ее апогее. Известность Лермонтова за рубежом началась еще при жизни писателя. В 1840 г. Фарнгаген фон Энзе опубликовал свой немецкий перевод «Бэлы» и во вступительной заметке рекомендовал автора как одного из лучших русских рассказчиков. Затем, в 1843 г., появились немецкие переводы стихотворений «Дары Терека», «Три пальмы», «Песни про купца Калашникова», французский перевод «Героя нашего времени» и т. д. Особенно много сделал для пропаганды Лермонтова на Западе ученый и литератор Ф. Боденштедт, издавший в 1852 г. в Берлине двухтомник поэта - первое его зарубежное собрание сочинений. http://www.philology.ru/literature2/vatsuro-89.htm «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (1837—40), роман Л., его вершинное творение, первый прозаич. социально-психологич. и филос. роман в рус. лит-ре. «Герой нашего времени» впитал в себя многообразные творчески трансформированные на новой историч. и нац. основе традиции предшествующей мировой лит-ры в изображении «героя века», восходящие к «Исповеди» Ж. Ж. Руссо, «Страданиям молодого Вертера» И. В. Гёте, «Рене» Ф. Р. Шатобриана, «Оберману» Э. Сенанкура, «Паломничеству Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона, «Адольфу» Б. Констана, «Красному и черному» Стендаля, «Исповеди сына века» А. Мюссе. Образ Печорина как героя времени имел предшественников и в рус. лит-ре. Тип «странного», а затем и «лишнего» человека становился гл. объектом изображения в таких повестях и романах, как «Рыцарь нашего времени» (1802—03) Н. М. Карамзина, «Российский Вертер» (опубл. 1801) М. В. Сушкова, «Странный человек» (1822) В. Ф. Одоевского, «Владимир Паренский» (1827; неоконч.) Д. В. Веневитинова, «Несколько мгновений из жизни графа Z» (1834) Н. В. Станкевича, «Маскарад» (1835—36) Н. Ф. Павлова. Особое место в этом ряду занимают «Горе от ума» (1824) А. С. Грибоедова и «Евгений Онегин» (1823—31) А. С. Пушкина. И вместе с тем «Герой...» — совершенно новое слово в рус. и мировой лит-ре. Замысел романа о герое времени ставил перед Л. ряд сложных худож. проблем. Одной из них была жанровая проблема. Исследователями справедливо отмечалась особая жанровая синтетичность «Героя...», подготовленная распространенными в рус. лит-ре 30-х гг. циклами повестей, такими характерными для этого времени жанрами, как «путевой очерк, рассказ на бивуаке, светская повесть, кавказская новелла»; именно «Герой...» явился «выходом за пределы этих малых жанров по пути к объединяющему их жанру романа» (Б. Эйхенбаум, ЛАБ, VI, 658). Однако все это не исчерпывает вопроса о жанровых истоках «Героя...», тесно связанных с развитием романа в европ. лит-ре кон. 18 — нач. 19 вв. — «объективного» романа Г. Филдинга и Т. Смоллетта (затем О. Бальзака, Ч. Диккенса) и «субъективного» романа (Стерн, Руссо), развитого в «личном», «аналитическом» романе Сенанкура, Констана, Мюссе, где находит дальнейшее углубление «исповедальный» психологизм. Вырабатывая в процессе творч. эволюции свою концепцию человека, Л. последовательно шел к новаторскому воссоединению этих двух тенденций в развитии романа. Е. А. Баратынский в одном из писем 1831 заметил: «Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени... Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном» (Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951, с. 497). «Герой...» — гениальное воплощение «веления времени», новый этап в развитии романного жанра. Поэтому не вполне точно определение жанра «Героя...» как первого «личного», психол. романа в рус. лит-ре (Б. Эйхенбаум). Роман Л. неизмеримо богаче и сложнее не только старого нравоописат., авантюрного, но и «нового» французского «личного» романа. Творчески переплавляя их лучшие стороны, используя достижения реалистич. романа в стихах Пушкина, опыт его «нагой» и точной прозы, Л. создал новый и емкий тип романа. Социально-психол. и филос. насыщенность всех его уровней органически сочетается в нем с острой сюжетностью и новеллистич. динамикой повествования. В нем истоки «диалектики души», социально-нравст. исканий романов Л. Н. Толстого, антиномичности жизненных правд, острой, почти авантюрной сюжетности романов Ф. М. Достоевского, постановки в них самых коренных, «последних» вопросов человеческого бытия. Вместе с тем роман Л., состоящий из отд. самостоят. повестей и новелл, являющихся органич. элементами романного целого, представляет собой уникальную жанровую систему (см. Проза, Стиль). При необычайной сжатости роман отличается исключит. насыщенностью содержания, многообразием проблематики — социальной, психол., нравств.-философской. Проблема личности — центральная в романе: «История души человеческой... едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» (VI, 249), — говорит в романе Л. Здесь прямая перекличка с гиперболой В. Г. Белинского, к-рый в 1840 писал: «Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века!» (XI, 556). Личность в ее отношении к об-ву, в ее обусловленности социально-историч. обстоятельствами и в то же время в противодействии им — таков особый, двусторонний подход Л. к проблеме. Человек и судьба, человек и его назначение, цель и смысл человеческой жизни, ее возможности и действительность, свобода воли и необходимость — все эти вопросы получают в романе многогранное образное воплощение; богатство проблематики сочетается с органич. единством осн. худож. идеи, к-рая развита в главном герое — Печорине. Образ Печорина — одно из худож. открытий Л. Печоринский тип поистине эпохален, и прежде всего потому, что в нем получили концентрированное выражение особенности последекабрьской эпохи, когда на поверхности «видны были только потери, жестокая реакция», внутри же «совершалась великая работа... глухая и безмолвная, но деятельная и беспрерывная ...» (Г е р ц е н , VII, 209—11). Начиная со 2-й пол 19 в. за Печориным упрочилось определение «лишнего человека». Типологич. сущность «лишнего человека» до сих пор трактуется очень разноречиво. Отчасти этим объясняются периодически предпринимаемые попытки вывести Печорина (впрочем, как и Онегина) из категории «лишних людей». Глубинный смысл и характерность типа «лишнего человека» для рус. об-ва и рус. лит-ры 20—30-х гг. наиболее точно сформулировал А. И. Герцен: «Печальный тип л и ш н е г о ... человека — только потому, что он развился в ч е л о в е к а , являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах...» (XIV, 317). Для Герцена и Онегин, и Печорин, несомненно, «лишние люди», и «лишними» они становятся потому, что в своем развитии идут дальше большинства, развиваясь в личность, что в условиях обезличенной действительности николаевской России было одним «из самых трагических положении в мире» (там же, с. 320). Вместе с тем, при всей близости к Онегину, Печорин знаменует новый этап в развитии рус. об-ва и рус. лит-ры. Если в Онегине отражен мучительный, но во многом полустихийный процесс становления человека, то в Печорине запечатлена трагедия уже сложившейся развитой личности, обреченной жить в полуазиатской «стране рабов, стране господ». В условиях, когда личность была всесторонне ограничена и «запрещена», осознание ею своего человеческого достоинства приводило к столкновению со всеми устоями совр. об-ва. По мнению Л., трагедия его времени не только в том, что «люди терпеливо страдают», но и в том, что «большинство страдает, не сознавая этого» (Воспоминания, с. 304). В этом смысле в Печорине как худож. типе запечатлен процесс огромной историч. важности — интенсивного развития обществ. и личного самосознания в России 30-х гг., когда невозможность прямого обществ. действия способствовала самоуглублению личности, от конкретно-социальных вопросов вела к вопросам более общим — историческим, нравственно-философским. Развернутое изображение «истории души человеческой», повышенный интерес к «внутреннему человеку» закономерно привели Л. к подлинному психологизму. Одна из заслуг Л. — углубление представлений о реальной сложности природы человека и многомерности структуры человеческой личности. Печорин неоднократно говорит о своей двойственности. Но это не результат столкновения «естественного» и «социального» в нем, как считают нек-рые исследователи. Начальной ступенью концепции человека, развитой в романе, можно считать лермонт. решение вопроса о соотношении природно-физиологич. и духовного начал. Примечателен в этом плане отрывок из чернового варианта портрета Печорина: «...таков, казалось мне, должен был быть его характер физический, т. е. тот, который зависит от наших нерв и от более или менее скорого обращения крови; душа — другое дело: душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их; от этого злодеи, толпа и люди высокой добродетели...» (VI, 569). Воздействие природных задатков на формирование человека не мыслится здесь однозначно положительно, как в различных теориях «естественного человека». Нет здесь и утверждения о фатальной предопределенности в человеке злого начала. Формируясь во многом под воздействием своего «физического характера», душа как свободное сознание способна не только к противоборству со своей природной основой, но и к самопостроению. Природные склонности, влечения, страсти — лишь первичные предпосылки душевной жизни, «принадлежность юности сердца» (VI, 294), печатью которой отмечены чувства и поступки «детей природы» — горцев; они изображены в романе как яркие, сильные характеры, целиком подчиненные, однако, бушующим в них страстям. Если в раннем творчестве Л. отдал дань просветит. идее «естественного человека» (см. Ж. Ж. Руссо), то в период работы над «Героем...» она была для него пройденным этапом. В романе нет ни идеализации реальных «естественных» людей, ни надежды на возможность исцеления героя, испорченного «цивилизацией», путем приобщения его к «естественному состоянию» через любовь к «дикарке», — напротив, ее любовь оказывается «немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой» (VI, 232). Во многом сходный с «детьми природы» по своим задаткам и темпераменту, Печорин далек от них как носитель развитого (хотя и противоречивого) сознания, перед лицом к-рого оказываются одинаково несовершенными реальные представители и «естественного», и «цивилизованного» состояния, с той лишь разницей, что само это сознание является все же принадлежностью последнего. Для лермонт. концепции личности, равно как и для понимания худож. новизны образа Печорина и общечеловеческой ценности романа в целом, существенна выраженная в нем ориентация на выявление р о д о в о г о н а ч а л а в человеке (в его соотношении с природным и конкретносоциальным). В европ. и рус. философии 1-й пол. 19 в. эта идея заняла одно из центр. мест. По И. Канту, человек становится человеком, переделывая в процессе историч. и индивидуальной эволюции свою «физическую природу» в «нравственно-человеческую» и тем самым приобщаясь к человеческому роду в его непрестанном развитии; в этой способности к самоперестройке и состоит, согласно Канту, разумность, отличающая человека от животных, его свобода, возможность бесконечного совершенствования. Г. Ф. Гегель исходил из того, что сознание человека содержит в себе всю историю человеческого опыта, поэтому чем выше сознание индивида, тем ближе оно к родовой сущности человека, представляющей собой духовное, бессмертное начало. Историкоматериалистич. истолкование и обоснование родовой сущности человека дал впервые К. Маркс (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 42, с. 91—95, 115—25, 158—59, 163—64), согласно к-рому наиболее «естественный» человек — это человек не природный, а родовой, естественноисторический, общественный, ибо родовые, сущностные силы человека суть «с и л ы общения» (см. там же, т. 3, с. 34). Рус. филос. и лит.-эстетич. мысль во многом приближалась к такому пониманию проблемы. «Человек имеет не одно только значение существа индивидуального и личного, — писал Белинский в 1843. — Кроме того, он еще член общества, гражданин своей земли, принадлежит к великому семейству человеческого рода» (VII, 145). Герцен рассматривал индивидуальное и родовое как подвижное единство отдельного и всеобщего, полагая, что по мере развития в личность человек все ближе подходит к их взаимообогащающему равновесию (см. II, 402). Вместе с тем это единство противоречиво: родовое проявляется в человеке не в своем «чистом» общеисторич. и общечеловеческом содержании, а в его определенных конкретно-историч. формах; целостному родовому человеку как представителю человечества всегда в той или иной мере в нем же противостоит видовой человек как представитель группы, сословия, класса, профессии, нации, определ. времени. Соотношение в человеке видового и родового, конкретно-историч. и общечеловеческого начал с развитием литературы все определеннее выступает как главный ее предмет. Личность Печорина предстает в романе Л. как неповторимо-индивидуальное проявление и сочетание этих начал. При этом Л. руководствовался, конечно, не столько филос. концепциями (об интересе к ним говорят, в частности, споры поэта о Канте и Гегеле с декабристом В. Н. Лихаревым — см. Воспоминания, с. 332), сколько интуицией гениального художника, сквозь «холодную кору» сословно-видовой характерности своих героев прозревавшего их «настоящую природу человека» (VI, 124). Общечеловеческие, социально-родовые потенции Печорина приходят в столкновение с их конкретным социально-видовым воплощением. Происходит распадение личности на «внутреннего» и «внешнего» человека. Не случайно в первой же рецензии на «Героя...» Белинский отмечал: «В основной идее романа г. Лермонтова лежит важный вопрос о внутреннем человеке, вопрос, на который откликнутся все» (IV, 146). Печорин — человек вполне определённого времени, положения, социально-культурной среды, со всеми вытекающими отсюда противоречиями, к-рые исследованы автором с полной мерой художественной объективности. Это дворянин-интеллигент николаевской эпохи, ее продукт, жертва и герой в одном лице, чья «душа испорчена светом» (VI, 232), разорвана на две половины, лучшая из к-рых «высохла, испарилась, умерла..., тогда как другая... жила к услугам каждого...» (VI, 297). Но есть в нем и нечто большее, то, что делает его полномочным представителем не только данной эпохи и данного об-ва, но и всего «великого семейства человеческого рода», а книге о нем придает общечеловеческий, филос. смысл. Исследуя личность Печорина прежде всего как «внутреннего» человека, Л., как до него никто другой в рус. лит-ре, много внимания уделяет отображению не только сознания, но и высшей его формы — самосознания. От своего предшественника Онегина он отличается не только темпераментом, глубиной мысли и чувства, силой воли, но и степенью осознанности себя, своего отношения к миру. Он органично философичен и в этом смысле — характернейшее явление своего времени, о к-ром Белинский писал: «Наш век есть век сознания, философствующего духа, размышления, „рефлексии“» (IV, 518). Напряженные раздумья Печорина, его постоянный анализ и самоанализ по своему значению выходят, однако, за пределы породившей его эпохи, знаменуя необходимый этап в жизни человека, вырастающего в личность. В этом отношении особый интерес приобретает печоринская «рефлексия». Сама по себе рефлексия не «недуг», а необходимая форма самопознания и самопостроения общественно развитой личности. Болезненные формы она принимает в эпохи безвременья, но и тогда выступает как условие развития личности, критически относящейся к себе и миру, стремящейся во всем к самоотчету. Размышляя о душе зрелой, Печорин отмечает, что такая «душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет» (VI, 295). Открытие Л. роли рефлексии в становлении личности в полной мере м. б. оценено в свете выводов совр. психологии: свойства, «которые мы называем рефлексивными... завершают структуру характера и обеспечивают его целостность. Они наиболее интимно связаны с целями жизни и деятельности, ценностными ориентациями... выполняя функцию саморегулирования и контроля развития, способствуя образованию и стабилизации единства личности» (А н а н ь е в Б. Г., Человек, как предмет познания, 1968, с. 314). Сам Печорин говорит о самопознании как о «высшем состоянии человека» (VI, 295). Однако оно для него не самоцель, а предпосылка к действию. В неукротимой действенности Печорина получила отражение др. важнейшая сторона лермонт. концепции человека (см. Этический идеал). «В разумном, нравственно свободном и страстно энергическом деянии, — писал в 1843 Герцен, — человек достигает действительности своей личности... В таком деянии человек... представитель рода и самого себя» (III, 71). В представлении Печорина, страсти — не единственный и не гл. источник человеческих поступков; «сам я больше неспособен, — говорит он, — безумствовать под влиянием страсти» (VI, 294). Движущим началом его действия является воля, на к-рую воздействуют как страсти, так и разум. Аффективно-волевым, импульсивным по своему характеру поступкам «детей природы» (Казбич, Азамат) противостоит интеллектуально-волевое действие Печорина, регулируемое его рефлексией; как убедительно свидетельствует сам Печорин и все его поведение, «это расположение ума не мешает решительности характера...» (VI, 374). Действенность характера Печорина отражается в самой худож. структуре романа, равно насыщенного мыслью и действием, сочетающего в себе филос. глубину с почти приключенч. событийностью, энергией развития и завершенностью многочисл. сюжетных линий (и в этом одно из объяснений его исключит. популярности). Вместе с тем противоречие родовой с у щ н о с т и героя его с у щ е с т в о в а н и ю порождает разлад «между глубокостию натуры и жалкостию действия одного и того же человека» (Б е л и н с к и й , IV, 243). Как личность, Печорин шире огранич. пределов его времени и среды. Однако стремление к свободному выбору своих жизненных позиций в крепостнич. России сталкивалось с предопределенностью обществ. статуса человека. Гоголевский Башмачкин («Шинель») не задумывался, почему он «вечный титулярный советник», его же Поприщин («Записки сумасшедшего») мучительно размышляет: «Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?..». Как бы продолжая эту гоголевскую тему, Печорин размышляет о том, что «гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума...» (VI, 294). Сам он, отвергая все уготованные ему «судьбой» социальные роли, пытаясь угадать свое «назначение высокое», в то же время весьма скептически расценивает свои шансы в борьбе с «молохом» общества: «Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?..» (VI, 301). Печорин — герой действия, прикованный к чиновническо-дворянской «безгеройной» действительности; поэтому поступки его мелки, кипучая деятельность пуста и бесплодна. Но если Печорин и принимает свой дворянско-аристократич. статус, то, скорее, как вынужденную роль в трагикомедии жизни. На протяжении романа мы так и не видим его в сфере непосредственно социальной (напр., службы), зато он необыкновенно активен в сфере частной жизни, где есть возможность проявления своего «всеобщего» человеческого содержания, не ограниченного его «особенным» социальным преломлением. Время поставило его, по мнению Белинского, перед альтернативой: «или решительное бездействие, или пустая деятельность» (XI, 527). И хотя в итоге активность Печорина сводится к «действию пустому», надо иметь в виду, что «не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это, при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции» (Герцен, VII, 213). Печатью мужественности отмечено и ни перед чем не останавливающееся отрицание героем романа неприемлемой для него действительности. Лишенный возможности прямого обществ. действия, Печорин стремится, тем не менее, противостоять обстоятельствам, утвердить свою «собственную надобность», вопреки господствующей «казенной надобности». Несмотря на то, что у него нет ясной цели в жизни, — и в этом один из источников трагизма (см. Трагическое) его судьбы, — было бы неверным утверждать, что у него вообще нет значит. жизненных целей. Одна из них — постижение природы и возможностей человека. Отсюда — нескончаемая цепь его нравственно-психол. экспериментов над собой и другими. С этим связана и вторая подспудно присутствующая в его сознании цель — самопостроение себя как личности, так или иначе соизмеряющей свое поведение с неведомым самому герою «назначением высоким». Рассуждая о свободе как главной для него ценности, Печорин спрашивает себя: «Отчего я так дорожу ею? что мне в ней? куда я себя готовлю? чего жду от будущего?...» (VI, 314). Ни на один из этих вопросов у него нет ответа, но сама их постановка говорит о многом (см. Ц е л ь ж и з н и в ст. Этический идеал). Постоянно воспитывая и тренируя волю, Печорин использует ее не только для подчинения людей своей власти, но и для проникновения в тайные пружины их поведения. За ролью, за привычной маской он хочет рассмотреть лицо человека, его суть. Как бы беря на себя провиденциальные функции, проницательно предвидя и создавая нужные ему ситуации и обстоятельства, Печорин испытывает, насколько человек свободен или несвободен в своих поступках; он не только сам предельно активен, но хочет вызвать активность и в других, подтолкнуть их к внутренне свободному действию, не по канонам традиционной узкосословной морали. Он последовательно и неумолимо лишает Грушницкого его павлиньего наряда, снимает с него взятую напрокат трагич. мантию, а в конце ставит его в истинно трагич. ситуацию, чтобы «докопаться» до его душевного ядра, разбудить в нем человеческое начало. При этом Печорин не дает себе ни малейших преимуществ в организуемых им жизненных «сюжетах»; в дуэли с Грушницким он преднамеренно ставит себя в более сложные и опасные условия, стремясь к «объективности» результатов своего смертельного эксперимента. «Я решился, — говорит он, — предоставить все выгоды Грушницкому; я решил испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему...» (VI, 328). Печорину важно, чтобы выбор был сделан предельно свободно, из внутренних, а не внешних побуждений и мотивов. Создавая по своей воле «пограничные ситуации», Печорин не вмешивается в принятие человеком решения, предоставляя возможность абсолютно свободного нравств. выбора, хотя далеко не безразличен к его результатам: «Я с трепетом ждал ответ Грушницкого... Если б Грушницкий не согласился, я бросился бы ему на шею» (VI, 312). Вместе с тем стремление Печорина открыть, разбудить в человеке человеческое осуществляется отнюдь не гуманными средствами. Он и большинство окружающих его людей живут как бы в разных временны́х и ценностных измерениях. Исходя не из бытующей морали, а из своих представлений, Печорин нередко преступает грань, разделяющую добро и зло, т. к., по его убеждению, в совр. об-ве они давно утратили свою определенность. Это «смешение» добра и зла придает Печорину черты демонизма, особенно в отношениях с женщинами. Давно поняв призрачность счастья в об-ве «всеобщего неблагополучия», отказываясь от него сам, Печорин не останавливается перед тем, чтобы разрушить счастье сталкивающихся с ним людей (или, вернее, то, что они склонны считать своим счастьем). Вторгаясь в судьбы других людей со своей сугубо личностной меркой, Печорин как бы провоцирует дремлющие в них до поры до времени глубинные конфликты между социально-видовым и человеческим и тем самым становится для них источником страданий. Все эти качества героя наглядно проявляются в его «романе» с Мери, в его жестоком эксперименте по преображению за короткий срок юной «княжны» в человека, прикоснувшегося к противоречиям жизни. После мучительных «уроков» Печорина ее не будут восхищать самые блестящие грушницкие, будут казаться сомнительными самые непреложные законы светской жизни; перенесенные ею страдания остаются страданиями, не извиняющими Печорина, но они же ставят Мери выше ее преуспевающих, безмятежно-счастливых сверстниц. Беда и вина Печорина в том, что его независимое самосознание, его свободная воля переходят в прямой индивидуализм. В своем стоическом противостоянии действительности он исходит из своего «Я» как единств. опоры. Именно эта философия обусловила отношение Печорина к окружающим как к средству удовлетворения потребностей его «ненасытного сердца», и еще более ненасытного ума, с жадностью поглощающих радости и страдания людей. Однако природа индивидуализма Печорина сложна, истоки его лежат в самых разных плоскостях — психологич., мировоззренч., исторической. Индивидуализация, обособление человека в ходе исторического развития — такой же закономерный и необходимый процесс, как и все бо́льшая его социализация; вместе с тем в условиях антагонистич. об-ва его результаты глубоко противоречивы. Углубившийся кризис крепостнич. системы, зарождение в ее недрах новых бурж. отношений, вызывавшее подъем чувства личности, совпадает в 1-й трети 19 в. с кризисом дворянской революционности, с падением авторитета не только религ. верований и догм, но и просветит. идей. Все это создавало почву для развития индивидуалистич. идеологии и в рус. об-ве. В 1842 Белинский констатировал: «Наш век... это век... разъединения, индивидуальности, век личных страстей и интересов (даже умственных) ...» (IV, 268). Печорин со своим тотальным индивидуализмом и в этом отношении фигура эпохальная. Принципиальное отрицание им этики и морали совр. об-ва, как и др. его устоев, было не только его личным достоянием. «Есть переходные полосы государственной жизни, — писал в 1845 Герцен, — где религиозная и всякая идея нравственности теряется, как, например, в современной России...» (II, 401). Печоринский скептицизм явился лишь наиболее ранним и ярким выражением общего процесса переоценки ценностей, крушения авторитетов и самого принципа авторитарности, глубокой и всеобъемлющей перестройки обществ. сознания. И хотя индивидуалистич. отрицание им «пребывающего общественного устройства» перерастает нередко в отрицание всяких обществ. норм, в т. ч. моральных, тем не менее при всей своей ограниченности и чреватости антигуманными тенденциями оно было одной из ступеней в развитии человека как подлинно суверенного существа, стремящегося к сознательной, свободной жизнедеятельности по преобразованию мира и самого себя. При всем том для Печорина индивидуализм — не безусловная истина; подвергая все сомнению, он ощущает внутр. противоречивость и своих индивидуалистич. убеждений и в глубине души тоскует по гуманистич. ценностям, к-рые отвергает как несостоятельные. Иронически отзываясь о вере «людей премудрых» прошлого, Печорин мучительно переживает утрату веры в достижимость высоких целей и идеалов: «А мы, их жалкие потомки... неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность...» (VI, 343). В этих словах слышится горькая и страстная интонация лермонт. «Думы», затаенное, но не умершее стремление не только к «собственному счастью», но и к «великим жертвам для блага человечества». Он тоскует о большой жизненной цели, жаждет обрести подлинный смысл бытия. Важно и другое: индивидуализм Печорина далек от «прагматического», приспособляющегося к жизни эгоизма, и если герой является «причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив» (VI, 231). Ему тесно не только в одеждах существующих социальных ролей, но и в добровольно надетых на себя веригах индивидуалистич. философии, противоречащей обществ. природе человека, заставляющей его играть незавидную «роль топора в руках судьбы» (VI, 321), «палача и предателя» (VI, 301). Одной из гл. внутр. потребностей Печорина является его ярко выраженное влечение к общению с людьми. Он пристрастно расспрашивает о «примечательных людях» пятигорского об-ва. «Вернер человек замечательный», — записывает он в своем журнале. Его характеристики свидетельствуют о глубоком знании людей, что отнюдь не свойственно замкнутым в себе индивидуалистам. Недаром он говорит о Грушницком: «Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою» (VI, 263). Коренная потребность в людях, в другом человеке как человеке делает Печорина, вопреки его индивидуалистич. кредо, существом по своей сути общественным, подтачивает изнутри его рационалистич. философию и открывает перспективы выработки нравственности, осн. не на разъединении людей, а на их общности. Проблемы обособления личности и ее единения с людьми, с народом будут в центре внимания всей последующей рус. литры 19 в., достигнув наибольшей остроты и глубины в их постановке у Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Лермонт. концепция личности расширяла и углубляла возможности худож. типизации. Печорин — типич. характер, но особого рода. С одной стороны, он порождение определ. социальных обстоятельств, с другой, как личность, с ее внесословной ценностью, он выходит за эти пределы. Его образ шире, избыточнее того жизненного содержания, к-рое вмещается его социальным статусом, ибо как личность человек «... не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления» (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, с. 476). Осознание себя духовно свободным, а потому ответственным не только за отд. поступки, но и за осуществление своего «назначения высокого» и в то же время его трагич. «неугаданность» приводят героя к противоречию с самим собой, с нравственно-психологич. константами его облика. Изображение характера Печорина, сильного и твердого и одновременно внутренне противоречивого, непредсказуемого в своем поведении, духовном движении и окончат. судьбе, пока смерть не поставит в его развитии последнюю точку, — все это было тем новым, что вносил Л. в худож. постижение человека. Это сочетание определенности и «незавершенности» в характере героя Л., очевидно, и дало основание Белинскому сказать о нем: «Он скрывается от нас таким же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа» (IV, 267). С и с т е м а о б р а з о в , как и вся худож. структура романа, построена т. о., чтобы с разных сторон и под разными углами зрения осветить центр. персонаж (см. Автор. Повествователь. Герой). Однако и второстепенные лица имеют вполне самостоят. худож. значение. В обрисовке горцев Л. решительно порывает с романтич. традицией их изображения как гармонич. «детей природы». Бэла, Казбич, Азамат — это не разновидности «естественного человека», а сложные, противоречивые характеры. Рисуя их ярко выраженные общечеловеческие качества, силу страстей, цельность натуры, Л. показывает и ограниченность, обусловленную патриарх. неразвитостью их жизни. Их гармония со средой, к-рой так не хватает Печорину, основывается на силе обычаев, традиций, а не на развитом сознании, в чем одна из причин ее хрупкости в столкновении с «цивилизацией». Две группы героев действуют в «Тамани». В одной — «ундина», Янко, слепой мальчик как представители загадочного и притягательного для Печорина мира беззаконно вольной жизни, борьбы и отваги; в другой — урядник, десятник, денщик, воплощающие строго регламентированный, предельно несвободный мир «казенной надобности». Между этими взаимоисключающими мирами и показана фигура гл. героя, нигде не находящего себе пристанища, чужого среди «честных контрабандистов» еще более, чем среди горцев. Необыкновенно соразмерна и уравновешена система образов «Княжны Мери», где Печорин показан в среде, родственной ему социально, но чуждой духовно. В первых же дневниковых записях Печорина появляются персонажи, к-рые станут гл. спутниками героя. Притом, если в отношениях с Грушницким и Мери Печорин раскрывается прежде всего как «внешний», то в отношениях с Верой и Вернером — как «внутренний» человек, хотя обе эти линии тесно переплетены. В Грушницком и Вернере воплощено то или иное развитие определ. сторон его характера. В таком же отношении к Печорину находится и Вулич из новеллы «Фаталист», принадлежащий, как и он, к разряду людей «необыкновенных». Печорин и Максим Максимыч, единств. персонаж, сопутствующий герою на протяжении большей части повествования, — два структурно-худож. полюса романа. Образ Максима Максимыча — этап в постижении рус. лит-рой характеров, близких к народным. По словам Белинского, это «тип чисто русский», у него «чудесная душа, золотое сердце». Он необыкновенно человечен. Но критик обращал внимание и на др. сторону его характера — инертность, ограниченность его умств. кругозора и воззрений (IV, 205). В отличие от Печорина Максим Максимыч почти полностью лишен личностного самосознания, критич. отношения к действительности, к-рую он приемлет такой, как она есть, не рассуждая, выполняя свой «долг». Характер Максима Максимыча не так гармоничен и целен, как представляется на первый взгляд, он неосознанно драматичен. С одной стороны, этот образ — воплощение лучших нац. качеств рус. народа, а с другой — его историч. ограниченности, силы вековых традиций, служивших опорой для деспотич. власти. В этом плане символичны превращения Максима Максимыча, к-рый инстинктом человека, близкого к народу, «понимает все человеческое» (Белинский), в представителя иерархич. «порядка»: «Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан» (VI, 218; ср. с. 248). Многое связывает в романе Печорина и Максима Максимыча, каждый по-своему высоко ценит другого, и в то же время они антиподы. «Неслиянность и нераздельность» (А. Блок) правд Печорина и Максима Максимыча — своеобразное отражение драматич. отношений передовой рус. интеллигенции и народа, их единства и разобщенности. Соотношение этих начал в романе Л. подтверждало глубокую мысль Белинского: «Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности тоже призрак... Народ — почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность — цвет и плод этой почвы» (X, 368). Как печоринская правда свободно, критически мыслящей личности, так и правда непосредств. патриархально-народного сознания Максима Максимыча далеки от завершенности и гармонич. целостности. Для Л. полнота истины не в преобладании одной из них, а в их сближении, в своеобразном полифонич. контрапункте. Умение видеть относительность и вместе с тем несомненность отдельных правд, извлечь из их столкновения высшую правду развивающейся жизни — один из гл. философско-эстетич. принципов, лежащих в основе «Героя...». Правота Печорина постоянно подвергается испытанию, проверке др. жизненными позициями, находящимися в сложном сопряжении друг с другом. Так, неукротимый в своих страстях Казбич, жестоко мстящий обидчикам, вызывает у читателя внутр. протест нарушением «правды человечности». Но он прав как исполнитель вековых обычаев и законов горского народа, вошедших в его плоть и кровь. «Конечно, по-ихнему... он был совершенно прав», — говорит и Максим Максимыч (VI, 223). Однако Л. не спешит становиться на сторону той или др. правды, хотя и далек от их релятивистского уравнивания. Это — одна из гл. особенностей худож. структуры романа, очевидно, достаточно осознанная автором. Получая свое полное выражение лишь в контексте худож. целого, авт. позиция не совпадает полностью ни с одним из «голосов» романа, в т. ч. и с печоринским. Не сводимое ни к апологетике, ни к развенчанию отношение Л. к Печорину так же сложно и неоднозначно, как сложна и многогранна его личность. Исследование человеческой природы ведут одновременно и автор, и его герой, к-рый знает о себе почти все, что может сказать о нем автор. Но как раз этот «зазор» в их знании и служит основой для возникновения между ними своеобразного внутр. диалога. П о э т и к а р о м а н а Л. сложна в своей видимой простоте, оригинальна и самобытна, несмотря на многочисленность пересекающихся в ней традиций. Богатый содержанием и противоречивый характер Печорина требовал особой многоаспектности изображения раскрытия его извне и изнутри. Роман строится как две взаимосвязанные и противостоящие одна другой части. В первой преобладает «объективный» способ подачи героя, «со стороны», в повествовании странствующего офицера и Максима Максимыча о внешних проявлениях личности Печорина; во второй — «субъективно-исповедальное» раскрытие изнутри. Множественность субъектов повествования придает его образу объемность, рождает своего рода стереоскопич. эффект. В постижении своего героя Л. ведет читателя от загадки к разгадке, что было характерно для романтич. повествования. Однако Л. переносит акцент с фабульной загадочности на характер героя; романтич. прием обретает реалистич. функции. Роман состоит из отд. повестей, связанных единством героя и авт. мысли, но обладающих внутр. целостностью и самостоятельностью. Эпизоды из жизни Печорина смещены во временном отношении. Композиц.-сюжетная прерывистость, отсутствие цельности и хронологич. последовательности в повествовании по-своему отражают метания Печорина в поисках смысла жизни, отсутствие в ней удовлетворяющей героя единой цели. Вместе с тем, при таком построении, создающем ощущение сложности, «изломанности» жизненного пути героя, архитектоника романа отличается внутр. стройностью. Начинается роман с «середины» и доводится до бесцельно-трагич. смерти героя, после чего события развертываются от их начала к середине. Сначала идут главы углубляющегося трагич. финала («Бэла», «Максим Максимыч», «Предисловие» к «Журналу Печорина»), затем даются события более раннего, духовно более «мажорного» этапа в жизни героя («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»). В последней новелле как бы подводится филос. итог исканий героя-идеолога. Не отходя ни на шаг от трагич. судьбы своего «странного» героя, от его «бесполезно» прожитой жизни, Л. посредством своеобразной композиции наполнил его образ более емким и значит. содержанием, чем позволяли «объективные» проявления его личности и его конкретная, исторически обусловленная судьба, а роман в целом — устремленностью в будущее. В то же время, как бы ограничивая возможности своего героя, Л. искусно использует прием «кольцевой» композиции: действие начинается в крепости («Бэла») и в ней же завершается («Фаталист»); фабульно Печорин покидает крепость навсегда, уезжая в Петербург, затем в Персию; сюжетно он вновь в нее возвращается. Подобный прием, использованный и в поэме «Мцыри», видимо, не случаен: в этом блуждании по кругу — своего рода композиц. «образ» судьбы героя и его поколения. Неповторимый лермонт. стиль включает в себя не только книжно-литературную, но и живую разговорную речь. В единое целое сливаются контрастирующие голоса офицера-повествователя, Максима Максимыча, Печорина как осн. «рассказчиков» в романе. Каждая глава обладает своими стилевыми оттенками, зависящими как от предмета и аспекта изображения, так и от характерологич. черт рассказчика. Бесхитростная манера повествования Максима Максимыча, реалистически «заземляющая» типично романтич. ситуации, контрастирует с интеллектуальным стилем «Журнала Печорина», изобилующего филос. умозаключениями, парадоксами, афоризмами. В целом же язык «журнала» удивительно гибок и адекватен многообразию предметов изображения; в нем отражается богатство и сложность личности героя — автора дневника. Печорин иронически относится к псевдоромантич. патетике, он против «готовых пышных фраз», «декламации» и «вычурности», и это сказывается в его языке, отличающемся меткостью и точностью, простотой в самой сложности. Глубокое и тонкое чувство природы проявляется в его необыкновенно живописных пейзажных зарисовках. В передаче действия стиль печоринского дневника стремителен и лаконичен, необходимость же углубленного раскрытия сложных душевных состояний ведет за собой появление разветвленных фраз-периодов. Точность, простоту, естественность пушкинской прозы Л. соединил с живописной яркостью, эмоц. насыщенностью лучших образцов романтич. стиля. Необыкновенная уравновешенность и гармоничность стиля «Героя...», сочетание в нем простоты и сложности, поэзии и прозы, лит. правильности и разговорной живости дают в совокупности тот неповторимый, не тускнеющий от времени стиль, о к-ром Н. В. Гоголь сказал: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой» (VIII, 402). Восторженно оценивали язык романа А. П. Чехов и др. писатели. Творч. метод Л. открывал перед лит-рой новые перспективы в худож. освоении сложной природы человека сразу в неск. измерениях. Этот своеобразный «реализм в высшем смысле» (выражение Достоевского), выходящий за рамки привычных определений, синтезировал достижения реализма и романтизма своего времени (см. Романтизм и реализм). «Герой...» — тот фокус, в к-ром сходятся все лучи творч. энергии Л., его ранних и поздних произв. — «Демон» и «Мцыри», «Маскарад» и «Княгиня Лиговская», «Дума», «И скучно и грустно», «Завещание», «Кавказец», «Прощай, немытая Россия», «Родина». Черты Печорина как «странного человека», «героя времени» вырисовываются уже в ранней лирике поэта, получают свое более объективированное воплощение в его поэмах и драмах. Печорин, как и Мцыри, о смысле своих испытаний судьбы мог бы сказать, что главное в них — «узнать, для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы». Вместе с тем и «Герое...» Л. по-новому осмысливал свои «генерализующие» темы, идеи и мотивы, развивая и синтезируя их. Т в о р ч е с к а я и с т о р и я «Героя...» почти не документирована и устанавливается на основании анализа текста и отчасти по указаниям в мемуарной лит-ре (часто неточным и противоречивым). Возможно, ранее др. повестей написана «Тамань»: по воспоминаниям П. С. Жигмонта, она была набросана «начерно» на квартире С. О. Жигмонта (осень 1837). Есть основания предполагать, что «Фаталист» был написан вслед за «Таманью» и, м. б., до того, как оформился замысел всего романа. По др. предположениям, «Фаталист» написан позже «Максима Максимыча» (Б. Эйхенбаум), а «Тамань» — последней из повестей, входящих в роман (Э. Герштейн). Замысел романа как «длинной цепи повестей» окончательно сложился у Л., вероятно, в 1838. В самой ранней ред. романа первой из составлявших его повестей стояла «Бэла»; за нею следовали «Максим Максимыч» и «Княжна Мери». «Бэла» и «Максим Максимыч», имевшие подзаголовок «Из записок офицера», составляли первую «объективно-экспозиционную» часть романа, «Княжна Мери» — вторую, основную его часть, содержащую исповедальное самораскрытие героя. Вероятнее всего, в авг. — сент. 1839 Л. переписал все «главы» романа (за исключением «Бэлы», к-рая к этому времени была опубл.) с черновиков в особую тетрадь, внося в процессе переписывания нек-рые поправки. На этой стадии работы в роман вошла глава «Фаталист». В этой ред. роман получил назв. «Один из героев начала века» [возможно, «нашего века», см. Герштейн (8), с. 25—31]; теперь он состоял из «Бэлы», «Максима Максимыча», «Фаталиста», «Княжны Мери». О таком расположении говорит тетрадь с автографом «Одного из героев начала века» [см. также, Мануйлов (11), с. 157]. Попрежнему роман делился на две части: первая представляла собой записки офицера-повествователя, вторая — записки героя. С включением «Фаталиста» 2-я часть и роман в целом стали глубже, философичнее, законченнее. К концу 1839 Л. создает завершающую ред. романа, включив в него «Тамань» и определив окончательно его композицию. Поставив в записках Печорина первой «Тамань», Л. передвинул новеллу «Фаталист» в конец, что в наибольшей мере соответствовало ее итоговому филос. смыслу. В этой ред. появилось назв. записок героя — «Журнал Печорина». Вычеркнув концовку «Максима Максимыча», подготавливавшую переход к «запискам», Л. написал специальное предисл. к «Журналу Печорина». Т. о., роман разросся до 6 глав, включая сюда и «Предисловие» к «Журналу». Появилось и окончат. название — «Герой нашего времени». Сопоставление рукописи «Одного из героев начала века» с печатным текстом «Героя...» заставляет предполагать, что между ними была не дошедшая до нас рукопись, очевидно, писарская авториз. копия, с к-рой роман набирался (см. комментарий Б. Эйхенбаума, ЛАБ, VI, 650) для 1-го изд., вышедшего в апр. 1840. В нач. 1841, в связи с выходом 2-го изд. «Героя...», Л. написал предисл. к роману в целом. «Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и » в к р и т и к е . Появление романа Л. сразу же вызвало острую полемику, выявившую полярную противоположность его истолкований и оценок. Раньше других с необычайной верностью оценил «Героя...» Белинский, в первом же печатном отклике на роман отметивший в нем «глубокое чувство действительности», «богатство содержания», «глубокое знание человеческого сердца и современного общества», «самобытность и оригинальность» произведения, представляющего «совершенно новый мир искусства» (IV, 147).С конкретизацией и развитием этих мыслей критик выступил в большой статье, посв. «Герою...» и опубл. летом 1840 в «ОЗ» (т. 10, кн. 6), показав огромное жизнепознават., социально-психологич. и филос. значение образа Печорина, как и романа в целом. Охранит. критика обрушилась на роман Л., усматривая в нем, особенно в образе Печорина, клевету на рус. действительность. Так, С. А. Бурачок, утверждая, что в «Герое...» «философии, религиозности, русской народности и следов нет», особенно ополчался против гл. героя, расценивая его как «эстетическую и психологическую нелепость», поклеп «на целое поколение людей» (см. «Маяк», 1840, ч. IV, гл. IV, с. 211, 213, 218). С. П. Шевырев, полемизируя с осн. положениями Белинского, стремился доказать, что Печорин не больше как подражание зап. образцам, что он не имеет корней в рус. жизни (см. «Москвитянин», 1841, ч. 1, № 2, с. 536). Положит. оценки Шевырева и Бурачка удостоился только образ Максима Максимыча, как человека «истинно русского», т. е. смиреннопатриархального. Отрицательно оценили «Героя...» О. И. Сенковский, Н. А. Полевой. Неожиданно положит. была оценка Ф. В. Булгарина, давшего, впрочем, роману свою интерпретацию. Среди первых отзывов было немало внутренне противоречивых, однако содержащих любопытные суждения и наблюдения. Так, П. А. Плетнев впервые сопоставил «Героя...» с «Рыцарем нашего времени» Карамзина, В. Т. Плаксин высказал мысль об известном несовпадении образов гл. героя в «Бэле» и «Тамани». Представляют интерес далеко не бесспорные суждения Гоголя о лермонт. прозе. Относя Л. к «первостепенным поэтам», Гоголь, однако, полагал, что «в его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства». Имея в виду «Героя...», он утверждал «Тут видно больше углубленья в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского быта...» (VIII, 402). Взгляды Белинского на сущность и значение «Героя...» во многом развили в новых историч. условиях Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Чернышевский указал на роль «Героя ...» в формировании психол. анализа в произв. Л. Толстого («диалектика души»). Вместе с тем, соглашаясь признать за Печориным значение социально-психологич. типа своего времени, революционеры-демократы несколько недооценивали нравственно-филос. содержание этого образа, порой излишне прямолинейно противопоставляя ему и др. «лишним людям» 30—40-х гг. разночинцев-шестидесятников. Отсутствие общественно полезной деятельности у Печорина, рассматриваемое с позиций совр. задач, трактовалось Добролюбовым как проявление социальной сущности его характера, имя к-рой «обломовщина» («Что такое обломовщина?», 1859). Герцен оказался более историчным в истолковании сущности и значения «лишних людей», в частности Онегина и Печорина. В ст. «Лишние люди и желчевики» (1860), выступая против их отождествления с совр. либералами, он подчеркивал, что «лишние люди были тогда столько же необходимы, как необходимо теперь, чтобы их не было» (XIV, 317). В то же время Герцен был склонен отождествлять Л. с Печориным, утверждая, что поэт «умер в безвыходной безнадежности печоринского направления...» (XX, кн. 1, 347). Отсутствие конкретно-историч. подхода помешало критикам-демократам Д. И. Писареву, Н. В. Шелгунову, В. А. Зайцеву правильно понять роман Л. и тип Печорина, хотя в их высказываниях и были верные положения. Сложную эволюцию претерпевали взгляды на Л. и «Героя...» у А. А. Григорьева. Сторонник «органической критики», не принимавший бунтарской мятежности лермонт. героев, он в то же время относил Печорина к людям «иной титанической эпохи», готовым «играть жизнью при всяком удобном и неудобном случае. Вот этими-то своими сторонами Печорин не только был героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического». Критически подходя к Печорину как к типу «хищного», в отличие от типа «смирного», человека, Григорьев тем не менее признает, что все-таки он — «сила и выражение силы, без которой жизнь закисла бы в благодушествовании Максимов Максимовичей...» (Собр. соч., в. 7, М., 1915, с. 36, 96). Славянофильская и либерально-западнич. критика (К. С. Аксаков, С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и др.) сближалась в своем отрицании «лермонтовского направления»; Л. объявляли последним рус. поэтом «подражательной эпохи», соответственно преувеличивая значение западноевроп. источников образа Печорина. В исследоват. лит-ре эта тенденция наиболее ярко проявилась в работах компаративистов (Э. Дюшен, С. И. Родзевич и др.), в к-рых несмотря на отд. точные наблюдения, преобладало выискивание механически вырываемых из худож. контекста «параллелей». Более содержательными были исследования представителей культурно-историч. школы (А. Н. Пынина, Н. А. Котляревского), однако и у них ощутима недооценка социальной остроты романа Л. и историч. значения Печорина как героя времени. В их работах впервые обозначена мысль о «примирении» Л. с жизнью, к-рая получила развитие в дореволюц. лит-ре. Народнич. критика в лице Н. К. Михайловского, напротив, выдвинула в творчестве Л. на первое место протестующее начало, однако ложная теория «толпы и героя» помешала проникнуть в подлинную сущность образа Печорина. Символисты нач. 20 в. (Вл. С. Соловьев, Д. С. Мережковский) рассматривали поэтич. наследие и роман Л. вне связи с конкретно-историч. проблемами, стараясь найти в авторе и его героях мистич., «сверхчеловеческое» начало. Представитель психол. школы Д. Н. Овсянико-Куликовский выводил содержание «Героя...» из недр авторской психологии, отождествляя Л. с Печориным, считая главным в их характерах врожденный «эгоцентризм». С совершенно иных социально-историч. позиций рассматривал в это же время лермонт. творчество М. Горький в курсе рус. лит-ры, прочитанном в 1909 в Каприйской школе. Главное в нем для Горького — «жадное желание дела, активного вмешательства в жизнь». Подчеркивая типичность Печорина и в то же время его духовную близость к автору, Горький не отождествлял их, отмечая, что «Лермонтов был шире и глубже своего героя» (Г о р ь к и й М., История русской литературы, 1939, с. 164—65). Новые методологич. принципы в изучении романа определились в ряде общих работ о Л. и его эпохе, принадлежащих представителям ранней марксист. критики (Г. В. Плеханов, А. В. Луначарский); в них были поставлены вопросы о социальном содержании творчества Л., о связи его с обществ. движением. «Герой...» — одно из наиболее детально изученных произв. Л. Ему посвящены книги и статьи неск. поколений сов. ученых. На основании исследования всех дошедших до нас источников установлен критич. текст романа. Дана новая интерпретация образу гл. героя. Все более пристальное внимание привлекают нравств.-филос. проблемы, связанные с этим образом, сущность печоринской личности как идейно-худож. центра романа, структура произв. в целом. Роман осмыслен как этап худож. эволюции Л. и всей истории рус. прозы 19 в. Вместе с тем остаются недостаточно изученными и спорными проблемы, связанные с существенными сторонами романа, в частности с его методом и стилем, жанровым своеобразием, авторской позицией. «Герой...» и особенно образ Печорина оказали большое и разностороннее воздействие на развитие рус. лит-ры. Вместе с «Евгением Онегиным» роман Л. стоит у истоков многочисл. галереи образов «лишних людей». Кроме Бельтова («Кто виноват?» Герцена), Рудина («Рудин» И. С. Тургенева), Райского («Обрыв» И. А. Гончарова), теми или иными сторонами сближаются с Печориным герои произв. многих рус. писателей — самых разных по характеру и масштабу творчества. «Отзвуки» печоринского характера можно различить в образе Скачкова из драматич. сцены Н. М. Языкова «Странный случай» (1841), в лирич. персонаже стих. Н. П. Огарева «Характер» (1842), в образе гл. героев «Отрывка из сказаний об одной темной жизни» (1845), «Олимпия Радина» (1845), «Предсмертной исповеди» (1846) А. А. Григорьева, в Лучинове из «Трех портретов» (1846), Лучкове из «Бретера» (1846), Горском из пьесы «Где тонко, там и рвется» (1848) И. С. Тургенева. В последующие десятилетия более явственно определяется тенденция к «снижению» и «развенчанию» печоринского типа. Прямо против «Героя...» был направлен памфлет С. А. Бурачка «Герои нашего времени» (1845). А. Ф. Писемский в повести «Тюфяк» (1850) и особенно в «M-r Батманов» (1852), в пародийно-сатирич. целях следуя за Л. в расстановке и характеристике действующих лиц, рисует сниженных «Печориных» (Бахтиаров, Батманов). Объективно пародией на «Героя...» явился и подражат. роман М. В. Авдеева «Тамарин»(1852). Сознательно окарикатуренный тип Печорина появляется в романе В. И. Аскоченского «Асмодей нашего времени» (1859) в виде образа Пустовцева. В 1877 опубл. повесть А. О. ОсиповичаНоводворского «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны», в к-рой писатель-демократ создал сатирич. обобщенный образ «лишнего человека» 70-х гг., интеллигента-разночинца Преображенского, соотнеся его с героями Л. Многочисл. факты той или иной идейно-худож. трансформации в рус. лит-ре печоринского типа ни в какой мере не исчерпывают значения для нее прозы Л. Она оказала воздействие на все дальнейшее развитие романа, принесшего рус. лит-ре мировое признание (см. Русская литература 19 века). Об этой роли «Героя...» писал А. Н. Толстой: «Из этой прозы — и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Лев Толстой, и Чехов» (М. Ю. Лермонтов в рус. критике, 1951, с. 276). Глубина худож. постижения в «Герое...» многотрудного и противоречивого процесса становления «в человеке человека» (Достоевский) определила непреходящее общечеловеч. нравственно-филос. и эстетич. значение этой, по выражению Белинского, «вечно юной книги». Роман иллюстрировали: В. А. Агин, В. П. Белкин, В. Г. Бехтерев, П. М. Боклевский, Э. А. Будогоский, П. Л. Бунин, А. В. Ванециан, А. М. Васнецов, В. В. Верещагин, М. А. Врубель, Н. Н. Дубовский, А. П. Журов, М. А. Зичи, М. П. Клодт, В. И. Комаров, Ф. Д. Константинов, К. Кузнецов, Е. Е. Лансере, А. Ф. Лютомская, Т. А. Маврина, Д. И. Митрохин, Э. Мосиев, Л. Непомнящий, П. Я. Павлинов, И. Е. Репин, К. А. Савицкий, В. А. Серов, П. П. Соколов, В. Я. Суреньянц, Н. А. Тырса, М. В. Ушаков-Поскочин, Л. Е. Фейнберг, Ф. А. Фербер, Д. А. Шмаринов. Сохранился карандашный рис. Л. «Тамань» (1837), изображающий дом на берегу моря, близкий описанию Тамани в «Герое...». Об экранизациях «Героя...» и его воплощениях на сцене см. в статьях Кинематография, Музыка, Театр. Роман переведен на мн. языки народов СССР и осн. языки мира. Рукописные источники текста: 1) Автограф (черновой) предисл. в альбоме Л. 1840—41 (л. 5—7 карандашом) — ГПБ, Собр. рукоп. Л., № 11. 2). Авториз. копия предисловия (рукой А. П. Шан-Гирея, с поправками Л.) — ИРЛИ, оп. 1, № 16 (тетр. XV); воспроизводит текст предыдущего автографа с вариантами. 3) Тетрадь с рукописными текстами «Максима Максимыча» (л. 2—8), «Фаталиста» (л. 9—15) и «Княжны Мери» (л. 16—58) — рукой Л. и (часть текста «Княжны Мери») рукой А. П. Шан-Гирея с поправками Л. Рукопись, очевидно, перебеленная; на обложке — рукой Л.: «Один из героев начала века» (ГПБ, Собр. рукоп. Л., № 2). 4) Автограф предисл. к «Журналу Печорина» — лист, приклеенный к л. 2 предыдущей рукописи. 5) Авториз. копия «Тамани» (рукой А. П. Шан-Гирея, с поправками Л.) — ГПБ, Собр. рукоп. Л., № 3). На л. 1 пометка П. А. Висковатого: «Писано рукою двоюродного брата Лермонтова Ак. Павл. Шан-Гирея, коему Лерм. порою диктовал свои произв.». Впервые — «ОЗ», 1839, т. 2, № 3, отд. III, с. 167—212 («Бэла»); «ОЗ», 1839, т. 6, № 11, отд. III, с. 146—58 («Фаталист»); «ОЗ», 1840, т. 8, № 2, отд. III, с. 144—54 («Тамань»). Первое отд. изд. (без предисл.): «Герой нашего времени. Соч. М. Лермонтова, ч. I и II, СПб, 1840. Второе изд. (с предисл. перед ч. II): Герой нашего времени. Соч. М. Лермонтова, части I и II, изд. 2-е СПб, 1841. Лит.: Б е л и н с к и й , т. 4, с. 145—47, 173—75, 193—270; т. 5, с. 451—56; т. 8, с. 116—18, 164—66; т. 9, с. 527—28, 540; М и х а й л о в с к и й Н. К., Герой безвременья, Соч., т. 5, СПБ, 1897, стлб. 317—18, 322—24; М е р е ж к о в с к и й ; Д ю ш е н (2), с. 15, 61—62, 75, 96—102, 110, 142, 150—56; Р о д з е в и ч С. И. (2); К о т л я р е в с к и й Н. А.; О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й Д. Н., Собр. соч., т. 7, ч. 1, М., 1924, с. 84—103; Г и н з б у р г (1), с. 160—94; Д у р ы л и н (3); В и н о г р а д о в В., с. 564—626; М о р д о в ч е н к о , с. 754—93; Н и к и т и н Н. И., Образ Печорина в композиции «Героя...», «Лит-ра в школе», 1941, № 4, с. 48—63; А н д р о н и к о в (6), с. 204—17; А н д р о н и к о в (8), с. 116—23; Ш к л о в с к и й , с. 170—99; В и н о г р а д о в Б. С., Образ повествователя в романе М. Ю. Л. «Герой...», «Лит-ра в школе», 1956, № 1, с. 20—28; е г о ж е , О «Герое нашего времени», в кн.: VI конф. (Ставроп.), с. 20—34; М и х а й л о в а Е. (2), с. 203—381; Т о й б и н (1), с. 19—56; Э й х е н б а у м (2), с. 221—85; Т а м а р ч е н к о , с. 59—103; Т и т о в А. А., Худож. природа образа Печорина, в кн.: Проблемы реализма рус. лит-ры XIX в., М. — Л., 1961, с. 76—101; Т и т о в (2), с. 13—31; Н а й д и ч (3), с. 163—97; Г р и г о р ь я н (3); М а н у й л о в (8), с. 25—35; М а н у й л о в (9), с. 250—52, 283— 90; М а н у й л о в (11), 2 изд., 1975 (Библиография, с. 268—79); П о п о в А. В. (6), с. 30—80; Ф о х т (1), с. 200—24; Ф о х т (2), с. 149—80; В и н о г р а д о в И., Филос. роман Л., «Новый мир», 1964, № 10, с. 210—31; М а к с и м о в (2), с. 107—12; У д о д о в (2), с. 451—608; е г о ж е , Идейно-худож. структура романа «Герой...», в сб.: Вопросы поэтики лит-ры и фольклора, Воронеж, 1977, с. 46—62; А р х и п о в , с. 440—48; Ф р и д л е н д е р , с. 33—49; М а р к о в и ч (2), с. 46—66; Ф е д о р о в (2), с. 207—22, 351—57; Ж у к А., «Герой...» и проза Герцена 1830—1840-х гг., «Науч. докл. высшей школы. Филологич. науки», 1968, № 6, с. 62—74; У м а н с к а я (1), с. 37—188, 206—52; К о р о в и н (4), с. 217—85; С о л л е р т и н с к и й (2), с. 61—111; У с о к (4), с. 283—302; Ш а б л и й М. И., Журнальная полемика вокруг романа М. Ю. Л. «Герой...», «Вопросы рус. лит-ры», Львов, 1974, в. 1 (23), с. 62—69; О с ь м а к о в , с. 74—103; Л е в и н (4), с. 104—26; Т у р б и н , с. 140—56, 204, 208—16; Г е р ш т е й н (9); Г у с е в В., Тайна композиции, «ЛУ», 1978, № 2; Семинарий; История рус. лит-ры XIX в. Библиографич. указатель, М. — Л., 1962, с. 414—29; Библиография переводов романа «Герой нашего времени» на иностр. языки, сост. Б. Л. Кандель, в кн.: М. Ю. Л., Герой..., М., 1962, с. 203—18; М. Ю. Л. Рекомендат. указатель лит-ры, сост. Э. Э. Найдич, Л., 1964, с. 109—11, 114—20; Библиография лит-ры о М. Ю. Л. (1917—1977 гг.), Сост. О. В. Миллер, Л., 1980 (по указат.). Б. Т. Удодов. http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/ нравственно-психологический роман, его худ. особенности "Герой нашего времени" - первый в русской прозе лирико-психологический роман. Лирический потому, что у автора и героя"одна душа, одни и те же муки". Психологический потому, что идейным и сюжетным центром являются не события, а личность человека, его духовная жизнь. Поэтому психологическое богатство романа заключено прежде всего в образе "героя времени". Через сложность и противоречивость Печорина Лермонтов утверждает мысль о том, что нельзя до конца все объяснить: в жизни всегда есть высокое и тайное, которое глубже слов, идей. Отсюда одной из особенностей композиции является нарастание раскрытия тайны. Лермонтов ведет читателя от поступков Печорина ( в первых трех повестях ) к их мотивам ( в 4 и 5 повестях ), то есть от загадки к разгадке. При этом мы понимаем, что тайной являются не поступки Печорина, а его внутренний мир, психология. Автор использует принцип хронологической инверсии ( отказ от последовательного изображения ). Такая разочарованная позиция в точности соответствует "разочарованной", противоречивой личности человека. В первых трех повестях ("Бэла", "Максим Максимыч", "Тамань") представлены лишь поступки героя. Лермонтов демонстрирует примеры печоринского равнодушия, жестокости к окружающим его людям, показанным либо как жертвы его страстей ( Бэла ), либо как жертвы его холодного расчета ( бедные контрабандисты ). Невольно напрашивается вывод, что психологическим нервом Печорина является власть и эгоизм:"какое дело мне: странствующему офицеру, до радостей и бедствий человеческих ?" Но не все так просто. Вовсе не так однотипен герой. Перед нами одновременно совестливый, ранимый и глубоко страдающий человек. В"Княжне Мери" звучит трезвый отчет Печорина. Он понимает скрытый механизм своей психологии:"Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его." А позже Григорий Александрович открыто формулирует свое жизненное кредо:"Я смотрю на страдания к радости других только в отношении к себе, как пищу, поддерживающую мои духовные силы..." На основании этого правила Печорин развивает целую теорию счастья:"Быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права,- не самая ли это сладкая пища нашей гордости ? А что такое счастье ? Насыщенная гордость." Казалось бы, умный Печорин, знающий в чем состоит счастье, и должен быть счастлив, ведь он постоянно и неутомимо пытается насытить свою гордость. Но счастья почему-то нет, а вместо него утомление и скука... Почему же судьба героя так трагична? Ответом на этот вопрос является последняя повесть"Фаталист". Здесь решаются уже проблемы не столько психологические, сколько философские и нравственные. Повесть начинается с философского спора Печорина с Вуличем о предопределении человеческой жизни. Вулич - сторонник фатализма. Печорин же задается вопросом:"Если точно есть предопределения, то зачем же нам дана воля, рассудок ?" Этот спор проверяется тремя примерами, тремя смертельными схватками с судьбой. Во первых, попытка Вулича убить себя выстрелом в висок окончившийся неудачей; во-вторых, случайное убийство Вулича на улице пьяным казаком; в-третьих, отважный бросок Печорина на казака убийцу. Не отрицая саму идею фатализма, Лермонтов приводит к мысли о том, что нельзя смиряться, быть покорным судьбе. Таким поворотом философской темы автор избавил роман от мрачного финала. Печорин, о смерти которого неожиданно сообщается в середине повествования, в этой последней повести не только спасается от казалось бы верной гибели, но и впервые совершает поступок, приносящий пользу людям. И вместо траурного марша в финале романа звучат поздравления с победой над смертью: "офицеры меня поздравляли - и точно было с чем". с одной стороны он иронизирует над их наивной верой в светила небесные, с другой стороны, он откровенно завидует их вере, так как понимает, что любая вера - благо. Но, отвергая прежнюю наивную веру, он сознает, что в его время 30-е годы нечем заменить утраченные идеалы. Несчастье Печорина в том, что он сомневается не только в необходимости добра вообще; для него не только не существует святынь, он смеётся"над всем на свете"... А безверие порождает либо бездействие, либо пустую деятельность, которые являются пыткой для умного и энергичного человека. Показывая мужество своего героя Лермонтов одновременно утвердил необходимость борьбы за свободу личности. Григорий Александрович очень дорожит своей свободой:" Я готов на все жертвы, кроме этой: двадцать раз поставлю свою жизнь на карту, но свободы своей не продам". Но такая свобода без гуманистических идеалов связанна с тем, что Печорин постоянно пытается подавить голос своего сердца: "я давно уже живу не сердцем, а головой". Однако Печорин не самодовольный циник. Выполняя "роль палача или топора в руках судьбы", он сам страдает от этого не меньше, чем его жертвы, весь роман - это гимн мужественной, свободной от предрассудков личности и одновременно реквием одаренному, а может быть гениальному человеку который не смог"угадать своего высокого назначения". http://www.abc-people.com/data/lermontov/hero.htm Перед нами – одно из центральных произведений русской классики 19 века. Его автор – поэт и писатель, великий творец своего времени - М.Ю.Лермонтов. А роман, написанный им, носит название Герой нашего времени. Роман написан в прозе и по составу является несколькими взаимосвязанными между собой повестями, каждая из которых носит определенное название. Первая повесть называется Бэла, причем название ее – имя девушки, о которой идет речь в этой повести. В Бэле мы впервые слышим о главном герое всех повестей – Григории Печорине. История жизни Печорина рассказывается от третьего лица. Максим Максимыч делится со своим попутчиком одним из жизненных эпизодов Печорина... Юность Печорина прошла в высшем петербургском обществе, где он мог насладиться всеми удовольствиями, которые можно получить за деньги. Его любили, но любовь светских дам лишь тешила самолюбие героя. В его сердце была неистребимая скука. Затем Печорина переводят на Кавказ, где он встречает девушку Бэлу, которую как ему кажется, начинает любить. Он пытается добиться ее расположения, но как только ему это удается, Печорин начинает скучать рядом с Бэлой. А Максиму Максимычу говорит: Я опять ошибся, дикарки немногие лучше любви знатной барышни. Следующая повесть называется Максим Максимыч. В ней большей частью описывается Печорин таким, каким его видел Максим Максимыч: Даже когда он смеялся, взгляд его оставался холодным и равнодушно тяжелым - так отзывается о Печорине Максим Максимыч… Затем роман Герой нашего времени продолжается, но в виде Журнала Печорина своеобразного дневника этого странного человека. Журнал начинается с повести Тамань, где рассказывается о том, как герой попал к контрабандистам, и чем это завершилось. Первоначально контрабандисты – Янко, его девушке кажутся ему романтиками, их жизнь на берегу моря – загадочной. Но когда Печорин открывает тайну их деятельности, его постигает разочарование, он огорчен своим бессмысленным вмешательством в чужую жизнь… Следующей, и одновременно центральной является повесть Княжна Мэри. Эта повесть более всего – дневник Печорина. Именно в ней он анализирует каждое свое действие, поступок, слово. …Он добивается любви девушки по имени Мэри, которую встречает в Пятигорске на лечебных водах. Она – княжна, а его цель – добиться ее лишь потому, что она выделяет из толпы другого мужчину – Грушницкого. Печорин же считает, что Грушницкий не заслуживает такого внимания. В борьбе за княжну Мэри Печорин вызывает Грушницкого на дуэль, в результате которой Грушницкий гибнет. Завершает роман Герой нашего времени повесть Фаталист. В ней Печорин решает важный философский вопрос о том, в силах ли человек распоряжаться своей судьбой, или на все воля божья? Поэтому поводу среди офицеров разгорается спор, большинство склоняются к тому, что рок определенно есть. В величии человека над роком уверен лишь один поручик Вулич, который сам же волею судьбы погибает от шашки пьяного казака. Убийцу поймать сложно, но за это берется Печорин, он остается жив, а все потому, что всегда смело идет вперед, особенно там, где не знает, что его ожидает. Таким образом, благодаря реалистическому роману Герой нашего времени современный читатель на примере главного героя может рассмотреть со всей точностью черты и пороки времени М.Ю.Лермонтова. Композиционная сложность романа неразрывно связана с психологической сложностью образа главного героя. Неоднозначность характера Печорина, противоречивость этого образа выявлялась не только в исследовании самого его духовного мира, но и в соотнесении героя с остальными персонажами. Именно поэтому Лермонтов не сразу нашел композиционное решение романа, согласно которому читатель постепенно приближается к герою. Композиция романа подчинена логике раскрытия образа главного героя. В первой части мы видим Печорина глазами Максима Максимыча. Этот человек искренне привязан к Печорину, но духовно глубоко ему чужд. Их разделяет не только разница социального положения и возраст. Они - люди принципиально различных типов сознания и дети разных эпох. Для штабс-капитана, старого кавказца, его молодой приятель - явление чужеродное, странное и необъяснимое. Поэтому в рассказе Максим Максимыча Печорин предстает как человек загадочный, таинственный. Максим Максимыч неслучайно выбран первым рассказчиком. Его образ - один из важнейших в романе, ибо этот человеческий тип очень характерен для России первой половины минувшего века. В условиях вечной войны формировался новый тип "русского кавказца" - чаще всего это были люди, подобные Ермолову, превыше всего ставящие закон силы и власти, и их подчиненные - добрые, искренние и не рассуждающие воины. Такой тип и воплощен в образе Максима Максимыча. Кавказ называли "теплой Сибирью", куда в действующую армию ссылали неугодных - в частности и многих декабристов. На Кавказ ехали, и молодые люди в жажде побывать в "настоящем деле", туда стремились и как в экзотическую страну чудес, в край свободы... Эти черты Кавказа, так или иначе, сродни Печорину: в нем есть нечто от черкеса (его безумная скачка на коне по горам без дороги после первом свидания с Верой!); он естествен в кругу княжны Лиговской. Единственный человек с кем у Печорина нет ничего общего, это Максим Максимыч. Лапши разных поколений, разных эпох и разных типов сознания, штабс-капитан и Печорин абсолютно чужды друг другу. Потому и запомнился Максиму Максимычу его давний подчиненный, что так и не смог он понять, разгадать его. В рассказе Максима Максимыча Печорин предстает романтическим героем, встреча с которым стала одним из ярчайших событий в его жизни; тогда как для Печорина и сам штабс-капитан, и история с Бэлой - лишь эпизод в ряду других. Даже при случайной встрече, когда Максим Максимыч готов кинуться ему в объятия, Печорину не о чем с ним говорить: вспоминать Бэлу болезненно, рассказать старому приятелю нечего..."Мне пора Максим Максимыч." Итак, из новеллы "Бэла" (кстати, написанной позже других) мы узнаем о существовании некоего Печорина - героя романтической истории с черкешенкой. Зачем Печорину понадобилась Бэла; почему, едва добившись ее любви, он скучает и томится; отчего бросился отбивать ее у Казбича (ведь разлюбил!); что мучило его у постели умирающей Бэлы и почему засмеялся, когда добрейший Максим Максимыч попытался его утешить? Все эти вопросы остаются без ответа; в Печорине - 'все тайна, поведение героя читатель волен объяснять в меру собственного воображения. В главе "Максим Максимыч" завеса тайны начинает приподниматься. Место рассказчика занимает давешний слушатель штабс-капитана, путешествующий офицер. И таинственному герою "кавказской новеллы" придаются какие-то живые черты, его воздушный и загадочный образ начинает обретать плоть и кровь. Странствующий офицер не просто описывает Печорина, он дает психологический портрет. Он человек того же поколения и близкого, вероятно, круга. Если Максим Максимыч ужаснулся, услышав от Печорина о томящей его скуке: "... жизнь моя становится пустее день ото дня...", то его слушатель принял эти слова без ужаса как вполне естественные: "Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду... " И поэтому для офицера-рассказчика Печорин гораздо ближе и понятнее; он многое может объяснить втрое: и "разврат столичной жизни", и "бури душевные", и "некоторую скрытность", и "нервическую слабость". Так, загадочный, ни на кого не похожий Печорин становится более или менее типичным человеком своего времени, в его облике и поведении обнаруживаются общие закономерности. И все же загадка не исчезает, "странности" остаются. Повествователь отметит глаза Печорина "они не смеялись, когда он смеялся! " В них рассказчик попытается угадать "признак - или злого нрава, или глубокой посмеянной грусти"; и поразится их блеску: "то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный"; и поежится от "проницательного и тяжелого" взгляда... Именно поэтому так рад путешественник, заполучив записки Печорина: "Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. " Написанное от лица повествователя предисловие к "Журналу Печорина" объясняет его интерес к этой личности. Он говорит о бесконечной важности изучения "истории души человеческой", о необходимости понять истинные причины побуждений, поступков, всего характера человек "... и может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сих пор обвиняли..." Все это предисловие подтверждает духовную близость повествователя и кроя, их принадлежность к одному поколению и одному человеческому типу: вспомните, например, рассуждения рассказчика о "коварной неискренности истинного друга", оборачивающейся "неизъяснимой ненавистью, сгорая, таясь под личиной дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений". Как близки эти слова горьким мыслям самого Печорина о нынешней дружбе, как объясняют они его убеждение "я к дружбе не способен"! Мнение рассказчика о Печорине выражено однозначно: "Мой ответ заглавие этой книги". Это же и объяснение его напряженного интереса к герою: перед нами не только своеобразный человек, типичный для своей эпохи. Герой времени - это личность, сформированная данным веком, и ни в какой другой эпохе подобный человек появиться не мог бы. В нем сконцентрированы все черты, все достоинства и недостатки его времени. В предисловии к роману Лермонтов полемически заявляет: "Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. " Но свой роман "едких истин" он создает не для того, чтобы бичевать пороки: он подносит обществу зеркало, чтобы люди увидели себя, взглянули - в собственное лицо, постарались понять себя самих. Это и есть главная задача лермонтовского романа. Как бы ни был близок Печорин рассказчику, полностью понять его он не может. Для полного, глубокого понимания Печорин должен сам сказать о себе. И две трети романа составляет его исповедь. Мы много говорили об исповедальном характере лермонтовской лирики: это одна из главных черт его творчества. Именно поэтому так важно, что Печорин, ни в коей мере не являясь автопортретом Лермонтова ("Старая и нелепая шутка!" - говорится в предисловии о подобном толковании), все же часто бесконечно близок автору в своих оценках, эмоциях, рассуждениях. Это создает особое ощущение общности беды и вины автора и его героя. Как и в "Думе", поэт, ощущая себя внутри поколения, разделяя его вину и судьбу, своим пониманием общей трагедии, яростным негодованием и всей горечью размышлений выходит из общей массы, поднимается над ней - на недосягаемые высоты духа. Композиция "Журнала Печорина" очень своеобразна. Это как бы "роман в романе". Первая новелла "Тамань" - единый рассказ о происшествии, приключившемся с героем. В ней намечены основные мотивы всего "журнала": стремление Печорина к активным действиям; "любопытство", толкающее его ставить "эксперименты" над собой и окружающими, вмешиваться в дела, до него не касающиеся; его безрассудная храбрость и романтическое мироощущение. И главное! стремление понять, что движет людьми; выявить мотивы их поступков, постичь их психологию. "Княжна Мери построена из дневниковых записей - это почти ежедневная летопись жизни Печорина. И причем он не интересуется "общими вопросами". Он пишет о своих чувствах, мыслях, о своем поведении и о поступках. Печорин сам себе создает приключения, активно вмешиваясь в свою судьбу и жизнь окружающих, меняя ход вещей таким образом, что он привел к взрыву, к столкновению. Так было в "Бэле", когда он круто изменил судьбу девушки, Азамата, их отца, Казбича, сплетая их пути в немыслимый клубок. Так было в "Тамани", где он вмешался в жизнь "честных контрабандистов", в "Княжне Мери"... И он не просто изменяет и усложняет жизнь окружающих. Он вносит в их судьбы свою неприютость, свое бездомье и тягу к разрушению Дома - символа вечной жизни, непричастности к общей судьбе, укрытия от ветров эпохи. Вопрос предназначения, рока, единоборства человека с судьбой основной философский аспект романа. Полностью этой проблеме посвящена завершающая глава "Фаталист", в которой Печорин пытается создать некоторую "модель судьбы". Существует ли предопределение или нет его; если оно есть, то каковы пределы самостоятельности личности - все это не предмет отвлеченных умствований для Печорина, но самый насущный вопрос. Ибо ответ на него даст ключ к разгадке жизни и человеческой натуры, сможет, наконец, объяснить Печорину его собственную душу и судьбу. Лирический герой Лермонтова. Главная тема Лермонтова - личность в процессе самопознания и само воплощения, то есть развития. Очень показателен характер большинства его стихотворений раннего периода: это лирические зарисовки, отрывки из дневника - недаром часто он их озаглавливает, как дневниковые записи - датой или словами "отрывок", "исповедь", "монолог". Лирика Лермонтова - летопись становления души, и в этой??? абсолютной искренности истинное художественное открытие автора. События духовной ЖИЗНИ интересуют поэта. В момент ИХ свершения, а не post factum Его волнует сам механизм внутреннего движения. Лирический герой всего лермонтовского творчества предельно близок автору, в его портрете заключены все сущностные бытийные конфликты, все, что в жизни автора не случайно, но является фактом Судьбы. Всему внутреннему строю Лермонтова глубоко соответствует бунтарский, байроновский романтизм - с тем культом тайной избранности личности, высокой Судьбы, борьбы с Роком, тяги к миру - и отторжения от людей: Но русский литературный опыт уже обогащен пушкинскими психологизмом и историзмом как основополагающими художественными принципами. И творческий метод Лермонтова, во всяком случае, до "Героя нашего времени", можно определить как психологический романтизм. В романтическом ключе поэт отметает, как мы уже говорили, все случайности жизни, то есть все, что в его жизни не от Судьбы, но от случая, от обстоятельств. Каждое же событие, "работающее" на Судьбу, воспринятое как ее проявление и знак, тщательно психологически исследуется, анализируется. Душа и личность интересуют Лермонтова как главные реальности бытия. Тайна жизни и смерти воспринимается им в рамках вечной жизни духа. Таким образом, мы находим ключевые слова к миропониманию поэта: оно строится на понятиях личности и Судьбы. Эти категории восприняты Лермонтовым во всей их неоднозначности. И сама неоднозначность понятий приводит к внутренней конфликтности миросознания поэта. Его духовный мир и мир внешний поражают своей раздробленностью, принципиальным нарушением взаимосвязей. Лермонтов погружается в исследование сложного духовного мира человека, чья мысль вечно бодрствует в стремлении познать истину и достичь абсолютного совершенств. Эта тяга к идеалу, к высшему совершенству при осознании несовершенства мира и человека есть удивительная, чисто лермонтовская трактовка основного романтического конфликта между несовершенством мира вообще и идеальными устремлениями личности. В этот внешний конфликт романтизма Лермонтов привнес глубочайший внутренний конфликт личности, постоянное противоборство разнонаправленных сил - сил добра и зла в душе человека. Исследование духовного мира бесконечно. И эту бесконечность открыл русской литературе Михаил Юрьевич Лермонтов. Исследуя истоки добра и зла, Лермонтов приходит к пониманию важнейшего жизненного закона: и добро и зло находятся не вне человека, но внутри его, в его душе. Все внимание Лермонтова сконцентрировано на духовном пути героя. Художественное своеобразие и историко-философская проблематика "Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" Поэма 1837 пуда "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" в контексте всего творчества поэта воспринимается как своеобразный итог работы Лермонтова над русским фольклором. Интерес к фольклору характерен для 30-х годов прошлого века. Глубокий кризис переживала страна Находясь "на перепутье", которое мрачные умы эпохи склонны были считать тупиком, русское общество пыталось найти выход, опираясь на "внутренние ресурсы". Дворянская и народная культуры в России были разделены глубокой пропастью: у нас не было того среднего класса, буржуазии, который в Европе "соединял" аристократию и простонародье, обеспечивал взаимопроникновение культурных традиций и этических принципов. В 30-о годы такую роль посредника" взяла на себя литература. Давайте вспомним, каким обостренным интересом к народу, его жизни и творчеству ознаменовался несчастный холерный 1830 год! Пушкин обратился к сказкам; появился Гоголь, написавший "Вечера на хуторе близ Диканьки", которыми зачитывалась вся Россия; появляются "собиратели народных сказаний"... В 30-ых годах XIX века разгораются ожесточенные философские споры о судьбах России. Обобщенно можно выделить два основных направления споров: западники и славянофилы. Западники видели путь развития России в европеизации; славянофилы же утверждали, что у России свой особый путь. Лермонтову эти споры не были безразличны. Он достаточно активно включался в них, но не примкнул ни к одному направлению. Ему глубоко чуждо было стремление европеизировать Россию. Западная цивилизация казалась ему пораженной духом скепсиса, эпоха Просвещения привила европейскому обществу вкус к умозрительной философии, доминирующей над чувствами. Идеалы Просвещения во многом надуманы, они противоречат человеческой природе: и проповедь Руссо, согласно которой счастье достижимо лишь при абсолютной бедности, при полном отказе от благ цивилизации; и оскорбительный, циничный атеизм Вольтера.… Да и что дало России просвещение без возможности применить накопленные знания, без права даже высказать свободно свои мысли? Путь западной цивилизации представляется Лермонтову тупиковым: Не так ли ты, о европейский мир, Когда-то пламенных мечтателей кумир, К могиле клонишься бесславной головою... Но Лермонтову чуждо во многом и мировоззрение славянофилов, идеализировавших феодальную Россию, ориентировавших развитие страны по "восточному" азиатскому пути. "Песня..." написана в особом жанре. Лермонтов стремился приблизить поэму к эпическим фольклорным сказаниям. Гусляры тешащие "Песнью" "боярина и боярыню его белолицую", играют важнейшую роль в структуре поэмы. Авторского голоса читатель не слышит, перед ним как бы произведение устного народного творчества. Следовательно, нравственные позиции, с которых оценивают персонажи "Песни...", не лично авторские, а обобщенно народные. Это многократно усиливает торжество "правды - матушки" в сказании, ибо поступок безвестного купца Калашникова, защищавшего свою личную честь, стал фактом народной истории. Трагедия судьбы Печорина Всю жизнь главного героя романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" действительно можно назвать трагедией. Почему и кто в этом виноват? Итак, Григорий Печорин, выслан из Петербурга за некую "историю" (очевидно за дуэль из-за женщины) на Кавказ, по дороге с ним приключается еще несколько историй, он разжалован, снова отправляется на Кавказ, затем некоторое время путешествует, и, возвращаясь из Персии домой, умирает. Вот такая судьба. Но за все это время, он очень много пережил сам и многим повлиял на жизнь других людей. Надо сказать, влияние это было не из лучших - за свою жизнь он разрушил много человеческих судеб - княжны Мери Лиговской, Веры, Бэлы, Грушницкого... Зачем, неужели он такой злодей? Делает ли он это специально или это у него выходит произвольно? Вообще говоря, Печорин - человек неординарный, умный, образованный, сильный волей, храбрый... Кроме того, его отличает постоянное стремление к действию, Печорин не может удержаться на одном месте, в одной обстановке, в окружении одних и тех же людей. Не от этого ли он не может быть счастлив ни с одной женщиной, пусть даже с той, в которую влюблен? Через некоторое время его одолевает скука, и он начинает искать чего-то нового. Не от этого ли он ломает их судьбы? Печорин записывает в своем дневнике: "... тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше действует; от этого гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума...". Печорина не прельщает такая судьба, и он действует. Действует, не считаясь с чувствами других людей, практически не обращая на них внимания. Да, он эгоист. И в этом его трагедия. Но один ли Печорин в этом виноват? Нет! И сам Печорин, объясняясь Мери, рассказывает: "...Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали - и они родились...". Итак, "все". Кого он имеет в виду? Естественно, общество. Да, то самое общество, которое мешало Онегину и Ленскому, которое ненавидело Чацкого, теперь Печорина. Так, Печорин выучился ненавидеть, лгать, стал скрытен, он "хоронил лучшие свои чувства в глубине сердца, там они и умерли". Итак, с одной стороны неординарный, умный человек, с другой стороны эгоист, разбивающий сердца и разрушающий жизни, он - "злой гений" и в то же время жертва общества. В дневнике Печорина мы читаем: "... первое мое удовольствие - подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха - не есть ли первый признак и величайшее торжество власти". Так вот что для него любовь - всего лишь удовлетворение собственного честолюбия! А как же его любовь к Вере - она такая же? Отчасти да, между Печориным и Верой стояла преграда, Вера была замужем, и это привлекало Печорина, который стремился, как истинный борец, преодолевать все препятствия, неизвестно, как повел бы себя Печорин, если бы этой преграды не было... Но эта любовь, любовь к Вере, однако, больше, чем просто игра, Вера была единственной женщиной, которую Печорин любил понастоящему, в то же время лишь Вера знала и любила Печорина не вымышленного, а Печорина настоящего реального, со всеми его достоинствами и недостатками, со всеми его пороками. "Я бы тебя должна ненавидеть... Ты ничего не дал мне, кроме страданий", - говорит она Печорину. Но она не может его ненавидеть... Однако эгоизм берет свое - все люди находящиеся вокруг Печорина отворачиваются от него. В разговоре он как-то признается своему другу Вернеру: "Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе". Вот она, его трагедия, трагедия его судьбы, его жизни. В своих дневниках Печорин это признает и, анализируя свою жизнь, он пишет: "... я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия... ". И как результат его одиночество: "... и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно". Сопоставлять всякого автора с героем созданного им произведения и просто и трудно, потому что автор связан со своим героем прямыми, но в то же время и таинственными, необъяснимыми нитями. Потому что процесс творчества необъясним. Рассматривать связь автора с героем можно в двух планах: первый - слияние автора с героем; второй - взгляд автора на героя издалека, с позиций осуждения его пороков, его высмеивания. Иногда эти взгляды могут сочетаться. В предисловии к»Герою нашего времени» Михаил Юрьевич Лермонтов говорит, что нарисовал современного человека, какого он слишком часто встречал: «Автор этой книги... Ему просто весело было рисовать современного человека, каким он его понимает и,.. к несчастью, слишком часто встречал.» Чем же Григорий Александрович Печорин похож на своего создателя, Михаила Юрьевича Лермонтова? Каковы эти признаки, черты, которыми обладали и тот и другой, как представители эпохи 3О- х годов девятнадцатого столетия? Во-первых, Печорин - человек армейский, он военный, что было типично для дворянства 19 века. Он офицер и этим они с Лермон-товым схожи. Во-вторых, он участвовал в дуэли, как многие тысячи в то время. Дуэль Печорина с Грушницким типична для манеры поведения многих людей того времени. И для самого Лермонтова тоже. Втретьих, он любовник чужой жены, что распространено среди людей во все века, начиная с библейских времён. Печорин любит Веру и она любит его, даже, может быть, ещё больше, ещё сильнее, чем он её и хромой старичок, Верин муж, узнав об этом, называет свою жену ужасным словом и увозит её из Пятигорска. По современным изысканиям лермонтоведов такая ситуация была и у самого Лермонтова и некой Смирновой, чей муж служил в канцелярии Бенкендорфа. В-четвёртых, он человек, щепетильно относящийся к вопросам чести, он что называется, светский человек, раб светских правил и предрассудков, он вступается за честь княжны Мери Лиговской, на которую пало подозрение, что она тайком дарит офицеру интимное ночное свидание, когда Грушницкий с засадой в саду чуть не ловит выпрыгнувшего из окна Печорина. Лермонтов в своих жизненных отношениях с Николаем Мартыновым также не избежал мелких вопросов чести, когда с гостиной генеральши Верзилиных был вызван на дуэль, за то, что высмеивал перед женщинами Мартынова, как»горца с длинным кинжалом». Печорин - разочарованный во всём меланхолик, что свойственно романтическому веянию того времени в литературе, включая Байрона, и из литературы перенесённому в жизненную манеру поведения, в тон, свойственный личности, в моду.»Авось умру где-нибудь по дороге», имеется в виду по дороге в Персию или далее, где нибудь за границей. Так может говорить лишь тот, кто разочаровался в жизни, ничего больше от неё не хочет и не ждёт. Сплин, тоска, были модны в то время и многие юноши надевали на себя эту маску, которая иногда прирастала к лицу. Во многих стихах Лермонтова, например в таком, как»Нет, я не Байрон, я другой...» звучит та же тема разочарования и смерти: «Я начал раньше, кончу ране, Мой ум не много совершит. В моей душе, как в океане Надежд разбитых груз лежит». Печорину присущ демонизм, что так же было свойственно многим героям начала 19 века, вспомнить хотя бы стихотворение Пушкина «Демон», посвященное Раевскому. Лермонтов тоже погружался в размышления о демоне, создав даже гениальную поэму»Демон». Печорин убийца, он застрелил на дуэли Грушницкого, что так же является типическим явлением России и Европейского Запада. По статис-тике на дуэлях погибало огромное число дворян. Лермонтов не мог стать убийцей, это главное различие его и Печорина, он не мог стать убийцей так сказать по определению. Не мог, скорей всего, стать им, даже если бы, наверное, захотел, потому что по определению Пушкина:»Гений и злодейство - две вещи несовместные». А Лермонтов гений. Отношение Лермонтова к своему герою хотя будто бы и высказано в предисловии, где он называет его безнравственным человеком, порочным, выразителем болезни общества:»Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет...» На самом деле такое высказанное Лермонтовым отношение к герою - есть конечно поза. Его отношение на самом деле очень неоднозначно, таинственно, оно не укладывается в эстетические категории добра и зла, в этические нормы »хорошо» или «плохо», это отношение пульсирующее, шевелящееся, не одномерное, как само искусство, как связь художника, который черпает психологические переживания описываемого героя из своего жизненного опыта, преломляя его, конечно, сквозь магический кристалл творческого озарения. Дело в том, что Печорина все любили: женщины - Бела, Мэри, Вера, его любил Максим Максимович, его скрытно любил и одновременно завидовал ему Грушницкий. Они любили его за волю, за силу, за то, что он мог то, чего никто не мог: ведь даже никто не мог захватить засевшего в мазанке пьяного кровожадного казака. Печорин же смог, прыгнув в окно, схватить его. И здесь выходит на поверхность истинное отношение Лермонтова к Печорину, отношение автора к своему герою, как выходит оно на поверхность хотя бы в такой сцене, как погоня Печорина за уехавшей Верой, погоня, в которой он загнал коня. Переживания Печорина описаны столь высоко, что в них сияет любовь автора:»Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничего не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять её навеки Вера стала мне дороже всего на свете - дороже жизни, чести, счастья!» Говоря в заключение о Лермонтове и Печорине, об авторе и его герое, можно восхититься тем, что Лермонтов так любит Печорина, что он и сто пятьдесят лет спустя после своей трагической гибели заставляет невольно любить своего героя, ведь его любят всё новые и новые поколения читателей. Сделать это можно лишь великой силой искусства. http://www.abc-people.com/data/lermontov/index.htm Лермонтов М.Ю. - великий русский поэт навсегда останется юношей в памяти бесчисленных благодарных читателей. Пушкин, по преданию, назвал его мальчиком, который пойдет далеко. "Он характером был моложе, чем следовало по летам", вспоминал о поэте современник. А между тем Михаилу Юрьевичу Лермонтову (1814 - 1841) в день последней дуэли было уже двадцать шесть лет. В этом весьма зрелом для героической эпохи возрасте русские мужчины достигали иногда генеральских эполет, становились героями наполеоновских и кавказских войн, государственными мужами и вождями антиправительственного заговора, знаменитыми поэтами и уж во всяком случае, отцами семейства. А Лермонтов так и остался вечным, не очень добрым мальчиком русской литературы. Даже гибельная последняя дуэль его кажется случайностью и ребячеством, неожиданно трагическим следствием обычной в юнкерской среде школярской шалости. Но все мы вослед за замечательной, героической бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой любим трудного гениального ребенка российской словесности, с детских лет приросли к нему болеющей, неравнодушной душой. Ибо видим, как юный поэт одинок, несчастлив и беззащитен, что он весь был борьба. И знаем, что никто другой в России не мог написать удивительные, прочувствованные строки тоски и веры: В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом... Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? Жалею ли о чем? В судьбе каждого великого писателя есть некая тайна, вещие нелепости и совпадения, странные опасности, ловушки и предзнаменования. Лермонтов не случайно написал рассказ "Фаталист", интересовался разного рода предсказаниями, приметами (вспомним падение Грушницкого перед дуэлью) и физиогномическими гаданиями Лафатера. Он появился на свет в богатой, но несчастной, распавшейся, неблагополучной дворянской семье, где упрямый дед его, тоже Михаил, отравился назло нелюбимой властной жене прямо за новогодним столом (а та имела жестокость сказать о муже и отце любимой дочери: "Собаке собачья смерть", не ведая, что эти жуткие слова потом скажет царь об ее убитом внуке), рос без изгнанного из дома отца и рано умершей матери, и уже при рождении мальчика акушерка неожиданно предрекла, что он не умрет своей смертью. Говоря о поэте, знавший его Гоголь нашел верные слова - "какая-то несчастная звезда". Тень неудачи, предвестницы трагедии, всегда омрачала короткую жизнь Лермонтова. Норовистая лошадь разбила бесшабашному юнкеру ногу, сделав его похожим на хромого лорда Байрона. Он проигрывал во всех играх и состязаниях, даже в катании пасхальных яиц, и лишь неудачное падение ловкого француза Баранта в решающем выпаде спасло раненого поэта на первой дуэли. В кровавой резне при речке Валерик Лермонтов и разжалованный декабрист Лихарев неспешно прогуливались под огнем, споря о Канте и Гегеле, и чеченская пуля сразила декабриста, как бы предупреждая поэта, но тот понесся верхом прямо на завалы и вещего свиста смерти не услышал. Перед последней кавказской ссылкой Лермонтов отправился к знаменитой гадалке А. Ф. Кирхгоф, и та сказала: в Петербурге ему вообще не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, "после коей уж ни о чем просить не станешь". На перекрестке кавказских дорог беспечный поручик сам решил погадать, еще раз пошутить с судьбой, подбросил полтинник, и вышло ему ехать в Пятигорск. Убил его там, на дуэли, отставной кавалерист, который, по некоторым данным, не умел стрелять из пистолета. Поэт, так любивший и понимавший Восток и Кавказ, умер на перекрестке мировых дорог и великих культур, похоронен на границе между Западом и Востоком (в Тарханы гроб отвезли позднее), и отпевали его католический патер, лютеранский пастор и православный священник, причем последний оказался трусливым и корыстолюбивым. И всегда Лермонтов упрямо шел навстречу любой опасности, скандалу, ненужной ссоре, играл со смертью, торопил судьбу, спешил жить и творить. В истории русской классической литературы Лермонтов так же трагически одинок, стоит особняком, вдали от тогдашних поэтических школ, кружков и течений. Этого великого поэта трудно назвать профессиональным литератором уже хотя бы потому, что он спокойно брал и использовал в своей поэзии чужие строки и образы. Его заметил и оценил Пушкин, приветствовали Жуковский, И.И. Козлов, А.С. Хомяков, Е.П. Ростопчина, Белинский, Гоголь, славянофилы, но Лермонтов не вошел ни в один из литературных кружков. Поэт назвал себя "неловким дебютантом" в литературе и совсем не походил на писателя. Гений и прекрасное образование не могли заменить ему требовательную среду творческого общения, советы единомышленников и друзей, нападки врагов, печатание в альманахах и журналах, продуманное собирание своей поэтической книги. Это тем более бросается в глаза, что вся тогдашняя словесность исторически вышла, в сущности, из одной школы - русского романтизма, родилась во взаимных уроках, кружковых обсуждениях, журнальных и салонных спорах, что и было отмечено Белинским в "пушкинском" цикле статей. Но в конце тридцатых годов романтизм был уже на излете, и поэтому приход в литературу романтика Лермонтова, к тому же поэта явно непрофессионального и откровенно подражавшего многим кумирам прежних лет (от безнадежно устаревших Шиллера и Байрона до Дениса Давыдова), выглядел как явление незаконное и в чем-то запоздалое. Критика забыла даже, что у Лермонтова были такие разные, но несомненные предшественники, как Грибоедов и Д.В. Веневитинов, и что он спокойно переписывал Байрона и Гейне. Однако явление это оказалось настолько самобытным и мощным, что Лермонтов сам стал целой литературной школой, с которой мы и сегодня должны считаться. Ибо есть уходящий романтизм, есть нарождающийся реализм, есть межеумочная, но необходимая "натуральная школа" - и рядом с ними великий писатель Лермонтов, который не равен ни одному из этих близких, родственных ему явлений. И здесь загадочный юноша совершил, казалось бы, невозможное: своей личной волей продлил жизнь романтизма и одновременно создал произведения огромной реалистической силы и глубины, возродил русский роман ("Герой нашего времени") и драму ("Маскарад"), заставил уставших от романтических поэм читателей выучить наизусть "Демона" и "Мцыри". Прав был критик В.П. Боткин, с изумлением и восторгом писавший Белинскому: "Титанические силы были в душе этого человека! " Ключевое слово здесь - "человек". Кто же был этот странный юноша, неведомый избранник? Ведь он стал таковым совершенно сознательно, знал цену своего рокового избранничества: Что без Он хочет Ценой Он покупает Он даром славы не берет. страданий жить томительных жизнь ценою неба поэта? муки, забот. звуки, Что и говорить, цена была им заплачена большая, и дело не только в ранней гибели. И все же есть большая разница между школьным мифом о бунтаре Лермонтове и реальным человеком, носившим эту старинную дворянскую фамилию. Наше лермонтоведение досконально изучило и документально описало историю правительственных гонений и светской травли, которым поэт, безусловно, подвергался с юных лет (см. полезный свод этих данных в известной книге Э. Г. Герштейн). Но вряд ли стоит видеть в короткой, стремительной жизни Лермонтова одну сплошную трагедию, цепь страданий, вечные козни высшего общества, репрессии императора и его жандармов. Жизнь эта стремительна, явно богата впечатлениями, событиями, встречами, любовью, творчеством, молодостью, славой, мальчишеской шаловливостью, невероятной жаждой всех радостей бытия; светлая ее сторона перевешивает темную. Иногда кажется даже, что судьба Лермонтова была счастливой, пусть счастье это и было коротким, погибельным. После дуэли с Барантом поэт сам попросился на Кавказ, и Белинский удивлялся беззаботному изгнаннику: "Душа его жаждет впечатлений и жизни". Поэтому стоит напомнить о реальном человеке, который стоит за мифом о Лермонтове. Он происходил из семьи служилой (родоначальником ее стал шотландский наемник), суровой и консервативной и, следственно, был патриотом и верующим. "Хотя он и не отличался особенно усердным выполнением религиозных обрядов, но не был ни атеистом, ни богохульником", - вспоминали о поэте и добавляли, что бабушка подарила ему целый иконостас, в дорогих окладах, с каменьями и жемчугами. Лермонтов балованное дитя старого русского дворянского уклада екатерининских времен (именно поэтому бабушка хотела видеть его только гвардейцем, не понимая, что времена изменились и гвардия измельчала). Безмерная любовь жестокой и неумолимой крепостницы Арсеньевой к болезненному и своенравному внуку принимала все обычные формы "барства дикого": потешное войско, олень и лось домашнего зверинца, кулачные бои, театр марионеток, походы в лес, красивые горничные для подрастающего Мишеньки, домашние учителя-иностранцы, все лучшее, что могла дать тогдашняя система просвещения, благородный пансион, Московский университет, привилегированная школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. И главное - деньги и связи семьи Арсеньевых-Столыпиных, в родстве с которой находились "оппозиционные" вельможи Н. С. Мордвинов и М. М. Сперанский. Они открыли юноше двери в лучший гвардейский полк и высший свет. А вот далее немалая власть бабушки-заступницы закончилась, и все стал определять чрезвычайно сложный, закрытый, неровный характер гениального мальчика, который, как известно, и есть судьба. Эта самобытная сильная личность была движима неповторимым переплетением безошибочно подобранных противоположностей, центром которого было одинаково беспощадное отношение к другим людям и к самому себе. Поэтому мы никак не можем ее поймать, остановить и понять до конца, всегда поэт закрыт, прячется, неуловим, смеется над попытками его разгадать. "Характер Лермонтова был - характер джентльмена, сознающего свое умственное превосходство; он был эгоистичен, сух, гибок и блестящ, как полоса полированной стали, подчас весел, непринужден и остроумен, подчас антипатичен, холоден и едок", - говорил современник. Но надо прислушаться и к Гоголю: "Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов". К сожалению, это правда, хотя, понятно, не вся. Характер этот и породил стремительную, напряженную, страстно-риторическую поэзию Лермонтова, стал ее беспокойным лирическим героем, и этот очищенный от житейского сора художественный образ беспощадного блестящего резонера и вдохновенного мечтателя мы чаще всего имеем в виду, говоря об авторе лирики. А реальный Лермонтов был все же другим, и, как пишет современник, "у него не было чрезмерного авторского самолюбия". На литератора он совсем не походил. Да, характер тяжелый, беспокойный, "несходчивый", злой быстрый ум и резкий язык, товарищи его не любили, ибо всех он видел насквозь, всем в лицо говорил реальную правду: "Он преследовал их своими остротами и насмешками за все ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить". Но стоит вспомнить и мнение Руфина Дорохова: "Лермонтов, при всей своей раздражительности и резкости, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности". Поэт душу имел добрую, в живых черных глазах его было нечто чарующее. Любил и жалел русского солдата, своим вернувшимся отставникам в Тарханах дал землю и лес для строительства, несмотря на протесты скупой бабушки. В кавказских походах Лермонтов разительно менялся, был прост, искренен, спал на голой земле, ел со своими "охотниками" -головорезами из одного котла. "Славный малый, честная, прямая душа", - восклицал известный дуэлянт и озорник Р. Дорохов. "Отменное мужество и хладнокровие" (характеристика из рапорта его командира, генерала А.В. Галафеева) поэта, командовавшего в Чечне летучим конным отрядом, были всем известны, он умел рубиться черкесской шашкой и большим кинжалом, превосходно стрелял из пистолета, что помогало в рукопашных боях с горцами на лесных завалах. Как и все его друзья-офицеры из "кружка шестнадцати", Лермонтов был убежденным "ермоловцем", он видел всю необходимость и оправданность умной планомерной жестокости великого завоевателя Кавказа, воспел его, но и весьма сурово ответил на все понятные сетования обиженного и обойденного наградами полководца: Великий Достойной муж! здесь доблести нет награды твоей! Так ответить седому герою 1812 года мог только боевой офицер-кавказец, знавший цену многолетней кровавой бойне в горах. В этой жестокой школе воспитался солдат и поэт. Самый облик его и склад мысли преобразились на "златом Востоке, стране чудес". Увидевший его после десятилетней разлуки поэт В. И. Красов говорил: "Как он изменился! Какое энергическое, простое, львиное лицо". Лермонтов был невысок, кривоногий, сутулый, ширококостный, очень плечистый, с сильными руками, ловкий. Ему собственная наружность не нравилась: "Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика" (В.И. Анненкова). И, тем не менее, невзрачный маленький гусар любил женщин разных сословий и имел у них успех. Отлично ездил верхом. Руки красивые, выхоленные. Был человеком большого света, душой общества, галантным кавалером, непременным участником всех пикников и вечеринок, любил появляться в театрах, маскарадах, гостиных и будуарах, на балах Московского благородного собрания среди дам высшего общества и чиновных стариков, одет был всегда безукоризненно. Убийца его вспоминал: "Танцевал он ловко и хорошо". "Я редко встречал человека беспечнее его относительно материальной жизни", - свидетельствовал другой современник. Но это была понятная беспечность умного, безукоризненно воспитанного дворянина, выросшего в богатой семье и с детства ни в чем не знавшего отказа. Лермонтов держал, как и положено гвардейскому офицеру, отличных верховых и выездных лошадей и только за строевого жеребца заплатил полторы тысячи рублей серебром - деньги по тем временам огромные. Любил хорошо поесть, держал своего повара, обедал только дома, ему и неизбежным гостям всегда готовили пять-шесть блюд и мороженое. Вино и чеченский чихирь пил, но хмельные напитки не оказывали на него обычного своего действия - сказывался особый нервический склад, огромное внутреннее напряжение. У храбреца Лермонтова не было обыденной выдержки и терпения, необходимых для строевого офицера мелочно-формальных николаевских времен. Не был он расположен и к точным наукам. Зато обожал слушать московских цыган, когда знаменитый хор Ильи Соколова приезжал в Петербург. Ни один портрет Лермонтова не похож, художники так и не смогли запечатлеть это неуловимое, непрестанно меняющееся лицо, не говоря уже о ежесекундных движениях страстной души и деятельного творческого ума. Но, говоря о поэте, все использовали одинаковые выражения - "сила", "мощь", "могучее дарование". Иван Тургенев писал: "В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз". В. И. Анненкова говорила о том же: "У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка". Даже смех поэта, громкий и пронзительный, был неприятным и недобрым. Соученик запомнил, что поэт сидел на лекциях и занятиях всегда отдельно, его внутреннее превосходство ощущалось всеми: "Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна". Лермонтов еще в военной школе стал коноводом молодой гвардейской оппозиции, позднее вокруг него сложился знаменитый "кружок шестнадцати", и один из участников вспоминал: "В своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки". Значение этого кружка "золотой молодежи" и особенно его политическая оппозиционность сильно преувеличены в лермонтоведении, отсюда вышли николаевские фельдмаршалы, наместники Кавказа и Польши, генерал-адъютанты, министры, польские магнаты. Лучшие из очень неглупых и образованных шалунов и фрондеров, разумеется, ушли рано, погибли на дуэлях и кавказской войне. Ограниченность и несостоятельность этих декоративно красивых, изысканно благородных "лучших" дворян, блестящих гвардейских офицеров, будущих Вронских потом показал И. С. Тургенев в своем Павле Петровиче Кирсанове, всю жизнь потратившем на беспокойную страсть к странной женщине - все той же графине ВоронцовойДашковой. И здесь Лермонтов - первый, ибо он, конечно же, выше и лучше ограниченной красивыми внешними формами, светскими правилами и казарменными условностями гвардейско-офицерской среды, в которой ему пришлось жить и умереть. Напомним, что и здесь положение Лермонтова было достаточно шатко и двусмысленно: его родство, состояние и связи делали его завидным женихом для московской небогатой дворянки Е.А. Сушковой, но немного значили в мнении новой николаевской знати и петербургского "большого света", царства лицемерия, лжи, предательств, мелочных условностей, всяческой посредственности и фарисейства. Дворянин и гвардеец А. В. Дружинин это хорошо понимал: "Лермонтов принадлежал к тому кругу петербургского общества, который составляет какой-то промежуточный слой между кругом высшим и кругом средним, и потому и не имеет прочных корней в обоих". Людей большого света раздражали независимая манера Лермонтова держаться, дерзкие насмешки и вмешательство в их важные тайные дела. Даже об умных и просвещенных Карамзиных и их великосветской компании родственница поэта говорила: "Миша для них беден". Здесь поэта любили и понимали, но считали, что он слишком рано стал знаменитым. А граф и светский литератор-дилетант В. А. Соллогуб, муж известной красавицы, приписавшей себе одно из лучших стихотворений поэта, позволил себе утверждать, что Лермонтов вовремя умер. Потому и было сказано об увлекавшемся всеми этими светскими красавицами, девицами и дамами поэте: "Как его не понимали эти барыни и барышни, которые только и думали, что об амуре и женихах! " Но и просвещенные мужчины большого света были не лучше: свидетельство - сатирическая повесть того же Соллогуба "Большой свет", где Лермонтов изображен бедным и недалеким армейским офицериком, лезущим в высшее общество. Среда и сделала жизнь великого русского поэта каким-то трагическим вариантом судьбы штатного гвардейского озорника, все время нарушавшего какие-то законы и правила и наказываемого за это. Он родился в Москве в 1814 году, вырос без рано умершей несчастной матери в пензенском селе Тарханы, ездил с бабушкой в Москву и на Кавказ, гостил у униженного и изгнанного отца (этой разлуки мальчик не простил ни ему, ни бабушке), осенью 1827 года переехал в Москву и на следующий год зачислен полупансионером (то есть бабушка каждый день привозила и увозила мальчика) в Московский университетский благородный пансион - закрытое учебное заведение при университете. Здесь он начал писать стихи, научился играть на скрипке. В 1829 году начат "Демон". В 1830 году Лермонтов сдал экзамены и принят в Московский университет. Он много пишет и начинает печататься. Одинокий отец его умер от чахотки в своем маленьком имении. В 1832 году юноша вышел из университета и переехал с бабушкой в Петербург, держал экзамены и принят в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1834 году он произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. В 1837 году после гибели Пушкина Лермонтовым написано знаменитое стихотворение "Смерть Поэта", автор сразу стал всем известен, был арестован, по высочайшему повелению переведен тем же чином в армейский полк на Кавказ. Во время визита императора в Тифлис Лермонтов был прощен и возвращен в гвардию. В начале 1838 года он прибыл в Москву, а затем и в Петербург. Поэт очутился в кругу Карамзиных, сблизился с друзьями покойного Пушкина (странно, что за поэта одновременно хлопотали Жуковский и А. Х. Бенкендорф), много писал и печатался, произведен в поручики. В феврале 1840 года столкновение Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом де Барантом закончилось опасной дуэлью, легкой раной, арестом и новой ссылкой в армейский пехотный полк на Кавказ. После очередных знаменательных прощаний в Петербурге и Москве его ждали кровопролитные бои и походы в Чечне. В 1841 году отличившийся в сражениях поэт получил двухмесячный отпуск и прибыл в Петербург. Его снова выслали за "неприличные и дерзкие" появления на светских балах, снова друзья провожали поэта. В мае Лермонтов приехал на лечение в Пятигорск и 15 июля был убит на дуэли отставным кавалергардом Н. С. Мартыновым. Здесь, казалось бы, не находится место и время для творчества. Можно понять лейб-гусара А. И. Арнольди, наблюдавшего за Лермонтовым: "Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт? " Обычная опись суетной жизни столичного гвардейца: юнкерские недобрые шалости, весьма бесцеремонное и безответственное обращение с девушками, постоянные нарушения воинского устава и формы одежды, скучные караулы и парады, картеж с весьма значительными проигрышами, летние лагеря, обычная для русской армии резня с чеченцами и опасные карательные экспедиции в горах Кавказа, неизбежное лечение вполне здорового молодого мужчины на водах с обязательными любовными приключениями, офицерские ссоры и дуэли, эта жестокая дворянская игра скучающих людей со своей и чужой жизнью. Где здесь могут быть обдуманы и спокойно созданы "Герой нашего времени", "Бородино", "Маскарад", "Воздушный корабль" и прочие шедевры, ныне вошедшие в четырехтомное академическое собрание сочинений Лермонтова? Однако все это было написано, и как написано! И именно этим молодым человеком, гусарским офицером, именно посреди шумного светского бала и формального казарменного быта, столичного театра и маскарада, боев с горцами и кавказских пикников с местными дамами и девицами. Иногда творческие озарения приходили к поэту за карточным столом: И часто мысль гигантская заводит Пружину пылкого ума... Лучше всего писалось ему под арестом. Вспомним один только эпизод этой жизни: едучи на роковую дуэль, Лермонтов рассказал своему секунданту М. П. Глебову о замысле романа "из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене". А ведь это "Война и мир", историческая эпопея, задуманная задолго до Льва Толстого и к тому же интереснее, с полным пониманием эпохи и жанра! Да, это молодой силач, для которого не существовало невозможного в литературе, и не только в ней. Мы встречаемся здесь с совершенно новой, неожиданной творческой психологией. Жуковский, его ученик Пушкин и поэты пушкинской поры считали, что жизнь и поэзия - одно, неделимое целое. Лермонтов решительно разделяет реальное бытие поэта и его творчество: "Но песнь - все песнь; а жизнь - все жизнь! " Разумеется, он тоже романтик и великий лирический поэт, и потому лермонтовская поэзия автобиографична. Его лирическая смелость предваряет и превосходит Фета, романсы Лермонтова передают тончайшие движения подлинных чувств. Но это совсем другое воззрение на реальное бытие конкретного человека и его отражение в творчестве. Жуковский, с большим интересом и доброжелательностью наблюдавший за развитием лермонтовского дарования, определил его сущность одним метким словом "безочарование". Таков характер переходной эпохи, наставшей после смерти Пушкина и закончившейся в 40-е годы с приходом новой литературной молодежи во главе с энергичными и целеустремленными "левыми" идеалистами-демократами Белинским и Герценом. После "очарованного там" самого Жуковского и простодушного байронического разочарования 20-х годов явилось усталое отчаяние полных сил и способностей молодых людей, ощутивших безысходность их вполне обеспеченной жизни (как говорил Арсений в "Боярине Орше", они "в цепи существ давно едва ль не лишнее звено"), презирающих это бесцельное существование и перебирающих воспоминания о маленьких повседневных страданиях своего не очень богатого прошлого. "Настоящее кажется им жалким и ничтожным", - верно сказал Лермонтов и добавил: "В грядущем счастия так мало". Он и стал выразителем и главным поэтом этого поколения и этой эпохи. Именно Лермонтов сказал в "Маскараде" о языке поэзии: "Как дикарь, свободе лишь послушный, не гнется гордый наш язык". Таков сам поэт, таков его лирический герой, высказавший душу и мысли "потерянного" поколения молодежи. Человек 40-х годов, литератор В. П. Боткин, прочитав лермонтовское стихотворение "Договор", сразу понял эту силу стоического отчаяния, протеста и отрицания: "Какое хладнокровное, спокойное презрение всяческой патриархальности, авторитетных, привычных условий, обратившихся в рутину... Дух анализа, сомнения и отрицания, составляющих теперь характер современного движения, есть не что иное, как тот диавол, демон... Лермонтов смело взглянул ему прямо в глаза, сдружился с ним и сделал его царем своей фантазии, которая, как древний понтийский царь, питалась ядами". Так был понят знаменитый, многосмысленный и, безусловно, автобиографический образ из итоговой и именно поэтому незавершенной поэмы "Сказка для детей": Мой юный ум, Могучий образ. Меж Как царь, немой и Такой волшебно Что было страшно... Сжималася... бывало, иных гордый, сладкой и душа он возмущал видений, сиял красотою, тоскою Однако если бы поэзия Лермонтова этим образом исчерпывалась бы и объяснялась, то мы имели бы русского Гейне или очередного гвардейского Мефистофеля, не более того. Гений Лермонтова несравненно выше и богаче. Да, поэт говорил: "Мной овладел демон поэзии". Но в лирике его нет мрачного демонизма, есть образ надежды - "луч зари, прекрасный, чистый и живой, как счастье жизни молодой". Такие лучи поэтической памяти о близком, но невозможном счастье пронизывают любую тьму, этим светом, воспоминанием о небесной лазури и райских звуках живет вечно молодая лермонтовская лирика. Она все время стремится вверх, движима небывалой по силе творческой энергией и жаждой жизненной деятельности. Другое дело, что в холодном мире обыденной жестокости, где человек с умом и сердцем унижен и раздавлен, оказался в жизненном тупике, лирический герой запоздалой романтической поэзии не может быть ангелом, он постоянно ощущает давление "общего зла" и тьмы, отсюда его стоическое отчаяние и спокойная тоска, разуверение во всем, гордое презрение и сознательный демонизм всеобщего отрицания. И потому в стихотворении "Мой демон" сказано со значением: Собранье зол его стихия. Уже с 1828 года этот странный "злой мальчик" начинает писать удивительные вещи, говорящие о весьма печальном умонастроении и тяжелом характере, "сумерках души". "Уныния печать", "коварства змии", "язык презрительных людей", "мой дух погас и состарился", "умы и хладные и твердые как камень", "куча каменных сердец", "пасмурна жизнь наша", "но для меня весь мир и пуст и скучен", "остылая жизнь", "угрюмое уединенье", "мечтанье злое", "живу, как камень меж камней", "чуждый для людей", "без дружбы, без надежд, без дум, без сил", "сей жизни мрачное начало", "сердечная пустота", "печать проклятья", "изгнанник мрачный и презренный", "разбитое сердце", "ум... безотрадный", "обманут жизнью был во всем", "как демон мой, я зла избранник", "изгнанник небес", "и целый мир возненавидел", "гордый, хоть презренный" - в этих и других лермонтовских образах высказана целая философия жизни, которая в своем зрячем отрицании и беспощадном критицизме была одинаково неприемлема и для декабриста М. А. Назимова, и для революционного демократа Белинского. Здесь, конечно же, много эффектной позы и хлесткой фразы, юношеского максимализма, но в мальчишеских обидах слышна и великая правда ранних прозрений и горьких глубоких мыслей. Лермонтов говорил: Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно. Это-то чувство правды и было подавлено и оскорблено в сердце целого поколения. Люди эти остались одни, без ангелов и надежды, им открылось "море зла" (К. Н. Батюшков), в душе их родились разуверение и "сердечная пустота". Стоит ли удивляться явлению демонов... Но именно Лермонтов и его поэзия - великолепное доказательство того очевидного обстоятельства, что "потерянное" поколение послепушкинской молодежи не пожелало быть таковым, не отступило, не смирилось с навязываемой ему жизненной ролью вечных неудачников, мелких бесов и "шалунов". За "Демоном" у него неизбежно следует "Ангел". Иначе поэт не стал бы судьей этого поколения (см. его не такое уж шутливое послание "Булгакову"). Иначе не появилось бы великое и вечное "Бородино" (1837), поэма истинно народная по языку и мысли, которую каждый русский начинает именно "учить" в школе и помнит потом, хотя иногда и весьма смутно, всю жизнь. Перечитайте "Ветку Палестины", "Узника", "Поэта", "Три пальмы", "Дары Терека", "Воздушный корабль", "Соседку", "Утес", "Русалку", "Спор", "Тамару", "Свиданье", "Тростник", "Морскую царевну" - где здесь демонизм, отчаяние и разуверение, беспощадные слова о немытой России, горечь "Думы", "И скучно и грустно" и "Родины"? Конечно, Лермонтов высказался и здесь, но написал произведения вполне объективные, и сегодня удивляющие живописной цельностью и подлинностью. Они живут самобытной поэтической жизнью, сразу отделившись от одинокого и горестного лирического героя. Очевидно, что такие вещи рождались в плодотворной борьбе с демоном отчаяния, одиночества и отрицания. Важно, что эти разные произведения Лермонтова стоят рядом, не могут быть прочитаны полно и правильно друг без друга. А это в свою очередь говорит о постепенном и верном развитии поэтического дарования. Главной чертой лермонтовского творчества является именно борьба. Эта поэзия движима "бореньем дум", невероятной по силе и ярости жаждой жизни и деятельности, могучей энергией творчества. "Мой дух бессмертен силой", - говорил поэт и называл свой гений "деятельным". "Так жизнь скучна, когда боренья нет", "всегда кипит и зреет что-нибудь в моем уме", "борьба рождает гордость", "мы боремся оба за счастье и славу отчизны своей", "я грудью шел вперед, я жертвовал собою" - все это написано не "изгнанником небес", а "еще неведомым избранником", пришедшим в русскую литературу с полным энергии, ума и страсти стихотворением "Смерть Поэта", чтобы ее оживить, противопоставить "вьюге зла" "лаву вдохновенья". Его стремительное, напряженное творчество всегда отличалось "бурным вдохновением". Для Лермонтова поэт - не просто выразитель "души пустынной", хотя и в этом была своя немалая правда, но прежде всего "царства дивного всесильный господин". Жажда бури, которую лермонтовский Арсений называет братом, говорит об огромной жизненной силе и надежде. Мощь мятущихся героев поэта такова, что они вступают в борьбу со стихиями, людьми и даже с самой неумолимой судьбой: Глазами тучи я следил, Рукою молнии ловил! Во "всесожигающем костре" дивных страстей и уединенных печальных дум рождается эта удивительная энергия творчества. Силе образов помогает вдохновенное красноречие оратора и пророка. Чувствуешь, что молодой поэт словно летит, чему способствует продуманное вживление в ткань его стихотворений закругленных, замкнутых в себе стремительных фрагментов: Есть В И Святая прелесть в них. сила созвучье слов дышит благодатная живых, непонятная, Прислушайтесь к взволнованному, вдохновенному голосу Лермонтова: Летают Над И Беседуют с детьми. грешными сны-мучители людьми, ангелы-хранители Там, где есть такая внутренняя сила, такая молодость творческого духа, вера, надежда и любовь, такой деятельный гений, - там демоны отчаяния и одиночества отступают, и начинает звучать слабый голос внутреннего человека, добившегося, наконец, своей красоты и правды. Белинский вспоминал, что Лермонтов "затевал в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые". Но уже то, что мы читаем сегодня, сделало автора "Демона" нашим вечным спутником и замечательным лириком, высказавшимся вполне. При первом же его явлении с красноречивой и страстной "Смертью Поэта" все поняли: вот несомненный и достойный наследник Пушкина. Именно таковы смысл и назначение поэзии и прозы великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. А.С.Долинин. Лермонтов ----------------------------------------------------------------------Статья известного российского литературоведа А. С. Долинина "Лермонтов" из "Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона" (1911--1916). Статья приведена с сохранением орфографии и пунктуации оригинала. OCR: Игорь Таранов ----------------------------------------------------------------------Лермонтов, Михаил Юрьевич -- гениальный русский поэт. Родился в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814 г. Русская ветвь рода Лермонтовых ведет свое начало от Георга Лермонта, выходца из Шотландии, взятого в плен при осаде крепости Белой и в 1613 г. уже числившегося на "Государевой службе", владевшего поместьями в Галичском уезде (ныне Костромской губернии). В конце XVII века внуки его подают в Разрядный Приказ "Поколенную роспись", в которой они называют своим предком того шотландского вельможу Лермонта, который, принадлежа к "породным людям Английской земли", принимал деятельное участие в борьбе Малькольма, сына короля Дункана, с Макбетом. Фамилию Lermont носит также легендарный шотландский поэт-пророк XIII века; ему посвящена баллада Вальтера Скотта: "Thomas the Rymer", рассказывающая о том, как Томас был похищен в царство фей и там получил вещий свой дар. Юная фантазия Лермонтова колеблется между этим чарующим преданием о родоначальнике-шотландце и другой, также пленительной для него мечтой -- о родстве с испанским герцогом Лерма. Он называет Шотландию "своей", считает себя "последним потомком отважных бойцов", но в то же время охотно подписывается в письмах М. Lerma, увлекается сюжетами из испанской жизни и истории (первые очерки "Демона", драма "Испанцы") и даже рисует портрет своего воображаемого испанского предка. В поколениях, ближайших ко времени поэта, род Лермонтовых считался уже захудалым; отец его, Юрий Петрович, был пехотный капитан в отставке. По словам близко знавших его людей, это был замечательный красавец, с доброй и отзывчивой душой, но крайне легкомысленный и несдержанный. Поместье его -- Кропотовка, Ефремовского уезда Тульской губернии -- находилось по соседству с имением Васильевским, принадлежавшим Елизавете Алексеевне Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Красота и столичный лоск Юрия Петровича пленили единственную дочь Арсеньевой, нервную и романтически-настроенную Марию Михайловну. Несмотря на протесты своей гордой матери, она вскоре стала женой небогатого "армейского офицера". Семейное их счастье продолжалось, по-видимому, очень недолго. Постоянно болея, мать Лермонтова умерла весною 1817 г., оставив в воспоминаниях сына много смутных, но дорогих ему образов. "В слезах угасла моя мать", -- говорил Лермонтов и помнил, как она певала над ним колыбельные песни. Бабушка Лермонтова, Арсеньева, перенесла на внука всю свою любовь к умершей дочери и страстно к нему привязалась, но тем хуже стала относиться к зятю; распри между ними приняли такой обостренный характер, что уже на 9-й день после смерти жены Юрий Петрович вынужден был покинуть сына и уехать в свое поместье. Он лишь изредка появлялся в доме Арсеньевой, каждый раз пугая ее своим намерением забрать сына к себе. До самой смерти его длилась эта взаимная вражда, и ребенку она причинила очень много страданий. Лермонтов сознавал всю неестественность своего положения и все время мучился в колебаниях между отцом и бабушкой. В драме "Menschen und Leidenschaften" отразилось болезненное переживание им этого раздора между близкими ему людьми. Арсеньева переехала вместе с внуком в имение "Тарханы", Пензенской губернии, где и протекало все детство поэта. Окруженный любовью и заботами, он уже в ранние годы не знает радости и погружается в собственный мир мечты и грусти. Здесь сказывалось, быть может, и влияние перенесенной им тяжелой болезни, которая надолго приковала его к постели и приучила к одиночеству; сам Лермонтов сильно подчеркивает ее значение в юношеской неоконченной "Повести", где рисует свое детство в лице Саши Арбенина: "Он выучился думать... Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, Саша начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой... В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души... Вероятно, это раннее умственное развитие немало помешало его выздоровлению". Уже теперь намечается в Лермонтове распад между миром затаенных грез и миром повседневной жизни. Он чувствует себя отчужденным среди людей и в то же время жаждет "родной души", такой же одинокой. Когда мальчику было 10 лет, его повезли на Кавказ, на воды; здесь он встретил девочку лет 9-ти и в первый раз узнал чувство любви, оставившее память на всю его жизнь и неразрывно слившееся с первыми подавляющими впечатлениями Кавказа, который он читает своей поэтической родиной ("Горы Кавказа для меня священны; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас, да о небе"). Первыми учителями Лермонтова были какой-то беглый грек, больше занимавшийся скорняжным промыслом, чем уроками, домашний доктор Ансельм Левис и пленный офицер Наполеоновской гвардии, француз Капэ. Из них наиболее заметное влияние оказал на него последний, сумевший внушить ему глубокий интерес и уважение к "герою дивному" и "мужу рока". По смерти Капэ был взят к дом французский эмигрант Шандро, выведенный потом Лермонтовым в "Сашке" под именем маркиза de Tess, "педанта полузабавного", "покорного раба губернских дам и муз", "парижского Адониса". Шандро скоро сменил англичанин Виндсон, знакомивший Лермонтова с английской литературой, в частности с Байроном, который сыграл в его творчестве такую большую роль. В 1828 г. Лермонтов в Московский университетский Благородный пансион и пробыл в нем около двух лет. Здесь процветал вкус к литературе; как и раньше, учениками составлялись рукописные журналы; в одном из них -- "Утренней Заре" -- Лермонтов был главным сотрудником и поместил свою первую поэму -- "Индианка". Из русских писателей на него влияет сильнее всего Пушкин, пред которым он преклонялся всю свою жизнь, а из иностранных -- Шиллером, особенно своими первыми трагедиями. У них обоих поэт находит образы, нужные ему для выражения своего собственного, по-прежнему, тяжелого состояния. Его гнетет печальное одиночество; он готов окончательно порвать с внешней жизнью, создать "в уме своем мир иной, и образов иных существование". Грезы его "удручены ношею обманов"; он живет, "не веря ничему и ничего не признавая". В этих излияниях, конечно, не мало преувеличений, но в их основе несомненно лежит духовный разлад с окружающей жизнью. К 1829 г. относятся первый очерк "Демона" и стихотворение "Монолог"; в обоих вылилось очень ярко это тяжелое настроение. В первом поэт отказывается от "нежных и веселых песней", сравнивает свою жизнь со "скучным осенним днем", рисует измученную душу демона, живущего без веры, без упований, ко всему на свете относящегося с равнодушием и презрением. В "Монологе" мрачными красками изображаются захудалые "дети севера", их душевная тоска, пасмурная жизнь без любви и дружбы сладкой. Весною 1810 г. Благородный пансион преобразовывается в гимназию, и Лермонтов оставляет его. Лето он проводит в Середникове, подмосковном имении брата бабушки, Столыпина. Недалеко от Середникова жили его московские знакомые барышни, А. Верещагина и ее подруга Е. Сушкова, "черноокая" красавица, в которую Лермонтов возмечтал себя серьезно влюбленным. В записках Сушковой Лермонтов рисуется невзрачным, неуклюжим, косолапым мальчиком, с красными, но умными выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбой. Кокетничая с Лермонтовым, Сушкова в то же время беспощадно над ним издевалась. В ответ на его чувства ему предлагали "волан или веревочку, угощали булочками с начинкой из опилок". Когда они встретились вновь при совершенно иной обстановке, Лермонтов отомстил Сушковой очень зло и жестоко. В это же лето возникает серьезный интерес Лермонтова к личности и поэзии "огромного" Байрона, которого поэт всю жизнь свою "достигнуть бы хотел". Ему отрадно думать, что у них "одна душа, одни и те же муки"; ему страстно хочется, чтобы и "одинаков был удел". С самого начала здесь скорее ощущение родственности двух мятежных душ, чем то, что разумеют обыкновенно под влиянием. Об этом говорят те многочисленные параллели и аналогии, общие мотивы, образы и драматические положения, которые можно найти у Лермонтова и в самый зрелый период, когда о подражании не может быть и речи. Осенью 1830 г. Лермонтов поступает в Московский университет на "нравственно-политическое отделение". Университетское преподавание того времени мало способствовало умственному развитию молодежи. "Ученость, деятельность и ум, по выражению Пушкина, чужды были тогда Московскому университету". Профессора читали лекции по чужим руководствам, находя, что "умнее не сделаешься, хотя и напишешь свое собственное". Начиналась серьезная умственная жизнь в студенческих кружках, но Лермонтов со студентами не сходится; он больше тяготеет к светскому обществу. Впрочем, кое-что из надежд и идеалов тогдашней лучшей молодежи находит, однако, отражение и у него в драме "Странный человек" (1831), главный герой которой, Владимир, -- воплощение самого поэта. Он тоже переживает семейную драму, тоже раздираем внутренними противоречиями; он знает эгоизм и ничтожество людей и все-таки стремится к ним; когда "он один, то ему кажется, что никто его не любит, никто не заботится о нем -- и это так тяжело!" Это -- душевное состояние самого Лермонтова. И тем ценнее та сцена, когда мужик рассказывает Владимиру о жестокостях помещицы и о других крестьянских печалях, и он приходит в ярость, и у него вырывается крик: "О, мое отечество! мое отечество!" Все же это только случайный мотив, стороной задевающий душу поэта; главными, основными остаются по-прежнему разлад между мечтой и действительностью, трагическое столкновение противоположных начал, чистого и порочного, глубокая ненависть к людям, к тому самому "свету", в котором он так охотно бывал. В Московском университете Лермонтов пробыл менее двух лет. Профессора, помня его дерзкие выходки, срезали его на публичных экзаменах. Он не захотел остаться на второй год на том же курсе и переехал в Петербург, вместе с бабушкой. Незадолго до этого умер его отец; впоследствии, в часы горестных воспоминаний, поэт оплакал его в стихотворении: "Ужасная судьба отца и сына". В Петербургский университет Лермонтов не попал: ему не зачли двухлетнего пребывания в Москве и предложили держать вступительный экзамен на первый курс. По совету своего друга Столыпина он решил поступить в школу гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, куда и был зачислен приказом от 10 ноября 1832 г., "сначала унтер-офицером, потом юнкером". Почти в одно время с ним поступил в школу и его будущий убийца, Н.С. Мартынов, в биографических записках которого поэт-юнкер рисуется как юноша, "настолько превосходивший своим умственным развитием всех других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно. Он поступил в школу, по словам Мартынова, уже человеком, много читал, много передумал; другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон. Годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собою". Лермонтов пробыл в школе "два страшных года", как он сам выражается. Земная стихия его натуры одержала на время полную победу над другой, лучшей частью его души, и он с головой окунулся в царивший в школе "разгул". Об этом времени его родственник Шан-Гирей пишет следующее: "Способности свои к рисованию и поэтический талант Лермонтов обратил на карикатуры, эпиграммы и разные неудобные в печати произведения, вроде "Уланши", "Петергофского праздника", помещавшиеся в издаваемом в школе рукописном иллюстрированном журнале, а некоторые из них ходили по рукам и отдельными выпусками". Ему грозила полная нравственная гибель, но он сумел и здесь сберечь свои творческие силы. В часы раздумья, скрывая свои серьезные литературные замыслы даже от друзей, поэт "уходил в отдаленные классные комнаты, по вечерам пустые, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи". В письмах к своему другу, М. Лопухиной, он изредка открывает эту лучшую часть своей души, и тогда слышится горькое чувство сожаления о былых оскверненных мечтаниях. По выходе из школы (22 ноября 1834 г.) корнетом лейб-гвардии гусарского полка, Лермонтов поселяется со своим другом А.А. Столыпиным в Царском Селе, продолжая вести прежний образ жизни. Он делается "душою общества молодых людей высшего круга, запевалой в беседах, в кружках, бывает в свете, где забавляется тем, что сводит с ума женщин, расстраивает партии", для чего "разыгрывает из себя влюбленного в продолжение нескольких дней". К этому-то времени и относится развязка давнишнего романа Лермонтова с Е. Сушковой. Он прикинулся вновь влюбленным, на этот раз добившись ее взаимности; обращался с нею публично, "как если бы она была ему близка", и когда заметил, "что дальнейший шаг его погубит, быстро начал отступление". Как ни сильны, однако, его увлечения "светом" и его желание создать себе в нем "пьедестал" -- все это лишь одна сторона его жизни: сказывается все та же двойственность его натуры, его искусство скрывать под маской веселости свои интимные чувства и настроения. Прежние мрачные мотивы осложняются теперь чувством глубокого раскаяния и усталости. Оно звучит в его автобиографической повести "Сашка", в драме "Два брата", в его лирике; оно отражается также в его письмах к М. Лопухиной и Верещагиной. В конце 1835 г. до него дошли слухи, что Варвара Лопухина, которую он издавна любил и не переставал любить до конца жизни, выходит замуж за Н.И. Бахметьева. Шан-Гирей рассказывает, как Лермонтова поразило известие о ее замужестве. К 1835 г. относится и первое появление Лермонтова в печати. До тех пор Лермонтов был известен, как поэт, лишь в офицерских и светских кругах. Один из его товарищей, без его ведома, забрал у него повесть "Хаджи-Абрек" и отдал ее в "Библиотеку для Чтения". Лермонтов остался этим очень недоволен. Повесть имела успех, но Лермонтов долго еще не хотел печатать своих стихов. Смерть Пушкина показала Лермонтова русскому обществу во всей мощи его гениального таланта. Лермонтов был болен, когда разнеслась по городу весть об этом страшном событии. До него доходили различные толки; некоторые, "особенно дамы, оправдывали противника Пушкина", находя, что "Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою". Негодование охватило поэта, и он излил его на бумагу. Сначала стихотворение оканчивалось словами: "И на устах его печать". В таком виде оно быстро распространилось в списках, вызвало бурю восторгов, а в высшем обществе возбудило негодование. Когда Столыпин стал при Лермонтове порицать Пушкина, доказывая, что Дантес иначе поступить и не мог, Лермонтов моментально прервал разговор и в порыве гнева написал страстный вызов "надменным потомкам" (последние 16 стихов). Стихотворение было понято как "воззвание к революции"; началось дело, и уже через несколько дней (25 февраля), по Высочайшему повелению, Лермонтов был переведен в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. Лермонтов отправлялся в изгнание, сопровождаемый общими сочувствиями; на него смотрели как на жертву, невинно пострадавшую. Кавказ возродил Лермонтова, дал ему успокоиться, на время прийти в довольно устойчивое равновесие. Начинают яснее намечаться проблески какой-то новой тенденции в его творчестве, которая проявилась с таком красотой и силой в его "Песне про царя Ивана Васильевича Грозного", на Кавказе законченной, и в таких стихотворениях, как "Я, матерь Божия..." и "Когда волнуется желтеющая нива". Благодаря связям бабушки, 11 октября 1837 г. последовал приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший тогда в Новгороде. Неохотно расставался Лермонтов с Кавказом и подумывал даже об отставке. Он медлил отъездом и конец года провел в Ставрополе, где перезнакомился с бывшими там декабристами, в том числе с князем Александром Ивановичем Одоевским, с которым близко сошелся. В начале января 1838 г. поэт приехал в Петербург и пробыл здесь до половины февраля, после этого поехал в полк, но там прослужил меньше двух месяцев: 9 апреля он был переведен в свой прежний лейб-гвардии Гусарский полк. Лермонтов возвращается в "большой свет", снова играет в нем роль "льва"; за ним ухаживают все салонные дамы: "любительницы знаменитостей и героев". Но он уже не прежний и очень скоро начинает тяготиться этой жизнью; его не удовлетворяют ни военная служба, ни светские и литературные кружки, и он то просится в отпуск, то мечтает о возвращении на Кавказ. "Какой он взбалмошный, вспыльчивый человек, -- пишет о нем А.Ф. Смирнова, -- наверно кончит катастрофой... Он отличается невозможной дерзостью. Он погибает от скуки, возмущается собственным легкомыслием, но в то же время не обладает достаточно характером, чтобы вырваться из этой среды. Это -- странная натура". Под Новый год 1840 г. Лермонтов был на маскарадном балу в Благородном собрании. Присутствовавший там Тургенев наблюдал, как поэту "не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, и он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, -говорит Тургенев, -- что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества". Как известно, этим маскарадом и навеяно его полное горечи и тоски стихотворение "Первое января". На балу у графини Лаваль (16 февраля) произошло у него столкновение с сыном французского посланника, Барантом. В результате -- дуэль, на этот раз, окончившаяся благополучно, но повлекшая для Лермонтова арест на гауптвахте, а затем перевод (приказом 9 апреля) в Тенгинский пехотный полк на Кавказе. Во время ареста Лермонтова посетил Белинский. Они познакомились еще летом 1837 г. в Пятигорске, в доме товарища Лермонтова по университетскому пансиону, Н. Сатина, но тогда у Белинского осталось о Лермонтове самое неблагоприятное впечатление как о человеке крайне пустом и пошлом. На этот раз Белинский пришел в восторг "и от личности и от художественных воззрений поэта". Лермонтов снял свою маску, показался самим собою, и в словах его почувствовалось "столько истины, глубины и простоты". В этот период петербургской жизни Лермонтова он написал последний, пятый, очерк "Демона" (первые четыре -- 1829, 1830, 1831 и 1833 года), "Мцыри", "Сказку для детей", "Герой нашего времени"; стихотворения "Дума", "В минуту жизни трудную", "Три пальмы", "Дары Терека" и др. В день отъезда из Санкт-Петербурга Лермонтов был у Карамзиных; стоя у окна и любуясь тучами, плывшими над Летним садом и Невою, он набросал свое знаменитое стихотворение "Тучки небесные, вечные странники". Когда он кончил читать его, передает очевидец, "глаза его были влажны от слез". По дороге на Кавказ Лермонтов остановился в Москве и прожил там около месяца. 9 мая он вместе с Тургеневым, Вяземским, Загоскиным и другими присутствовал на именинном обеде у Гоголя в доме Погодина и там читал своего "Мцыри". 10 июня Лермонтов уже был в Ставрополе, где находилась тогда главная квартира командующего войсками Кавказской линии. В двух походах -- в Малую и Большую Чечни -Лермонтов обратил на себя внимание начальника отряда "расторопностью, верностью взгляда, пылким мужеством" и был представлен к награде золотою саблею с надписью: "за храбрость". В половине января 1841 г. Лермонтов получил отпуск и уехал в Санкт-Петербург. На другой же день по приезде он отправился на бал к графине Воронцовой-Дашковой. "Появление опального офицера на балу, где были Высочайшие Особы", сочли "неприличным и дерзким"; его враги использовали этот случай как доказательство его неисправимости. По окончании отпуска друзья Лермонтова начали хлопотать об отсрочке, и ему разрешено было остаться в Санкт-Петербурге еще на некоторое время. Надеясь получить полную отставку, поэт пропустил и этот срок и уехал лишь после энергичного приказания дежурного генерала Клейнмихеля оставить столицу в 48 часов. Говорили, что этого требовал Бенкендорф, которого тяготило присутствие в Петербурге такого беспокойного человека, как Лермонтов. На этот раз Лермонтов уехал из Петербурга с очень тяжелыми предчувствиями, оставив родине на прощание свои изумительные по силе стихи: "Прощай немытая Россия". В Пятигорске, куда он приехал, жила большая компания веселой молодежи -- все давнишние знакомые Лермонтова. "Публика -вспоминает князь А.И. Васильчиков, -- жила дружно, весело и несколько разгульно... Время проходило в шумных пикниках, кавалькадах, вечеринках с музыкой и танцами. Особенным успехом среди молодежи пользовались Эмилия Александровна Верзилина, прозванная "розой Кавказа". В этой компании находился и отставной майор Мартынов, любивший пооригинальничать, порисоваться, обратить на себя внимание. Лермонтов часто зло и едко вышучивал его за "напускной байронизм", за "страшные" позы. Между ними произошла роковая ссора, закончившаяся "вечно печальной" дуэлью. Поэт пал жертвой своей двойственности. Нежный, отзывчивый для небольшого круга избранных, он по отношению ко всем прочим знакомым держался всегда заносчиво и задорно. Недалекий Мартынов принадлежал к последним не понял "в сей миг кровавый, на что он руку поднимал". Похороны Лермонтова, несмотря на все хлопоты друзей, не могли быть совершены по церковному обряду. Официальное сообщение об его смерти гласило: "15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М.Ю. Лермонтов". По словам князя Васильчикова, в Петербурге, в высшем обществе, смерть поэта встретили словами: "туда ему и дорога". Весною 1842 г. прах Лермонтова был перевезен в Тарханы. В 1899 г. в Пятигорске открыт памятник Лермонтову, воздвигнутый по всероссийской подписке. По сложности и богатству своих мотивов поэзия Лермонтова занимает исключительное место в русской литературе. "В ней, по выражению Белинского, все силы, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия: несокрушимая мощь духа, смирение жалоб, благоухание молитвы, пламенное, бурное одушевление, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордого страдания, стоны отчаяния, таинственная нежность чувства, неукротимые порывы дерзких желаний, целомудренная чистота, недуги современного общества, картины мировой жизни, укоры совести, умилительное раскаяние, рыдание страсти и тихие слезы, льющиеся в полноте умиренного бурею жизни сердца, упоения любви, трепет разлуки, радость свидания, презрение к прозе жизни, безумная жажда восторгов, пламенная вера, мука душевной пустоты, стон отвращающегося от самого себя чувства замершей жизни, яд отрицания, холод сомнения, борьба полноты чувства с разрушающею силою рефлексии, падший дух неба, гордый демон и невинный младенец, буйная вакханка и чистая дева -- все, все в этой поэзии: и небо, и земля, и рай, и ад". Но в этой расточительной роскоши, в изумительном богатстве мотивов, идей и образов можно, однако, заметить основную тенденцию его творческого процесса, тот психологический стержень, вокруг которого они все вращаются. С этой точки зрения творчество Лермонтова может быть разделено на два периода: первый тянется приблизительно до середины 30-х годов, второй -- до конца его кратковременной жизни. В первом периоде он весь во власти своей необузданной фантазии; он пишет исключительно на основании своего внутреннего опыта, страшно болезненно чувствует и переживает всю непримиримость двух противоположных начал, двух стихий своей души: небесного и земного, и в ней видит основную причину трагедии своей жизни. Во второй периоде он уже ближе к действительности, опыт его расширяется в сторону изучения окружающих людей, быта и общества, а если не окончательно отрешается от своей антитезы, то безусловно ее смягчает. Он начинает как дуалист, резко ощущающий двусторонность своей психики, как человек, обреченный на постоянное пребывание "между двух жизней в страшном промежутке". Ему ясна причина всех его мучительных переживаний, ясно, почему он одержим таким неодолимым желанием быть как можно дальше от низкой и грязной земли. Существует вечный антагонизм между небесной душой и "невольным" обременительно тяжким, "спутником жизни" -- телом; как бы они ни были связаны между собою в краткий положенный им срок совместного существования, они тяготеют в разные стороны. Его влечет к себе ночь, небо, звезды и луна. В тихую лунную ночь расцветают его сады, пробуждается мир его чарующих грез, и легкокрылая фантазия совершает свой горний полет, уносит в "далекие небеса". Слабый луч далекой звезды "несет мечты душе его больной; и ему тогда свободно и легко". Звезды на чистом вечернем небе ясны, как счастье ребенка; но иногда, когда он смотрит на них, душа его наполняется завистью. Он чувствует себя несчастным оттого, что "звезды и небо -- звезды и небо, а он человек". Людям он не завидует, а только "звездам прекрасным: только их место занять бы хотел". Есть чудная "птичка Надежда". Днем она не станет петь, но только что "земля уснет, одета мглой в ночной тиши", она "на ветке уж поет так сладко, сладко для души, что поневоле тягость мук забудешь внемля песне той". И его душа, родственная небесам, стремится ввысь; она хотела бы и физически оторваться от грешной земли, расстаться со своим "невольным спутником жизни", со своим телом. Оттого Лермонтов так и приветствует синие горы Кавказа, что они "престолы Господни", к небу его приучили, ибо кто хоть "раз на вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает", тот никогда не забудет открывшегося ему неба. Вот крест деревянный чернеет над высокой скалой в теснине Кавказа: "его каждая кверху подъята рука, как будто он хочет схватить облака". И снова рождается неземное желание: "о если б взойти удалось мне туда, как я бы молился и плакал тогда... И после я сбросил бы цепь бытия, и с бурею братом назвался бы я". В эти часы возвышенных мечтаний он однажды увидел, как "по небу полуночи ангел летел", и как "месяц и звезды и тучи толпой внимали той песне святой", которую ангел пел перед разлукой душе, спускаемой в "мир печали и слез". Он знает, что между миром людей и миром ангелов существовало некогда близкое сообщение, они жили как две родные семьи, и даже ангел смерти был нестрашен, и "встречи с ним казались -- сладостный удел". В поэме: "Ангел смерти" проводится мысль, что только по вине человека "последний миг" стал для людей не "награждением, а наказанием: люди коварны и жестоки, их добродетели -- пороки", и они уже больше не заслуживают того сострадания, которое раньше было к ним в душе ангела смерти. Лермонтов томится как в темнице; ему "скучны песни земли", и вся жизнь со всеми ее радостями, светлыми надеждами и мечтами -- не что иное, как "тетрадь с давно известными стихами". Человек не больше как "земной червь", "земля -- гнездо разврата, безумства и печали". Ему так тяжело на ней, и так глубоко он ее ненавидит, что даже в самые высокие минуты, когда ему удается мечтой уловить блаженство нездешних миров, его преследуют зловещие тени земные, и он страшится поглядеть назад, чтобы "не вспомнить этот свет, где носит все печать проклятия, где полны ядом все объятия, где счастья без обмана нет". Эти мотивы его будущей "Думы" внушают ему поразительно глубокую идею о рае и аде, ту самую идею, которую потом Достоевский, несколько изменив, вложил в уста старика Зосимы. Он видит, "что пышный свет не для людей был сотворен... их прах лишь землю умягчить другим чистейшим существам". Эти существа будут свободны от грехов земных, и будут "течь их дни невинные, как дни детей; к ним станут (как всегда могли) слетаться ангелы. А люди увидят этот рай земли, окованы под бездной тьмы. Укоры зависти, тоска и вечность с целию одной"... такова будет их "казнь за целые века злодейств, кипевших под луной!" ("Отрывок", 1830). Но обладает ли эта лучезарная стихия окончательной победительной силой? В радостях, которые она сулит, чересчур много спокойствия и очень мало жизни. Это годится еще для натуры созерцательной, вроде Жуковского; у Лермонтова для этого слишком деятельная, слишком энергичная натура, с ненасытной жаждой бытия. Он знает, что прежде всего "ему нужно действовать, он каждый день бессмертным сделать хочет, как тень великого героя, и понять не может он, что значит отдыхать". Оттого и пугают его те "сумерки души, когда предмет желаний мрачен, меж радостью и горем полусвет; когда жизнь ненавистна, и смерть страшна". И с первых же годов творчества, одновременно и параллельно с этими небесными звуками, звучат звуки страстные, земные, грешные, и в них чувствуется гораздо больше глубины, силы напряжения. Поэт горячо любит Кавказ вовсе не за одну близость его к небу; он видит на нем следы своих страстей, знаки своей мятежности: ведь "с ранних лет кипит в его крови жар и бурь порыв мятежный". Морская стихия пленяет его пылкое воображение своей волнующейся силой, и у нее он ищет образов для выражения состояния своей души. То он похож на волну, "когда она, гонима бурей роковой, шипит и мчится с пеною своей", то на парус одинокий, белеющий в тумане моря голубом; "под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой... А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой". В таком состоянии мир и тишина небесной радости кажутся ему абсолютно неприемлемыми, и он сознается, что любит мучения земли: "они ему милей небесных благ, он к ним привык и не оставит их". Слишком тесен путь спасения и слишком много жертв требует он от него; необходимо для этого, чтобы сердце преобразилось в камень, чтобы душа освободилась от страшной жажды песнопения, а это равносильно смерти ("Молитва", 1829). И он отказывается от этого телесного пути спасения. Земная мощь является основной чертой всех героев его юношеских повестей и драм: и в "Джулио", и в "Литвинке", и в "Исповеди", в "Измаиль-Бее", "Вадиме", "Испанцах", "Menschen u. Liedendschaften", "Странном человеке". Во всех этих байронических образах черкесов, корсаров, разбойников, восставших рабов, "сынов вольности" кипят эти страсти земные; все они во власти земного начала, и Лермонтов их любит, им сочувствует и почти никого не доводит до раскаяния. Местом действия у него очень часто является монастырь -- воплощение аскетизма, законов духа, в корне отвергающих грешную землю. Против монастырской святости, против небесного начала направлены горячие протесты любимых детей его фантазии, в защиту иных законов -- законов сердца, они же законы человеческой крови и плоти. Кощунственные речи раздаются в "Исповеди"; они же перенесены в точности, целиком, и в "Боярина Оршу", и в "Любовь Мертвеца" и явственно еще слышатся потом и в "Мцыри", правда -- в более смягченном виде. То же отрицательное отношение к монастырю и во всех очерках "Демона", не исключая даже последних: в стенах святой обители заставляет он демона соблазнить свою возлюбленную. Так намечается все глубже и глубже эта изначальная антитеза: земля и небо. Неминуема борьба между ними, полем битвы является человеческая душа. Демон ближе, родственнее Лермонтову, чем ангел; земные мотивы в его поэзии кажутся более существенными, более органическими, чем небесные. С ангелами, и в самые возвышенные мгновения, он только встречается; с демоном Лермонтов отожествляет себя с самого начала, даже тогда, когда образ его еще колеблется, и он кажется еще порою активным избранником зла. Появление этого образа -- один из серьезнейших моментов в иной психологии Лермонтова. Он сразу как бы узнал в нем себя и так быстро овладел им, что сейчас же стал по-своему перестраивать его мифологию, применяя ее к себе. Поэт слышит иногда небесные звуки; это звуки верные и глубокие, потому что исходят из его же души, соответствуя одной из ее сторон, но стороне более слабой: она часто заглушается бурными голосами другой, противоположной стихии. Здесь причина его трагедии, которую он не властен устранить -- таким создал его творец. В этом именно направлении идет у Лермонтова прояснение образа демона. Нужно было порвать прежде всего с традиционным представлением о нем, как об абсолютном воплощении исконно грешного начала; с таким демоном у Лермонтова было бы очень мало общего. Уж в первом очерке 1829 г. Демон назван печальным; он тяготится своим изгнанием; он весь во власти сладостных воспоминаний, когда он не был еще злым и "глядел на славу Бога, не отверзаясь от него, когда сердечные тревога чуждалася души его, как дня боится мрак могилы". Препятствие устранено: демон -- такой же мученик, такой же страдалец душевных контрастов, как и сам Лермонтов: и мыслимо стало слияние обоих образов. С годами зреет душа поэта, обогащается его жизненный опыт; вместе с этим обостряется и основная проблема о назначении человека, об его отношении к Богу на почве все той же непримиримости обоих начал -- и все это находит свое отражение в концепции "Демона", в его пяти очерках и в таких подготовительных этюдах, как "Азраил". Но основные черты все-таки остаются одни и те же. Демон не однороден; угрюмый, непокорный, он бродит всегда "один среди миров, не смешиваясь с толпою грозной злых духов". Он равно далек как от света, так и от тьмы, не потому, что он не свет и не тьма, а потому, что в нем не все свет, и не все тьма; в нем, как во всяком человеке -- и прежде всего, как в душе самого Лермонтова, "встретилось священное с порочным", и порочное победило, но не окончательно, ибо "забвенья (о священном) не дал Бог, да он и не взял бы забвенья". В тех четырех очерках "Демона", которые относятся к первому периоду творчества Лермонтова, сюжет построен всецело на идее возможного возрождения через любовь. Жительница кельи, святая дева -- все же не ангел, и она не противостоит ему, как непримиримая противоположность. Она скорее поймет его душевные муки и, быть может, исцелит его, даст ему часть своих сил для победы над злом, не отрекаясь при этом окончательно от земного начала. Демон нарушает "клятвы роковые", любить чистою любовью, отказывается "от мщения, ненависти и злобы" -- он уже хотел "на путь спасенья возвратиться, забыть толпу недобрых дел". Но одноначальный ангел, стоявший на страже абсолютной чистоты, не поняв его, снова возбудил в нем его мрачные, холодные мысли, вызвал к действию его злобу. Любовь, по вине ангела, не спасла демона, и он, неискупленный, остался со своими прежними затемненными страданиями. В горькой улыбке, которою демон "упрекнул посла потерянного рая", Лермонтов лишний раз отражает свой протест против пассивности совершенства, против абсолютного признания примата за законами духа. Демон не раскаялся, не смирился перед Богом; для этого он был слишком горд, слишком считал себя правым. Не его вина, что душа его такая двойственная; Творец его создал таким и обрек его на неодолимые мучения. К Нему надо взывать, Его вопрошать о смысле этой душевной пытки. Веяния грозного рока должен был ощущать Лермонтов в безнадежности своих стремлений к цельности к слиянию обоих начал. Отсюда мотив богоборчества, титанизм, "гордая вражда с небом", не прекращающаяся в продолжение всего первого периода и захватывающая часть второго. Этой гордой враждой одержимы чуть ли не все герои произведений первого периода. "Если Ты точно Всемогущ, -- спрашивает Юрий в "Menschen und Liedenschaften", -- зачем Ты не препятствуешь ужасному преступлению -самоубийству? Зачем хотел Ты моего рождения, зная про мою гибель?" И он заявляет дальше с гордостью человека, который и хотел бы да не может смириться: "Вот я стою перед Тобою, и сердце мое не трепещет. Я молился, не было счастья; я страдал, ничто не могло Тебя тронуть". Еще громче звучит этот протест против Творца в устах Арбенина из "Страшного человека": у него он поднимается до полного разрыва с Ним, до демонского богоотступничества. "Нет в Нем отныне ни любви, ни веры. Бог Сам нестерпимой мукой вымучил у него эти хулы. Бог виноват! Пускай гром упадет в наказание на его непокорную голову! Он не думает, чтобы последний вопль погибающего червя мог Его порадовать", -- так кончает он горьким сарказмом в безнадежности отчаяния. Азраилу тоже кажется, что он сотворен, "чтобы игрушкою служить", и он тоже горько вопрошает Всесильного Бога: зачем Он его сотворил; ведь Он мог знать про будущее. "Неужели Ему мил его стон?" Проклинает, наконец, Божье владычество и Вадим, "проклинает в час своей кончины за то, что Бог проклял его в час рождения". Таков тяжелый внутренний опыт Лермонтова, который все более и более обостряется по мере приближения ко второму периоду его творчества. Бурные годы первого петербургского периода, длившиеся почти до самого изгнания на Кавказ, -- годы, когда, казалось, земное начало окончательно взяло верх, осложняют этот опыт еще с другой стороны. Теперь уже не одна больная возбужденная фантазия доставляет ему пищу для его мучительно тяжелых дум; он слишком хорошо узнал на деле, что такое жизнь, каков может быть размах и сила бунтующей плоти ("Гошпиталь", "Петергофский праздник", "Уланша"); он испытал, сколько мук заключается в слепых и диких неудержимых страстях, какой ужас таит в себе земное, "порочное" начало. И он на первых порах еще гораздо больше, чем прежде, тяготится своим существованием. Он не знает и никогда не знал, что такое цельность, полнота жизни. Нестерпимые муки, настоящая пытка -- постоянно жаждать, домогаться и никогда не достигать. Драма "Маскарад" отражает это душевное состояние. В ней много автобиографического и автопортретного, но образ главного героя, Арбенина, развертывается на фоне реальных бытовых картин. Подобно автору, Арбенин тоже человек гордый, смелый, с непреклонной волей, тоже мученик своих страстей, жертва внутренних противоречий. Ему, как демону, кажется, что его возродила к новой чистой жизни любовь "слабого создания, ангела красоты". Без нее "нет у него ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования"; он уже давно успел разгадать "шараду жизни, где первое -рождение, где второе -- ужасный ряд забот и муки тайных ран, где смерть последнее, а целое -- обман". Но мыслимо ли возрождение для такого человека? Ведь его бури не временные, легкоодолимые, а бури рока, заранее и раз навсегда определившего ему быть "меж двух жизней, в страшном промежутке". Какой-нибудь случай -- и все шаткое счастье, основанное на таком неестественном союзе, как его с ангелом красоты, весь душевный временный покой сейчас же рушится. Арбенин лишь внешне возродился. Он не сумел проникнуться до конца началами чистоты и совершенства: для этого в его душе было слишком мало веры. Он убил ее, свою любовь, свое возрождение, и вновь остался один со своими прежними муками. Демонская концепция, разыгранная среди смертных, из аллегории стала символом: ведь Арбенин, как и демон, отверженец Неба -- только богоотступник, а не богоотрицатель, ибо он верит, что есть мир прекрасный: он ей "откроется, и ангелы возьмут ее в небесный свой приют". Земля осуждена, но не надолго. Вскоре появляются уже те новые элементы в его мироощущении, которые и определяют основную тенденцию второго периода его творчества. В следующем произведении, "Боярине Орша", Лермонтов опять берет землю под свою защиту, снова борется за ее равноправность с Небом. Арсений, преданный в руки монастырских судей, поднимает бунт против законов святой обители. Он хочет воли, хочет узнать, "прекрасна ли земля", "для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы". Это -- веление сердца, в котором есть другой закон, "ему не менее святой". И он настолько сын земли, поклонник ее здоровых стихийных сил, что он и от рая готов отказаться, если не найдет там своего земного идеала. "Что без нее земля и рай? Одни лишь звучные слова, блестящий храм без божества". И тут уже ясно намечаются основные тона главного мотива "Мцыри", и яснее всего эти новые элементы в творчестве Лермонтова. Это -- признание самоценности языческого начала, возможность не только оправдать землю, но и принять ее целиком за ее красоту, за те покоряющие восторги, которые дарит человеку природа. Арсений убежал из стен святых, укрылся в лоне природы, слился с нею и сразу "забыл печали бытия". То же делает и Мцыри, который всю свою жизнь лелеял одну мечту: вырваться из этих "душных келий и молитв в чудный мир тревог и битв". Лермонтов пользуется здесь всем богатством своих красок и пленительно рисует грешную землю. Перед нами совсем иное, новое, просветленное отношение к ней. Поэту открылись в ней какие-то иные ценности, иной смысл, и он всецело держит сторону Мцыри даже тогда, когда тот чувствует себя братом барса и, подобно ему, жаждет крови. "Мцыри" написаны позже (в 1840 г.), но уже теперь, в самом начале этого периода, эта новая струя в творчестве Лермонтова, эта близость к земле чувствуется достаточно сильно. Поэт и на небо начинает смотреть другими глазами, говорить о нем с какой-то чудесной простотой, именно словами земли. Таковы лучшие его небесные гимны: "Ветка Палестины", молитва: "Я, Матерь Божия", "Когда волнуется желтеющая нива". В особенности характерно "Когда волнуется желтеющая нива"; здесь уже ясное предчувствие примирения обоих начал: неба и земли. Не синие горы Кавказа пленяют его, не в грозных завываниях диких бурь улавливает он родственные душе звуки; в нем вызывает чувство умиления свежий лес, шумящий при звуке ветерка, и сагу таинственную ему лепечет "студеный ключ, играя по оврагу". И когда он воспринимает все эти простые, естественные звуки, тогда он может "счастье постигнуть на земле и в небесах увидеть Бога". Земля стала ему совсем близкой и родной, и позднее -- в стихотворении "Выхожу один я на дорогу" (1841), поэт уже знает, что ему нужны земные грезы; ему нужно, чтобы во время векового сна "в груди дремали жизни силы, чтобы дыша вздымалась тихо грудь, и сладкий голос пел про любовь, и темный дуб, вечно зеленея, над ним склонялся и шумел". Он чувствует, что его отчизна уже не только могучий Кавказ, но и скромная, простая деревенская Русь, и он любит ее "странною любовью", любит "ее полей холодное молчанье, лесов дремучих колыханье, дрожащие огни печальных деревень, дымок спаленной жнивы и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез" ("Отчизна"). Лучи этой новой любви отбрасываются как бы и назад и ярко отражаются в его прекрасной "Песне про царя Ивана Васильевича Грозного" (1837). Далекое прошлое России рисуется ему уже не в фантастических очертаниях, как раньше в "Сыне вольности", а во всей прелести народной былинной простоты, и он узор за узором выводит картины тогдашнего быта. Ему открылся дух того времени, он постиг несложную, но цельную психологию тех людей. Еще сильнее сказывается новая тенденция в отношении Лермонтова к современности. Теперь он заинтересован в вопросах земли; он выстрадал право предъявлять к человеческой личности свои высокие требования. От того так мощно звучат те укоры которые он посылает своему поколению, и прежде всего людям определенного круга. Главным сатириком является он уже в стихотворении: "На смерть Пушкина", в обращении "надменным потомкам известной подлостью прославленных отцов", "свободы, гения и славы палачам". Он хорошо знает этот "свет завистливый и душный", он изучал его, скрывая свои думы под непроницаемой маской. Тонким и чутким наблюдателем жизни сказывается он и в "Думе", и в стихотворении "Первое января": резко и выпукло набросаны им черты общества той эпохи, расслабленного и обезволенного -- те самые черты, которые одновременно рисуются в широких рамках бытового романа: в "Герое нашего времени". Печорин и Грушницкий -типические образы, ставшие определением того ряда явлений, который Лермонтов наметил в свой "Думе": ("и ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови"). Грушницкий типичнее Печорина и больше годится в "герои нашего времени"; в Печорине еще слишком много автопортретности. Лермонтов сделал его одиноким, наделил его своей сильной волей, неустанной тревогой духа, анализирующим разумом, беспощадной искренностью в отношении к себе, знанием людей, способностью нежно любить, глубоко чувствовать природу, делать его одиноким -- словом, подчеркивает, как можно ярче, все индивидуальное, чтобы скрыть под ним типическое: эгоизм, мелочную страсть к позировке, душевный холод. Тем сильнее проявляются эти черты в Грушницком. Его, и за одно с ним все "водяное" общество, Лермонтов не пощадил, и получилась широкая и правдивая картина жизни определенного круга. Картина выходит особенно яркой благодаря архитектонике романа: Максим Максимович нарисован раньше, и когда потом проходят действующие лица из "дневника Печорина", то им все время противостоит его великолепная фигура во всей своей чистоте, несознанном героизме и смиренномудрии -- с теми чертами, которые нашли свое дальнейшее углубление у Толстого в Платоне Каратаеве, у Достоевского в смиренных образах из "Идиота", "Подростка" и "Братьев Карамазовых". На фоне глубокой внутренней борьбы между двумя противоположными стихиями -- небом и землею, переход от безусловного признания примата первого над вторым через признание их равноправности к радостному ощущению возможности их примирения, их слияния, синтеза между ними, -- таков был тяжелый путь жизни и творчества Лермонтова. Этот путь далеко еще не был закончен: его оборвала преждевременная гибель и то, что ему открылось в лучшие мгновения, к чему он так упорно шел, лишь манило его своим счастьем, но еще не переродило его душу до последних оснований. Оттого и возможны были частые перебои, отзвучия прежних тяжелых переживаний. В таких стихотворениях, как: "Гляжу на будущность с боязнью", "И скучно и грустно", "Благодарность", "Дубовый листок оторвался от ветки родимой", тоска опять обостряется до прежней нестерпимой боли, и снова рыдает в них безнадежность крайнего абсолютного отрицания всякого смысла жизни. "И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг -- такая пустая и глупая шутка": вот основной мотив всех этих элегий. Старая болезнь духа сказывается также в том, что он вновь возвращается к "Демону", пишет свой последний, пятый очерк, в котором опять ставит с прежней остротой прежнюю проблему о назначении жизни, об отношении человека к Богу, земли к небу. Здесь Лермонтов уже окончательно сливается со своим демоном, сделав его похожим "на вечер ясный: ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет". Следы тяжелых настроений имеются и в "Сказке для детей", и в "Беглеце", и в прекрасном по своей безыскусственности "Валерике", рисующем картины военной походной жизни, и в пророческом "Сне", в котором он предугадал свой преждевременный конец. И все-таки это не более, как отзвучия, еще резче подчеркивающие основную тенденцию его творчества второго периода. Его время не могло дать ему ту арену для действия, в которой так нуждался его активный волевой характер. В этом смысле Лермонтов безусловно наполовину "герой безвременья". Он умер, не успев окончательно примириться с жизнью, и следовавшие за ним поколения его всегда воспринимали как бунтаря Прометея, восставшего на самого Бога, как трагическую жертву внутренних противоречий, как воплощение вечно печального духа отрицания и сомнения. Полны поэтому глубокого смысла те слова, в которых Белинский, сопоставляя Лермонтова с Пушкиным, резко подчеркивает их полярность: "Нет двух поэтов, -- говорит он, -- столь существенно различных, как Пушкин и Лермонтов. Пафос Пушкина заключается в сфере самого искусства, как искусства, пафос поэзии Лермонтова заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности. Пушкин лелеял всякое чувство, и ему любо было в теплой стороне предания; встречи с демоном нарушали гармонию духа его, и он содрогался этих встреч; поэзия Лермонтова растет на почве беспощадного разума и гордо отрицает предание. Демон не пугал Лермонтова: он был его певцом". "Гордая вражда с небом, презрение рока и предчувствие его неизбежности" -- вот что характерно для его поэзии. Это -самые верные слова из всех, которые когда-либо были сказаны про историческое значение Лермонтова; они указывают на ту внутреннюю интимную связь, которая существует между творчеством Лермонтова и всей последующей русской художественной мыслью, главным образом в лице Достоевского, Толстого и их школ. Эта связь -- не столько в сюжетах, в отдельных частных идеях, сколько в основных тонах настроений, в мироощущении. Пушкинская ясность гармонии, светлая уравновешенность оставалась лишь в идеале; к ней стремились, но никогда ее не испытывали; преобладала именно лермонтовская тревога духа, его мучительная борьба с самим собою, его трагическое ощущение неодолимости внутренних противоречий, и на почве всего этого -- отстаиванье прав человеческой личности, доходящее до гордой вражды с небом, до богоотступничества. Литература. I. Издания: "Герой Нашего Времени", части I -- II, изд. И. Глазунова (СПб., 1840); тогда же вышли "Стихотворения М. Лермонтова"; "Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Лермонтова", тома I -- II, изд. А. Смирдина (СПб., 1847); несколько более полное издание (Глазунова) -- "Сочинения Лермонтова" (СПб., 1856). "Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и дополненные С.С. Дудышкиным", тома I -II, изд. А.И. Глазунова (СПб., 1860); при II томе -- "Материалы для биографии и литерат. оценки Лермонтова". Существенные дополнения и поправки к этому изданию П. Ефремова, в "Библиографических Записках" 1861 г.; No 3, 16, 18 и 20. "Сочинения Лермонтова", под ред П.А. Ефремова, изд. "Новое Времени" (СПб, 1880). Первое полное издание В.Ф. Рихтера, под ред. П.А. Висковатова, в 6 томах; в III томе библиография составлена Н.Н. Буковским, в VI томе "Жизнь и творчества Лермонтова", П.А. Висковатова (М., 1889 -- 1891). "Сочинения М.Ю. Лермонтова", под редакцией и с примечаниями И.М. Болдакова, тома I -- V, первые 3 тома редактированы очень тщательно, изд. Елиз. Гербек (М., 1891). "Полное собрание сочинений Лермонтова" под ред. Арс. И. Введенского, тома I -- IV, по полноте и исправности текста одно из лучших (СПб., 1903). "Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова", под ред. Д.И. Абрамовича, "Академическая библиотека русских писателей", издание Академии Наук -- самое полное, там же см. даты написания всех произведений Лермонтова (т. V, стр. 5 -- 21) (СПб., 1910 -- 1912). II. Биографические сведения. а) Ранние годы. "Воспоминания А.П. Шан-Гирея" ("Русское Обозрение", 1890, кн. VIII); "Заметки и воспоминания художника-живописца -- М.Е. Меликова" ("Русская Старина", 1896, кн. VI); "Воспоминания" А.М. Миклашевского ("Русская Старина", 1884, кн. XII); П.Ф. Вистенгофа ("Исторический Вестник", 1884, кн. V); "Записки" Я.А. Хвостовой (рожд. Сушковой), изд. М.И. Семевским (СПб., 1871; критический отзыв о них сестры автора Е.А. Ладыженской, "Русский Вестник", 1872, кн. II). b) Годы юнкерства и военная служба. "Воспоминания Миклашевского"; А. Меринский ("Русский Мир", 1872, No 205); Н.С. Мартынов "Русский Архив", 1893, II [8]; "Исторический очерк Николаевского Кавалерийского училища" (СПб., 1873); В. Потто "История 44-го драгунского Нижегородского полка" (т. IV); Д.В. Ракович "Тенгинский полк на Кавказе" (Тифлис, 1900). с) Литературно-общественные отношения. "Записки" А.О. Смирновой (ч. II, СПб., 1897); "Воспоминания" Н.М. Сатина ("Почин". Сборник Общества любителей российской словесности на 1895 г.); М.Н. Лонгинова ("Русская Старина", 1873, кн. III и IV); графини Е.П. Ростопчиной ("Русская Старина", 1882, кн. IX); Фр. Боденшедта ("Современник", 1861, кн. II, стр. 326); И.И. Панаева ("Современник", 1861, кн. II, стр. 656 -- 663); графа В.А. Соллогуба ("Исторический Вестник", 1886, кн. IV -- VI); князя А.В. Мещерского ("Русский Архив", 1900, No 9, стр. 80 -81); А.Я. Головачевой-Панаевой ("Исторический Вестник", 1889, кн. II, стр. 313). d) Последние дни жизни Лермонтова: "Воспоминания" Э.А. Шан-Гирей ("Русский Архив", 1889, No 6, стр. 315 -- 320); "Новое Время", 1881, No 1983; "Нива", 1885, No 20; "Русский Архив", 1887, No 11; "Север", 1891, No 12; "Русское Обозрение", 1891, кн. IV, стр. 707 -- 712); князя А.И. Васильчикова ("Русский Архив", 1872, No 1); Н.П. Раевского ("Нива", 1885, No 7, 8); "Дело следственной комиссии о поединке Лермонтова с Н.С. Мартыновым" ("Русский Архив", 1893, кн. II [8], стр. 595 -- 606); "Дело о погребении Лермонтова" ("Русское Обозрение", 1895, кн. II, стр. 841 -- 876). Сводные биографические работы о Лермонтове: П.А. Висковатов (см. VI том "Собрания сочинений Лермонтова" под его редакцией); А.М. Скабичевский "М.Ю. Лермонтов" (СПб., 1905, 2-е изд.); А.И. Введенский (при I томе "Полного собрания сочинений", СПб., 1903). III. Критики и библиография. Белинский ("Полное собрание сочинений", под редакцией С.А. Венгерова, том V, стр. 290 -- 372), и том VI, стр. 1 -- 62); А. Григорьев ("Сочинения", том I, СПб., 1876); Н.Г. Чернышевский "Очерки Гоголевского периода русской литературы" (1893); А.Н. Пыпин (в I томе "Собрания сочинения Лермонтова", изданного в 1873 г., под ред. П.А. Ефремова); В.Д. Спасович "Байронизм у Лермонтова" ("Сочинения", т. II, также отдельное издание, Вильна, 1910); Н.А. Котляревский "М.Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения" (последнее издание, 1912); В.О. Ключевский "Грусть" ("Русская Мысль", 1891, кн. VII); С.А. Андреевский "Лермонтов. Характеристика" ("Литературные Очерки", СПб., 1902); Н.К. Михайловский "Герой безвременья" ("Сочинения", т. V, стр. 303 -- 347); Н.П. Дашкевич "Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова" ("Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца", кн. VI, отд. II); его же "Демон в мировой поэзии" (там же, кн. VII); О.П. Герасимов "Очерк внутренней жизни Лермонтова по его произведениям" ("Вопросы Философии и Психологии", кн. III); П.В. Владимиров "Исторические и народнобытовые сюжеты в поэзии М.Ю. Лермонтова" (Киев, 1892); А. Бороздин "Характеристика поэзии Лермонтова" (СПб., 1891); И. Анненский "Об эстетич. отношении Лермонтова к природе" ("Русская Школа", кн. 12, 1891); его же "Книга отражений"; Владимир Соловьев ("Сочинения", т. VIII); Д.С. Мережковский "Лермонтов. Поэт сверхчеловечества" (СПб., 1909); В.В. Розанов "Вечно печальная дуэль" ("Литературные Очерки"); К.Д. Бальмонт "Горные вершины", кн. I (М., 1904); П. Кропоткин "Идеалы и действительность в русской литературе" (СПб., 1907); Е. Соловьев (Андреевич) "Очерки по истории русской литературы XIX века"; Ю. Айхенвальд "Силуэты русских писателей" (выпуск I, М., 1906, 2-е издание, 1912); А. Волынский "Книга великого гнева" (СПб., 1904); И. Иванов "Новая культурная сила. Русские писатели XIX века" (СПб., 1901); Н.И. Коробка "Личность в русском обществе и литературе" (СПб., 1903); Д.Н. Овсянико-Куликовский "История русской интеллигенции", часть I -- Из юбилейной литературы 1914 г.: Овсянико-Куликовский "М.Ю. Лермонтов", Родзевич "Лермонтов как романтик" (Киев, 1914); Нейман "Влияние Пушкина на творчество Лермонтова" (Киев, 1914); Л. Семенов "Лермонтов и Толстой" (М., 1914); Г.Ю. Феддерс "Эволюция типа "странного человека" у Лермонтова" (Нежин, 1914); А.В. Семека "М.Ю. Лермонтов" (СПб., 1914, там же -- библиография за 1814 -1914 годы); "Венок Лермонтову" (Юбилейный сборник, куда вошли статьи П. Сакулина, Н. Бродского, Н. Мендельсона, М.И. Розанова и других, М., 1914); А. Закржевский "Лермонтов и современность" (Киев, 1915); М. Гершензон "Умиление" ("София", 1914, кн. III); его же, в томе VI "Собрания сочинений А. Пушкина" под редакцией С.А. Венгерова. О Лермонтове в иностранной литературе см. "Собрание сочинений Лермонтова", издание Академии Наук, т. V, стр. 79 -- 126.