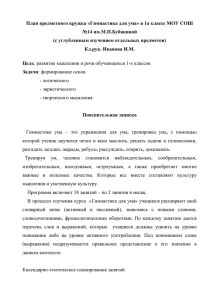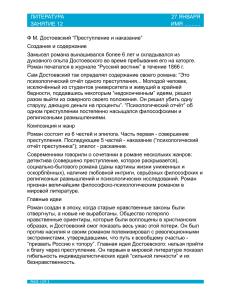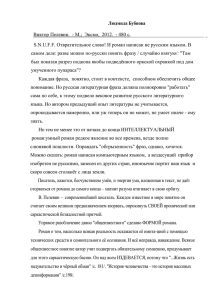02_Personocentrizm_XIX - Белорусский государственный
advertisement
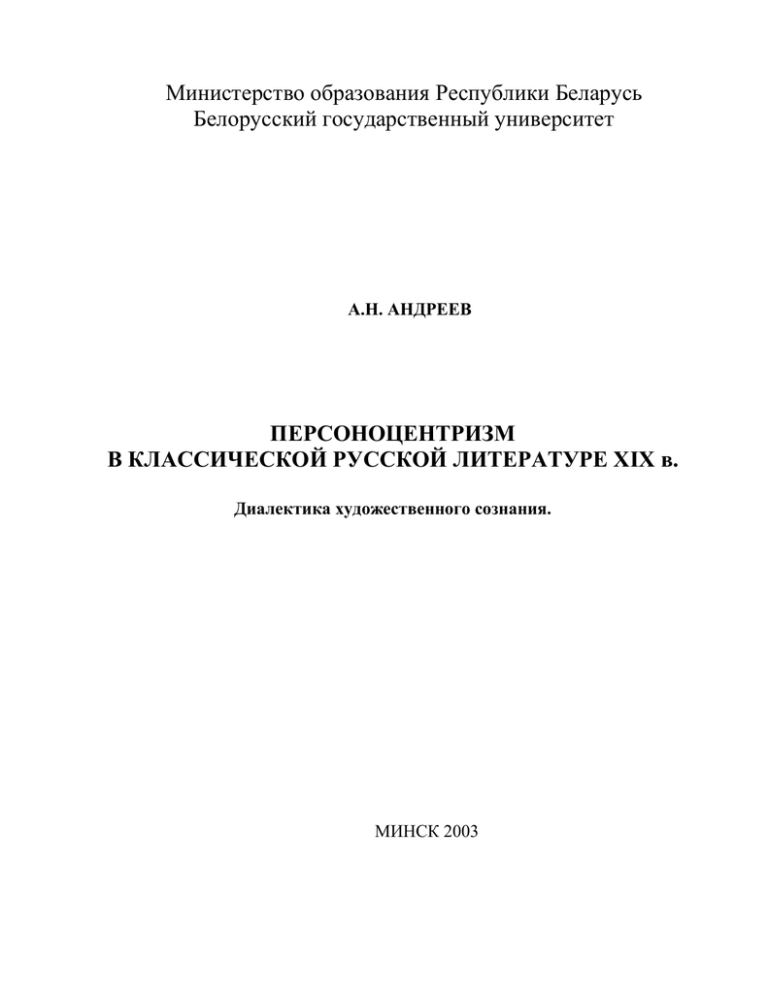
Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет А.Н. АНДРЕЕВ ПЕРСОНОЦЕНТРИЗМ В КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX в. Диалектика художественного сознания. МИНСК 2003 2 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................ 2 ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................................... 3 ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................... 6 ЧАСТЬ 1. А.С. ПУШКИН ............................................................................................. 11 1.1. КУЛЬТУРНЫЙ АРХЕТИП ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА .......................................................... 11 1.2. НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ПИКОВОЙ ДАМЫ .............................................................. 56 ЧАСТЬ 2. М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.................................................................................... 64 2.1. ФОРМУЛА ГЕРОЯ (роман М.Ю. Лермонтова «Герой Нашего Времени») ......................... 64 ЧАСТЬ 3. Л.Н. ТОЛСТОЙ ............................................................................................ 89 3.1. МЫСЛИШЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОШИБАЕШЬСЯ (роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого в свете целостного анализа) .............................................................................................. 89 3.2. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА ГОЛОВИНА ........................................................... 179 ЧАСТЬ 4. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ .............................................................................. 196 4.1. ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ (роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в свете целостного анализа)......................................................................................... 196 ЧАСТЬ 5. Н.В. ГОГОЛЬ .............................................................................................. 253 5.1.ЖИВЫЕ ДУШИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ (о концепции «Мертвых душ») 253 ЧАСТЬ 6. А.П. ЧЕХОВ ................................................................................................ 265 6.1. А.П. ЧЕХОВ: ТРАГИКОМЕДИЯ БЫТИЯ ............................................................................ 265 ЧАСТЬ 7. И.С. ТУРГЕНЕВ ......................................................................................... 313 7.1. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА РАЦИОНАЛИСТА: БАЗАРОВ И ДРУГИЕ ................................... 313 ЧАСТЬ 8. И.А. ГОНЧАРОВ ........................................................................................ 336 8.1. АНДРЕЙ ОБЛОМОВ: ПОДСТУПЫ К ИДЕАЛУ .................................................................. 336 ЧАСТЬ 9. А.С. ГРИБОЕДОВ ...................................................................................... 373 9.1. ГОРЕ УМУ, иль СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ .............................................................................. 373 3 ПРЕДИСЛОВИЕ Книга, имеющая подзаголовок «Диалектика художественного сознания», требует некоторых пояснительных замечаний. Легко увидеть, что сквозным сюжетом книги стала духовная биография «лишнего человека», персоны. Однако не лишний сам по себе привлек наше внимание. Лишний – это следствие и симптом определенной культурной ситуации (изредка встречающейся в жизни), определенного расклада духовных позиций. Преобладание разумного, познавательного отношения над психическиприспособительным порождает лишнего. Последнее отношение, увы, оформляется в современной культуре, чаще всего, в идеологическом, еще более «разумном», чем сам разум, ключе, то есть в таком мировоззренческом формате, где реально функции регуляции с миром осуществляет душа (психика), а кажется – что сознание. Лишний – значит отказывающийся путать познание с приспособлением. Все путают, а он не путает, потому и лишний. В контексте данной книги разумное отношение является также научным, а психоидеологическое – художественным. И вот эта парадоксальная ситуация, где торжество разума сопровождается горем, воспроизводится средствами художественными, образнопсихологическими, бессознательными! Подобное познается не подобным же (как надо бы, по логике вещей), а чем-то бесподобным: разум познается душой. Получается комедия ошибок, в которой постоянная маскировка переживаний души под рефлексию ума может сбить с толку. И сбивает – и прежде всего писателей, которых умом понять сложно, а ничем иным понять невозможно, и которые, запутываясь, убеждены, что радикально проясняют ситуацию. Что уж говорить о читателях! Душа творцов реально превозносит ум, но ей кажется, что она срамит и разоблачает его козни, чем демонстрирует свои познавательные возможности; на самом деле, увы, душа безнадежно компрометирует свой «разумный» потенциал. Вот эта ситуация парадокса в парадоксе, парадоксально воспринимаемого, и стала главным предметом исследования в книге. Если к этой «ситуации», уже запутанно отраженной в литературе стараниями души, в свою очередь обратиться с позиций души (что сплошь и рядом и происходит), путаница возникает вселенская. «Тайна» и «чудо» – это самое вразумительное, что может выдать обескураженный «ум». Можно сказать иначе. Основным предметом исследования в книге стал конфликт натуры и культуры – главное содержание, смысловой и концептуальный центр всей мировой художественной культуры. Классическая русская литература XIX века является фрагментом мировой литературы, – правда, неординарным, выдающимся фрагментом. По этому моменту целого как ни по какому другому легко судить о целом. Предлагаемая 4 методология целостного анализа (произведения, творчества, направления, эпохи), легко переносится на любой другой фрагмент и на самое целое. В раскрытии новаторского методологического потенциала хотелось бы видеть главное достоинство книги. Насколько желание автора расходится с тем, что получилось, это другой вопрос. Автор готов к тому, что и он сам отчасти мог принять логику души за доводы рассудка. Тем не менее дело не в авторе, а в реальной сложности проблемы, которая обозначена как «диалектика художественного сознания». Несколько слов следует сказать и о типе лишнего. Это, прежде всего, не тип в том смысле, в каком говорили о типе в литературе XIX-XX вв. – лишний не является обобщением большого количества реально существовавших, живших среди нас прототипов. Такого рода «типизацию» обычно приписывают реализму, хотя на самом деле это родовая черта искусства: в единичном представлять если не всеобщее, то типичное (некое приближение к общему). В свою очередь эта родовая черта искусства – частное проявление закона диалектики: через явление обозначать сущность. Тип лишнего является духовным, а не морально-социальным типажом, он воплощает в себе всеобщее, суть природы человека – и в этом качестве он уникален. Это явление даже не типа; скорее, архетипа. «Типы» же в литературе и искусстве – это частное проявление архетипа, в разной степени отражающие реальные свойства последнего. Лишний – уникальный экземпляр, что не мешает, а помогает последнему быть средоточием самого главного в человеке. Таких мало – но в них все. Приведем аналогию, имеющую отношение не к религии, а к технологии мышления: Иисус Христос единичен и уникален, но он имеет отношение к сути каждого, даже если этот каждый никогда и не слыхивал о Сыне Божием. Онегин – не Иисус, понятно, однако Евгений Онегин ярко воплощает проблемы духовного становления, исключительно выразительно, масштабно и убедительно представляет закономерности превращения человека – в личность. Он типичен в качестве человека мыслящего – и в этом смысле элитарного, избранного; для всех остальных, мало или плохо мыслящих, Онегин превращается в лишнего (потому как вопиюще не типичного). И лишние становятся пророчески типичными. Большой вопрос после этого, кого считать лишними… Тип лишнего чрезвычайно показателен еще в одном отношении. Если человека называют венцом творящей природы, то личность (а лишний есть высоко организованная личность) с полным на то основанием следует считать венцом культуры. Развитие культуры рано или поздно приводит к устойчивой ориентации на личность, к персоноцентризму, – к такому типу отношений с миром, где с помощью сознания персона выделяется из природной и социальной среды. Вначале культурным героем являлся подлинный Герой, персонаж малокультурный, полярно противоположный лишнему. В Герое 5 личностное начало в значительной степени редуцировано. Культ такого героя, персонажа принципиально обезличенного, закономерно приводил к культу «народа», к абсолютизации общественных ценностей (отсюда – народность, то есть героичность литературы – нормативное требование социоцентричной, равнодушной к личности культуры). Индивидуальное здесь непременно выступало формой социально значимого, социально содержательного. Таким образом, лишний, Герой Нашего (Нового) Времени (фактически – антигерой) выступает в качестве культурной перспективы человечества. Он является знаком или симптомом смены культурных парадигм, происходящей на наших глазах: культура социоцентристского типа уступает место культуре индивидоцентристской, в которой просматриваются уже ростки персоноцентризма. Этот момент мы и попытались зафиксировать. Книга, предлагаемая читателю, задумана так (впрочем, сказанное ниже относится и ко всем другим моим книгам), что каждая следующая ее глава проясняет предыдущую и вместе с тем вырастает из нее. Более того. Принцип подобной соотносительности распространяется и на все мои книги, очередность которых отнюдь не случайна. Вот порядок, в котором я рассматриваю свои книги: 1. Целостный анализ литературного произведения. Учебное пособие для студентов вузов. – Минск, НМЦентр, 1995. – 143 с. 2. Культурология. Личность и культура. Учебное пособие по культурологии для студентов вузов. – Минск, Дизайн-ПРО, 1998. – 180 с. 3. Психика и сознание: два языка культуры. Научная монография. – Минск, БГУ, 2000. – 233 с. Каждая книга была ступенью к последующей и в то же время прояснялась благодаря ей. Данную, четвертую, книгу, я рассматриваю как звено, замыкающее круг книг, образующих своего рода целостность. В нее можно вклиниваться, не нарушая ее «структуру», хотя бы и бесконечно расширяя любой момент до размеров, превышающих объем сказанного о целостности. Но с этой книгой целостность становится самодостаточной. АВТОР 6 ВВЕДЕНИЕ Русская литература «золотого века», основоположником и столпом которой по праву является Пушкин Александр Сергеевич, зарождалась и формировалась как литература аристократическая, персоноцентрически ориентированная. Именно в период «золотого века» русская литература стала осознавать близкий ей по духу «культурный код», свое предназначение; более того, бессознательно сформировала программу своего развития, ибо сразу же нащупала свою «золотую жилу»: элитарный персоноцентризм как в высшей степени перспективный вектор культуры, который и стал решающим фактором мирового признания русской литературы. Вспомним в этой связи только три знаковых произведения: «Горе от ума», «Евгений Онегин» и «Герой Нашего Времени». Писателями пушкинской литературной эпохи становятся аристократы; при этом, что особенно важно, не только по своему происхождению и статусу, но и по своим культурным притязаниям, позволяющим признать их аристократами духа. «В среде Карамзина и деятелей пушкинского круга, – пишет философ И.В. Кондаков, – люди были связаны прежде всего идеалами умственного, духовного избранничества, элитарности, нравственного или философского превосходства, сознательных претензий на «высшее» в интеллектуальном, образовательном, этическом и эстетическом отношениях» [1, 257]. Определение «элитарное» образовано от французского слова «elite», что означает «лучшее», «отборное», «избранное». Элитаризм – это аристократическое, гуманистическое и при этом глубоко консервативное мировоззрение, где понятие «консервативное» несет в себе значение охранения и сохранения ценностного ядра, некоего культурного абсолюта. О каком ценностном ядре идет речь? Логика развития русской литературы, а также наше собственное понимание высших культурных ценностей позволяют дать следующую трактовку элитаризма. Разумеется, мы не собираемся реставрировать мировоззрение «деятелей пушкинского круга»; мы делаем попытку разглядеть в аристократизме вечные ценности, и с этой целью намерены онтологически продлить аристократизм в наши, демократические дни. Платон, первый философ-элитолог, обозначил саму суть проблемы: «…Мы считаем самым ценным для людей не спасение во имя существования, как это считает большинство, но достижение совершенства и сохранение его на всем протяжении своей жизни» [3, 158]. Что есть совершенство? Платон, говоря современным языком, главным считал не бессознательное существование, а сознательное достижение совершенства, которое ценно прежде всего тем, что является продуктом сознательного отношения. Иными словами, совершенство, понимаемое как духовное совершенство, достигается на 7 пути по оси прогресса от натуры к культуре, от психики к сознанию, от человека к личности – это во-первых; во-вторых, основным инструментом совершенствования выступает разум (не интеллект!); в-третьих, механизмом совершенствования выступает постоянное и неусыпное – «на всем протяжении своей жизни» – сознательное разоблачение бессознательного (приспособительного) освоения жизни (с помощью интеллекта – не разума!), сознательное окультуривание бессознательных пространств души, что позволяет превращать бесплодное бездуховное в плодоносное духовное; вчетвертых, результатом осмысленного отношения становится превращение человека в личность, персону; в-пятых, совершенство сегодня следует понимать как противоречивый информационный процесс, интерпретируемый с позиций тотальной диалектики. Разум, диалектика, личность, элита, духовный аристократизм, культура: вот звенья одной информационной парадигмы. Разумное, культурное отношение – вот идеология элиты. Может ли такое отношение быть не консервативным? Нет, не может, ибо консерватизм в культурном смысле выступает синонимом объективного, разумно обоснованного и – в данном контексте – истинного. Таков культурный код, такова в свернутом виде, в виде мировоззренческих архетипов и матриц, культурная программа русской литературы «золотого века», а значит, и «серебряного века» (пусть отчасти), и любого другого века, настоящего и грядущего. Код он и есть код, нечто сущностное, присущее феномену, код невозможно изъять из художественного дискурса; его можно в той или иной степени либо активизировать, либо нейтрализовать. Итак, главные герои классических произведений русской литературы XIX-XX вв. – персонажи с повышенной персоноцентрической валентностью, которые если и не противостоят народу, то так или иначе отделяют себя от народа, культивирующего в своей среде бессознательное существование, но никак не достижение совершенства. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров (а не П.П. Кирсанов, как ни парадоксально), Обломов, Болконский, отчасти Раскольников, многие герои Чехова (Гуров из «Дамы с собачкой», Николай Степанович из «Скучной истории», г. N. из «Дома с мезонином», «учитель словесности» Никитин, Лаптев из «маленького романа» «Три года»), бунинский Арсеньев, булгаковский Мастер; даже в народном романе «Тихий Дон» главный герой Григорий Мелехов стал главным именно потому, что его уровень персоноцентрической валентности оказался заметно выше, чем у всех остальных; даже среди героев социоцентрически ориентированной деревенской прозы самыми колоритными оказываются «чудики», то есть маленькие люди с высоким градусом персоноцентризма. «Маленький человек», персонаж «униженный и оскорбленный», не стал магистральным героем классической 8 русской литературы – при всем том, что именно ему отводилась роль противовеса «лишним людям». Либо «лишний» – либо «маленький». Русская литература в своих вершинных достижениях очевидно равнялась на «лишнего». Часто отрицательными сатирическими героями становились «мертвые души» (в чеховском варианте – это люди «в футляре») – именно потому, что они изображались с позиций мироустройства, где доминирует культ здоровой духовности, живой просвещенной души. «Мертвые души» превращались в ностальгию по душам живым. Мировые достижения русской литературы, как представляется, связаны прежде всего с противоречивым культом лишнего, то есть крайне необходимого культуре персонажа. Диалектика души неотделима от диалектики сознания, а то и другое – способы существования личности, вечно лишней, с точки зрения социума. Более того, следует сказать прямо и недвусмысленно: мировые достижения любой литературы связаны с гуманитарным законом персоноцентризма: персоноцентрическая валентность передовых литератур оказывается выше, нежели персоноцентрическая валентность породившей их эпохи. Именно разница потенциалов двух систем идеалов – гуманистических (персоноцентрических) и авторитарных (социоцентрических) – обеспечивает литературе необходимую художественную пассионарность, которая замешана на экзистенциальном веществе, а именно: воле к истине. Культурный взрыв – это всегда прорыв в сфере персоноцентризма. И напротив: уклонение с персоноцентрического пути, ослабление персоноцентрической валентности или непонимание культурной ценности персоноцентризма – причина кризиса всех национальных литератур мира без исключения. Очевидно, что в предлагаемой работе мы исходим из некой аксиоматической данности: персоноцентризм является высшей культурной ценностью, культурной перспективой и вектором художественной эволюции. Обоснованием этого глубокого в своей культурной значимости тезиса мы сейчас заниматься не станем, поскольку это сделано в наших ранее опубликованных работах [2]. В свете сказанного любопытно посмотреть на эволюцию персоноцентрической традиции в русской литературе. Где-то с середины ХIХ в. в русском обществе начинает складываться другая социальная страта – разночинцы, уже не сословие, а сообщество людей, связанных определенными убеждениями и идеями, которые носили глубоко социальный (не личностный!) характер. По архетипу – это реанимация архаической героики. Вот характеристика интеллигенции нового типа: «Другая интеллигенция ассоциировалась уже не с аккумуляцией всех достижений отечественной и мировой культуры, не с концентрацией национального духа и творческой энергии, а скорее с политической «кружковщиной», с подпольной, 9 заговорщицкой деятельностью, этическим радикализмом, тяготеющим к революционности (вплоть до террора), пропагандистской активностью и «хождением в народ». Принадлежность к подобной интеллигенции означала уже не столько духовное избранничество и универсальность, сколько политическую целенаправленность – фанатическую одержимость социальными идеями, стремление к переустройству мира, готовность к личным жертвам во имя народного блага» [1, 258]. В границах новой идеологии этого нового русского сообщества начинает развиваться другая стратегическая линия русской литературы с ярко выраженной социоцентрической ориентацией. На первое место здесь начинают выходить постановка и разрешение злободневных вопросов, связанных с «существованием» – с социальным переустройством русского общества, критикой его социальных пороков. Все это подразумевало борьбу, гражданскую активность, классовую позицию. На смену духовно-аристократическому credo «зависеть от царя, зависеть от народа… Не все ли нам равно?» пришел демократический императив: «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». На смену философско-критическому реализму пришел реализм социально-критический. Одно дело аналитически препарировать установки косного социума с позиций личности, и совсем иное – критиковать обветшавшую идеологию с позиций иной, революционной идеологии. Личностью ты можешь и не быть, а вот гражданином стать обязан. Новое литературное движение с его ярко выраженными социальными интересами и пристрастиями противоречиво соседствовало с той русской литературой Х1Х века, которая по традиции ориентировалась на личность как точку отсчета в стремительно демократизирующемся мире. Коротко говоря, персоноцентрический вектор в развитии литературы стал меняться на социоцентрический. Смена вех (векторов) – это особый культурный сюжет, и в данном случае для нас он является второстепенным. Цель монографии – определить суть и законы функционирования феномена, имя которому персоноцентрический вектор в развитии классической русской литературы XIX в. Что касается дальнейшей эволюции персоноцентрической традиции в русской литературе в XX в., то этой проблематике посвящена наша следующая монография «Персоноцентризм в русской литературе XX в».. Литература 1. Культурология. ХХ век. Т.1. – СПб.: Университетская книга, 1998. – 447 с. 2. Теория литературы. Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по филологическим специальностям. В 2 ч. Ч. 1. Художественное произведение. – Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 200 10 с.; Теория литературы. Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по филологическим специальностям. В 2 ч. Ч. 2. Художественное творчество. – Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 264 с.; Основы теории литературно-художественного творчества. Пособие для студентов филологического факультета. – Минск, БГУ, 2010. – 216 с. 3. Платон. Законы. – М.: Изд-во «Мысль», 1990. – 832 с. 11 ЧАСТЬ 1. А.С. ПУШКИН 1.1. КУЛЬТУРНЫЙ АРХЕТИП ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА ( роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 1 Человек – велик. Человек – комичен. Человек – трагичен. Велик – благодаря разуму, который выделяет человека из природы и отделяет от нее. Человек становится венцом творящей природы, ибо только ему дано с помощью сознания познать её законы. Комичен – вследствие своей фатальной подвластности природе, реализующей своё царственное воздействие на человека с помощью психического, чувственно-эмоционального (внесознательного) управления, базирующегося на инстинктивных программах. Трагичен – потому что вынужден носить в себе создавшие его непримиримые начала: величие и комичность, вынужден примирять два разрывающих его полюса, несмотря на то, что не в силах сделать это. Человек – целостен: велик, комичен и трагичен одновременно. Но поразному. Разница заключается в том, хватает ли у него величия (способности осознавать), чтобы разглядеть свою реальную силу и слабость, или он мистифицирует, комически искажает столь же реальную зависимость от «сверхъестественных» «сил зла». Видеть свою комическую изнанку, осознавать себя как часть природы – тоже один из признаков величия. Быть нерассуждающим рабом природы, смиренно подчиняться тобой же со страху выдуманным богам и смирение это лицемерно ставить себе же в заслугу – вот высшая степень комизма. Соответственно трагизм, духовное родовое пятно личности, также приобретает величественный или комический оттенок. Такова одна из современных версий о духовной сущности и структуре личности – версия, вобравшая в себя по крупицам всё наиболее жизнеспособное в духовном плане, создававшееся веками и поколениями лучших умов человечества. Думается, есть все основания считать Александра Сергеевича Пушкина одним из тех, кто чувствовал и понимал глубину и величие этой версии и сотворил один из самых её впечатляющих художественных вариантов. В 1827 году, размышляя о феномене художественного «сплава» и составляющих его компонентах (следовательно, в определённом смысле – о природе художественного творчества), Пушкин замечает: «Есть различная смелость: Державин написал: «орёл, на высоте паря,» когда счастие «тебе 12 хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вкруг тебя заснуло». Описание водопада: Алмазна сыплется гора С высот и проч. Жуковский говорит о боге: Он в дым Москвы себя облек ... Крылов говорит о храбром муравье, что Он даже хаживал на паука». [1] Далее, приведя характерные примеры из Кальдерона и Мильтона, иллюстрирующие ту же мысль, Пушкин обобщает: «Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические». [2] Ещё один род смелости – употреблять до того не введённые в литературный оборот слова – Пушкин оценивает следующим образом: «Жалка участь поэтов (какого б достоинства они, впрочем, ни были), если они принуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса!» [3] Наконец, гениальный поэт, выступая в данном случае как безупречный аналитик, подводит итог: «Есть высшая смелость (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.): смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию, – такова смелость Шекспира, Dante, Milton'а, Гёте в «Фаусте», Мольера в «Тартюфе». [4] Итак, Пушкин различает смелость стилевую, новаторство образнопоэтического порядка, и смелость («высшую смелость») собственно содержательную, восходящую к более или менее развёрнутым представлениям о концепции личности. «Изобретение», «план обширный» – это не что иное, как порождённая творческой мыслью новая, гениально обобщённая до степени типа духовная программа. Причём приоритет духовно-содержательного компонента творчества, недвусмысленно выделенный Пушкиным, является для него же не беглым заметочным эпизодом, а тщательно продуманной принципиальной позицией. Это подтверждается и другими мыслями Пушкина, высказанными в разное время и по разным поводам. «Что такое сила (здесь и далее в цитате курсив Пушкина – А.А.) в поэзии? сила в изобретении, в расположении плана (т.е. в концепции личности – А.А.), в слоге ли?» «Гомер неизмеримо выше Пиндара; ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм, трагедия, комедия, сатира – всё более её требуют творчества (fantaisie) воображения – гениального знания природы. Но плана нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения. Какой план в Олимпийских одах Пиндара, какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина? Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». [5] 13 Речь, конечно, не о трактовке Пушкиным проблемы, традиционно обозначаемой как соотношение содержания и формы. Слишком общие высказывания мало что прояснят в этом смысле. Однако слова поэтатеоретика существенны в другом отношении (тогда, правда, они не несли того дискуссионного подтекста, который актуализировался в наше время, когда искусство вздумало начинаться «там, где кончается человек»): у него нет сомнений, что художественная ценность произведения тем выше, чем более значима его духовная подоплёка, ставшая предметом художественного исследования. Именно внеэстетическая проблематика требует «единого плана», который следует понимать, конечно, не как собственно эстетический план, некую композицию себе, как таковую – а как отражение сопрягаемых мировоззрений героев, упорядоченную систему ценностей, организованную в иерархическую вертикаль. Создание подобной иерархии (единого плана) и требует «постоянного труда». Пушкин прекрасно отдавал себе отчёт в том, что «истинно великое» может быть только по человечески великое, но никогда – как собственно эстетическая, поэтическая смелость. Работать, творить – это значит прежде всего мыслить. Глубиной мысли измеряется духовная и творческая зрелость. Такой вывод находит подтверждение и в наблюдениях над собственным творчеством. Вот, в частности, строки из письма к Н.Н. Раевскому-сыну, свидетельствующие о чуткости Пушкина к «смутному» моменту превращения проблемы духовной в собственно творческую (письмо относится ко времени работы над трагедией «Борис Годунов» – произведению, в основу которого положен «план», плод собственного постижения философии власти): «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену – такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (выделено мной – А.А.). [6] Попытаемся с этих позиций взглянуть на роман в стихах «Евгений Онегин» и ответить на ряд вопросов: чем определяется его никем не оспариваемое «истинное величие»? Есть ли в нём «высшая смелость» – смелость «изобретения», творческий подвиг, реализовавшийся в «едином плане», и в чём, наконец, суть этого плана? Почему в качестве «теста» на духовную и художественную зрелость избран именно «Евгений Онегин»? Расчленение пушкинской творческой биографии на три этапа, три семилетия (ранний – 1816 -1823; зрелый – 1823 – 1830; поздний – 1830 – 1837) является в значительной мере условным. [7] Вместе с тем центральное место «Евгения Онегина», работа над которым хронологически совпадает со «зрелым» семилетием, в творческой и духовной судьбе поэта не вызывает 14 сомнений. «Запечатлевшая процесс формирования пушкинской картины мира (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.), эта книга стала бесспорно вершинным явлением национальной поэзии, и в то же время она заложила основы и дала своего рода программу русского классического романа как центрального жанра нашей литературы; она в сжатом, свёрнутом виде предвосхитила основные узлы человеческой проблематики этой литературы; (...). Не будет ничего удивительного, если со временем обнаружится, что в «Онегине» – заведомо исключающем возможность прямого следования его неповторимой «традиции» – содержится тем не менее также и программа русского литературного развития в целом (...)». [8] Роман в стихах «Евгений Онегин» и будет интересовать нас именно в данном, исключительном своём качестве – в качестве «программы русского классического романа», а также «программы русского литературного развития в целом». Основополагающее начало «программы» сосредоточено в «пушкинской картине мира», в которой особым образом проинтерпретированы «основные узлы человеческой проблематики». Иначе говоря, Пушкин чётко сформулировал (настолько чётко, что в характере постановки проблемы содержалось потенциальное решение), а затем и «решил» проблему, творчески воплотил, «изобрёл» свой «план», «картину мира», внутренне согласованную систему духовных ценностей в форме художественной модели. Познать же образную модель в отношении её «истинного величия» можно только одним способом: рациональнологически «разложить» её, выявить сущностное ядро. К сказанному следует добавить, что уникальность «Онегина», где, словно в зерне, в «свёрнутом виде» была заложена логика пути одной из немногих величайших литератур мира, видится ещё и в том, что общекультурное его значение выходит далеко за рамки национальной или, если угодно, цивилизационные (России как цивилизации). Духовноэстетический масштаб романа, его совместимость с разноуровневыми, разноплоскостными, разнородными измерениями и точками отсчёта, его предрасположенность к любой конструктивно, жизнеутверждающе ориентированной ментальной программе – его, коротко говоря, целостная природа, открытая законченность, которая является одновременно моментом целостности иных уровней и порядков (а потому способная репрезентировать свойства универсума) – требует многопланового контекста. «Евгений Онегин» – это явление и поэтики (стиля), и национального самосознания, и духовно-психологических архетипов homo sapiens'а, и спектра нравственно-философских смыслов, и «тайной» личной свободы, и явной общественной необходимости – и т.д. и т.д. Взаимные метастазы макро- и микроуровней с трудом поддаются умозрительному расчленению. 15 И тем не менее мы, в свою очередь, попытаемся рассмотреть «Онегина» в таком ракурсе, который даёт возможность обнаружить «зерно» целостного произведения, ту «программу программ», которая определила духовный состав и поэтическую структуру (в широком смысле – форму) романа в стихах, и, далее, заложила потенциал эффективного воздействия на все стороны и уровни личного и общественного сознания. Пушкин счёл необходимым предпослать роману эпиграф, в котором заинтересованный читатель мог бы отыскать много любопытного: «Проникнутый тщеславием, он обладал ещё той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма (франц.)». [9] Во-первых, он написан по-французски – на языке страны, славящейся своей рациональной культурой и высоко чтущей ее. Во-вторых, прозаический отрывок пронизан аналитизмом, направленным на выявление неоднозначного характера соотношений разных, даже противоположных качеств и свойств личности: тщеславие в сочетании с особого рода гордостью (следствие чувства превосходства, быть может мнимого), порождающей равнодушие в оценке своих как добрых, так и дурных поступков. Перед нами образец того, что можно назвать вмешательством ума в дела сердечные, или, как выразится чуть ниже романист, «ума холодные наблюдения». Иначе говоря, смысловой подтекст основан на разведении функций «ума» и «души». В-третьих, важно, чтобы сочинённый эпиграф был якобы извлечением из частного письма, что свидетельствует об исключительном внимании автора к частной, личностно ориентированной жизни (своеобразному культу личности), единственно достойной просвещённого интереса читателей. В-четвёртых, отметим духовную доминанту анонимно разбираемой анонимной личности (но по закону художественного сцепления ситуаций, эпизодов и фрагментов переносимой на героя одноимённого романа): чувство превосходства. Выделенность, суверенность личности – вновь на первом плане. В-пятых, проникновение подобных характеристик в частную переписку – свидетельство укорененности обозначенного типа личности в жизни, распространенности его и невымышленности. В-шестых, предпослание французского текста русскому роману наводит на целый ряд «сопоставительных» ассоциаций, среди которых выделим погружение «Онегина» в общеевропейский культурный контекст, связывающий главного героя частными, глубинными нитями с духовных климатом эпохи (эти ассоциации будут поддержаны и развиты в романе: вспомним, например, круг чтения, формировавший духовный кругозор Онегина, Татьяны, Ленского). Следующее за эпиграфом посвящение П.А. Плетнёву («Не мысля гордый свет забавить..».), закрепляет обоснованность противостояния 16 личности («души прекрасной», способной оценить «поэзию живую и ясную», «высокие думы и простоту») и «гордого света». Несмотря на то, что «ума холодные наблюдения» и «сердца горестные заметы» подаются как не вполне достойный «залог» «души прекрасной, святой исполненной мечты», у читателя возникает двойственное впечатление: наблюдения и заметы вряд ли порадуют целеустремлённую, пристрастную «душу» прежде всего своей непредвзятостью; тем не менее автор не стремится разделить высокие, но, очевидно, иллюзорные идеалы, а отдаёт предпочтение реальной жизни. «Пристрастному» («рукой пристрастною прими»), субъективному автор сознательно противопоставляет холодную беспристрастность, объективность. Вновь мы сталкиваемся с размежеванием, характерным для эпиграфа: «хотел бы я» разделить мечты и иллюзии с прекрасной душой, но ум (на основании «сердца горестных замет») заставляет видеть реальность такой, какова она есть. Душа приукрашивает жизнь (из лучших, надо полагать, побуждений), обитает в мире миражей, а ум адекватно отражает жёстокую реальность, развенчивая (тоже из лучших побуждений: из уважения к истине) «святые мечты», жить с которыми, возможно, и приятно, но которые не соответствуют действительности. Установка персонажа, которого принято называть «образ автора», вполне ясна. Характеризуя свой «залог» (роман) как «собранье пёстрых глав», повествователь комментирует далее пестроту, понимая её как разнородность (глав – «полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных»), спаянную тем не менее («собранье» глав) наблюдениями. Пёстрый контекст необходим, чтобы одну мировоззренчески весьма значительную фигуру, выросшую из «пестроты» и вступившую с ней в многосложные отношения, показать всесторонне. Такую установку следует оценить как диалектическую, способствующую созданию многоуровневой целостности произведения. Все указанные смыслы, смысловые цепочки и узоры, складывающиеся в смысловую тенденцию, обнаруженную в самом начале романа, можно было бы считать достаточно произвольными, если бы они не были актуализированы и детерминированы более общим, концептуальным контекстом всего произведения (именно на это ориентирует нас методология целостного анализа [10]). В эпиграфе или посвящении – моментах целого – ощутима логика всего целого. В этой связи интересно отметить ещё один штрих: «наблюдения» и «заметы» сам автор относит к возрасту, который называет «незрелыми и увядшими летами». Итак, «образ автора» (который, думается в данном произведении в равной мере можно считать как лирическим героем, так и повествовательным) поделился чрезвычайно ценной информацией: будущая мировоззренческая концепция и модель жизни – плод «незрелых», но уже «увядших» лет. Если незрелость поражена недугом увядания – следовательно, лирический герой духовно 17 весьма близок Онегину, чья мировоззренческая траектория недвусмысленно очерчена в этих оксюморонных эпитетах (всё это потом в полной мере подтвердится в романе). Речь, конечно, не о том, что перед нами духовные близнецы или двойники. В дальнейшем повествователь специально подчеркнёт недопустимость и ошибочность отождествления, которое значительно обеднило бы роман, лишив его перспективы, восходящей категории высшей авторской нравственно-философской нормы: Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной. В чём-то они даже антиподы. Однако безвременно увядшие лета – слишком прозрачный намёк, чтобы им пренебречь. Духовное родство (родство по недугу) – это, с одной стороны, свидетельство уже заявленной типичности, невыдуманности Онегина, а с другой – залог глубокого, заинтересованного духовного исследования (как себя самого: есть личный мотив, личный интерес). Принцип параллельного героя – чрезвычайно ёмкий художественный принцип, очень удачно использованный Пушкиным. Указанный мотив родства имеет и ещё одну сторону. Пушкин сознательно и дерзко размывает грань, отделяющую личность писателя от личности вполне условного героя – «образа автора». В определённом смысле Пушкин делает себя (точнее, представление о себе, основанное на субъективной самооценке) почти персонажем художественного произведения. Тем самым он подчёркивает условность границ между жизнью и литературой. Такой демонстративно обнажённый вариант – достаточно редкий случай для классической литературы. На это способны только те, для кого главное в жизни не литература, а жизнетворчество, отражённое в литературе. Таким образом, Онегин становится модификацией того духовного типа, который воплощён и в образе автора, и, отчасти, в жизнетворчестве самого реального Пушкина. Эти ипостаси взаимно отражаются, подчёркивая и обогащая разнонаправленность тенденций, составляющих суть их базового архетипа. Онегина необходимо рассматривать и в данном «однородном», архетипическом контексте – в этом также проявляется свойство целостности, присущее взаимосвязанным обществу, личности художественному произведению. Между прочим, в проекции жизнетворчества на литературу (уже новейшую литературу, с богатейшей культурой взаимообщения и взаимообогащения духовного и эстетического) заключается смысл одной из заложенных Пушкиным «программ русского литературного развития в целом». 18 Познание художественной целостности предполагает не просто многосторонний, многоаспектный аналитический обзор, но выявление внутренне упорядоченной, многоуровневой структуры (так сказать, познание законов органического взаимосочетания и взаимосочленения горизонтальной структуры с вертикальной). Смысловой центр (художественное ядро) разворачивается на всех остальных уровнях (содержательных и поэтических), и познание их специфических функций и свойств есть одновременно познание этого «ядра». Что же считать таким ядром в произведении (или, иначе сказать, что составляет сердцевину творческого метода писателя)? Ответ на этот вопрос во многом содержится уже в первой главе, которая по отношению ко всему роману является тем же, чем роман – по отношению к русской литературе: именно здесь обнаруживается смысловой генетический код, семантический первотолчок, зерно концепции (зерно метода). «Первотолчок» этот облечён в явление, которое обозначено как «недуг», или, по-другому, внутреннее, экзистенциальное, как сказали бы сейчас, противоречие («русской хандры»), какие противоположные начала в сознании и душе Онегина вступили в конфликт – этот вопрос станет главным для всего романа. Намёки-сигналы, тревожные предвестники (или отголоски: это как посмотреть) конфликта в форме своеобразных смысловых вкраплений можно обнаружить уже в эпиграфе и посвящении. А далее – последовательно и целенаправленно отслеживается «странное», т.е. противоречивое, неподдающееся идентификации в рамках одномерной логики, поведение героя (сопровождаемое противоречивым отношением к нему повествователя), непосредственно подводящее к «недугу» и, по закону диалектической (целостной) обусловленности, само чреватое этим недугом (то же самое можно сказать и о «параллельном» отношении повествователя). Странный – ключевое для оценки героя слово. В самом конце романа, расставаясь с Онегиным, автор концентрирует своё отношение в итоговой характеристике: Прощай и ты, мой спутник странный... Едва успел читатель освоить элегантно оброненный полунамёк на родственность душ (см. посвящение), как тут же он должен как-то совместить авансом возникшую полусимпатию к герою с отношением, вызванным почти неприкрытым цинизмом, которым проникнут весь первый (и единственный в романе) внутренний монолог Онегина (1 строфа 1 главы). Как только воспринимающее сознание «приходит в себя» и вырабатывает адекватную оценку цинизма с гуманистической нравственностью определяемых позиций, вымышленный автор романа тут же, без всякого перехода берёт «циника» под моральную защиту («Онегин, добрый мой приятель»). Но и это ещё не всё: именно в этот момент мы 19 узнаём, что к Онегину благосклонен не условный автор, а вполне реальный создатель «Руслана и Людмилы»: Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа (выделено мной – А.А.) .............................................. Позвольте познакомить вас. Такая рекомендация рассчитана на то, чтобы обескуражить читателя. Активная нравственная поддержка персонажа, «награждённого» очевидным моральным изъяном, конечно, приводит в недоумение, вновь заставляет корректировать к нему отношение, идя вслед за автором и Пушкиным. И это, безусловно, не столько формальное запутывание, имеющее целью раздразнить читательский аппетит, сколько апелляция к «толковому» читателю, содержащая серьёзный «знак»: не спешите судить, тут есть над чем подумать. Феномен Онегина подаётся как феномен большой человеческой загадки. Таким образом, роман начинается со смысловой антитезы, с противоречивой подачи, вероятно, противоречивого главного героя; в таком же ключе он продолжается. Метод, будучи основной стратегией художественной типизации, определяет художественные функции всех без исключения уровней стиля: от сюжетно-композиционного до ритмикофонетического. Анализ поэтики и должен служить всестороннему раскрытию, разворачиванию «генетического кода», осуществляемому непрерывными смысловыми приращениями и обогащениями, произрастающими, однако, из единого концептуального корня (разумеется, если мы имеем дело с художественным произведением высочайшего класса). Весь роман (и первая глава в особенности) буквально соткан из перекликающихся разноплановых противоречий – из, если так можно выразиться, «умных» противоречий, где теза и антитеза нуждаются друг в друге, проясняются благодаря своим взаимоисключающим потенциалам. Кстати, Пушкин осознавал противоречивость романа как некий творческий принцип и специально акцентировал на это внимание в заключительной строфе первой главы, словно предупреждая упрёки любителей трактовать противоречия как неувязку, как порок или изъян: Я думал уж о форме плана, И как героя назову; Покамест моего романа Я кончил первую главу; Пересмотрел всё это строго: Противоречий очень много, Но их исправить не хочу... 20 «Форма плана» заключает в себе «очень много» противоречий, которые придирчивый автор видит, но не считает нужным исправлять. Чего ж вам больше? Перечислять противоречия, даже иерархически их располагая, нет никакой возможности, ибо мы утонем в эмпирике, ничего не поняв. Мы окажемся явно «глупее» романа. Постараемся постигнуть сам принцип взаимного сопряжения, приводящий к единству противоположностей. Будем стремиться к постижению сути «ядра» и остановимся только на том, что имеет отношение к нашему стремлению. В первой главе (которую, напомню, можно рассматривать как момент грандиозного целого, из коего целое вырастает и одновременно даёт смысл своему моменту) действительно противоречий очень много. «Ядро» сфокусировано в одном дне из жизни Онегина, и занимает этот день центральную часть главы. «Ежедневный круг этой жизни состоит из семи фаз: первая из них – «Бывало, он ещё в постеле», последняя – «Спокойно спит в тени блаженной». Собственно же день Онегина – это пять фаз: гулянье – обед – театр – кабинет (переодеванье) – бал. Вторая и последняя фазы – обед и кабинет – как раз и дают нам центральный мотив, кристаллизирующий и источающий поэтику перечня. Этот мотив – стол». [11] Добавим только, что мотив стола, вначале обеденного, а потом – туалетного, осложняется обрамляющим день героя мотивом сна, придающего, казалось бы, однозначной картине роскошной жизни двойственный оттенок: такая внешне бурная и динамичная жизнь есть сон, Вещественный мир, столь тщательно выписанный в 1 главе, поглотил личность героя, растворил её в вещах (точнее, не дал из них выделиться). Внешний мир заслоняет и даже замещает внутренний. Торжество плоти – вот лейтмотив всего онегинского дня, т.е. целой фазы жизни героя, вплоть до внезапного и внешне неубедительного мотивированного поражения «недугом». Чередование столов также неслучайно и определено удивительно дальновидной внутренней логикой. Стол обеденный демонстрирует нам (начиная с «окровавленного» ростбифа, данного в «чужом» заморском написании, и кончая столь же экзотическим «золотым ананасом») гастрономическо-физиологический, примитивно потребительский ряд, служащий для удовлетворения одного из основных инстинктов. Изысканность стола заставляет вспомнить заповедь чревоугодников, осмеянную Сократом: не есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть. Стол туалетный «примерного воспитанника мод» в свою очередь явно и вызывающе функционален. «Истинный гений» «науки страсти нежной» находится у себя в лаборатории, где после тщательных и долгих манипуляций над своей внешностью (надо действительно обладать энтузиазмом гения) он уподобляется «ветреной Венере» в мужском наряде. 21 Наука страсти она и есть наука: весь лицедейский арсенал, вся палитра эмоций «влюблённого» («Как рано мог он лицемерить» и т.д.) – сплошная технология чувств, процесс, строго подчинённый конечному результату («И после ей наедине Давать уроки в тишине!»). Евгений, если уж быть совсем точным, является гением имитации нежных чувств – того, что должно напоминать любовь. Потрясающая технологическая оснащённость, отработанность навыков и артистизм исполнения в сочетании с практическим знанием мужской и женской природы сделали из Онегина образцового серцееда. Но каков был истинный побудительный мотив гения, что заставляло его так самозабвенно трудиться, совершенствуя свою многосложную науку? Страсть. Потребность в утолении другого «базового» инстинкта сделала туалетный стол вторым центром его жизни. (Кстати, вновь чуждый, лондоско-парижский косметический контекст стола наводит на размышления: свою ли жизнь среди чужих вещей ведёт энтузиаст «неги модной», поклонник «чувств изнеженных»?) Перед нами – классический вариант «человека комического», человека психологического, который, говоря словами философа, «подчиняет действия потребности, но не располагает их в определённый порядок». [12] Приведённая цитата – замечательная формула, позволяющая чётко различать человека великого, комического и трагического. Онегин в «застольный» период своей жизни мало выделился из природы, подчиняя действия свои и образы жизни нехитрым (можно было бы сказать грубым, если бы ругать потребности не выглядело очевидной глупостью) потребностям. С мировоззрением как таковым мы пока не сталкивались, у нас нет оснований, чтобы говорить о каком-либо внутреннем порядке, о системе ценностей. Онегин, что называется, просто жил. Обратим внимание на очень существенный момент: его образ жизни (и, очевидно, сопутствующий образ мыслей) не был чем-то примечательным, особо выделяющимся, из ряда вон выходящим. Напротив: отличительная его особенность состоит в том, что он был как все. Онегин был прилежный «воспитанник» мод и света, естественно (не задумываясь) впитавший все культурные стандарты и нормативы среды. Значит ли это, что «свет» в целом, как и типичный его представитель с ярко выраженными общепризнанными «достоинствами», также является по преимуществу комическим? Судя по тому, как автор изображает свет, так оно и есть, Если молодой человек «совершенно» владеет французским, «легко» танцует мазурку и кланяется «непринужденно» (дан исключительно внешний ряд), свет прозорливо решает: «он умён и очень мил». «Умён» – ибо принял правила игры общества, стал как все. Отсюда и более чем благосклонная аттестация. Умён – звучит не только как убийственная ирония по отношению к свету, 22 который по манерам и внешности судит об уме, но и как горькая ирония: действительно умные в глазах «людей благоразумных» тут же будут окрещены «сумасбродами», «притворными чудаками» и проч. (8 глава). До поры до времени Онегин был «примерным» человеком света – до той поры, пока им не овладел «недуг». Оценивая в 8 главе логику подобной метаморфозы, понимая, что только тот, кто «смолоду был молод», «вовремя созрел» и последовательно прошёл все фазы светом одобряемой и санкционируемой жизни («глядел на жизнь как на обряд»), может рассчитывать на общественное признание («О ком твердили целый век: N.N. (безликость – А.А.) прекрасный человек») – автор тем не менее делает свой выбор, обрисовывая альтернативу: Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, (столы! – А.А.) Глядеть на жизнь как на обряд, И вслед за чинною толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей. При этом несколькими строфами ранее автор-Пушкин признаётся: И я, в закон себе вменяя Страстей единый произвол, С толпою чувства разделяя, Я музу резвую привёл На шум пиров... (Заметим: там, где толпа – там столы и страсти.) В таком контексте «Блажен, кто смолоду был молод» читается не только в однозначноироническом плане, но и в плане естественно-жизнеутверждающем: как нормальный этап развития нормального человека (в «нормальности» автора к тому времени, когда он пишет эти исповедальные строки, сомневаться уже не приходится). Всё у Пушкина противоречиво в романе в стихах (кстати, тоже противоречие, к смыслу которого мы вернёмся позднее), всё надо оценивать в искусно сотканном контексте. И то, что в одном отношении оценивается как благо, в другом приобретает прямо противоположное значение. Пушкин мыслит контекстами, суммами смыслов, целостностями в целостностях (или, по-другому многоплановыми образами). Но это не означает, что подобное мышление в принципе утрачивает определённость. Дело в том, что определённость в силу противоречивости «природы вещей» – а именно так автор «глядит на жизнь» – сама приобретает амбивалентный характер. В неопределённости всегда у Пушкина сквозит высшая, целесообразная определённость, истолкованная не как божественная предопределённость, а как объективная «логика вещей», логика жизни, логика природы человека. 23 Итак, первый этап «полусознательной» (лучше сказать, почти бессознательной) жизни Онегина сам по себе нормальный и естественный (и только в свете предстоящей эволюции получающий оценку как «растительный» и комический) заканчивается «странной» хворью – «русской хандрой»: Но был ли счастлив мой Евгений, Свободный, в цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений? ................................................ Нет: рано чувства в нём остыли. Странно, непонятно, противоречиво: если смотреть на жизнь «как на обряд», то весь набор блестящих стартовых условий, сулящих счастье, к услугам Онегина. Однако Евгений – несчастлив. Поэтому «недуг», «сплин», «хандра» – это, опять же, двойственная оценка: в глазах благоразумного света (толпы) он заболел, «к жизни вовсе охладел», рискуя превратиться в «сумасброда»; с точки зрения автора, Пушкина и сумевших подняться до их уровня читателей – этот «недуг» есть своего рода симптом выздоровления, пробуждения ото сна, которым были охвачены дух и душа Евгения Онегина. Другое дело, что такое пробуждение, в свою очередь, как впоследствии выяснится, не принесёт счастья – но это уже особый разговор. В чём же «причина» нешуточного, просто опасного недуга, который, как говорится, чреват последствиями (одно из которых как наиболее вероятное – «захотеть застрелиться» – тут же упоминает автор)? Повествователь не только не вуалирует причину, но, напротив, настойчиво привлекает к ней внимание « просвещённого читателя», оставляя за ним право сделать два-три логически неизбежных хода, чтобы восстановить целостную картину «истории болезни». «Рано чувства в нём остыли», «к жизни вовсе охладел», «ему наскучил света шум», «условий света свергнув бремя», «томясь душевной пустотой», «томила жизнь», «сердца жар угас»... Вариации одного мотива: катастрофическое угасание прежних потребностей, на которых держалась жизнь-праздник, жизньнаслаждение. Существует только одна радикальная причина, которая может помешать личности «подчинять действия» природным потребностям (в результате чего жизнь становится «однообразна и пестра», хаотична): причина эта – возникшая на основе природных собственно человеческая потребность «расположить действия в определённый порядок», устранить хаос и обрести разнообразие и многокрасочность в порядке. Потребность отдать себе отчёт в «порядке», в целесообразности действий, придать жизни смысл, вырвав её из бездумной колеи раз навсегда заведённого «обряда» – это значит начать рассуждать. «Отступник бурных наслаждений» впервые противопоставил «ум» – «чувствам», осознав фатальную, трагическую 24 непримиримость этих двух сфер единого человеческого существа. «Остывание», «охлаждение», «угасание» чувств – это симптом пробуждения сознания. Онегин стал думать, мыслить, в нём в полную силу заговорило начало величественное противоположное комическому – вот главное событие духовной жизни героя, приведшее к благотворному в одном отношении и губительному – в другом внутреннему кризису. Именно в это время с ним подружился автор, дрейфующий параллельным жизненным курсом, которого впечатлил именно «резкий, охлаждённый ум» (в то время, правда, ещё в реликтовом сочетании с «невольной преданностью мечтам»). Условий света свергнув бремя, Как он, отстав от суеты, С ним подружился я в то время... ............................................... Обоих ожидала злоба Слепой Фортуны и людей На самом утре наших дней. Пушкин гениально воспроизвёл ситуацию пробуждения Евгения ото «сна», подчеркнув одновременно монотонность однообразно-пёстрой жизни (чувственные потребности ориентированы на калейдоскопическую пестроту, но в основе её лежит однообразие: диктат потребностей) и назойливость монотонности, преобразующейся в тревожный сигнал, напоминающий звон недремлющего брегета. Стилевые возможности романа в стихах позволили сделать это с лаконичным изяществом. Весь «пёстрый» день Онегина сопровождается «однообразной» рифмой: Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед, на котором: И трюфли, роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет. Продолжение обеда: Ещё бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон брегета им доносит, Что новый начался балет. Мотив настойчиво продолжается и в «уединенном кабинете»: Всё украшало кабинет Философа в осьмнадцать лет, где он Одет, раздет и вновь одет... Отголоском звучит: ... в цвете лучших лет 25 Среди блистательных побед... [13] Но ситуация пробуждения была запрограммирована ещё раньше и на ином стилевом уровне: она содержится уже в семантике имени и фамилии главного героя, давших название всему роману. Вспомним: автор думал о том, как назвать героя в контексте размышлений о «форме плана» произведения (кстати, традиция выносить зерно определяющего противоречия в заглавие романа подхвачена будет в «Отцах и детях», «Войне и мире», «Преступлении и наказании»). Евгений в переводе с греческого означает «благородный», в имени просматривается тяготение к величественности. Онегин, как легко догадаться, – о-неженный, изнеженный, привыкший жить в неге баловень судьбы: здесь в противовес семантике имени подчёркнута подверженность низменному началу, т.е. всё тому же психо-физиологическому ряду. Человек «великий» и человек «комический» объединены, неразрывно слиты в герое, являясь разными полюсами одного и того же, что подчеркивается эстетически прихотливо сомкнутым звукорядом, созвучием двух слов. Евгений Онегин, как и роман в стихах, как и Татьяна и Евгений, Евгений Онегин и Владимир Ленский и т.д. и т.д. – гибридное, противоречивое сочетание. Не случайно автор в пору разрыва Онегина с «бременем» прежней жизни и поиском нового порядка в космосе мироздания настойчиво называет героя Евгением («Но был ли счастлив мой Евгений», «И вас покинул мой Евгений»; вас – «красоток молодых»). Подчёркивая внутреннюю близость начала, семантически заключённого в имени героя, автор дважды называет Евгения «моим». Когда же активному повествователю понадобилось «заметить разность» между ним и «его» Евгением, он предпочитает называть близкого друга Онегиным: Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной. Конечно, следует учесть и традицию, согласно которой обращение по имени «приближает» человека, а обращение по фамилии придаёт оттенок официальности, известной отчуждённости. И всё же: имя – это ты сам, фамилия – твой «родовой» признак. Искусству не надо было, как, скажем, философии, искать свою главную проблему, свой угол зрения на мир. Такой сверхпроблемой, сквозь которую рассматривались все иные проблемы, всегда был человек – его душа, думы, системы духовных ценностей. Все проблемы мироздания искусством изначально (что называется, по определению) воспринимались как проблемы человека. Такая декларация, однако, не несёт в себе желаемой полноты истины. Другая её сторона не менее важна: что считать главным в человеке, существе космобиопсихорациосоциальном? Его «душу» – всецело психологический 26 феномен? Сознание? Какова природа духовности человека? Какой тип жизнетворчества наиболее органичен для человека? Пушкин велик не тем, что вышел на проблему человека, – а тем, как он её решил. Столкнув на «территории души» героя «страсти» и ум и, в результате, опустошив душу, Пушкин далее вдумчиво и целенаправленно (концептуально, согласно определённому плану и порядку) ведёт духовно близкого себе человека по жизни. (Почему ум так «охлаждает» чувства – это отдельный вопрос, к которому мы не раз ещё обратимся на протяжении нашего исследования.) Каковы были первые шаги, которые предпринял Онегин, чтобы выбраться из хандры? Прежде всего он попробовал писать – «но труд упорный Ему был тошен; ничего Не вышло из пера его». Что значит «труд упорный» с точки зрения Пушкина – нам уже известно. Онегин стал размышлять, однако ни навыков, ни опыта подобной духовной работы ещё не было в той степени, в какой требовало серьёзное отношение к возникшей экзистенциальной проблеме. А между тем он начинает осознавать свой недуг именно как мировоззренческий кризис, требующий не смены развлечений, а изменения образа мыслей. Неукротимое стремление к «порядку», подвластному единственно сознанию, но не «игре страстей», влечёт Онегина к «похвальной цели»: «Себе присвоить ум чужой». Отрядом книг уставил полку, Читал, читал, а всё без толку: Там скука, там обман иль бред; В том совести, в том смысла нет; На всех различные вериги; И устарела старина, И старым бредит новизна. Как женщин, он оставил книги И полку, с пыльной их семьёй, Задёрнул траурной тафтой. Итак, ни «ум чужой», ни попытка жить своим умом не помогли Евгению, ориентированному на «совесть и смысл», радикально ликвидировать мировоззренческий вакуум, разобраться в себе, понять себя, выработать приемлемую жизненную стратегию, Онегин получил пока что отрицательный результат. Необходим был дальнейший поиск в многотрудном деле познания себя и других. Прежде чем идти дальше вслед за героями произведения, отметим совершенно уникальный характер общего смыслового и стилистического строя романа в стихах. Пушкин создал многочисленные образцы («Онегин» – в числе лучших) аналитической поэзии (т.е. как бы не поэзии), где мысль таится не в смутных образах-символах, а в чеканных образных формулах. 27 Тяготение к ёмким словесно-художественным формулам, к «поэзии живой и ясной» – отличительная и достойная восхищения особенность первого российского поэтического гения. Общая концепция живёт и «сквозит» в афористически сжатых, точных по мысли и обманчиво простых поэтических строках. Именно за счёт «формул» создаётся эффект смысловой глубины, интеллектуальной насыщенности и вместе с тем простоты и «очевидной» доступности. Вот почему, в идеале, надо комментировать почти каждую строку, которые буквально пропитаны мыслью. Верная по отношению к реальной природе человека художественная установка Пушкина – видеть и ощущать диалектическое единство противоположностей – осуществляется сочетанием разнонаправленных стилевых приёмов, что придаёт пушкинским прозрачным формулам характер уникального сплава, который можно определить как общий идейноэмоциональный тон или пафос повествования. В только что цитированной ХL1V строфе первой главы (как, впрочем, и во многих предыдущих и последующих), поэтически легко, непринуждённо и изящно обрисована трагическая ситуация. Ироническая интонация повествователя, поддержанная ритмом, явно противоречит серьёзности действительного положения дел, отражённых в точных формулировках: И снова, преданный безделью, Томясь душевной пустотой, Уселся он – с похвальной целью Себе присвоить ум чужой. И т.д. Тут нет небрежности или непродуманности. Противоречие создаёт необходимый автору трагикомический (трагикосатирический или трагикоиронический) «сплав». Автор, как мы знаем, имеет моральное право «несерьёзно» отнестись (точнее, скрыть за иронией серьёзность, оберегая своё достоинство) к проблемам друга, ибо это были и проблемы автора. Если мы правильно оценим взятый лирическим героем псевдоигривый тон, мы верно оценим положение, в котором оказался Онегин. Он остался один на один с реальной проблемой (планируемое совместное путешествие – «Онегин был готов со мною, Увидеть чуждые страны» – оказалось бы классическим бегством от себя, в несколько романтическом духе), которая пока не стала вопросом жизни и смерти, однако, как и всякое противоречие, была обречена на эволюцию, определяемую внутренней логикой проблемы. Судьба уберегла Евгения от фальшивого жеста (бегства от себя) и развела его с автором «на долгий срок». («Судьба Евгения хранила», как мы помним, и в детстве; и сейчас он не оставлен её милостями: как нельзя более вовремя получает наследство презираемого им дяди.) Оставшись подчёркнуто одиноким, Онегин идёт своим путём. И путь его не случаен, а закономерен – тем и интересен автору. А пока что, в конце первой главы, 28 Онегин довольствуется тем, «что прежний путь Переменил на что-нибудь»: стал «сельским жителем». «Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей» – одна из очень ёмких и, конечно, противоречивых (т.е. по-настоящему глубоких) формул. (Ср. Х1V строфу второй главы: Хоть он людей, конечно, знал И вообще их презирал, – Но (правил нет без исключений) Иных он очень отличал И вчуже чувство уважал. Почти на каждую пушкинскую формулу в романе можно отыскать контрформулу, на цитату – контрцитату. Всё это лишний раз подтверждает относительный, конкретный характер авторских деклараций. Они всегда верны – но в строго определённом отношении: либо как правило, либо как исключение; и потому – неизбежно противоречивы.) Блестящие сентенции, будучи итоговыми «сгустками» смысла, почти всегда пропускают логические звенья, из которых складывается формула. Идентично, по сходной «технологии» выстраиваются и личности героев, формируются их духовные лики. С одной стороны, это вполне естественно: перед нами художественная модель, а не трактат о душе. Однако модели бывают разные. Пушкин даёт нам лаконичный эскиз духовных обликов; анализируя итог, результат, мы можем лишь догадываться о процессе формирования эскиза, который (процесс) намеренно оставлен «за кадром». Иначе говоря, Пушкин демонстрирует модель, увиденную со стороны. Вот почему так важна субъектная организация романа в стихах: стихи придают художественной модели особый характер, заставляя сосредоточиться не на аналитическиразъясняющем начале (что было бы одновременным автокомментарием модели), а на целостности, внутренней полноте и самодостаточности; скупой автокомментарий, по закону художественной компенсации, требует развёрнутого комментария «со стороны». Этим и вызвана к жизни фигура почти реального автора. Кроме того, связка автор – герой, где система ценностей автора более универсальна, чем у героя, в сочетании с поэтической стихией даёт уникальные творческие возможности. В частности, Пушкин добивается ещё одного, крайне важного для него эффекта: герой подан как загадка, как тайна из области «быть или не быть». Скупой, избирательной информацией, явно не исчерпывающей сложность переживаемых проблем, автор как бы предостерегает читателя: об этом не болтают, это слишком серьёзно и больно. Это зона духовного риска. Такой подтекст вызывает ассоциации с могучим шекспировский бескомпромиссным правдоискателем – принцем Датским. Начав «мыслить» (заметим: не думать, рассуждать, размышлять и т.д., а именно «мыслить», философски пробиваясь к сути вещей) и, 29 следовательно, получив достаточно оснований, чтобы «презирать людей», и, следовательно, презирать себя, поскольку ещё вчера был с ними заодно, «с толпою чувства разделяя», – Онегин решительно обращается лицом к природе. Это, конечно, не смена декораций, а смена ориентации. (Сюжетный ход внутренне логичен: он является симптомом интенсивного поиска; но, как обычно, мотивации «выпали» из круга внимания автора, который предоставляет читателю сотворчески восстанавливать недостающие звенья.) Отвергая социум, отвергая культуру, Онегин пытается противопоставить ей единственно возможное: натуру (природу). Правда, сам Онегин уже на третий день захандрил среди «уединённых полей», «прохлады сумрачной дубровы», «журчанья тихого ручья», отнесясь к смене места жительства, в конечном счёте, как к смене декораций. И всё же автор именно оппозицию «натура – культура» делает ключевой для всего произведения, видя здесь корни и хандры Онегина, и мировоззренческую альтернативу. Именно в отношении к природе автор «рад заметить разность» между ним и Онегиным. Во второй главе, которая тоже является моментом целого, непосредственно вытекающим из момента предыдущего, Пушкин приступает к последовательному развёртыванию, раскрытию противоречий, определяющих закономерности духовной жизни и героев романа, и, как постепенно выясняется, человека как такового. Что делает скучающий Евгений? Если бы он довольствовался маской разочарованного, то о нём и не стоило бы писать роман, да он и не годился бы в герои столь сложно организованного романа. Преданный безделью («Чтоб толь время проводить»), Евгений вместе с тем пребывает в процессе активного духовного поиска. Симптомы его (взгляд со стороны видит лишь симптомы, по которым можно судить о процессе), тщательно отобранные и сопоставляемые, и составляют смысловой стержень второй главы. Сперва задумал наш Евгений Порядок новый учредить. Евгений (кстати: во второй главе наш герой преимущественно называется Евгением) уже – «наш», что надо считать не свидетельством бестактности автора, навязывающего нам «друга», а выражением доверия к проницательному и благосклонному читателю-единомышленнику, способному оценить незаурядную одаренность героя. Задуманный порядок, конечно, не является тем мировоззренческим порядком, о котором мы говорили ранее. Однако общая установка на порядок проявилась и в хозяйственно-экономических нововведениях, за что Евгений тут же поплатился, заработав репутацию «опаснейшего чудака», а затем «неуча» и сумасброда-отшельника. Мнение «всех» сельских законодателей столь же комично, как и вердикт столичного света, куда в своё время принимали 30 Онегина; но тогда глупость людей была его союзником, теперь же он становится её жертвой. О человеке, если уж мы заговорили о симптомах, могут многое сказать его вещи, поступки, друзья. Принцип прост: скажи мне, кто твой друг (что ты читаешь, как ты ведёшь хозяйство, как ты одеваешься и т.д.) – и я скажу, кто ты. В друзья Онегину, что глубоко и тонко согласуется со всей концепцией романа, «достался» «красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт» (рифма, спешу заметить, оживляет закреплённый за ней мотив сонной, отвергнутой жизни). Владимир Ленский в известном смысле находится на том этапе духовного развития, на котором ещё вчера находился Онегин. Ленского не окружали «столы» (разве что письменный стол, о наличии которого можно лишь догадываться); однако в главном, определяющем он был человеком комическим, всецело подвластным «страстям», пусть и благородным. И мира новый блеск и шум Ещё пленяли юный ум. Очередная блестящая психоаналитическая формула: «Ум, ещё в сужденьях зыбкой» (развитие формулы), находится в плену «блеска и шума», в плену чувственно-эмоционального восприятия. Отсюда – многочисленные формулы страстей, вытекающие из главной: Он сердцем милый был невежда, Его лелеяла надежда ................................... Он забавлял мечтою сладкой Сомненья сердца своего. ................................... Негодованье, сожаленье, Ко благу чистая любовь И славы сладкое мученье В нём рано волновали кровь. Творчество его, естественно, отражает Всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты. И т.д. Это как раз те самые «различные вериги» (идеологические, конечно, вериги), та самая идеализация человека, когда желаемое искренне выдаётся за действительное; возможна она только при условии дремлющего, незрелого ума. Вместе с тем вериги (надежды и мечты), сильно греша против истины, всё же не могут не пленять своей наивной чистотой, являя нам, возможно, лучшие стороны человека. Лучшие – но «минутные», преходящие. Евгений, согласно тонкому комментарию автора, уложившего, разумеется, свои 31 наблюдения в изысканные по простоте формулы, – наш Евгений блестяще разобрался во всей этой человеческой, насквозь противоречивой стихии: Он слушал Ленского с улыбкой. ..................................... Он охладительное слово В устах старался удержать И думал: глупо мне мешать Его минутному блаженству; И без меня пора придёт; Пускай покамест он живёт Да верит мира совершенству. Анализ начальной фазы отношений двух пустынников – одно из самых ярких свидетельств человеческой состоятельности Евгения Онегина, значимости его личности, глубины натуры. При желании этот анализ, если бы он не был настолько демонстративно анализом, можно было бы рассматривать как сдержанное признание в дружбе и любви третьего пустынника – автора. (В данном контексте вполне ясным становится смысл снисходительно-иронического авторского эпиграфа к первой главе, относившийся к Онегину, который во времена своей легкомысленной юности во многом напоминал теперешнего «страстного» Ленского: И жить торопится, и чувствовать спешит.) Но сам автор сочтёт более подходящим для откровенного признания другой момент. Сразу после трагической кончины Ленского (к которому ещё совсем недавно с высшей степенью человечности отнёсся Онегин) автор проронил: «Хоть я сердечно Люблю героя моего..».. Странно, не правда ли? Как видим, Пушкин (конечная мировоззренческая инстанция) не просто обнаружил и противопоставил «ум» – «сердцу»; это и до него делалось многократно. Он показал, как одно вытекает из другого, он разъяснил, что одно без другого – не существует; он художественно доказал, что всё познаётся в сравнении и существует только в движении, в процессе развития. Всё рождается движением, есть момент движения и растворяется в движении. В человеке, особенно богато одарённом, нет «беспримесных» и неизменных качеств, поэтому противоречивое их отображение является одновременно адекватным отражением. Непротиворечивый же, идеальный взгляд на человека становится источником вериг независимо от чистоты намерений. Такова пушкинская модель человека, в которой благие намерения превращаются в вериги, проза – в стихи, пламень – в лёд, автор – в героя, дружба – во вражду, равнодушие – в любовь и т.д. Дав множество намёков, скрытых «противоречивых» ходов, Пушкин чем дальше, тем яснее обнажал оборотную сторону любого душевного жеста. Пусть бегло, вскользь, в скобках, но непременно будет указано (это 32 делают герои-философы: автор и Евгений) на диалектическую изнанку состояния, намерения. Вот примеры из середины романа, из четвёртой главы: Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей; ..................... Где скучный муж, ей (жене – А.А.) цену зная, (Судьбу, однако ж, проклиная), Всегда нахмурен, молчалив, Сердит и холодно-ревнив! ..................... Враги его, друзья его (Что, может быть, одно и то же) Его честили так и сяк. В пятой главе автор, аналитически внедряясь в загадочную душу человека (в т.ч. в женскую душу), «роняет» коренную формулу, к которой восходят все иные формулы, применяемые к частным случаям. Пушкин обобщает: Что ж? Тайну прелесть находила И в самом ужасе она (Татьяна – А.А.): Так нас природа сотворила, К противуречию склонна. Что же объединяет все названные (и, естественно, не названные, но присутствующие в романе) противоречия разных порядков и уровней? Вопрос может звучать иначе: что составляет суть недуга главного героя ключевого романа русской литературы? Все духовные противоречия являются модификациями, разными ликами одного кардинального противоречия – между психикой и сознанием (сердцем (душой) и умом в поэтической терминологии), делающим человека одновременно великим, комическим и трагическим. «Взаимная разнота» (творящая, добавим, целостную модель, держащуюся именно на противоречиях) психики и сознания в личности, личности и «толпы», личности и личности – вот истинный предмет Пушкина. Не Онегин его интересует, а сущность или природа человека, ярко и отчётливо проявившаяся в Онегине. «Взаимная разнота» – двигатель всего, поэтому у романа есть и космический план, вселенский подтекст, намёк на связь всего со всем (ритм времён года, высокая городская культура (от Гомера – до современного романа) и вечная природа, мужчина и женщина, мыслитель и поэт и т.п.). 33 С этих позиций мы и будем оценивать все человеческие контакты Евгения, ставшие фактором его эволюции. «Склонность к противуречию» – это не просто «холодное наблюдение», но полнокровно переживаемое трагическое мироощущение, которое явилось следствием акта познания себя. Подобные открытия делаются в состоянии, которое Печорин, откровенно ведущий свою родословную от странного героя Пушкина, впоследствии удачно определил как «высшее состояние самопознания» («Княжна Мери»). Стихотворный роман, конечно, реалистичен, но реализм его видится прежде всего не в том, что ему удалось отразить «социальное разочарование» и всё углубляющийся «скептицизм» [14], что он верно отразил «социальную коллизию... эпохи» [15], а в том, что духовноидеологическое измерение человека показано в зависимости от витального и социального. Причём комплексное воздействие на человека показано всесторонне и в принципе не сводимо к социальной, да ещё понимаемой как классово-социальная, доминанте. Делать Онегина символом реакционного и прогрессивного противостояния конкретных социальных сил конкретной эпохи – значит безнадёжно обеднить реальное содержание романа, да к тому же существенно исказить суть великого конкретно-исторического принципа познания. Конкретно-исторический – значит не только «классово-социально конкретно-исторический» (подобная абсолютизация одной коллизии – ортодоксально идеологична), но и духовно-исторический, Вечно-духовное тоже всегда имеет конкретно-исторический облик. И гениальность художника заключается в том, сумеет ли он разглядеть за коллизиями конкретно-историческими (социально-политическими, моральными, экономическими, религиозными и т.д.) вечную коллизию человека, сквозь преходящее – вечное. Что главное, какая система ценностей является определяющей? – вот в чём вопрос. Социальная коллизия в «Онегине» – второстепенна, хотя и вполне отчётливо ощутима. Глубина реализма заключается в степени приближения к действительной глубине и сложности природы человека, в степени овладения логикой генезиса, механизмами формирования и развития личности. С этой точки зрения и классицизм, и романтизм, и модернизм и т.д. – в известной (всегда разной) степени реализм, но реализм, сильно искажённый моноидеологией, отражающей только лишь одну из сторон многогранного человека. Всё это можно было бы назвать «идеологическим реализмом», учитывая то, что элементы реализма всегда присутствуют. Реализм как таковой тяготеет к внеидеологическому подходу или по крайней мере стремится выработать некую универсальную сверхидеологию, в рамках которой уживались бы и «снимали» противоречия идеологии, тенденциозно «сужающие» реального человека. 34 Из-за опасной по отношению к идеолгии (как правило, господствующей идеологии) аналитической установки классический реализм короновали невиданным для искусства определением: критический. Степень реализма, как это следует из его разбора, т.е. степень его идеологической ангажированности, – всегда разная. Универсальная система ценностей, выстраиваемая как принципиально внеидеологическая система, в искусстве чрезвычайно редка. Такой подход – предел искусства – можно охарактеризовать как оптимальную абсолютизацию критическоаналитической установки, т.е. установки собственно научной. Степень реализма пушкинского романа – беспрецедентна для мировой литературы. Активно скучающий Онегин, если угодно, ищет ту систему ценностей, которая могла бы хоть как-то удовлетворить критериям величия, соответствующим мере его понимания. Один из пиков духовного развития Евгения Онегина приходится на то памятное «северное лето», когда наш герой жил «анахоретом» (глава четвёртая). Он неоднократно «явил души прямое благородство»: и в отношениях с Ленским, и в отношениях с Татьяной Лариной, от которой получил письмо-признание в любви. Это был момент относительной гармонии и внутреннего равновесия, когда Онегин предался «беспечной неге». «Вот жизнь Онегина святая», – резюмирует автор. Однако «красные летние дни» мелькнули и сменились своей противоположностью: «И вот уже трещат морозы» (таково противоречивое единство мира). Онегин «вдался в задумчивую лень». Но задумчивость эта не была ещё разрушительной ни для него, ни для людей его окружающих. Напротив: именно в эту зиму он был согрет дружбой Ленского. Евгений терпимо (до мудрости ему было ещё далеко) относился к людям, которые считали себя счастливыми, прекрасно осознавая подоплёку такого их душевного состояния. В заключительной строфе четвёртой главы Пушкин в своём неподражаемом художественно-аналитическом стиле даёт сначала формулу-образ счастливца, а затем его антипода, терзающегося от комплекса «горе от ума»: Он (Ленский – А.А.) был любим... по крайней мере Так думал он, и был счастлив. Стократ блажен, кто предан вере, Кто, хладный ум угомонив, Покоится в сердечной неге, Как пьяный путник на ночлеге, Или, нежней, как мотылёк, В весенний впившийся цветок... Счастливое состояние Татьяны складывается из тех же извечных психологических (иррациональных) компонентов: – веры, надежды, любви: 35 Ты в ослепительной надежде, Блаженство тёмное зовёшь, Ты негу жизни узнаёшь, Ты пьёшь волшебный яд желаний, Тебя преследуют мечты... (В заключительной сцене романа Татьяна скажет: «А счастье было так возможно, Так близко!.».) Онегин понимает, что счастье «преданных вере» и «ослепительной надежде» (реальность, как мы знаем, не соответствует из желаниями) – удел человека комического, слепо идущего на поводу у потребностей и видящих только то, что хочется видеть. Однако и человек мыслящий платит также посвоему роковую цену за «благо» прозрения: Но жалок то, кто всё предвидит, Чья не кружится голова, Кто все движенья, все слова В их переводе ненавидит, Чьё сердце опыт остудил И забываться запретил! Что значит «движенья» и «слова» в их «переводе»? И почему их надо «ненавидеть»? Перевод движений и слов души может быть только на язык мысли, которая безжалостно обнажает перед сознанием (решающим завоеванием культуры) «жалкий» механизм веры. Человек всякий раз вынужден признаваться себе, что он игрушка страстей, что он раб природы, которая вуалирует жесткий диктат под «благородными порывами». Поэтому мыслящий человек обречён ненавидеть себя комического – и в этом он велик. «Ненависть» делает его в чём-то свободным от природы, ибо он «предвидит» порядок её действий; но он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. В этом – источник его трагизма. Счастье возможно только в обмен на величие; великая, мыслящая, разумная личность – обречена на трагизм («жалок тот»). Если принять во внимание амбивалентную интонацию, совмещающую полярную семантику, то «жалок» – взгляд «стократ блаженных»; лукавый же авторский гимн «пьяным путникам на ночлеге» – на деле является убийственной характеристикой безмозглым, но безобидным, «мотылькам», порхающим по поверхности жизни. Пока ещё Онегин находился в стадии «мягкого» просветлённого, пусть и не оптимистического трагизма. Но это была зыбкая, неустойчивая доминанта его жизни. Далее начинается принципиальное расхождение с автором, избравшим, как мы убедимся, иной вариант развития той же ситуации горе от ума. Впрочем, нам неизвестно, удалось ли автору в 36 возрасте и ситуации Онегина избежать его зигзагов, и не были ли именно эти зигзаги ценой очередного прозрения автора. В конце шестой главы автор, не осуждая впрямую своего любимого героя (тут мы вполне оценим реплики вроде следующей: «Сноснее многих был Евгений»), даёт, тем не менее (истина – дороже), свой, характерно пушкинский вариант прощания с юностью, которая кончилась, как и у Онегина, тогда, когда «сладкие мечты» сменились «хладными мечтами»: Мечты! Мечты! Где ваша сладость? Где, вечная к ним рифма, младость? Обратим внимание: нет ехидной вражды к комизму, похожей на самобичевание; есть естественное сожаление: Познал я глас иных желаний, Познал я новую печаль; Для первых нет мне упований, А старой мне печали жаль. И, наконец, отношение к неизбежному, примирение с непоправимым: Но, так и быть: простимся дружно, О юность легкая моя! Благодарю за наслажденья, За грусть, за милые мученья, За шум, за бури, за пиры, Благодарю тебя. Тобою, Среди тревог и в тишине, Я насладился… и вполне; Довольно! С ясною душою Пускаюсь ныне в новый путь От жизни прошлой отдохнуть. «Новый путь», «новая печаль», «иные желания» – вот перспектива, исполненная разумно-оптимистического трагизма. Простившись с юностью, автор, понимая, что жизнь и глупость, младость и страсть – едины и неделимы, настойчиво заклинает «младое вдохновенье»: Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь, И, наконец, окаменеть. Автор как бы вскользь (все серьезное в трагикомическом романе говорится бегло или в шутку) демонстрирует нам удивительное отношение, крайне редкое, хотя, в сущности, нормальное: с достоинством принимать естественный ход вещей и при этом называть вещи своими именами. Именно такое отношение позволяет ему не ронять нравственный свой авторитет, не боясь при этом признаваться в слабостях. Между прочим, впервые мотив должного отношение к «легкой юности» и понимания ценности комизма прозвучал еще в конце второй главы: 37 Покамест упивайтесь ею, Сей легкой жизнию, друзья! Ее ничтожность разумею И мало к ней привязан я; Для призраков закрыл я вежды; Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда... Между прочим, тогда же, уйдя от «мятежной власти страстей», Онегин говорил о них «с невольным вздохом сожаленья». Однако всё меняется роковым образом в пятой главе. Многослойный смысловой контекст для последующего сюжетного хода выписан настолько тщательно и продуманно, что содержательность его гораздо более значительна, чем вмещает сюжетный ход как таковой. Ленский вызывает Онегина на дуэль из-за дерзкого и, как показалось влюблённому поэту, оскорбительного поведения Евгения на балу в честь именин Татьяны. Онегин принимает вызов и убивает друга. Внешне всё выглядит случайным и маломотивированным. И тем не менее «суммы смыслов» и в этом моменте целостного романа поражают целенаправленной сконцентрированностью. Прежде всего самим именинам и последующим событиям предшествует пророческий сон Татьяны. Сон, несомненно, художественно неоднозначен и многопланов, однако главное в нём лежит едва ли не на поверхности: он подчёркивает иррациональность, необъяснимость событий, их хаотическую импульсивность, неподвластную уму. Не мистическая предсказанность впечатляет более всего, а именно реализация нелепого, «чудного», «страшного» сна (вспомним, что означает жизнь есть сон). Что произошло? Что послужило первопричиной столь неожиданных событий? Причина будет уяснена тогда, когда мы оценим момент судьбы Онегина в контексте его жизни как завершённого целого. Итак: Чудак, попав на пир огромный, (т.е. за стол – А.А.) Уж был сердит. «Траги-нервическая» реакция Татьяны ещё более раздосадовала «чудака»: Надулся он и, негодуя, Поклялся Ленского взбесить И уж порядком отомстить. Онегина, казалось бы, раз и навсегда избавившегося от «мятежной власти» страстей, вновь захлёстывает волна эмоций. Причём он попал под чары самых низменных, капризно-эгоистических (все страсти по природе своей эгоистичны) страстей. На смену хандре и скуке – взрыв агрессивных чувств. Где логика: за что надо «порядком» мстить несчастному Ленскому? За то, что тот за дружеским бокалом вина передал ему приглашение Лариных? 38 Это, конечно, повод, нелепый, как сон, и только на первый взгляд имеющий логическую форму. Сам характер и, так сказать, стиль мести многое говорит об истинных причинах, вызвавших её. Сначала двусмысленный, «чудно нежный» взор очей в сторону Татьяны; потом, согласно «науке страсти нежной», по всем правилам флирт с Ольгой. Ленский мой Всё видел: вспыхнул, сам не свой; В негодовании ревнивом Поэт конца мазурки ждёт. Цепная реакция гибельных эмоций мгновенно докатилась до естественной своей высшей точки: «нетерпеливая вражда» неминуемо кончается взаимоистреблением. Пистолетов пара, Две пули – больше ничего – Вдруг разрешать судьбу его. Рецидивы страсти вновь превратили Онегина в человека комического, легко опрокинув уже сформировавшиеся представления о том, что значит быть «мужем с честью и умом». Причём в Онегине взыграло самое тёмное, животное начало (он «ощетинился как зверь»). Вдруг, внезапно, без видимой причины его взманило «смертельное». Невидимая же, подспудная причина (если мы правильно подобрали ключ к зоне, где формируются мотивы поступков) заключается в следующем. Очевидно, Онегин в тот период, в отличие от умудрённого автора, так и не смог найти формулу сосуществования и взаимообогащения «сердца» и «ума». «комизма» и «величия». Ум лишь выставлял Евгению человека в «идиотском» свете, компрометировал неразумную жизнь, только лишь «ненавидя» унижающие мыслящего «мужа» уловки (мечты, надежду, веру, любовь, счастье), но не разглядел в глупой жизни союзника умному человеку. Онегин, иначе говоря, развёл психику и сознание (уже эта духовная вершина даётся очень и очень немногим: «Немногих добровольный крест»; понимая это, автор сполна воздаёт должное своему герою), но далее констатации «взаимной разноты» не пошёл. Он поставил психику и сознание к барьеру, видя в них непримиримые начала, не понимая того, что они могут ужиться в человеке и стать источником «новой печали». Величественная трагедия как норма (умножая мудрость – умножаешь печаль) – до этого наш герой, увы, ещё не дошёл. Глубинная ошибка Евгения, если уж нам, следуя авторской традиции, называть вещи своими именами, состоит в том, что он сделал ставку на интеллект, разочаровавшись в человеке комическом. Прозрение его приняло форму недуга именно потому, что он, обретя в разуме достоинство, поставил вопрос: или – или. Постигнув идею «порядка», он стал настойчиво искать 39 разумную систему ценностей, которая могла бы привести его к счастью. Однако жизнь и судьба (а если уж быть точным – вся человеческая культура) предлагала ему, умному человеку, представление о счастье только в одной форме: в форме идеологии. Хочешь быть счастливым – верь в свои иллюзии, в «призраки». Ни одна идеология не устраивала героя. Более того: идеологический уровень сознания как таковой исчерпал свои мировоззренческие возможности, перестал быть генератором мировоззренческих стратегий. Идейный тупик был вызван не тем, что личность не смогла найти точку опоры в виде приемлемой идеологии, а тем, что «идеологическое мировоззрение» (верю, потому что мне так кажется) обнаружило свою комическую, психо-эмоциональную зависимость. «Ума холодные наблюдения» уже не могли уживаться с жалкими миражами. Позднее Онегин в письме к Татьяне признаётся: Я думал: вольность и покой Замена счастью. То есть счастья – нет. Само по себе изживание могло быть и благотворно (автор отсылает нас к универсальной точке отсчёта: своей судьбе). Однако на какой основе, с каких позиций отрицает Онегин «природного» человека? С позиций отчаяния, бесперспективности, неконструктивности. Онегин утратил (а может быть, так и не приобрёл) целостность человека. Потворствуя холодному уму, «честно» лишая себя малейших иллюзий, разоблачая «однообразие» страстей – он лишал себя жизни. Остывание, охлаждение чувств – симптом укрепления ума, противостоящего жизни. Таков классический, с точки зрения не доверяющих разуму, эффект «горя от ума», когда абсолютизированный ум несёт только горе живому человеку. (Обратный эффект, когда более взвешенное и менее идеологизированное обращение с тем же коварным разумом помогает разогнать унизительные потёмки души и при этом умудриться не встать в оппозицию жизни – зрелое сознание интерпретирует психику как «сук», на котором он располагается и рубить который, естественно, противопоказано – не считается классическим в силу своей немассовости, штучности, а значит незаметности на фоне основного отрицательного эффекта.) Впоследствии это дало основание таким корифеям, как Толстой и Достоевский, страстно разоблачать разум как весьма несовершенную и сомнительную основу духовной гармонии. Ничего удивительного, что Онегин диалектически взорвался. Жизнь оказалась хитрее «голого» разума. Тщетно ожидая от ума жизненной подпитки, того порядка, который позволил бы естественно жить и эмоциональной сфере, натура властно отбросила враждебный «хлад» ума и 40 ввергла вчерашнего философа-интеллектуала в пучину страстей: только таким способом можно было возвратить его к жизни. Умный человек должен искать спасения в глупости – до этой «высшей смелости» Онегину надо было ещё дойти. Такая смелость есть результат не просто логического хода – а особый этап духовного развития. А пока что все пробудившиеся силы души Онегин направляет на уничтожение ненавистной жизни: на уязвление любви, на разрушение чувств поэта. Ленский с его комплексом «младости» непереносим именно как символ вселенской глупости и одновременно торжества жизни. (Кстати, в этом Онегин был глубоко прав. Набрасывая два варианта духовной судьбы, автор в первом случае говорит о Ленском как о поэте, в ком «погиб животворящий глас», во втором – его ждал «обыкновенный удел»: как у всех. Оба варианта – разные стороны человека комического, в ком никогда не возобладает разум.) Характерна реакция на картель (т.е. письменный вызов): Онегин с первого движенья, К послу такого порученья Оборотясь, без лишних слов Сказал, что он всегда готов. Евгений не раздумывает. Между действием и душевным импульсом уже нет не то что рефлексии, но даже и элементарной цензуры здравого смысла. Философ Онегин не просто убивает поэта Ленского (дуэль происходила «как в страшном, непонятном сне»); он убивает (или пытается убить) Ленского в себе. И только после кровавой дуэли выясняется, что жизненное начало неистребимо и его невозможно компенсировать никаким пониманием, осознанием и т.д. Онегину остаётся только жестоко раскаиваться. Отношения Онегина с Татьяной также подчинены «плану», логике становления духа – самому главному и важному из всего, что происходит с человеком в жизни. Всякое значительное произведение искусства (отдаёт себе автор в этом отчёт или нет) зиждется на серьёзной концепции. Разумеется, исследователя художественного произведения всегда подстерегает опасность увлечься «красотой» концепции (своим детищем) и подгонять под неё полифункциональную символику, жонглируя цитатами и контрцитатами. Однако коль скоро концепция всё же объективно присутствует в целостно организованном произведении, то обнаружение её становится первостепенной задачей, невзирая на возможные субъективные искажения исследователя. Иного пути постижения творений художника просто не существует. В данном случае отношения Онегина с Татьяной, вплетаясь оригинальным рисунком в бесконечный жизненный узор, непринуждённо и 41 естественно «ложатся» в концепцию. Более того, их отношения можно считать центральным «узлом», требующим для раскрытия своей экзистенциальной глубины контекста всего романа. Взаимоотношения героев, если их принять за точку отсчёта при анализе целостного произведения, – загадка, которую разрешает весь роман. Но поскольку мы уже нащупали ключ к роману, то загадка так и не станет загадкой, придавая вместе с тем необходимую ясность, стройность, смысловую полноту и завершённость «воздушной громаде» (А. Ахматова). В предпоследней строфе произведения автор назвал Татьяну «мой верный идеал» и тем самым, казалось бы, противопоставил её своему беспутному другу, который в идеалы, конечно, не годится. Но ничто так не противопоказано роману, ничто не является менее органичным способом его постижения, нежели формальная логика. Какова рыба – такова должна быть и сеть. Простоту, изящество и «воздушность» формул следует рассматривать не только в ближайшем, локальном контексте, но и в контексте концептуальной «громады», придающей любому «летучему» смыслу бытийный, вечный оттенок. Любой пушкинский тезис, как уже было отмечено, чреват антитезисом. Причём верными (совмещение несовместимого) являются оба – но в разных отношениях. Так устроены универсум, жизнь, человек, роман в стихах, автор, читатель. Так и отнесёмся к «верному идеалу». В этой связи вспомним: кто есть главный герой романа? В шутливой форме, обыгрывая как искусственную дань классицизму (иначе говоря – маскируя серьёзность), автор сам позаботился о том, чтобы точно расставить акценты. В заключительной строфе седьмой главы, оставляя тему «милой Татьяны», как бы импровизирующий автор в очередной раз подтверждает, что он ни на мгновенье не отходит от громады концепции: И в сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о ком пою... ............................... Пою приятеля младого И множество его причуд. Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза! И, верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне вкось и вкрив. ……………………… Я классицизму отдал честь: Хоть поздно, а вступленье есть. В шутке есть доля шутки, но обратимся к серьёзной её стороне. Никакого блуждания нет, есть строгий и продуманный курс. «Вступленье», то есть концептуальная установка, ощутимо присутствует везде и во всем. 42 Настоящим идеалом (если это выражение в данном случае уместно) является Евгений Онегин – один из тех немногих, кто мужественно избрал путь разума. Татьяна никак не проявила себя в качестве человека, трагически обречённого в схватке двух стихий: чувства и интеллекта, жизни и смерти. Автор – честь ему и хвала – говоря о Татьяне, не умалчивает лицемерно о разноприродных духовных и жизненных функциях мужчины и женщины – но определённо подчёркивает необходимость дифференциации двух противоположных начал. О Татьяне Лариной автор говорит именно как об идеале женщины, В чём суть идеала? По-своему органично он проявился уже в Ольге, между прочим, родной сестре Татьяны. Расхожий типаж («кокетка, ветреный ребёнок» – замечание, точнее, как всегда у Пушкина, глубоко продуманная характеристика, тем более ценно, что вырывается из уст влюблённого Ленского), он важен именно тем, что это типаж: всецело комический человек, которому неведомы раздирающие душу противоречия сердца и ума, поскольку сердце женщины так устроено, что не допускает появления равновеликого оппонента. «Ум с сердцем не в ладу» (суть формулы «горе от ума») в женской интерпретации подвергается существенной корректировке: сердце всегда право (более фривольно, но не менее точно: если женщина хочет...). Разумеется, Татьяна не только не лишена своего «родового» признака, но он даже усилён совершенно особым, только ей присущим шармом. «Комизм» человеческой натуры если не абсолютизированно, то наиболее полно и глубоко проявляющийся именно в женщине (вспомним, кстати: Онегин в своё время был «подобен ветреной Венере»...), в Татьяне обрёл привлекательную цельность и гармоничность. Она – естественный продукт природы. «Всё тихо, просто было в ней»: даже высший свет своей культурой не изменил её натуры. Она – продолжение природы (ни больше, ни меньше: см. прописанные в деталях условия жизни и воспитания), её орган и наиболее восхитительное проявление: со стихийными зачатками величия (отсюда – недетская задумчивость, склонность к глубоким, «умным чувствам», потрясающая интуиция, позволяющая выделить именно Онегина, и даже предчувствовать его судьбу). Ум же – дело сугубо мужское. Наделив Татьяну «недугом», автор сам бы развенчал свой идеал. Но умный автор этого не сделал. Общаясь с женщиной – общаешься с природой. Вот почему Онегин, отторгая природу, отверг и совершенства Тани. Дело не в том, что Онегин оказался не на должной высоте и недооценил Татьяну (он как раз знал ей цену: Нашед мой прежний идеал, (какое согласие с автором!) Я, верно б, вас одну избрал 43 В подруги дней моих печальных...); дело в том, что он оказался не готов к союзу со своей собственной «комической» изнанкой, своей первой природой (и, разумеется, с возможной невестой). Кстати, автор и здесь (не без мягкой иронии) с ним согласен: Меж тем как мы, враги Гимена, В домашней жизни зрим один Ряд утомительных картин... Ирония относится вот к чему: на то же самое можно посмотреть иными глазами; правда, для этого надо стать иным (искушённый автор, как всегда, духовно опережает растущего Онегина). Преображение Онегина (возвращение к старому – на новый лад, что и является, собственно, полноценным обновлением) началось уже до дуэли; дуэль укоренила перелом; завершился же цикл становления духа в столице, в свете – там, где Евгения настигла хандра и вынудила покинуть город. Круговое построение сюжета, подобно диалектической спирали, символизирует целостность, завершённость, самодостаточность – и вместе с тем открытость, готовность к обновлению. Присмотримся к скупому, но информационно очень насыщенному авторскому комментарию возвращения к истокам. Появление блудного Онегина свет – неизменный, самотождественный, вечно комический свет( т.е. практически – все люди), не изведавший школы разума – встречает, как и следовало ожидать, «неблагосклонно». С точки зрения света, трагическое прозрение равнозначно шутовскому «корченью чудака». (Поистине свет сошёл с ума: всё поставил с ног на голову!) Настороженный приём спровоцировал пафосную тираду, где автор решительно встаёт на сторону друга, горько осознавая, насколько тот выше «самолюбивых ничтожностей и насколько трагически одинок по причине своего превосходства. Одинок – по одной-единственной, вечно злободневной причине: он, к счастью для себя как для личности, стремящейся к самореализации (через самопознание) и таким образом выполняющей свой высший гуманистический долг, и к несчастью для себя как для одного из «избранной толпы» – непростительно, вызывающе умён и, вследствие этого, ориентирован на высшую свободу. Его, светского человека, ум и одарённость перестают быть его личным делом, поскольку предлагают иной взгляд на мир, иную систему ценностей, по сравнению с которой обычные люди «как вы да я, как целый свет», глядящие на жизнь «как на обряд», оказываются теми, кто они есть на самом деле: «посредственностями «. Онегин покушается на святая святых – на охранительную идеологию, вскрывая её насквозь комический, приспособительный характер. Онегин, скажем прямо, не просто захандрил, а стал угрожать основам жизни. Разумеется, такое не прощается. Это странно, ненормально, он «корчит чудака» или, наконец, «сатанического урода», даже «демона» (в святом деле 44 защиты жизни в выражениях можно не стесняться). Витающая тень «сумасшедшего» Чацкого («Он возвратился и попал, Как Чацкий, с корабля на бал») подчёркивает архетипичность ситуации. В широком смысле на противостояние общества и Онегина, его продукта и антипода, можно посмотреть как на «поединок роковой» психики и сознания, натуры и рациональной культуры. Если в своём духовном хозяйстве Евгений навёл относительный порядок, подчинив мятежи страстей и иррациональных порывов логическому, умственному началу (он относительно познал себя, а значит всех остальных, человека как такового), и тем самым самоутвердился, вкусив от древа познания, отделился от природы, встал над ней и просто осмелился взять принадлежащее только человеку право (кому ж ещё?) мыслить, судить – то «с точки зрения» психики (и обожествляющего витальные потребности общества) он вскормил её «врага», нарушил извечный закон жизни, передав стратегические мировоззренческие функции не диктатуре тёмных страстей, а просветляющему душу рассудку. Слепые страсти регулируют жизнь (когда разум спит), а разбуженный ум объясняет глупость страстей: Онегин проник в потаённую «механику» жизни – и замер от дерзости прозрения: Дожив без цели, без трудов До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Если приложить к герою не только иронически перечисленные мерки «обряда», но и критерии индивидуального эволюционного «темпоритма», то мы должны будем признать, что духовная содержательность жизненной паузы – отдадим должное сверхтонкости автора – несомненна. Жизнетворчество – вот чем занят бездействующий герой. Война, объявленная Онегину обществом – это война между человеком комическим (психологическим) и человеком величественным (разумным, а значит – трагическим). Эти две модели культурного человека различаются типом сознания, типом управления сложнейшим информационным комплексом под названием человек – следовательно, типом духовности. Онегин впервые честно явил миру реальные проблемы реального человека, развенчав мифические достоинства мифического человека. Культуре чувств, страстей он противопоставил культуру холодных наблюдений, увенчанный идеей порядка, общей гуманистической концепцией. «Горе от ума» имеет много смыслов: в отношении личности ум создал предпосылки величия, тут же назначив за колоссальный прорыв не всем посильную цену: отныне – трагичен; в отношении к обществу наличие ума – достаточный повод объявить человека врагом или, что хуже, сумасшедшим (вот где дьявольский ход: мыслителя – отождествить с безумцем). Стоит или 45 нет личность, сконцентрировавшая в себе главное противоречие человека и культуры (и осознававшая его как главное), того, чтобы стать героем «громадного» романа? Стоило или нет автору «Руслана и Людмилы» рискнуть репутацией и открыто встать на сторону духовности, реально освобождающей человека от миражей?? Сам факт такого романа говорит о разумной вере в безусловные достоинства и неискоренимую жизнестойкость человека. Сам роман – памятник человеку. Кстати, почему воздвигнутый «долгим трудом» памятник обрёл в конечном счёте форму романа в стихах? Пушкин прекрасно осознавал различие между романом и романом в стихах. Общеизвестная цитата из письма к П.А. Вяземскому (3 ноября 1823г.) давно стала приложением к «Евгению Онегину»: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница». Если ответить на вопрос так: Пушкин написал роман в стихах потому, что был поэт – то это будет ответ совсем не на тот вопрос, который нас волнует. Я бы даже сказал, это по-детски наивный уход от ответа. Объяснять целесообразность романа в стихах гибкостью, эстетической завершённостью онегинской строфы, способной вместить любое содержание – это тоже уход от ответа. Значит ли это, что роман-эпопея или «просто» роман менее предрасположены к гибкости, открытости к разнородному содержанию и проч.? Характеристика художественных возможностей строфы – тоже ответ совсем на другой вопрос. Да, генезис строфы, её впечатляюшие эстетические достоинства – всё это имеет не последнее значение. Однако это не объясняет главного: зачем писать непременно роман в стихах, если есть множество иных, не менее впечатляющих форм? Очевидно, избранная Пушкиным форма обладает такими уникальными возможностями и функциями (не в них ли сфокусирована та самая «дьявольская разница»?), которые идеально соответствуют уникальному материалу и ради которых имело смысл роману придать форму едва ли не антиромана. Функций таких, на мой взгляд, несколько. 1. Опоэтизировать уникальность онегинской «духовной породы». Ведь что получилось: Пушкин поэтизирует, т.е. возводит в ранг возвышенной, ситуацию горе от ума, которая по природе своей мало поддаётся взволнованному лирическому воспеванию. Однако именно это сверхзадачей и вдохновлён роман. Поэтизировать можно природу, чувства Татьяны, «милые мученья» Ленского и т.д. Аналитический же склад ума Онегина – не тот материал, который навевает вдохновенные пафосные строки. Пушкин пошёл, так сказать, косвенным путём, поэтизируя не саму ситуацию, а чувства ей сопутствующие: хандру, печаль, одиночество, трагическую 46 опустошённость, переживание бесперспективности, безнадёжной любви. В результате поэт-мыслитель создал особый поэтический ряд, раздвинув его за счёт ряда аналитического. Таким образом, уникальность ситуации востребовала уникальную поэтическую форму, а не поэтические склонности автора создали ситуацию. Иное дело, что реализовать подобную ситуацию мог действительно выдающийся поэтический гений. 2. Выделить и усилить символичность, архетипичность «странного» человека, дать лаконичную и предельно ёмкую модель – из тех, что тяготеют к вечным образам. 3. Объективные особенности лиро-эпического рода дают возможность предельно сблизить лирического героя с Онегиным. Вернёмся к линии Татьяны, отношения с которой завершили облик Онегина, сделав его символом разочарованного и в счастье, и в покое и воле, и в чувствах, и в уме – символом человека, которому достало ума, чтобы преодолеть бессознательный комизм жизни и, обретя величие, испытать глубокий трагизм; но ему не достало того же ума, чтобы преодолеть трагизм. Возвратившийся Онегин, который странствовал «без цели, доступный чувству одному» (подвижное смысловое ударение переместим на слово чувство), при первой же встрече с Татьяной, блестящей светской дамой, был сражён в сердце. Далее автор перечисляет все те симптомы, которые ещё вчера так раздражали Онегина: Мечтой то грустной, то прелестной Его встревожен поздний сон. .................................. Что с ним? В каком он странном сне! Что шевельнулось в глубине Души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Иль вновь Забота юности – любовь? Мотив «жизнь есть сон» причудливо меняет издевательскосаркастическую интонацию на страстно-серьёзную: жизнь тогда в радость, когда всё как во сне. Логика страсти заставляет Евгения совершить тысячу глупостей: В тоске любовных помышлений И день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пеням... В конце концов, «он пишет страстное посланье». Собрав остатки разума, Евгений объяснился с хладнокровной и непроницаемой княгиней: Я думал: вольность и покой Замена счастью, Боже мой! Как я ошибся, как наказан. 47 Счастье всё-таки есть, несмотря на то, что оно категория психологическая и не выдерживает критики разума. Онегин, подобно всем верующим, которые «ничтоже сумняшеся» выбирают Христа, а не истину, готов отказаться от постылого разума, «постылой свободы» в обмен на «блаженство», на жизнь. Ведь влюблённость Онегина, как и хандра его, больше чем влюблённости, а именно: возвращение к жизни, мировоззренческий прорыв, последствия которого ещё только предстояло осмыслить. А пока – пока прежние, испытанные средства против страстей утратили свою действенную силу. Онегин «своё безумство проклинает», и начинает читать «без разбора». И что ж? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желания, печали Теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками Читал духовными глазами Другие строки. В них-то он Был совершенно углублён. Ум, оказывается, способен быть спасительно-бессильным перед «воображеньем» и «магнетизмом». «В тоске безумных сожалений» Евгений падает к ногам Тани (как выясняется, «прежней», «бедной Тани»), выслушивает её по-своему убедительный урок. Но ничего не меняется. И здесь героя моего, В минуту, злую для него, Читатель, мы теперь оставим Надолго... навсегда. В эту минуту Евгений Как будто громом поражён. В какую бурю ощущений Теперь он сердцем погружён! И всё же Евгений – сумел подняться; он готов стоя встретить любой каприз фортуны: Она ушла. Стоит Евгений и т.д. Читателю, способному на разносторонний и «полномасштабный» диалог с Пушкиным, нет смысла задаваться вопросом: что же дальше будет с «неисправленным чудаком» (от которого и в самый отчаянный момент принципиальный автор и не думает отрекаться: Примчался к ней, к своей Татьяне мой неисправленный чудак. ................................ И здесь героя моего...)? 48 Пушкин, вопреки собственно сюжетной логике, не оборвал роман на самом интересном месте, а продуманно завершил его – так, что практически любое продолжение будет выглядеть лишним, поскольку мало что добавит в уже законченную картину. Противоядие от страстей – нам известно, противовес уму – страсти. Сумеет ли Онегин открыть для себя источник духовной гармонии, как это удалось сделать автору, который и поведал нам сию в высшей степени поучительную историю, – это уже мало что меняет. Он в принципе может сделать это – вот что главное; и это известно читателю. В каком-то смысле так истолкованному финалу концептуально противостоит «урок» Татьяны. Она в полном соответствии с непротиворечивой цельностью своей прямой и неизменной натуры, взращённой на благородных и предсказуемых идеалах верности, покорности долгу-жребию, без всякого пафоса объявляет Онегину: Я вышла замуж. Вы должны, Я вас прошу, меня оставить; Я знаю: в вашем сердце есть И гордость, и прямая честь. Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век ему верна. Она не изменилась, она все та же. Однако и Онегин воспринят ею как «неисправленный» герой. Если для автора такая комплиментарная характеристика подразумевает вечную изменчивость, парадоксальность Евгения, его, на поверхностный взгляд, непредсказуемость (хотя на самом деле он верен себе: он послушник своеобразной, «лукавой» логики, согласно которой вполне естественно безумно влюбиться в однажды разумно отвергнутую женщину), то для Татьяны неисправленный означает: не изменился, не способен меняться в лучшую сторону. Вот почему Татьяна называет любовь Онегина «обидной страстью», отчитывает его, как ничтожного ловеласа: А нынче! – что к моим ногам Вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом? Татьяна считает, что Онегин охотится за нею именно как светский лев, которому важна победа не над Лариной Татьяной, а над богатой и знатной княгиней, которую «ласкает двор» и позор которой – «соблазнительная честь» для неотразимого донжуана. Кстати, Онегин в своём письме предвидел подобные упрёки как вполне естественные для Татьяны: Боюсь, в мольбе моей смиренной 49 Увидит ваш суровый взор Затеи хитрости презренной – И слышу гневный ваш укор. Как видим, поведение Онегина подтвердило мнение о нём, составленное (тогда, правда, не окончательно) в «келье модной», в «молчаливом кабинете» (хозяин в то время странствовал без цели), где Татьяна пыталась вникнуть в душу «чудака печального и опасного» по избранным, неслучайным книгам, которые тот внимательно читал: Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? «Слово», т.е. определение, таково: Онегин лишь «пародия», «подражание» модным героям модных романов с их «безнравственной душой» и «озлобленным умом». Если Татьяна права, и маска Евгения действительно стала его второй натурой, то Пушкин напрасно затеивал роман в стихах. Если всё же прав Пушкин, и Онегин достоин того, чтобы стать героем его романа, – значит, никакой маски не было, и Евгений всегда оставался самим собой. Следовательно, неправа Татьяна. Позиция той, что названа была поэтом «мой верный идеал», по отношению к опекаемому автором же «моему Евгению» вполне понятна, но недостаточно гибка и излишне ортодоксальна. Будучи прямодушной, она, не мудрствуя, по себе судит о других. Ей непонятна логика эволюции Онегина, который по-разному ведёт себя в сходных ситуациях. Ей, неискушённой в диалектических коллизиях ума и души, неспособной «лукавить», непонятно, что можно было жить «холодным умом» и искренне пренебрегать чувствами; ей непонятно, что можно было на одну и ту же ситуацию смотреть разными глазами; у неё не укладывается в голове, как можно так радикально меняться и не предавать при этом ни себя, ни других, оставаясь честным в обоих случаях. Короче говоря, Татьяна всегда жила только девственно чистым сердцем, и она требует того же от Онегина (любое другое отношение в её случае было бы фальшью или слабостью), вкусившего, к его счастью и несчастью, от древа познания добра и зла. Кому горше в этой ситуации: «бедной Тане» или умудрённому жизнью чудаку – решать читателю. Что касается автора романа, то он задаёт обманчиво примирительный, компромиссный тон, легко вуалируя серьёзный принцип оценки (которому трудно противопоставить что-либо более конструктивное): каждый судит в меру своего понимания. Кто бы ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче как приятель. 50 Прости. ..................... Дай бог, чтоб в этой книжке ты Для развлеченья, для мечты, Для сердца, для журнальных сшибок, Хотя крупицу мог найти. «Разноуровневый» подход к роману позволит и оправдать Татьяну, и обвинить Онегина, и поменять их местами, и т.д. И только универсальный подход даёт возможность оставить за каждым читателем и героем его правду, не поступаясь при этом правдой высшей (и не делая вид, что её не существует). Для этого надо каждый фрагмент «воздушной громады» соотносить с её реально существующей целостной многоуровневой структурой. Истинная гениальность автора, позволившая достичь ему без преувеличения беспрецедентных интуитивных прозрений, заключается в том, что он видит трагически ясным взором относительную правду и Татьяны, и Онегина. Каждый сам по себе – они правы: вот в чём беда. Следующий, высший этап самопознания должен заключаться в том, чтобы совместить несовместимое, решительно сблизить относительность правд, понимая: ум без души – нежизнеспособен; душа без ума – жизнеспособна только в вечно комической ипостаси. И Онегин, «на мертвеца похожий», без ложного кокетства отсчитывающий свои последние дни, делает этот последний «безумный» шаг – то ли не веря, что он нашёл выход из безнадёжной ситуации «горе от ума», то ли сожалея, что это случилось слишком поздно... Онегин, признаваясь в своей любви, дозрев до любви, провозгласил тем самым «принцип дополнительности», поделился откровением, что человек един, несмотря на раздирающие его странную природу противоречия. Евгений своим безрассудным поступком очень даже философски замкнул круг – и придал новые измерения и собственной судьбе, и роману. Сначала он удалился от света – и это было благом в плане духовном: одиночество стало условием и предпосылкой дальнейшего развития, собственно, условием продления жизни. Но когда Онегин оказался совершенно, радикально одинок, когда он галантно отверг чувства Тани, затем хладнокровно убил на поединке влюбленного пиита, единственного друга, – одиночество превратилось в свою противоположность: стало проекцией смерти, новым недугом. Покой и воля – это что-то из области пугающей вечности. Кандидату в покойники ничего другого не оставалось, кроме того, что бессмысленно и безумно вернуться в свет, вклиниться в толпу и упасть к ногам Тани. Невозможно жить только умом, нельзя быть умнее или выше жизни. Круг Онегина – это и форма некой духовной борозды или траектории, и символ целостности, примирившей (смирение паче гордости) разумное и 51 неразумное в человеке, и способ эстетически завершить роман в стихах, объединить «стихи и прозу». Все смысловые линии замкнулись в некое единое человеческое пространство – и воздушная громада поплыла по этому, если хотите, мистическому, как минимум, экзистенциальному кругу – символу бесконечности, неисчерпаемости, вечности… «Куда ж нам плыть?» Автор, нелогично завершая роман, возносит своего героя, делая последний его шаг кульминацией всего тщательно продуманного произведения. Кто знает (думается, данный жизненный узел намеренно не прояснён), возможно, автор многим, очень многим обязан именно беспутному Евгению, открывшему совершенно новые, неизведанные духовные горизонты. Иначе зачем было посвящать роман своему «странному спутнику»? Возникает вопрос: неужели А.С. Пушкин отдавал себе отчёт, осознавал, какой глубины идейная концепция лежит в основании его, созданного великим трудом, художественного творения? Можно даже заострить вопрос: способен ли был Пушкин в абстрактнологической форме изложить и концептуально увязать (просопрягать, как сказал бы Л.Н. Толстой) те истины, которые он «оживил» художественно? Эта проблема – вечный пробный камень для литературоведа. При ответе на вопрос хотелось бы избежать туманности, проистекающей, как правило, от собственной запутанности, но не впасть при этом в определённость столь жёсткую, которая в свою очередь явилась бы формой заблуждения. Необходима «свободная определённость», которая заведомо не блокирует «фантазию сознания» (интеллектуальную интуицию), направленную на обнаружение богатства и многообразия смысловых оттенков и переходов в восприятии проблемы, как бы мерцающей неопределёнными смыслами (за которыми, тем не менее, сквозит недвусмысленная определённость), Хотелось бы быть определённым в ситуации, к определённости не располагающей (если не сказать – отторгающей её) в силу своей «двойной» природы. Нет и ещё раз нет: Пушкин не мог осознавать в полной мере значения той художественной модели, той громады, которая сотворена была его гением. Значит ли это, что поэт не ведал, что творил? Ещё более категоричное – нет. Чтобы понять логику ответов, надо разобраться (хотя бы вкратце, на уровне тезисов, которые, кстати, многое должны прояснить и в содержании самого романа) в природе художественного сознания. [16] Существует два типа сознания: моделирующее и рефлектирующее. Первое способно образно-модельно воспроизводить мир, в бесконечных вариантах и вариациях реализуя свою творческую природу. Такое сознание 52 «мыслит» наглядно-конкретными моделями, и оно призвано не понимать и объяснять, а именно моделировать, т.е. «показывать» целостные, неделимые клубки смыслов, выводимые из моделей-картин. Второе сознание – ничего не создаёт, оно исключительно анализирует (т.е. умозрительно разлагает всевозможные «модели» на элементы с последующим умозрительным же синтезом). Именно это сознание и «выводит» смысли из моделей, выявляя их внутреннюю согласованность, доходящую порой до степени концепции. В «чистом виде» эти два типа сознания не пересекаются, однако в чистом виде они на практике и не существуют. В различной степени одно сознание присутствует в другом. Это возможно потому, что рефлектирующее сознание возникло на основе моделирующего. Конкретно-образное мышление с течением времени становилось символическим (символ – уже обобщение целого класса предметов и явлений); символ же, в свою очередь, смог превратиться в нечто себе противоположное: в абстрактное понятие. Символический образ и понятие – это не просто два различных способа мышления; они выполняют совершенно разные функции. Отсюда – абсолютно разные возможности в отражении и познании мира. Творческий гений может изобразить всё – не обязательно при это осознавая и понимая (отдавая себе отчёт, т.е. рефлектируя – смысловую логику картин. Интуитивно поставленные в определённую зависимость отношения внутри художественно модели создают впечатление мощи интеллекта. На самом деле – это прежде всего изобразительновыразительная мощь, креативные потенции моделирующего сознания, часто беспомощного в объяснении того, что оно «натворило». Таковы психологические предпосылки всякого значительного художественного феномена – вопрос, относящийся к философии и психологии творчества. Если иметь в виду специфику моделирующего сознания, можно понять, как молодой человек сумел интуитивно «постичь» сложнейшие смыслы бытия. Моделирующее сознание подспудно вбирает в себя логику взаимоотношений разных сторон жизни, пропитывается ею, а потом умеет ярко воспроизвести её, Такое сознание «чувствует» и «ощущает» гораздо больше того, что оно «понимает». Жадно напитываясь картинами и образами, творческое сознание может «взорваться» и породить самые глобальные модели. В этом и состоит отличительная черта художественного слова. Рефлективный же комментарий модели уже вскрывает и объясняет как суть изображаемых феноменов, так и суть самого творческого процесса изображения. Остаётся добавить, что моделирующее сознание функционирует на базе психики, рефлектирующее – сознания как такового. Вот почему 53 именно «включение» рефлектирующего сознания помогает человеку понять себя (т.е. своё же собственное, тёмное, невнятное моделирующее сознание) и тем самым обрести величие. И Татьяна, и Ленский, не говоря уже обо всёх остальных героях романа (за исключением, разумеется, повествователя и Онегина), как тип личности были порождены сферой моделирующепсихологической. Уже в силу этого они счастливо избежали «недуга». Горе от ума им не грозило, поскольку трагической внутренней ошибке попросту неоткуда было взяться: не возникло достаточной разницы умственнодушевных потенциалов. Они – «комические» люди: не столько в том смысле, что непосредственно вызывают смех, сколько в смысле органической растворённости, невыделенности из природы. А духовные ценности, выстроенные исключительно на природном фундаменте, не могут не вызывать улыбки человека разумного, видящего за неубедительной идеологической ширмой подоплёку элементарных инстинктивных программ. На таком фоне контрастом выделяется величественная фигура Онегина (чем более он велик – тем более трагичен). Между прочим, в самом конце романа, развиваясь в сторону гармонии, понимаемой как диалектическое примирение противоположностей, он едва «не сделался поэтом» (в начале романа, как мы помним, склонный к «сухой теории» поклонник Адама Смита – вот она, генетическая предрасположенность к «хандре»! – «не мог... ямба от хорея... отличить» и «бранил Гомера, Феокрита»). Образ автора требует отдельного обширного исследования. В процессе анализа романа мы убедились, что автор духовно сумел пойти дальше Онегина. Весь живой и, если так можно выразиться, сбалансированный тон романа, созданный поэтом-мудрецом, заставляет нас сделать вывод, что присущий автору здоровый комизм уживается в нём с нескрываемым величием, а всё это вместе взятое соседствует с вовсе не надуманным трагизмом. Только так, в высшей степени диалектически, понятая жизнь, могла породить фантастическую по своим художественным достоинствам модель. Автор как незримая точка отсчёта в иерархически упорядоченной пушкинской модели, где одно сознание вмещает в себя другое, одно – более универсально по отношению к другому, автор выступает как некое сверхсознание, которое и придало качество целостности роману, вместившему «энциклопедию жизни». Сам автор как наиболее полное воплощение особой модели культурного человека (человека рационального, сумевшего не истребить в себе человека психологического, но в то же время вырваться из под его власти) заслуживает, конечно, обстоятельного культурологического и литературоведческого анализа. Итак, трёхликость человека – вот истинный предмет Пушкина. «Ум с сердцем не в ладу»: диагноз Грибоедова был развёрнут и углублен до такой степени, что стал приговором не лишнему человеку, а целому свету, 54 обществу. Художественно проанализировав хрестоматийную формулу «горе от ума» (которая, как и «лишний человек», была интуитивной догадкой, не более), Пушкин показал, что трагедия мудреца вовсе не в том, что он слишком много понимает. Суть проблемы заключается в том, что мыслительная деятельность, рефлексия как таковая противостоит жизни, с которой совместима только обслуживающая её (и противостоящая истине) психоидеология. Чтобы понять это, надо осознать «дьявольскую разницу» между психикой и сознанием – разницу, лежащую в основе особой концепции личности. Пушкин, конечно, не философ-психоаналитик, а всего лишь художник. Тем более впечатляет его безукоризненная с научно-философской точки зрения модель, позволяющая сделать вывод: психика (душа) бессознательно приспосабливает, а сознание (ум) анализирует, разъясняет механизм приспособления. Вооружаясь умственно, личность обезоруживается в ином, не менее (если не более) важном отношении: ум обнаруживает иллюзорность психологической защиты, тем самым резко снижая её эффективность. Лишний человек уходит из-под власти и защиты веры, надежды и любви и остаётся один на один с реальным миром. Начинается поиск новой, более совершенной (и, заметим, более достойной) интеллектуальной защиты (где не обойтись, само собой, без элементов иррационально-психологических). Вот то зерно, откуда повелась «литературная евгеника». Сквозь призму такой концепции личности видна генетическая связь «Евгения Онегина» с романами и героями Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского, Чехова и др. Именно подобная концепция личности и ничто иное позволило пушкинскому роману стать точкой отсчёта: программой русского классического романа и программой русского литературного развития в целом. Н.В. Гоголь (кстати, наименее следовавший указанной пушкинской программе, однако не избегнувший чести быть последователем иных традиций великого поэта и прозаика) сделал пророческий и вместе с тем утопический прогноз: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». [17] Если Гоголь прав, то слова его надо понимать как желание увидеть русского человека – образцовым человеком, лишним человеком, сверходарённым во всех смыслах и успешно реализующим свои задатки. Никогда такой человек, разумеется, не явится, ибо когда все станут лишними, тогда просто некому будет жить. Оценим другое: Пушкин в своём лице и в облике русского дворянина Евгения Онегина явил миру современный гармонический идеал 55 человека как такового, что без всякой ложной скромности следует признать значительнейшим завоеванием духа человеческого. Таковы истинные масштабы Александра Сергеевича Пушкина – масштабы личности, предопределившей многие художественные открытия одной из самых оригинальных и развитых литератур мира. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10т. /Изд-во АН СССР. – М.-Л., 1951. –Т.7, с.66-67. Там же. Там же. Там же. Там же, с.41-42. Там же, т.10, с.776. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. – С.253-258. Там же, с.258-259. Здесь и далее текст романа «Евгений Онегин» цитируется по изданию: Пушкин А.С. Собр.соч.: В 6т. /Изд-во «Правда». – М., 1969. – Т.4. (курсив автора, жирный шрифт мой – А.А.). Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения. – Минск: НМЦентр, 1995. – 144 с. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба, – М.: Советский писатель, 1983. – С.262-263. Егоров А.В. Психика, сознание, религия // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1997. – Вып.7. – С.68. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. – С.263-264. Поспелов Г.Н. «Евгений Онегин» как реалистический роман // Вопросы методологии и поэтики: Сб. Статей. – М.: МГУ, 1983. – С.284. Там же, с.282. Андреев А.Н. Личность и культура. Культурология. – Минск: Дизайн ПРО, 1997. – 180 с. Гоголь Н.В. Собр.соч.: В 4т. /Изд-во «Правда». – М., 1968. – Т.4, – С.27. 56 1.2. НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ПИКОВОЙ ДАМЫ 1 Пиковая дама, как известно, означает тайную недоброжелательность. Отчего же сия дама так неблаговолила «сыну обрусевшего немца» с исключительно нерусской фамилией Германн (содержащей, помимо мрачного неблагозвучия для русского уха, ещё и заносчивую, с претензией на исключительность же германскую семантику Herr Mann, «Господин Человек»), инженеру, имевшему «сильные страсти и огненное воображение», которые, однако, не мешали ему следовать безупречно положительному, выверенному девизу «я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее»? (Жирным шрифтом в цитатах выделено мной, курсив – автора – А.А..) Сказать, что Германн наказан был за страсть к деньгам было бы не совсем верным или даже совсем не верным, ибо страсть, подконтрольная «твёрдости», – уже не вполне страсть или страсть особого рода. (Обрисованная в повести твёрдость русских, естественно уживающаяся с легкомыслием, – совершенно иного сорта. Проигравший, «по обыкновению», у «конногвардейца», гусара по нраву, Нарумова некто Сурин признаётся, что никогда не горячится, что его ничем с толку не собьёшь, что играет он только «мирандолем». «- И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте?.. Твёрдость твоя для меня удивительна», – восклицает поражённый силой русского характера «конногвардеец». То обстоятельство, что Сурин при всей своей твёрдости играет и проигрывает, как-то ускользнуло от внимания любезного хозяина. Кстати, реплика эта характеризует и «твёрдость» самого Нарумова.) Во всяком случае «анекдот о трёх картах» хоть и «сильно подействовал на его воображение», но отнюдь не ослепил его, не заставил действовать нерасчетливо и неосмотрительно. Напротив: все действия Германна были до неестественности продуманными, бесстрастными, и начались они с той минуты, когда он увидел в окнах графини, азартной, по преданию, бабушки Томского, «черноволосую головку, наклонённую, вероятно, над книгой или над работой». «Эта минута решила его участь». До этой минуты «расчёт, умеренность и трудолюбие», – рутинное руте, которым не соблазнишь принципиальных русских аристократов, превыше всего чтущих народный «авось», – эти «три верные карты», должны были «утроить», «усемерить» маленький «капитал» (в картах «капитал» означает туз) скрытного и честолюбивого Германна. И утроили, и усемерили бы. Что же произошло, что изменило участь сына обрусевшего немца? Наличие «свежего личика и чёрных глаз» подле 87-летней старухи открывало реальную возможность выведать у старой графини *** – в кратчайшие сроки! – заветные карты. Причём (расчёт, умеренность – руте!) он почти не рисковал 57 деньгами (капиталом) и репутацией. «Интрига» была проста, дальновидна и инженерно совершенна, оттого особенно гнусна. Регулярно и методично «в известный час» молодой человек появлялся перед окнами, где сидела Лизавета Ивановна, «бедная воспитанница знатной старухи». «Холодный эгоизм» старой графини превратил жизнь «домашней мученицы» в сущий ад, и она, естественно, с нетерпением ожидала «избавителя», то есть жениха, однако расчётливые женихи её круга не спешили замечать совершенств Лизаветы и увивались вокруг «холодных невест». И вдруг явился «избавитель», дерзкий, решительный и волевой: «чёрные глаза его сверкали из-под шляпы», «быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались», в письмах (присылаемых, само собой, ежедневно) «выражались и непреклонность его желаний и беспорядок необузданного воображения». Чего ж вам больше? Страсть невозможно сымитировать или подделать. Бедная Лиза (уже смутно напоминающая и Лизавету Ивановну из «Преступления и наказания»; собственно вся ситуация: страстный молодой человек – богатая «старая ведьма» – расчетливое преступление с благими намерениями – (полу)сумасшествие – вся, повторим, ситуация едва ли не демонстративно заимствована автором знаменитого «петербургского романа») не знала ещё, что на неё пал отблеск холодной страсти к деньгам. «Пренесчастное создание» легко было понять и невозможно осуждать за то, что она «упивалась» письмами. Путь в покои графини был открыт. 2 Интрига сложилась в удивительном соответствии с замыслом. Германн явился перед старухой тоже как своеобразное ночное видение или призрак из небезгрешного, судя по всему, прошлого (незапланированный же ответный визит старухи, как мы помним, уже окончательно сотрёт грань между явью и воображаемой действительностью). Хладнокровный инженер вооружён был тремя различными сценариями по выколачиванию тайны из старой ведьмы и незаряженным пистолетом. (Вначале, ещё до знакомства с Лизаветой, сценарии были иными, но не менее циничными: «Подбиться в её (графини – А.А.) милость, – пожалуй, сделаться её любовником». Цель оправдывала средства. Однако те сценарии были нереалистичны: на их осуществление требовалось время, которого, по расчётам, могло и не хватить.) Сценарий первый основан был на убеждении Германна, что с делами, связанными с деньгами, «нечего шутить». Главный аргумент был изысканно прост: «Вы можете составить счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить..». Старуха не вняла неотразимому воздействию логики. «- Это была шутка, – сказала она наконец, – клянусь вам! Это была шутка!» Однако при упоминании имени Чаплицкого, «того самого, который умер в нищете» и которому, по 58 легенде, она помогла отыграться, черты графини «изобразили сильное движение души». Вот это мгновение и решило участь старухи. Непроизвольное движение души стоило ей жизни. Может, и не было никакой истории с Чаплицким, переданной в анекдоте ветреным Томским разгорячённому обществу игроков со слов «отчаянного игрока» дяди, графа Ивана Ильича. В повести, темой которой стала сама текучесть природы человека, размывание границ «верха» и «низа», психики и сознания, в плане моральном – добра и зла, ни за что поручиться нельзя. Здесь всё состоит из намёков, недоговорённостей, полутонов. Читатель (так задумано повествователем) никогда не обладает необходимой полнотой информации. Тот же граф Иван Ильич уверял Томского честью... Может, и была история. Важно не это. Важно то, что Германн верил в быстрый и безопасный способ верного обогащения и не считал свои действия преступными. Он всего лишь хотел «счастия», как и те тщеславные женихи, только несравненно сильнее. Сценарий второй был отработан в письмах к Лизе, где страсть к деньгам и наивно-эгоистическое убеждение, что только таких, как он, и следует допускать к богатству («Я не мот; я знаю цену деньгам»), причудливым образом принимают форму любви и заботы о том, кто был назначен лишь средством к достижению верных карт. Большую и нешуточную игру затеял Германн, возможно, сам того не подозревая. Он ведь бросил вызов судьбе и решил переиграть её именно тем, что отказался от игры («случая», «сказки») как способа достижения благополучия. Строго говоря, он исключил не только капризы фортуны, но и саму злодейку-фортуну оставил не у дел, отобрав у неё излюбленное средство – ослепление страстями и сделав ставку на голый интеллект, расчёт, выведенный за рамки человеческого измерения. По возможностям влиять на жизнь человека Германн стал равен Судьбе (чтобы не упоминать всуе иные горние инстанции), стал сверхчеловеком, «Господином Человеком». Однако миропорядок не пожелал выкраиваться по лекалам Германна. Фортуна, как бы исчезнув, вскоре капризно объявилась. Она почему-то решила примерно наказать не только «нетвёрдых» игроков-шалопаев, но и «не мота» с суровой душой. Именно провидение, в конечном счёте, заставило самоуверенного Германна «обдёрнуться» и всучило ему чёрную метку недоброжелательности – пиковую даму вместо вожделённого туза. Или это было дело случая? Впрочем, до этого ещё далеко, а нам пока что необходимо (у нас свой расчёт) вернуться к сцене со старухой. Непосредственное обращение к душе страстный Германн считал вторым, после довода к рассудку, по силе средством убеждения простых (слабых) смертных. Вспомнил «избавитель» и «восторги любви», и «плач новорожденного сына» (у графини было четверо сыновей, всё 59 – ирония судьбы! – отчаянных игроков), и «чувства супруги, любовницы, матери», и «пагубу вечного блаженства» и вообще «что ни есть святого в жизни»... Вряд ли он специально заучивал речь: «демонские усилия» (слова самого Германна), предпринятые им, чтобы завладеть тайной старухи, делали его расчётливую страстность очень похожей на «сильные движения души», однако души-то как раз и недоставало его инженерно спланированным усилиям. «Старуха не отвечала ни слова». Бестрепетный переход к третьему сценарию – агрессивная апелляция теперь уже не к уму и душе, а к инстинкту жизни, к животному в человеке, – позволяет понять, почему Германн «трепетал, как тигр», хищно ожидая рокового рандеву с той, кто, не исключено, в своё время продала душу дьяволу. Графиня, увидя пистолет, вновь «оказала сильное чувство» – на сей раз последнее в жизни. Германн так и не услышал от живой старухи рецепта своего счастья. Заметим, что в этой сцене «механически» заведённый «авантюрист» кажется гораздо более неживым, нежели «гальванизированная» старуха. Разумеется, Месмеров магнетизм и таинственный Сен-Жермен (удивительное созвучие с Германном: так рифмуется Германн и «тайна», Германн и возможность доступа в те таинственные сферы, куда простым смертным вход заказан) здесь не при чём: это тонкий расчёт (искусно завуалированный) повествователя. Именно за ним, незримым, остаётся последнее слово в этой отчасти фантасмагорической петербургской повести. «Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого» (переведённый с французского эпиграф к 4 главе) или человек «с профилем Наполеона, а душой Мефистофеля» (беззаботная мазурочная болтовня Томского или бессознательные озарения душевно развитого, к тому же влюблённого мужчины, der Mann?) после всего содеянного вошёл к Лизе. Кстати, на эпиграфе и Томском стоит немного задержаться. Как-то графиня потребовала у Paul Томского романа, «где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел» (прав был Германн: графиня не боялась смерти, но она «ужасно боялась» насильственной и неестественной смерти). «Таких романов нынче нет», – отвечал Paul. «Нынче», в 18**, – именно так, с точностью до века, датирована «переписка», из которой, якобы, взят эпиграф к 4 главе: 7 мая 18**, – отцов и матерей (прозрачен мотив наследства, денег) расчётливо давят. Таким образом, Германн вполне современен, он даже, «благодаря новейшим романам», лицо уже типичное, «уже пошлое». Романные характеристики «нынче» запросто встречаются в частной переписке. Правда, пока ещё там, в Европе, не в России... Итак, Германн оказался в комнате у Лизы. В его расчёты не входило продолжать бесполезный роман. «Суровая душа» его не была тронута слезами грубо обманутой девушки. «Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал 60 обогащения»: вот что «ужасало» Германна. « – Вы чудовище! – сказала наконец Лизавета Ивановна», которой почему-то припомнились в эту минуту слова Томского. Конечно, чудовище. Казалось бы, слово найдено. Однако едва ли не самое интересное и замечательное ещё впереди. 3 Чудовище – это слишком простая формула героя для позднего Пушкина. Иначе сказать, «чудовище» Германн заслужил не потому, что в нём совсем нет ничего человеческого, душевного, а потому, что его «расчёты» дьявольски размывали незримые, но определённые грани между добром и злом. Наш герой и справедлив, и честен, и принципиален на свой прагматический лад. Меньше всего он напоминает опереточного злодея с чёрной душой. В том-то и дело, что всё дальнейшее оказалось возможным вследствие того, что мастерский расчёт в сочетании с пылким (нездоровым?) воображением резко усложнил картину простой и грубой реальности, придав ей черты таинственной бесплотности, что позволило довершить нравственный портрет героя. Собственно, усложнение реальности означало всё то же магическое стирание отчётливых пределов между миром тем и этим, сном и явью, иррациональным бредом и расчётом. Незаметно для себя серьёзный Германн втянулся в игру, где он давно уже был de facto вне морали, продолжая мерить действия свои мерками графини, Томского, Лизаветы... Германн был чрезвычайно расстроен. Он принял меры против того, чтобы мертвая старуха могла навредить ему: явился на похороны с целью испросить прощения (что делать: даже Наполеон с Мефистофилем бессильны против предрассудков; с другой стороны, возможно, именно те, кто достигает цели понаполеоновски, любыми средствами, и терзаемы почему-то глупыми предрассудками. Кто знает...). Однако «мёртвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом». Всю эту чертовщину можно, при желании, объяснить вполне земными вещами, но от этого она не перестаёт быть чертовщиной, не меняет своей иррациональной природы. Добавьте к расстроенным нервам неумеренную дозу вина, разгорячившего его склонное к пылкости воображение (которое, очевидно, в сочетании с некоторой сентиментальностью, заменяло ему душу), нездоровый дневной сон – и ночное явление графини вы сочтёте не самым невероятным происшествием. И все же рассудим здраво: если визит старухи в ответ на вполне реальное вторжение Германна объявить плодом воспалённого воображения, значит ожидаемое обогащение тоже следует признать миражём. Но где вы видели прагматика, который отказывается от гарантированных дивидендов! Если деньги доступны только «в пакете» с чертовщиной – да здравствует чертовщина, да здравствует мёртвая старуха! Придумайте всё, что угодно, не трогайте только реальность обогащения. Так единственной реальностью 61 становится логика. Какова логика – такова и реальность. Так выдаётся желаемое за действительное тем, кто посмеивался над «неверными» страстями, искажающими реальность. Скажите после этого, что фортуна не смеётся последней... Мёртвая старуха была обречена (куда она денется, если очень захотеть). Ничего сверхестественного в том, что произнесённое ей всего более хотел слышать честный и простодушный Германн. Он заставил-таки вельможную старуху проговорить «тайну», могущую «утроить», «усемерить» его «капитал». Тот, кто холодно презирал «сказки», оказался в плену самой мрачной и невероятной фантазии (зловещий зигзаг – почерк отмщённой фортуны). Куда подевалось чеканное credo Германна, отдающее калькой с немецкого или французского? А никуда не подевалось. Вдумаемся в смысл по-немецки лаконичных условий графини (аккуратный Германн, разумеется, тотчас записал своё видение, рецептуру скорого обогащения). 1. Ей «велено исполнить» (кем?!) его просьбу. 2. «Тройка, семёрка, туз выиграют тебе сряду», однако всю жизнь после этого уже не играть. 3. «Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне..». Видимо, Германн не прочь был жениться на трудолюбивой и хорошенькой воспитаннице – при выполнении предыдущих условий, разумеется. Не исключено, что внукам и правнукам велено было бы благословлять и чтить память старухи. В сущности, перед нами всё то же, древнее, как мир, банальное (но неумеренно сильное) желание разбогатеть, слегка отягощённое муками совести (которую Германн, казалось бы, предусмотрительно устранил из интриги). После посещения старухи – и волки страсти оказались сыты, и овцы совести уцелели. Видение записано. Условия приняты. Вопрос «а была ли старуха?» мог быть актуален разве что для читателя (так задумано повествователем). Для Германна, пребывающего в здравом уме, не было в этом никакого сомнения: её явление означало отпущение грехов вместе с гарантией обогащения. Графине «велели» против её воли исполнить пусть несколько авантюрно заявленную (в конце концов, шаловливая молодость должна перебеситься), но всё же не преступную, а такую естественную для человека просьбу. Властное повеление приятельнице Сен-Жермена следует расценивать не иначе, как намёк на то, что «святой» Германн заслужил твёрдостию и приличным, неветреным поведением награду у сурового провидения, разжалобил, переиграл его. Если старухи и не было, её следовало выдумать. Впереди же, несомненно, ждало счастие, «дети, внуки и правнуки», а также множество славных дел. Где добро, где зло? Если посредством зла и 62 преступления можно достигать добра, то существенная разница между адом и раем, Богом и Мефистофилем, добром и злом – просто исчезает. И инструмент, с помощью которого можно провернуть эту нехитрую, но очень полезную комбинацию, называется разум, могучий инженерноинтриганский ум. Германн вызвал тайную недоброжелательность сначала у повествователя, а затем и у провидения, вовсе не потому, что он был сыном обрусевшего немца или инженером; это следствия, симптомы, а не первопричина. Подлинная причина – в уверенности, что можно проигнорировать «страсть», сильные душевные движения, подчинить их воле рассудка, холодному расчёту. Это и есть каверзный и коварный способ смешать добро со злом и отождествить добро с пользой, выгодой, расчётом. Однако не разум как таковой развенчивает умудрённый повествователь. Он ведь тоже себе на уме, и у него есть свой верный расчёт, а именно: пока Германн заманивает в сети расчёта «очарованную фортуну», повествователь озабочен тем, чтобы разрушить зыбкую грань между воспалённым воображением и сумасшествием. Расчёт Германна оказывается формой сумасшествия – это ли не месть не терпящей амбициозных расчётов судьбы посредством неверной пиковой дамы за надругательство над склонной к «противуречиям» природой человека (первое и главное преступление Германна; остальные два – «у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!» – графиня и Лизавета)! Разум, который только по форме рассудочен, а на деле безумен, – это одномерный, убогий, бюргерский ум, именно инженерный, в отношении человека самоуверенный и неглубокий. Собственно, интеллект, а не разум. Однако в повести (надо полагать, и в мире) таинственно, но несомненно сказывается присутствие некоего высшего разума, «устроившего» так, что Лизавета «вышла замуж за очень любезного молодого человека» и, надо полагать, сменила «ширмы, оклеенные обоями», «крашеную кровать» и «сальные свечи в медном шандале» на что-нибудь более приличное, ибо избавитель её «где-то служит и имеет порядочное состояние». Кстати, любезный молодой человек – «сын бывшего управителя у старой графини». Это тот же почерк той же фортуны. «У Лизаветы воспитывается бедная родственница», – что это, расчёт или нормальное движение живой и благодарной души? Провидение не проведёшь, оно плетёт свои интриги. Если «Томский произведён в ротмистры и женится на княжне Полине», значит, гораздо больше ума было в том, чтобы не охотиться за сомнительными бабушкиными тайнами, а «смолоду быть молодым»: играть в карты, любить, ревновать, жениться. А вот Германн сошёл с ума. Причём он как-то так слишком буквально, «понемецки» сошёл с ума, что, будучи сумасшедшим, производит впечатление слегка просчитавшегося, обдёрнувшегося. Сошёл с ума – значит, ошибся, 63 недоучёл, не додумал. Ошибка, сбой в механизме подменили «туз» «дамой». Ещё чуть-чуть – и дама «сощурилась» бы самой фортуне. Вера в то, что всё могло быть иначе, нежели случилось, и есть сумасшествие. Сумасшествие Германна – это и метафора, и приговор одновременно. Несмотря на вполне оптимистическое, «доброжелательное» «заключение» – всё вернулось на круги своя и пошло своим чередом – странная повесть, пиковое достижение пушкинской прозы, оставляет двойственное впечатление: с одной стороны, Германн закономерно сошёл с ума; а с другой стороны, причина, по которой он оказался во вполне реальной «Обуховской больнице в 17-м нумере», – деньги, страсти и расчёт – никуда не исчезли из того мира, где нашли своё счастье Томский и Лизавета Ивановна. Женихи, «молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии», всё так же мало обращают внимания на хорошеньких и мечтательных бесприданниц, предпочитая им «наглых и холодных невест» в расчёте, конечно, на солидное приданое, на капитал (наглость, заметим, в свою очередь есть проявление расчёта: невесты также небезразличны к перспективам урвать свой куш, свой капитал, они нагло держатся именно с незавидными женихами). Кто знает, не кружится ли среди них в мазурке новый пылкий инженер? Вспоминаются, опять же, леденящие душу свидетельства из частной переписки. Всё вернулось на круги своя? Тень Германна (которого надобно увидеть как воплощённую гением Пушкина зловещую тень жизни и Человека) продолжала и продолжает витать над русской жизнью и литературой. Вообще над жизнью и литературой. 64 ЧАСТЬ 2. М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 2.1. ФОРМУЛА ГЕРОЯ (роман М.Ю. Лермонтова «Герой Нашего Времени») 1. ПРЕВРАТНОСТИ ТЕМЫ Есть литературные произведения, которые не устаревают, не стареют, которые словно неподвластны времени. Их хочется назвать бессмертными. И дело вовсе не в том, что авторы их гениальны, хотя это бесспорно. «Война и мир» – не стареет, а «Воскресение» состарилось уже в тот момент, когда только-только вышло из-под пера гения, увяло уже в замыслах ясно мыслящего обитателя Ясной Поляны. Не все романы И.С. Тургенева, фигуры для русской литературы исключительной, в равной степени читаемы и почитаемы. «Новь» вы не поставите рядом с «Отцами и детьми», если вы не дитя. И дело, опять же, не в художественной удаче или неудаче. И не в гениальности как таковой. Дело в том, что определяет удачу или неудачу, проблема в том, на каком материале гениальность поразительно расцветает, а какой материал фатально сопротивляется гениальности и не позволяет ей проявить себя в полном блеске. Очевидно, дело в том, что существуют темы, которые сами по себе не стареют, относятся к разряду вечных. Они объективны, независимы от художника, но становятся или его союзником, или врагом. В той или иной степени темы, о которых мы говорим, присутствуют во всех творениях гениев и не гениев: их универсальность означает вездесущность. Однако поворот, ракурс или аспект «темы» решают все. Главная тема культуры сказывается и в неглавных, но когда Тема становится главной темой шедевра – ему выпадает долгая жизнь, а в исключительных случаях – вечная (с поправкой на границы бытия человечества). Все главные книги людей – об одном и том же. Но вот о чем?.. Убежден, что определенная «тема», взятая в определенном аспекте и ставшая главной для русской литературы Х1Х века, обеспечила ее звездный взлет. Дело не только в созвездии и в масштабах дарований первоклассных русских писателей; дело в том, что масштаб дарований удачно пересекся с определенной темой. В этом и заключена главная традиция русской литературы. Грибоедов затронул эту тему, Пушкин ее углубил и обозначил ее беспредельность. Словно зачарованные, на разные лады приникали к этой бездне Гоголь, Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский, Чехов… У одних эта тема пробивалась сквозь социально-политическое обличье, у других – через религиозные мифы, у третьих обретала план национальный, мистический или какой-нибудь еще… 65 ХХ век сделал вид, что отвернулся от этой темы, что она подыстерлась и подыстрепалась, что существуют более важные темы – и такое стыдливое обращение к «задвинутой» теме обусловило художественные открытия и оригинальность современной литературы. Художественная оригинальность – это всегда новый подход к старой теме. Хорошей литературе уготовано бессмертие – как, впрочем, и однообразие. У истоков темы стояла Библия, разумеется, и та неведомая нам, но несомненно существовавшая «библия», которая была до Библии. И тема сделала Библию, а не наоборот. Но нас не история темы интересует, а ее проявление в русской литературе. Хотелось бы поговорить о случае редчайшем: тема, взятая в своей обнаженной, первозданной сути, привела к творческому успеху, равного которому мало, до крайности мало. Речь идет, конечно же, о «Герое Нашего Времени», сочинении г. Лермонтова М.Ю. За подобные попадания в «яблочко» судьба заставляет расплачиваться в полной мере щедро, взыскивает без стеснения: кого делает автоэпигоном, кто со страху бросается писать «о другом» – но никогда уже не превзойдет себя, у молодых да ранних может попросту отнять жизнь. Тема не прощает заигрываний и баловства. Чтобы воспроизвести тему, в нее надо вжиться. Уже самим фактом обращения к данной теме мальчишка Лермонтов оказался мудрее седо-и-длиннобородого патриарха времен «Воскресения». Ничего не поделаешь: тема жестока. Если ты в результате долгих размышлений отошел от нее – ты напрасно размышлял, ты стал не мудрее, а глупее. Здесь не время и усилия решают все, а предрасположенность к насквозь экзистенциальной теме. Тема глубока и коварна. Она страшно банальна, ибо так или иначе ее касаются все художники мира, и вместе с тем исключительно оригинальна, если затронута «до самой сути», не поверхностно. Попробуем подобраться к теме не через определение, как требуют того каноны научного подхода к предмету, а через описание, – через прием, компрометирующий исследование как таковое или, по крайней мере, демонстрирующий беспомощность аналитического подхода к тому, что выражено художественно. Но сделаем мы это не от бессилия или ложного смирения перед «Темой», а с целью более точного, многогранного определения темы. Нас интересует не тень на плетень, а методология. Все просто: тема заключена в триаду Красота – Добро – Истина, помещена в это «метафизическое» пространство демонстративно и полемически. Вчитаемся в предисловие к роману, которое, по выражению «автора», «есть первая и вместе с тем последняя вещь» (роман цитируется по изданию: Лермонтов М.Ю. Собр. соч. в 4 т., т. 4. – М., Изд. «Правда», 1969. Здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсив – автора. – А.А.). Иными словами, оно призвано «служить объяснением цели сочинения», и в этом своем качестве может стать «первой» вещью. Однако если дело дошло до необходимости 66 «объяснения», то это вещь уже последняя, ибо дело автора не толковать свое «сочинение», а только лишь бессознательно сотворить его. Хорошо, если «формулы» и «законы» присутствуют в произведении, однако еще лучше, если автор при этом не ведал, что творил. Не авторское это дело – предисловиями заниматься. («О мир, пойми! Певцом – во сне – отрыты Закон звезды и формула цветка»: Цветаева, родственная Лермонтову душа.) Тем более интересно предисловие: помимо собственно художественной нагрузки (так называемый автор сообщает о «цели»: разглядеть в Печорине, сугубом индивидууме, черты типа, делающие его представителем определенного «рода» человеков), оно недвусмысленно выставляет критерии, непосредственно увиденные сквозь призму триады. «Автор» не скрывает, что он великолепно осведомлен о такой категории, как «нравственная цель» (Добро), он отдает себе отчет, что иные читатели могут «ужасно обидеться», ибо «им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени»; автор объясняет, что личность «Героя» – «это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» (герой, склонный к рефлексии, в свою очередь появляется как результат «ума холодных наблюдений»). Автор соглашается, что герой его «дурен», однако настаивает, что «в нем больше правды (Истины – А.А.), нежели бы вы (читатели – А.А.) того желали». Да, роковое стремление молодых людей быть похожим на Печорина (а таких энтузиастов автор, «к его и вашему несчастью, слишком часто встречал»: претензия на «верное» отражение действительности, на Истину) – это «болезнь», и «нравственность», по убеждению автора, только выиграет оттого, что людям скажут правду, дадут в качестве «горького лекарства» «едкие истины». Автор явно озабочен «нравственным здоровьем», которое может быть поддержано только «истиной». «Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже избави его от такого невежества!» Едкая истина, надо полагать, заключена и в том, что пороки неисправимы, а благородное стремление исправить их суть «гордая мечта» и «невежество» – то, что к истине никак не отнесешь. Что касается Красоты («Герой Нашего Времени … это портрет») – то перед нами «книга», «сочинение», роман, где поэтизации поддается лишь то, что, будучи Истиной, направляет нас в сторону Добра. И «Красота» (художественное совершенство) «книги» напрямую зависит от степени объективности Истины. Как видим, Лермонтов избрал тему, у которой изначально (объективно) есть свои законы, и их невозможно выдумать («Воскресение» – это выдумка); нужен честный «вымысел», содержащий (отражающий) правду, даже если публика не очень того желает. Красота зависит от Истины, а последняя может быть явлена в облике первой. Тема не прощает абсолютизации Красоты независимо от 67 благости и чистоты побуждений (тот же постмодерн жестоко поплатился за пренебрежение к Добру и Истине – подернулся плесенью безобразного). Тема – и в этом еще одна «едкая истина», еще одно «несчастье» Лермонтова – предъявляет нешуточные требования не только к творцам, но и исследователям творчества. Тот, кто не понимает изначальной диалектичности темы, обречен «ужасно обижаться», «очень тонко замечать» нюансы, не улавливая сути и т.п. «Старая и жалкая шутка!»: браво, господин «автор». Великий роман требует великих читателей. Надо видеть больше, чем видел автор, тем более, что объективно мы имеем такую возможность. Видеть больше – значит выявлять связи и отношения, обогащающие (или обедняющие: таковы суровые «законы» темы) суть романа и героя. Печорин с самого начала вступает в сложные отношения не только и не столько с «водяным обществом», сколько с трактовкой магистральной темы культуры. Безусловно генетическое (или типологическое) сходство «Героя» с Онегиным и Чацким. Дело даже не в том, что в текст романа непосредственно вкраплены соответствующие цитаты из Пушкина и Грибоедова, выполняющие знаковую функцию. Формулы «горе от ума» и «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» становятся зернами, из которых вырастает дух, аура и пафос романа. Вот цитата из предисловия автора к «журналу» Печорина: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление» (тут автор явно лукавит, но к этому мы вернемся позднее). Что такое история души? Это заметки ума. Или вот еще абсолютно четкая формулировка, точный акт самопознания (Печорин – Вернеру перед дуэлью): «Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; (…)». «Мыслить и судить» – значит не жить, и уж точно «не жить в полном смысле этого слова». Чего ж вам больше? Все «герои» стали жить «головою» – и вследствие этого вкусили «горе от ума». Но – и в этом принципиальная разница – Печорин мыкает не то горе и страдает не от того ума, которые были у Онегина. Горе от ума – слишком общий диагноз, и даже не диагноз, а некая общая ситуация. Перед нами конкретное горе от конкретного ума. Печорин отдает себе отчет: «(…) полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие». 68 И вот в «высшем состоянии самопознания» (блестящая формула!) Печорин записывает: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший цвет жизни». Все абсолютно точно, ясно и недвусмысленно: существуют «назначение высокое», «высшее состояние самопознания», «цели», «благородные стремления» – но Печорин до них не дотягивает. Он «не угадал» этого назначения, хотя не ставит под сомнение наличие этого параметра человеческой жизни. Антигерой Печорин точкой отсчета в своей незаладившейся жизни делает именно героику (хотя героику особого толка – личностно окрашенную, с родовыми вкраплениями начала персоноцентрического). Столкновение ума с сердцем не воскресило душу, как у Онегина, а убило ее; Печорин растерял прежние идеалы, однако не приобрел новых. Он не отвергает идеологию как таковую; напротив, он выработал идеологию индивидуализма. Он – эгоист, все и вся рассматривающий под углом зрения своих удовольствий и интересов. В этом нет ничего высокого, что он и не отрицает, но в этом присутствует некая своеобразная честность: я не скрываю порочности своей натуры. А вот все остальные, общество, свет, толпа – прикрываются фразами-идеалами. Так что честнее, достойнее быть циником. И это – высшая, но гибельная точка отсчета в романе. Получается: честно говоря, человек, думающий человек, – неизбежно становится порочным, «подлым» (хотя при этом обогащается как личность). Таким образом, перед нами полуромантическая модель яркой, сильной личности, во всем противостоящей заурядному обществу. Печорин забавляет себя, развеивает смертельную скуку любыми доступными ему средствами (и в этом – привлекательность, так сказать, конструктивность зла), презирая недостойную мыслящего человека жизнь, предлагаемую и одобряемую обществом. Печорин: «Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть, больше, нежели она (Бэла – А.А.): во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как и к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать». «Что за диво!» – восклицает на это Максим Максимыч. Диво дивное, согласимся мы. («Путешествовать», заметим, то есть делать ставку на «душу», «воображение» и «сердце» – на видеоряд, беспокоящий калейдоскоп чувств, а не на умопостижение – является стратегической ошибкой молодого Григория Александровича. Но к этому мы еще вернемся.) 69 Но Печорин, разрушая старое, взыскует нового – и в этом вся его нравственная высота. Такие отношения с миром обрекают его на трагическое одиночество: в этом суть модели. Нужно что-то другое, не то, что есть. Вот откуда трагиирония как форма защиты. Вот откуда всевозможные Казбичи, Карагезы и Азаматы, страсти, дуэли, честные контрабандисты, Мефистофель, Вампир, лорд Байрон, Кавказ и Персия… – экзотика как противопоставление этому вопиюще обыденному, элементарно простому и пошлому миру. В соответствии с принципами романтизма (и мировоззренческими, и художественными) – маловато диалектики. Тяга к абсолютным и бескомпромиссным суждениям грешит схемой. По-мальчишески задиристо отвергается сама возможность увидеть взаимосвязанность и взаимообусловленность – иной тип отношений с миром и собой, лучшей частью этого малопривлекательного мира. Или – или: чего в этом больше, честности или глупости? Отсутствует зрелая и завораживающая глубина мысли, лишающая все суховатой определенности и однозначности. В романе все именно определенно – не в смысле высшей простоты, а в смысле некоторой упрощенности. Нет состояния «истинного величия», когда рассудок, все понимая, принимает необходимость жить. «Высшее состояние самопознания» – отнюдь не главное состояние Героя. Герои, если на то пошло, в принципе не очень-то склонны к самопознанию. Они рождены, чтобы бросать вызов, сражаться и побеждать. Это их духовная специализация. Одно дело назвать роман «Григорий Печорин» (или «Евгений Онегин»), и совсем другое – «Герой Нашего Времени». Вроде бы все так. В романе все выложено без утайки, все шито белыми нитками. Все просто и понятно. Все логично. Однако сам факт романа (искусства) предполагает некую недосказанность, принципиальную многозначность, тайну, если хотите, неувязочку, скрытый план – ту самую мистику Красоты. Если есть роман – должно быть двойное дно. Где оно? Скрытая интрига романа (ибо все приключения – для детско-юношеского внимания) – в отсутствии определенной оценки того, что явлено вполне определенно. В невозможности подобной оценки. Тут известная своими невероятными познавательными возможностями диалектическая логика – «с одной стороны», «с другой стороны» – как бы пробуксовывает, перестает работать. Со всех сторон все ясно. Не ясно, как быть с «этим парнем». Он прав уж тем, что поразительно целен. Просто кусок монолита, состоящий изо льда и пламени. Что несколько озадачивает. В нем есть пороки, встречаются и добродетели. Но он состоит не из них. Он состоит из состава метафизического: из философии, переплавляющей пороки если не в добродетели, то в некое подобие правды, истины. А философия человека несводима к конкретным проявлениям личности. Перед нами версия разгадки бытия – ни больше, ни меньше: именно таким видится скрытый план романа, подсвечивающий определенность с какой-то вечной, неопределенной, вмещающей в себя все 70 стороны. Перед нами – человек, на наших глазах мучительно превращающийся в личность, но не отдающий себе в этом отчёта. Перед нами – обратим внимание – Герой Нашего Времени. Герой, то есть духовный лидер, Нашего (общего) Времени, не исторического периода или эпохи, а Времени. Наше, человеческое, Время неизвестно, когда началось, и неизвестно, чем оно закончится. Известно лишь, что у Времени есть Герои, выразители духа Времени. Журнал Печорина, сопровождаемый как бы ненавязчивым комментарием повествователя (сводимым, по большей части, к восторженным фигурам умолчания: «автор» всего лишь отобрал «отрывки из журнала», именно те, а не иные «отрывки», заметим; это ли не авторский произвол? Кроме того, «автор» «переменил все собственные имена», «поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою»; это ли не соавторство?), – это не исторический, но человеческий документ, история души человека. Перед нами попытка сформулировать родовые признаки человека, субъекта Истории и Времени, – человека, обречённого рано или поздно обнаружить в себе свойства личности. Вот вам и определение темы в плане бытийном (данное определение можно считать предметом не только этого романа, но и литературы в целом). Что касается определения темы в плане научном, то мы имеем дело с взаимодействием психики и сознания (души и ума) – взаимодействием, порождающим все человеческие комедии и трагедии, порождающим саму культуру с ее романами, героями и человековедением (подобное взаимодействие можно считать объектом любого литературнохудожественного произведения произведения).. В таком ключе и с такой высоты следует отнестись к роману, перед которым бессильно само Время (или: у которого обнаруживается ресурс – союз Красоты с Истиной, позволяющий противостоять самому Времени). Мне представляется, что честная и искренняя определенность (следствие, напомним, отсутствия глубины, пугающей бездонности), начинающая странным образом мерцать искрами вечности, из которых соткана диалектика, есть результат молодого, полного жизненных сил отношения к проблеме, которая не может быть адекватно «покрыта» подобным отношением. Мы имеем дело с начинающим лишним, который слишком бодр и энергичен в своем пафосе отрицания, который любуется своими победами над пошлостью, который как бы случайно попал в разряд лишних, не дотянув до некоего высшего, элитного разряда людей, угадавших «назначение высокое». «Пыл благородных стремлений» составляет для него «лучший цвет жизни». Он бурлит чувствами настолько, что поддается очарованию быть разочарованным. Он – герой, который не видит точки приложения «необъятных сил» души, но ощущает наличие этой точки в мире. Наличие точки делает героя, строго 71 говоря, не столько лишним, сколько заблудшим. Мы имеем дело не с «пороками» «в полном их развитии» (это легкомысленная демонизация человека молодостью; полное же развитие порока, увы, прямо ведет к добродетели), а именно с выразительным эскизом того, что обречено развиваться в определенном направлении и стремиться к относительно полному развитию. Следующая – зрелая – стадия лишнего начинается с того, что не выдерживает критики героическая концепция личности и, в частности, в пух и прах разлетается сама категория «надежды на лучшую, иную перспективу». Человек мудреет настолько, что примиряется с бессмысленностью жизни, и в героическом самоубийстве он видит пижонства не меньше, чем в любовании собственной неприкаянностью. Человек, к сожалению, перестал блуждать и пришел именно туда, куда хотел. Тут-то все и начинается… Для следующего этапа трагедии вовсе не обязательны Казбич с Бэлою, милою «пери», княжна Мери и самолюбивый дурак Грушницкий, вояжи в Персию etc. На этом духовном этапе для человека уже не имеет решающего значения, где жить и в каком окружении, ибо глубина проникновения в суть человека позволяет не делать трагедии из того пустяка, что наша жизнь – трагична. Лермонтов дал гениальный портрет (модель) романтической стадии лишнего, когда человек неосторожно наслаждается тем, что «мыслит и судит» себя самого. Глубина романа в том, что он угадал путь, ведущий к подлинной глубине – и тем самым проторил колею в вечность. Нет сомнения, что «Герой Нашего Времени» имеет всемирно-историческое значение как произведение, запечатлевшее важнейший и очень своеобразный этап в «истории (становления – А.А.) души человеческой», в истории становления души человечества – души, стремящейся к самопознанию. Таков истинный масштаб небольшого романа великого русского гения. Такой роман можно написать только будучи молодым, безмерно талантливым и достаточно честным и умным – реальным кандидатом в «лишние», которые составляют духовную элиту человечества. 2. ДИАЛЕКТИКА ФАТАЛИЗМА Поскольку роман о судьбе человека, было бы вполне обоснованным начать анализ с «Фаталиста» – не только композиционной, но и смысловой концовки. Этот фрагмент романа – логический и концептуальный пик. С точки зрения архитектоники, события «Фаталиста» могли произойти до, после или даже во время истории с Бэлой. Судя по реакции Максима Максимыча – до. Они с Печориным приятели, и Максим Максимыч еще не обескуражен странностями этого «славного малого». Логично и то, что «Бэла» – продолжение «Фаталиста», хотя ничего нового в споре о том, «будто судьба человека написана на небесах», не прибавляет. 72 Функция «Бэлы» (равно как и «Максима Максимыча», и «Тамани») – заинтриговать характером Печорина, но не прояснить его. «Фаталист», как и «Княжна Мери», именно все проясняет. Григорий Александрович Печорин бросает вызов самому мирозданию, небесам, судьбе – называйте как угодно. «Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темноголубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою…» Согласно Печорину все просто: или «заблуждения», подвигающие на «великие жертвы для блага человечества», – или «сомнение» и «равнодушие», жестокая расплата за прозрение. Если ты умен – забудь о благе человечества. Логично. Однако сам роман о «жалком потомке» тех, кто вкусил силу веры и надежды, стал жертвой для блага человечества. Факт искусства преодолевает противоречие, которое невозможно преодолеть логически. Есть судьба или нет? Если есть, то чего стоят усилия г. Печорина? Так «на роду написано» – и точка. («Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!» – резюмирует Максим Максимыч в самом начале книги, в «Бэле».) А если нет... Быть иль не быть – таков вопрос; Что благородней духом – покоряться Пращам и стрелам яростной судьбы Иль, ополчась на море смут, сразить их Противоборством? 73 («Гамлет, Принц Датский», трагедия в пяти актах, пер. М. Лозинского) Не правда ли, знакомая альтернатива? Внешне все выглядит чрезвычайно запутанно. Пример с поручиком Вуличем, азартным сербом, двойственен (сквозит мотив «цыганка-сербиянка», сопровождающий гадания, предсказания и предопределения: Вулич по происхождению близок Востоку с его «мусульманским поверьем»). Он то ли доказывает, то ли опровергает. Вроде бы есть судьба. Вначале она сжалилась – и пистолет дал осечку, настырный серб был пощажен; но судьбы не миновать. Дернул же кто-то за язык несчастного Вулича – и с языка соскочил странный вопрос: ««Кого ты, братец, ищешь?» – «Тебя!» – отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца…» Печорин «предсказал невольно бедному его судьбу». «Он прав!» – были последние слова Вулича. Судя по всему, есть судьба. И плетет она свои странные кружева, не щадя ни правого, ни виноватого. Пьяный казак, зарубивший Вулича, на наших глазах превратился из орудия судьбы в ее жертву. «, – Согрешил, брат Ефимыч, – сказал есаул, – так уж нечего делать, покорись! – Не покорюсь! – отвечал казак. – Побойся бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь! – Не покорюсь! – закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок». Ефимыч решил не покориться судьбе. Да не тут-то было. В этот момент «вздумал испытать судьбу» наш Герой. Печорин сделал ставку на расчет, решимость и волю («надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника»). Ему «противоборствовал» пьяный казак, «выразительные глаза» которого «страшно вращались». Однако Печорин «не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде». Преступник был схвачен, связан и отведен под конвой. «После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом?» Вот и Максим Максимыч «примолвил»: «Да, жаль беднягу… Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!.». Да и вообще весь рассказ пронизан предчувствием судьбы и необходимостью смирения пред ней. Вот, например, мимолетная сцена с Настей, хорошенькой дочкой старого урядника, у которого квартировал поручик Печорин. Она, «по обыкновению», ждала Печорина у калитки, «завернувшись в шубку». «Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», – сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула». Не судьба. И Настя покорилась… 74 Судьба Печорина – отдельный сюжет в созданном контексте. Вот его гордое credo: «(…) что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!» Собственно, неважно, есть судьба или нет, ибо даже если и есть судьба, она не может лишить Печорина воли, рассудка и возможности действовать по-своему усмотрению. Роман не о судьбе. Роман об истории души человеческой, о возможностях человека, о его способности бросить вызов судьбе. Финальный «хвостик» знаменательного вечера, описанного в «Фаталисте», когда судьба то ли демонстрирует свою силу, то ли отступает перед силой человека, расчетливо спрятан в середину рассказа. Печорин обронил: «(…) не знаю ли я наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею». «Теперь», после того, как произошли все известные события романа, неизвестно, верит ли он «поверью». Нам же важно, что Печорин выстраивает свои отношения с миром в расчете на свои силы и возможности. Его «быть» – значит «ополчаться» и «противоборствовать». В центре романа оказался человек, бросающий вызов судьбе. Неслучайно тот же Максим Максимыч напророчил: «А, право, жаль, что он (Печорин – А.А.) дурно кончит… да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.». Но это уже фатализм, основанный на здравом смысле и жизненном опыте. Здесь нет мистики. Максим Максимыч, как известно, «вообще не любит метафизических прений». Вот теперь можно вернуться к сердцевине романа и попытаться понять мотивы странных поступков странного человека. Но прежде буквально несколько последних штрихов. Перед нами модель поразительно глубокая, если учесть, кем и когда она была сотворена. Однако с позиций сегодняшнего дня модель эта отражает, увы, пройденный (хотя и вечно живой) этап. Потому что ум и рассудок преодолевают и этот тупик, который выведен в романе. Лермонтов был в возрасте человечества, и поколение, которое он имел несчастье представлять, здесь не при чем, по высшему счету. Возраст человечества и был запечатлен. Сегодня – уже другой возраст. И акцент мы старательно делаем не на том, что заводит в тупик, а на том, как оттуда выбраться. Не диво попасть в лишние, диво попасть – и не пропасть. Печорин смотрел назад, во времена простодушных «предков»: героические идеалы – вот его точка отсчета и, следовательно, стыд, позор и крест. «Печально я гляжу на наше поколенье», и «да, были люди в наше время». В принципе правильно, но не так пышно, господа. Кто вкусил трагедию, тому навсегда смешны герои, дорога назад заказана. Если уж смотреть вперед, 75 то гармония личности видится не в том, чтобы самоотверженностью подавить рефлексию (перестать быть смешным в одном отношении и сделаться посмешищем в другом), а на иной основе: героические идеалы надо поставить на службу личности, а не наоборот. Sic! К этому приходят через духовную революцию или, как сейчас принято говорить, через переоценку ценностей. Печорин был в шаге от нового видения, но так и не сделал этот спасительный шаг. Онегин упал к ногам Татьяны – и обнаружил перспективу. Хладнокровный и трезвомыслящий Печорин также попал в эпицентр бури душевной (см. патетическую погоню за Верою), но не узрел в этом особого смысла, кроме разве что редкого проявления слабости душевной. То был рецидив прошлого, а не планка будущего. Оставался бессмысленный путь в Персию («путешествовать»), подальше от разумной Европы, ибо там, где разум, там и скука. «Как только будет можно, отправлюсь – только не в Европу, избави боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию, – авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». За тридевять земель в тридевятое царство, где хорошо только потому, что нас там нет. С таким багажом – туда и дорога, туда, где царит «мусульманское поверье», где никому в голову не взбредет сомневаться в том, что миром извечно правит судьба, где поколение за поколением люди получают истинное наслаждение не от легкомысленной борьбы с судьбой, а от величественной покорности ей, где светила небесные принимают участие в судьбе каждого и поощряют великие жертвы для блага человечества, где героическое самосознание никого не смешит. Но нам до Персии еще далеко. У нас теперь не то в предмете. Нам бы надобно прочитать весь роман в предложенном контексте. 3. УМ С СЕРДЦЕМ НЕ В ЛАДУ Вооруженные научным видением темы и перспективой относительно «полного» ее «развития», мы можем обратиться к любому фрагменту романа с тем, чтобы выявить связь этого пункта сочинения с подспудным метафизическим целым, единым и неделимым смыслом. Собственно, отлаженную связь такого рода и следует называть воплотившейся Красотой. Больше Красоты – больше смысла. Кто-нибудь непременно «ужасно обидится» – так ведь едкость истин и жестокость темы, к сожалению, для избранных: для лишних. Не каждый фрагмент или момент в равной степени являются смыслонесущими и смыслонаполненными. Есть более или менее узловые (ключевые) в отношении репрезентации «триады» «точки». Мы уже достаточно обильно цитировали то, что непосредственно концентрирует смысл, формирует смысл как таковой или, лучше сказать, оформляет смысловой итог. Однако ценность художественного произведения определяется в первую очередь не 76 этим (если бы этим, то достаточно было бы ограничиться предисловием с его «первой» функцией – и дело было бы сделано), а незримым присутствием и растворенностью крупиц смысла в портретах, деталях, поворотах сюжета, диалогах, синтаксисе, звукоряде – словом, во всем том, что можно назвать образной тканью «сочинения». Соподчинение и сопряжение ткани и фактуры со сверхидеей (смысловым ядром) – это и есть, собственно, художественность. И никакие предисловия не заменят и «не вытянут» роман, если художественность не говорит сама за себя; но те же предисловия могут тонко дополнить «фактуру», придать ей новые измерения. Если угодно, без «Бэлы» и «Тамани», мало что проясняющих в духовном облике главного героя и служащих для нагнетания читательского аппетита и коррекции внимания, мы имели бы худобедно идею портрета, контур Героя, но не полнокровный полуромантический характер фатально отринутого обществом одиночки. Посему обратимся к портрету Печорина – чрезвычайно объемному, выполненному к тому же в сугубо аналитическом ключе, что характеризует (набрасывает портрет) и самого «автора», чьими глазами мы лицезреем Героя, вслед за кем послушно изумляемся и доверчиво поглощаем тщательно отобранную для нас информацию. Итак, сначала, повелеваясь воле «автора», мы должны прочитать «Бэлу» – и только потом, в «Максиме Максимыче», назначен выход на сцену главного персонажа: уже не сюжет, не «историйка», не действия говорят о Печорине, а его внешность. Это все расчеты «автора», – человека, который на наивный вопрос Максима Максимыча «неужто тамошняя (столичная – А.А.) молодежь вся такова», тонко отвечает: «много есть людей, говорящих то же самое (что и Печорин о себе – А.А.); что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок». Штабс-капитан, разумеется, не понял этих тонкостей. «Автор», разумеется, учел и это обстоятельство… Портрет, собственно, сделан на одном приеме: фиксируется ряд противоречий, которые бьют в одну точку, кучно выстраиваются вокруг определения «странный». (Это определение, кстати сказать, впервые прозвучит из уст простодушного Максима Максимыча в «Бэле»: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха… Да-с, с большими был странностями (…)». В доказательство странностей, проявляющихся в поведении славного малого, Максим Максимыч приводит несколько эпизодов, то есть прибегает к той же 77 технологии, по которой выстроен портрет самим «автором», но не будем забегать назад, ибо композиция сюжета составлена таким образом, что первые события, о которых повествуется в романе, случились позднее тех, что идут следом. Что вы хотите: в странных историях все странно…) Григорий Александрович Печорин был «среднего роста», «стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение» – однако «маленькая аристократическая рука» удивляла «худобой его бледных пальцев»; «когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся», «положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость»; «с первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать»; «в его улыбке было что-то детское» – несмотря на байроническую матерость; «его кожа имела какую-то женскую нежность» – и в то же время лоб бороздили «следы морщин»; «несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные»; карие глаза его «не смеялись, когда он смеялся»; стальной блеск во взгляде парадоксально отливал равнодушным спокойствием. Добавьте к портрету сомнительные жесты, в частности, холодно протянутую руку добрейшему Максиму Максимычу, который бежал навстречу Печорину «что было мочи», пожилой штабс-капитан «едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали… он хотел кинуться на шею Печорину (…)»; прибавьте непонятное нежелание общаться со старым приятелем – и странность Печорина покажется вам слишком мягкой характеристикой. Собственно, весь роман крутится вокруг одного пункта – странного свойства совмещать несовместимое, быть то ли ангелом, то ли бесом, быть иль не быть. Такое вопиющее противопоставление и есть романтическая демонизация, ибо оно исходит из того, что человек не может быть так дурен. На самом деле – еще как может, но это тема уже другого сочинения. «Журнал Печорина» вновь предваряется «предисловием», в котором «автор» сообщает нам, что он «убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки», а это, в свою очередь, должно убедить нас, читателей, в искренности «автора», ибо последний, «несколько объясняя причины», не скрывает и собственной слабости: стремления понять себя в частности и человека вообще («мы почти всегда извиняем то, что понимаем»). «Одно желание пользы» заставило автора напечатать отрывки из журнала, а польза, очевидно, состояла в том, чтобы как можно меньше читателей повторило путь «в Персию». С другой стороны, мнение «автора» о характере Печорина («мой ответ – заглавие этой книги» – заглавие, заметим, сочиненное автором и ненавязчиво доведенное до публики) откровенно противоречит «желанию пользы». Героями 78 восхищаются даже тогда, когда их судят. Слабость «автора» в том, что он питает слабость к личности Печорина, в значительной степени разделяет его «странные» убеждения, он, «автор», именно его, Печорина, – а значит, отчасти, и себя! – делает высшей точкой отсчета в романе. Печорину никто не противостоит достойно, и даже не подразумевается паритетного противостояния – настолько герой недосягаем. «Автор», как нам уже известно, прекрасно знает цену своему герою. Даже само желание выставить собственные пороки напоказ роднит лукавого «автора» (слова которого никогда не следует понимать буквально: вспоминается стиль хитромудрого повествователя «Евгения Онегина») с «соавтором», с Печориным: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. (Мотив трагической кончины Грибоедова – налицо. А.А.) Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением». Радость автора глупая публика поспешит объявить безнравственной; однако «заглавие этой книги» смещает смысловые акценты. Противоречий очень много. Ну, что ж, и этот стиль узнаваем. Появление «этой книги» – оправдание «нашего поколения», заполнение «пустоты жизни», превращение жизни из «пустой и глупой шутки» в нечто иное, шутке противоположное. У нормального человека это вполне может вызвать радость. «Да это злая ирония!» – скажут они («некоторые читатели» – А.А.). – Не знаю (ответ «автора» – А.А.)». «Автор» шутит. Из «Тамани» (первой части журнала, относящейся одновременно к первой части романа) мы узнаем, что «судьбе» угодно было «кинуть» Печорина «в мирный круг честных контрабандистов». Григорий Александрович выстоял, в очередной раз одолел судьбу, однако ему «стало грустно». «Какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!» – иронически восклицает Печорин по поводу злой иронии судьбы, оставляющей «странствующему офицеру» чувство бессмысленности после всех его побед. Так все же есть судьба? «Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно», – «закричал» «в восхищении» Печорин, когда узнал, что судьба позаботилась о «завязке» очередной романтической авантюры; «об развязке этой комедии мы похлопочем», – заключил Печорин, не склонный во всем полагаться на судьбу. (Речь идет о «Княжне Мери», второй части журнала и одновременно начальной повести Части второй романа, у которой (части) имеется подзаголовок «окончание журнала Печорина». Как видим, «автор позаботился о том, чтобы создать изрядную композиционную путаницу. Вторая часть романа («Княжна Мери» и «Фаталист») не совпадает с текстом журнала. «Тамань» отчего-то отнесена к Части первой. Уж, казалось бы, чего проще: журнал Печорина – и все остальное, имеющее отношение к Печорину, но не вошедшее в журнал. Ан нет. «Автор» настаивает на делении романа не по формальным, а по сущностным признакам: первые три повести (Часть первая) – взгляд со стороны, акцент на 79 внешнем, на явлении; вторые две (Часть вторая) – движение от сути к явлениям через рефлексию Печорина. Все замыкается в круг, своеобразный жизненный цикл, и «автор» становится соавтором Героя Нашего Времени. Очень непростой «автор» вдумчиво поработал над нерукотворным памятником Герою.) В этой истории с Грушницким, княгиней и княжной Мери, Верой «водяным обществом» и доктором Вернером, – историей со своей завязкой, кульминацией и развязкой, интересно вот что. «Комедия» эта задумана и исполнена (Печорин выступает полноправным соавтором, сценаристом и режиссером, наравне с судьбой, он именно играет судьбами других) как лекарство от скуки, забава, развлечение. Своего рода вариант бесцельного «путешествия». Зададимся вопросами: чем же пытается разогнать неразгоняемую скуку баловень фортуны? из каких материй состоит «комедия»? «Комедия», то есть игра в жизнь, доставляет новые ощущения, небывалые ощущения – пищу для души, но не для ума. Разум мрачно созерцает, однако не принимает участия в игре. Смертельную мировоззренческую скуку «комедия» с ее хорошо известными персонажами и предсказуемым финалом разогнать не может. Комедия отвлекает от этой скуки на время, позволяет забыться. Ощущения становятся способом приостановить разрушительную работу мысли. Иными словами, «комедия» выступает формой агонии личности, формой трагедии. Вот откуда насыщенность романа трагической иронией. Трагикомедия в данном случае означает: либо комедия, либо трагедия. Печорин цепляется за комедию жизни, чтобы отвлечься от трагедии, толкающей в объятия смерти, чтобы как можно дальше отложить свой отъезд с экзотического Кавказа в еще более экзотическую Персию. Теперь уж он сам решил позаботиться о том, «чтобы не было скучно». В который раз обратим внимание: не в Европу бежит от себя Печорин, а в Азию, в дремучую Азию. Карету мне, карету. «Какой бес несет его теперь в Персию» (Максим Максимыч), в «чудной» коляске, которой «легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток» (европейский, конечно)? «Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге,» – тонко выделяет «автор» обычные, ничем не примечательные слова здравомыслящего Максима Максимыча. (Кстати, вся тонкость и глубина романа «упакованы» в самые простые, обыденные даже слова, выражения, сюжетные ходы, ситуации… Не на заземленность ли трагедии, не на тривиальный ли вкус ея, не на ее ли обычность намекает «автор»? С него станется. А мы о своем: красоту не отделишь от истины, способ выражения от смысла выражаемого…) Из Европы можно бежать только в Азию, куда ж еще? Разум ищет спасения в «порывах души», в непрерывно обновляемых ощущениях. Это и есть «последнее утешение»: вся надежда на «бури» и «дурные дороги». В Европе нет дурных дорог. Вольному воля: Печорину, как и закононепослушному Янко, «везде дорога, где только ветер дует и море шумит!» Когда ощущения становятся 80 способом отвлечься от мыслей, от изнурительной в своей никчемности работы разума, причину трагедии следует искать именно в «образе мыслей». Заданность и фатальная ограниченность компетенции разума – вот что «кинуло» Печорина в жизнь и сделало на время участником комедии. К сожалению, он достаточно быстро вышел из игры. И разум тому виною, что ж еще? Образ мыслей (именно образ, а не строго логический дискурс) выписан поразительно точно. Мы уже знаем, что Печорин давно «живет не сердцем, а головою». Это и составляет главный конфликт романа и служит пружиной, запускающей в действие весь сложный романный «механизм» (нет сомнения, что «механизм», ибо «сочинение» есть плод рационального отношения к жизни и душе). И что же голова? Голова, ум, разум – мертвят, убивают жизнь, иссушают сердце. «Голова» както странно придает жизни тот смысл, который жизни-то и угрожает. Вот Печорин делится сокровенным с Вернером (у которого, кстати, «одна нога была (…) короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна»; вдобавок – «молодежь прозвала его Мефистофилем»… Весь знаковый джентльменский набор, накопленный зловещей рациональной культурой Европы, – нашему просвещенному вниманию): « – Заметьте, любезный доктор, – сказал я, – что без дураков было бы на свете очень скучно… Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово – для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость. Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул». Вот они, холостые обороты разума в действии. Это ведь онтология разума, оценка его весьма относительных возможностей в деле совершенствования человека и точно указанный выход из тупика: ум обнажает глупость и бессмысленность жизни и познания, остается одно: «рассказывать новости», то есть переключаться на ощущения (ибо с точки зрения презренного разума, новое – это всегда хорошо забытое старое; с точки зрения разума, бессмысленно делиться новостями). Общение в жанре «размена» новостями – излюбленный принцип женского, бездумного общения. Самое разумное – не думать, не обмениваться мыслями. Все известно заранее, и утомительное проговаривание известного наводит лишь скуку, зевоту и сон. Ergo: быть мыслителем, аналитиком значит непременно убивать чувства, усыплять душу. Так разум честно определяет себя в качестве главного врага жизни и человека. 81 Вернер, например, «изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа», неудивительно, что из него вышел «скептик и матерьялист». «А вместе с этим (предоставим слово Печорину и «автору» – А.А.) поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах». Поэт и скептик: вот интрига романа. Ведь и сам Печорин – поэт не на шутку. Можно даже сказать, что он именно поэтически распорядился своей жизнью, несмотря на то, что истоком его поэзии был скепсис. Мало того, он поэт нередко и «на словах»: лирические отступления и поэтически выполненные пейзажи тому неоспоримые и впечатляющие свидетельства. (Одно из них – начало «Княжны Мери»: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли». И т.д. Какой изумительно многомерный стиль – и на таком уровне выполнена значительная часть романа (стопроцентное художественное качество в крупных вещах практически недостижимо). Описательные красоты непременно слиты с общим смыслом, постоянно сопрягаются с ним и, собственно, создают его, как бы вытекая из него. Печорин, будучи изгоем и «лишним», селится «на краю города», а будучи духовно выше всех, считающих его «лишним», нанимает квартиру «на самом высоком месте». В стороне от всех, потому что выше всех. Выше только горы, природа – но этого Печорин так никогда и не поймет. Все «лирические отступления», разбросанные по обочинам истории, на самом деле располагаются на смысловой магистрали. Поэзия, чреватая мыслью: это ведь метафора умной души Печорина.) А сколько поэтических глупостей не наделал или чуть было не наделал г. Печорин! Все, буквально все события, описанное в романе и касающиеся главного героя, есть именно поэтические глупости. Разоблачать глупость поэзии – действительно утомительное занятие, это на самом деле по-настоящему скучно. Не этим бы заниматься уму-разуму, но… Так или иначе тот род ума, который имеют в виду Печорин, Вернер и «автор», находится в оппозиции к жизни. Он позволяет и заставляет смотреть на жизнь либо как на комедию (ибо все роли расписаны, и «завязка» неизбежна настолько, что можно планировать «развязку»), либо, если ты серьезно не участвуешь в комедии, de facto ты становишься трагическим персонажем. Тогда прощай комедия, прощай жизнь. Княжне Мери и Грушницкому, в соответствии с логикой мировоззрения, были предназначены роли жертв (архетипическая изнанка ситуации, кстати, в очередной раз возвращает нас к Онегину). Но сначала они должны были «поволновать кровь» г. Печорину, который честно признается в своих пороках (излюбленный его трюк, компрометирующий, кстати, разум и отчасти реабилитирующий мятущуюся душу): «(…) сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления…» Мери должна была «удовлетворить странную потребность сердца», которая состояла в том, чтобы «для 82 собственного удовольствия» с жадностью поглощать «их чувства, их нежность, их радости и страданья» – тех, кто любит тебя. «Есть минуты, когда я понимаю Вампира», – кровожадно признается Печорин. «А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!» «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы». Не кажется ли уже и вам, что это ум искалечил невинную душу, сделал ее заложницей дурацких игр? Если кажется, значит для Героя еще не все потеряно, значит роман написан не с целью оправдания пороков, а во спасение души и поэзии. Но не будем забегать вперед. Что касается врагов, то есть людей, ненавидящих тебя, то и в этом случае патологический эгоизм Печорина видит в них великолепное зелье от скуки: «Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью». Какая-то дьявольская предприимчивость и изворотливость, идущая явно не от сердца, сосуда чистого и непорочного. Умный Печорин ничем не лучше, а гораздо хуже своих глупых врагов. Уже потому хуже, что играет в их игру и побеждает врагов их же оружием. Что же тогда Печорин называет «жить не сердцем, а головою»? «Ведь этот журнал пишу я для себя»: абсолютная, тотальная замкнутость на себе. Зачем тебе сердце, если другие только «пища» для тебя? Сердце, пожалуй, будет только мешать. Для него другие – лишние, а он – самодостаточен. Какаято инфернальная комедия получается… «Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти»: страсть – есть, безумства – нет. Из страсти вынули душу. Испытывать холодные страсти, щекотать нервы и посмеиваться над собой и другими и значит «жить головою». Странно: это не следствие большой работы ума. Результатом паралича души (неспособности откликаться на потребности другого) стали иные причины и обстоятельства. Может быть, как раз лень и самонадеянность ума, решившего, что он «заранее» все знает? Тогда ум из врага может превратиться в союзника человека… Мотив судьбы никуда не исчезает из романа с первых до последних страниц, в «Фаталисте» же мотив этот начинает звучать полифонически, перерастая в «философию». Можно спорить о степени влияния фортуны на жизнь человека, но присутствие в мире незримой силы для Печорина – очевидно. В этом контексте интересно проинтерпретировать неясный, смутный отрывок романа, который полон странных намеков. Не будем настаивать, что читать его следует так и только так, однако у нас есть основания для подобного прочтения. «Княжна Мери», запись от 14 июня. «Другой бы предложил на моем месте 83 княжне son coeur et sa fortune; но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. (…) Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие… (…) Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне смерть от злой жены; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе… Между тем, что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере, буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже». Предсказание «одной старухи», судя по всему, не сбылось, ибо Печорин никогда не был женат. Однако почему бы нам не предположить, что он все же принял «смерть от злой жены» – только суженой Герою стала не простая смертная, а сама Госпожа Фортуна. Он не мог жениться, ибо был обручен с судьбой. Возможно, в нашей версии и есть мелодраматическая натяжка; но, во-первых, роман отнюдь не чужд мелодраматизма, а во-вторых (и в главных), версия вполне в духе поэтической натуры Печорина. С него и это станется. Он ведь иногда побаивается собственной непредсказуемости, имеющей, конечно, женско-поэтические корни. «Неужто я влюблен (в княжну Мери – А.А.)?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать», – очаровательно противоречит себе Печорин. Судьба сыграла с незадачливым супругом злую шутку и обрекла «злобный ум кипеть в бездействии пустом». Более того: была «цель», «было мне назначение высокое». «Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманкой страстей пустых и неблагодарных». В контексте романа это читается следующим образом: судьба дала силы необъятные, но дала и «назначение высокое» под эти самые силы. «Не угадал» – не был послушен судьбе. И вот результат: жизнь превратилась в комедию. Важно вот что: наличие судьбы (или некой эквивалентной ей силы) означает присутствие предопределенности. Печорин стал тем, кем он стал, не благодаря себе, не благодаря работе ума, он просто пал жертвой дальновидной фортуны. Получается: он – исключение из правил, но не само правило, ошибка, но не закономерность, уникум, но не универсальный тип. Наличие судьбы обезличивает героя. Заигрывание с романтизмом рано или поздно уводит от Истины. Слава богу, не схватка с судьбой стала определяющей для романа, а тип личности Печорина – то есть все же интерес к закономерному в исключительной личности. Печорин – портрет поколения, и не проделки судьбы сделали его таким, но универсальная человеческая «болезнь»: взаимодействие психики и сознания, сердца и головы. Каждый человек в той или иной степени Печорин, если он начинает жить головой и по глупости забывает о сердце. Этим Печорин и ценен, это и делает его живым и страдающим. Итак, душа, с одной стороны, атрофировалась, перестала быть восприимчивой к впечатлениям, перестала тянуться у жизни и реагировать на пароль культуры – 84 на вожделенную формулу счастья, открывающую маленький рай на большой земле; а с другой – поэтически тоскует о необретенном назначении. Разум при этом настроен исключительно критически и деструктивно, во всем видит только смешную, недостойную «высокого назначения» сторону. Он не помогает жить, а хладнокровно разоблачает низкие истины. Вот такой райско-адский коктейль образовался. Следует признать, что мы имеем дело с несколько отвлеченной, умозрительной концепцией личности, но тема взята в верном ракурсе: катастрофическое преобладание разума неизбежно ведет к скуке, нежеланию жить, скудости эмоциональной палитры, к желанию избавиться от унылой комедии. «И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь – из любопытства: ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!» Чего «нового» ожидает душа, каких еще «новостей»? С точки зрения разума, их нет и быть не может. С точки зрения души, жизнь права уж тем, что она жизнь. По большому счету, разум и жизнь противопоставлены как полюса и антагонисты. Источником и причиной болезни фактически объявлен разум. «Болезнь указана». А как ее излечить? Это уж Бог знает? Иными словами, болезнь неизлечима? По роману получается именно так. Разум может загнать только «в Персию», продлить забаву и продолжить комедию, но ничего нового разум предложить не может. Этот постулат очень и очень возлюбила русская литература, да и вообще вся мировая душевная, то бишь художественно-религиозная культура. Вся беда в том, что с разумом стали отождествлять безжалостную логическую мощь, бездушную антигуманную «машину» – источник всех человеческих трагедий. Хотите меньше трагедий, больше надежды и любви? Позаботьтесь о том, чтобы ума в вашей жизни было как можно меньше. Но это все логика того самого «ума», который несет только трагедию. И уж коль скоро без ума не обойтись в делах человеческих, надо отыскать иное качество ума, позволяющее по-иному выстраивать отношения с душой, преодолевать трагедии и избежать Персии. О возможности таких «новых перспектив догадался Онегин, он почувствовал возможность новой духовности, хотя и продолжал находиться в замкнутом трагическом круге. Однако это действительно новый поворот темы, не лермонтовский и не печоринский. Роман же «Герой Нашего Времени» поразительно полно исчерпал, если не закрыл, тему в том ее модусе, о котором мы говорили ранее. Впору говорить о мистике – совершенство романа столь велико, что заставляет принимать сказанное им за истину в последней инстанции. К счастью для нас – не в последней. 85 К сожалению, во многом, в очень многом сказанное в романе является истиной. Теперь понятно, почему так поэтически и одновременно трагически завершается «Княжна Мери». Судьба не скупо отделила Герою от щедрот своих, но она же и наделила его ущербным мировидением: «Отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига» и т.д. Душа роковым образом не может оценить тихих радостей и спокойствия, а в голову даже не взбредет мысль о том, что ни одна доля сама по себе не удовлетворит широко мыслящего человека. Доля она и есть доля, часть целого; чем больше долей – тем полнее бытие. А все эти разбойничьи бриги, «ропот набегающих волн», «туманная даль», «желанный парус», «пустынная пристань» – словом, экзотическая пиратская атрибутика, отчасти известная нам уже по «Тамани», – все это не имеет отношения к схватке с судьбой, как это представляется героическому сознанию. Это хорошая мина при плохой игре, или способ поэтизации своей неспособности противостоять судьбе. Понятно также и то, что «комедия» должна была завершиться… нет, не трагедией, это привилегия г. Печорина; она должна была завершиться словами «finita la comedia» (такой эпитафией ничтожному Грушницкому, и на этом ничтожном основании мстительно убиенному, завершил свою достославную дуэль, последний акт комедии, Печорин), ибо конец комедии означал конец жизни, и наоборот. Жизнь и есть комедия, и надо быть шутом гороховым, чтобы согласиться жить. Что за доля! «Я вам не игрушка!.». и «со мной этак не шутят» восклицал Печорин, мысленно обращаясь к своим «противникам», Грушницкому и иже с ним. То же самое мог и должен был сказать Печорин судьбе. Исчезновение в Персию – это последний способ отстоять свою независимость и доказать, что он и только он, и никто иной, распоряжается своей жизнью. Не смирением и равнодушием – а вызовом заканчивает свой путь Печорин. Или взять ту же дуэль с Грушницким: не поймешь, кто кого испытывает: судьба Печорина или Печорин – судьбу. «Я хотел дать себе полное право не щадить его (Грушницкого – А.А.), если бы судьба меня помиловала». Судьба распоряжается жизнью Григория Александровича, а уж последний избрал себе право стать судьбой Грушницкого. Был брошен жребий – и он оказался немилостив в отношении Печорина. И опять Герой силой и решительностью характера обращает все в свою пользу. Хотя – и не без доли везения… Кто кого? «Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка», – произносит «трагическую фразу» драгунский капитан, секундант Грушницкого. В той ситуации фраза отдавала фарсом, однако сама по себе она была весьма к месту: судьбоносность происходящего ни у кого не вызывала сомнения. (Дуэль Грушницкого и Печорина, заметим, имеет и другой подтекст. Грушницкий, 86 находящийся на «низших» ступенях социальной лестницы, ведущей в высший свет, донашивал «моду разочарования» в жизни; Печорин же, принадлежавший к «высшим(!) слоям» презираемого им общества, «старался скрыть это несчастие, как порок». «Разочарование» Грушницкого было формой очарования жизнью, он именно жил и вовсе не скучал: он был для этого слишком «глуп», по выражению Печорина. Дуэль с Грушницким превращается для Печорина в дуэль с собой: к барьеру поставлены два отношения к жизни, и одно должно уступить место другому. Душа или холодный ум: либо – либо. «Нам на земле вдвоем нет места…» – высказывает Грушницкий то, что давно чувствует Печорин: «я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать». Печорин еще не понимает, что убив Грушницкого (то есть убив в себе «комплекс Грушницкого», комплекс жизни), он смертельно ранит самого себя. Вновь над Машуком и Эльборусом витает тень Онегина, наставляющего пистолет на бедного Ленского. Тема, тема…) Глубже всех поняла Печорина («проникла во все тайны души твоей…») женщина с именем более чем символическим: Вера. Именно ее так не хватало Печорину, именно в отчаянную погоню за нею помчался Печорин, да только загнал коня. Не судьба. Таким Печорина мы еще не видели и больше не увидим. «И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся». Герой обнаруживает слабость, однако сама слабость эта – уже что-то новенькое, ростки нового. Рассудок может, оказывается, «замолкать», душа может еще не стыдиться погони за призрачным счастьем («все было бы спасено», но…: «я остался в степи один, потеряв последнюю надежду»). Все было бы спасено – но для этого пришлось бы отчасти пожертвовать своей исключительностью, в известном смысле стать как все, разделить судьбу всех и слиться с «толпой». Но Вернер с Печориным тем и живут, что позволяет им «отличить в толпе друг друга». Одно дело водить дружбу с Мефистофилем, и совсем другое – с Максим Максимычем. В слабости и крылась сила Печорина (как кроется сила человека вообще), но он не понял этого, не угадал, «с презрением» отвернулся от своей слабости (единственное, чего пуще геенны огненной боятся господа «лишние», – это презрения, самого байронического чувства, заботливо взращенного ими же, ибо умение презирать отличает их от толпы). Не судьба. Герой остался без Веры, а она осталась с безнадежной любовью к Печорину. Любовь в романтическом романе либо приносит несчастье, если она болееменее продолжительна, «вечна» (Вера: «горько мне было!»), либо, если век ее недолог, превращается в ненависть. Княжна Мери в конечном счете не «презирает» (чего так опасался Герой), а именно «ненавидит», то есть по-своему 87 любит Печорина, за что последний «поблагодарил, поклонился почтительно и вышел». Не презирает – значит уважает. И на том спасибо. Finita la comedia. Не кто иной как любящая Вера открыла нам формулу героя: «Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая, никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном». Поэт, презирающий в себе поэтическое: такова духовная природа гибрида под названием Печорин. Мироощущение Печорина, так сказать, без вины виноватого избранника небес, великолепно переводится в поэтический план, оно словно бы самой судьбой создано и предназначено для поэтизации: Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг Исчезнет при слове рассудка, И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – Такая пустая и глупая шутка… И скучно и грустно… Одиночество, желанья, стремление к счастью, невозможность счастья, и радость, и муки, любовь, ненависть etc. – все это причудливым образом переплавляется в презрение к жизни. За всем этим стоит самая большая человеческая слабость – выглядеть сильным. Вот «этак» шутит судьба с теми, кто относится к жизни как к глупой шутке. Почему же читатели, подобно преданной Вере, если не охотно, то не без удовольствия прощают Печорину все его пороки и во многом разделяют мнение несчастной Веры о нем? Все дело в том, что он предельно честен. А честность в сочетании с умом, да еще с характером – это путеводная звезда человечества. Все лучшие люди отмечены были этим сочетанием. Такие, как Печорин, ничего не страшась, рвутся к истине. Печорин и есть поэтизация самого высокого в человеке. Странная получилась вещь: поэтическое отношение к «порокам» и «болезням» превращает их в нечто не равное себе, в нечто преодолевающее порочность, в нечто очищающее от скверны. Высокое искусство – это «холодное вниманье» плюс горячее сострадание. В свете искусства пороки Печорина (искушенного в искусстве быть светским), становятся едва ли не высокими достоинствами, его холодное внимание – способом скрыть слезы, отношение к жизни как к пустой и глупой шутке оборачивается стремлением открыть «назначение высокое». Искусство может поэтизировать лишь то, что объективно, по сути своей, «за жизнь», что является союзником души. Сам факт 88 поэтизации – это своего рода искупление и очищение. С чем и поздравим г. Лермонтова и его горячих поклонников. В заключение, верные научному культу холодного внимания, выскажем парадоксальную мысль: роман бы только потерял от того, что вместил бы в себя больше истины, чем это случилось. Вся его поэтичность, ностальгия по высокому и контрастная романтичность заиграли бы иными красками и тонами – боюсь, менее яркими, чистыми и искренними. Не будем забывать, что поэзия должна быть глуповата. Так мера совершенства складывается из органического слияния Красоты – Добра – Истины. Мера целого предполагает пропорциональное соотношение компонентов. Такова «формула» главной темы человека: психики и сознания, которые «взаимно друг друга морочат». Является гений – и тема оживает, мерцая высокими глубинами. 89 ЧАСТЬ 3. Л.Н. ТОЛСТОЙ 3.1. МЫСЛИШЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОШИБАЕШЬСЯ... (роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого в свете целостного анализа) 1 Лев Николаевич Толстой был настолько гениален в интеллектуальном, эмоционально-душевном и художественном отношениях, что мог позволить себе роскошь высказываться по-сократовски просто и внятно. Вся не каждому доступная сложность Толстого произрастает из некой высшей простоты; простотой же она и поверяется. Писатель не скрывал: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы (то есть «решу вопрос» – А.А.), я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему свою жизнь и все свои силы..». (здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсивом – автором – А.А.). Но «заставить полюбить жизнь» – это и есть своего рода «разрешение вопроса»: уже здесь заложена хитромудрая инверсия. Чтобы писать роман, преследуя «цель художника», надо отдавать себе отчет, в чем заключен смысл именно так понятой цели. Толстой не просто любит жизнь и делится от избытка чувств своим праздничным мироощущением. «Полюблять жизнь» – это осознанная формула, воплощающая одну из высших культурных ценностей. Таким образом, любовь к жизни превращается в исполненный смысла идеологический акт, восходящий к толстовской «картине мира», в концентрированное выражение его мировоззрения. А теперь спросим себя: что значит «полюблять жизнь» применительно к человеку культурному? Это значит осознанно оберегать ее от разрушительного вмешательства интеллекта, защищать от мертвящего излучения ума. Толстой совершенно определенно и однозначно сделал свой выбор. Если Пушкин полемически поэтизировал тех, кто отваживался честно мыслить, умудряясь при этом не порывать с жизнью, то Толстой главными своими героями сделал тех, кто сумел откреститься от разума и стал просто жить, не мудрствуя лукаво. Витализм Льва Николаевича излился в гимн жизни – следовательно, в гимн человеку комическому (что предполагает порицание человека рационального), и это отчетливо проявилось уже в «Казаках», нашло высшее свое воплощение в «Войне и мире», продолжилось в «Анне 90 Карениной», «Смерти Ивана Ильича», «Хаджи Мурате»; строго говоря, очерченная смысловая антитеза в той или иной степени, явно или имплицитно, свойственна почти всем значительным вещам Толстого. Отказаться от разума – значит положиться на что-то вне тебя. Вот почему положительные герои Толстого – именно Герои, страстно взыскующие незыблемые Авторитарные Идеалы, готовые жертвовать жизнью ради выстраданной идеи «любви к жизни». Примиряя разум и комизм натуры, Пушкин философски констатирует: «Так нас природа сотворила, к противуречию склонна». Толстой по этому поводу непримиримо возражает: мыслишь, следовательно, всего лишь существуешь; перестань мыслить – и станешь человеком, начнешь жить, а не существовать. Себя понять невозможно по той простой причине, что ты не хозяин себе; у природы есть свой Творец, и критически мыслить тебе, рожденному жить, значит слишком много брать на себя – значит сопротивляться воле Творца, а это в высшей степени неразумно. Разум дан, по Толстому, для того, чтобы человек мог осознать «сверхразумность» своей природы, уяснить ничтожность разума и, в идеале, понять бессмысленность разумного отношения к жизни. Антикартезианский подтекст всей толстовской «картины мира» отчетливо проявился в его всеобъемлющей эпопее «Война и мир» – бесспорно, центральном и лучшем творении Л.Н. Толстого. Несомненно, также, что «Война и мир», как ранее «Евгений Онегин», стал точкой пересечения «разумного» и «психологического» типов отношения к действительности. Именно в этой «точке» – в методологии освоении мира – и содержится генетическая связь двух великих романов, двух грандиозных явлений культуры в не слишком долгой истории человечества. Толстовский роман-эпопея – о человеке, о человеческих способах освоения «мира», о его, человека, подвластности разумным и «сверхразумным» императивам, о его представлении о счастье и об объективном содержании счастья, о смысле феномена «человеческая жизнь». Каков человек – таков и мир; с другой стороны, мир заботливо подает знаки человеку, несущие информацию о том, как следует жить, чтобы оптимально соответствовать незримым законам «мира». Все, все в художественном космосе Л.Н.Толстого получает человеческое измерение, соотносимое с культом нерассуждающей жизни. 2 С чего следует начинать анализ произведения, которое представляет собой некую художественную модель универсума? С начала? Однако начало является таким же моментом целого, как и его конец, как и любой иной момент целостности. Значит ли это, что в принципе безразлично, 91 через какой момент входить в целостность, если несомненно только одно: целостность можно осваивать через составляющие ее моменты? Нет, не значит. Разные моменты с различной степенью полноты репрезентируют целое. Существуют ключевые моменты (такие, как «Война и мир» и «Евгений Онегин» – по отношению ко всей мировой художественной культуре ), своеобразные «магические кристаллы» , сквозь которые можно мгновенно, единомоментно схватить суть художественной модели. Такой магистральной «клеточкой художественности», положенной в основу творческого метода писателя (точнее, той стороны метода, которую мы называем стадиально-индивидуальной в отличие от типологической, внеисторической), представляются принципы духовно-эстетического освоения жизни или принципы обусловленности поведения того или иного персонажа. Поведение же, как известно, зависит от избранной системы ценностей. Многоплановое полотно имеет несколько «точек» предельного фокусирования; но существуют и «точки точек». Иначе говоря, в произведении важно обнаружить иерархию принципов космизации, упорядочивания, «сопряжения» внутренне связанных моментов. Определение «момент целого» означает: не существует целого вне таких моментов, совокупность структурированных моментов и есть, собственно, целое как таковое. Главным героем эпопеи является, конечно, не народ, а тот тип сознания, который воплощен (в том числе и через отношение к народу) в образе автора или повествователя; сам образ автора в данном случае мог быть раскрыт не иначе как через систему персонажей, которые, в свою очередь, реализовались через принципы духовно-эстетического освоения жизни (интегрально сведенные в аналогичные по функции «принципы» образа автора). Следовательно, нас будут интересовать не все персонажи, а – имеющие прямое отношение к раскрытию универсального типа сознания (образа автора), держащего все нити художественного управления в своих руках.(Можно было бы назвать такую, спаянную внутренними отношениями, структуру «монологической», однако это было бы неверно хотя бы уже по той причине, что подобная монологическая (пирамидально устроенная, имеющая единый центр) структура ориентирована на диалог. Содержательно-идеологический потенциал – полемически заряжен, явно исходит из наличия оппонента. Вследствие этого и просто потому, что любой монолог есть момент диалога, считать «Войну и мир» монологическим романом можно только условно.) Таких персонажей не очень много. Существует тот оптимальный минимум, без которого в принципе невозможно обойтись. Такой минимальный набор, как представляется, включает, сверх упомянутого образа автора (повествователя), Андрея Болконского, Пьера Безухова и Наташу Ростову. Разумеется, роман несводим к перечисленным героям, однако без них он просто не состоялся бы: они составляют «зерно» романа. Мир, по Толстому, квантуется нациями, даже 92 цивилизациями; каждая нация, «народ», помимо того, что он состоит из различных культурно-социальных каст и прослоек, квантуется семьями; каждая семья квантуется личностями. Таким образом, «единицей», в которой отражается весь мир и которая есть непосредственный активный состав, «вещество» мира – такой единицей является личность. Нам удобнее начать рассмотрение целостно организованного романа-эпопеи с уточнения самой сути понятия «целостность», поскольку это имеет прямое отношение к личности. Феномен целостности возникает только тогда, когда речь идет о совмещении несовместимых систем, каждая из которых является условием существования другой, каждая из которых усиливает и дополняет другую, в результате чего образуется новая, ранее не существовавшая целостность, обладающая имманентным комплексом качеств, несводимых к вполне суверенным и автономным качествам систем. Исчезает целостность – улетучиваются и ее качества. Каждая из систем, взятая изолированно, не может обладать теми качествами, которые рождаются из симбиотического сращения антиподов. Вот почему сознание – целостно: психика и собственно сознание синтезированы в «духовность». Вот почему личность как носитель сознания – целостна: витальное измерение стало предпосылкой возникновения ментального. Вот почему культура, порожденная личностью, – целостна: натура, входящая в «состав» культуры, делает последнюю не равной просто сумме природных и антиприродных элементов. Вот почему художественное произведение как момент культуры – целостно: внеэстетическое здесь становится условием эстетической выразительности и художественного совершенства. Роман Пушкина, как мы помним, был целостен по всем перечисленным позициям, тотально целостен. Роман Толстого устроен иначе. Прежде всего, здесь нет персонажа, подобного Евгению Онегину, в котором бы противоречиво соединились «ум» и «сердце», сообщая их союзу трагическое качество. Толстой персонифицировал полюса, закрепив начало рассудочно-рациональное за Андреем Болконским и наградив способностями к интуитивно-психологической рефлексии Пьера Безухова. (Разумеется, и один, и другой, будучи «знаковыми» фигурами, являются лишь символами, представляющими и объединяющими целый ряд персонажей, идущих, так или иначе, в фарватере либо одного, либо другого. Однако к этому вопросу целесообразнее обратиться несколько позднее.) И это не просто формальный прием. Заменив формулу «два в одном» на «или – или», Толстой дал понять, что он не видит возможности гармоничного сосуществования «моделирующего» и «рефлектирующего» начал. Внутриличностная гармония, считает Толстой, возможна и достижима – но 93 только в случае безоговорочной победы «души» над «умом». Героическое торжество человека комического, не поддавшегося на уловки разума и счастливо избежавшего трагизма – вот тема Толстого. Фактически Толстой отказал человеку в праве реализоваться как целостное, самодостаточное существо. В таком случае возникает вопрос: не есть ли нормативно-идеологическое разрешение универсального конфликта, предложенное Толстым, разрешение, ведущее к мнимо-идиллической гармонии, – не есть ли такой способ «гармонизации» человека и мира допушкинским этапом в осмыслении проблем личности? Рассмотрим эту коллизию более детально. 3 АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЛКОНСКИЙ 1 Князь Андрей Болконский появляется в великосветской гостиной Анны Павловны Шерер с характерными повадками «лишнего человека», но по сути своей он имеет мало общего с тем же Онегиным, узником ума и совести. Чем обусловлено странное поведение молодого человека с «усталым, скучающим взглядом»? Он утратил цель в жизни, он трагически обескуражен тщетой любых усилий, он сломлен предчувствием, что «истина» и «жизнь» несовместимы? Все эти предположения не имеют отношения к состоянию князя. Скука его ситуативна, она порождена вполне конкретными обстоятельствами и мало напоминает трагический разлад прозревших одиночек: князь Андрей готовит себя «в Наполеоны», и все окружающие «прискучили» ему своей обыденностью, оскорбляющей культ великой личности и саму идею величия. Вырваться из обыденности – значит встать над «миром», заставить его поклоняться себе. Вот достойная точка приложения требующих выхода духовных сил! Примерно таков ход рассуждений честолюбивого молодого человека. Даже внешне, своим «небольшим ростом» Болконский напоминает «Антихриста» (по словам Шерер) Бонапарта. Мало того, что свои первые слова в романе русский князь произносит по-французски, мало того, что словами этими были «генерал Кутузов» (фамилию которого Болконский произнес, «ударяя на последнем слоге zoff, как француз»), князь Андрей, «усмехаясь», цитирует Наполеона наизусть. В цитатах этих Бонапарт предстает как божий избранник, возвысившийся над толпой: «Бог мне дал корону. Горе тому, кто ее тронет»; «Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они 94 бросились толпой..». (Заметим, что в кабинете князя Андрея, в который мы попадаем вскоре после сцены в гостиной, на видном месте находились также «Записки Цезаря».) Болконский вступил в диалог непосредственно с Наполеоном и избрал для себя именно «путь славы», чтобы избежать судьбы человека «толпы». Вот откуда ядовитый снобизм, сквозивший в публичных разговорах и поведении князя, «который, развалившись, сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы». Князь Андрей буквально «заболел» Наполеоном, это была глубоко личная тема. На вопрос отца, в чем же «показал себя» «великий полководец», сын отвечал: «Это длинно было бы». Даже в задушевной беседе с Пьером Безуховым, с которым Болконский был откровенен настолько, насколько он вообще мог быть откровенен с другим человеком (и который, кстати, в тот момент тоже считал Наполеона «величайшим человеком в мире»), князь Андрей, невольно заговорив о Бонапарте и его карьере, ни словом не обмолвился о терзающих его демонах честолюбия и мании величия. Достоинства князя подчеркиваются через восприятие Пьера, его антипода: «Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться». Если добавить к этому наличие «силы воли», а также «отсутствие способности мечтательного философствования», то следует признать, что князь Андрей не без основания претендовал на роль исключительной, сильной личности. (Хочется специально, в самом начале нашего анализа, подчеркнуть, что у Толстого не меньшее изобилие обобщающих аналитических формул, чем у Пушкина; можно было бы усмотреть в этом еще одну пушкинскую традицию, однако вкус к подобного рода формулам есть свидетельство высочайшего класса интеллектуальной литературы, и Пушкин как таковой не может считаться родоначальником упомянутой традиции.) Мы же обратим внимание и на вполне определенно обозначенный уже в самом начале эпопеи тип личности: Болконский, «весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами», выведен как тип рационалиста, направляющего свою волю к продуманной, выверенной цели, о которой он непременно «имеет понятие». Никакая спонтанность, импровизация, непреднамеренность не согласуются с обликом внутренне дисциплинированного князя Андрея. (Кстати, обратим внимание и на то, что с самого начала произведения по воле автора пути внутренне и внешне контрастных героев пересеклись; наблюдение это мы разовьем в главе о Пьере, а сейчас ограничимся сказанным.) Нам важно не только то, что Андрей Болконский решил разделить с Наполеоном «путь славы» (вот принцип обусловленности поведения Болконского на этой стадии его жизни), но и то, что цель эта была сформулирована в результате хода рассуждений, а не возникла из недр души. Компонент рассудочности органично входит в состав принципов 95 освоения жизни героя. Очевидно, и брак его с Lise Мейнен – запомним этот немецкий мотив! – был вполне разумным, но отчего-то несчастным для князя… «Целая история жизни» подвела Болконского к принятому решению. Вступив на путь славы, он прошел его до логического конца. Конец оказался – непредсказуемым, нелогичным (что, впрочем, в предлагаемой читателю системе отсчета вовсе не означает «неудачным»). Объясняется все это предельно просто – но в рамках иной, не ограниченной миром личности логики. Решив взять свою судьбу в собственные руки, князь Андрей volens nolens бросил вызов даже не Бонапарту, с которым, по воле провидения (направляемой, впрочем, волей автора), он сошелся в честном бою, а чему-то «непонятному, но важнейшему», перед чем фигура «великого полководца», а вместе с ней и путь славы, оказались эфемерными и ложно значительными. Здесь интересно отметить вот что: разочарование, постигшее князя Андрея на данном витке судьбы, стало итогом уже не привычного «хода рассуждений», а какого-то иного, периферийного для Андрея Болконского духовного механизма, способа постигать. Ведь почти ничто не угрожало карьере и не предвещало краха честолюбивых надежд. Более того, князь Андрей, адъютант главнокомандующего, собственной волей и умом «организовал» себе «звездный час», твердо и хладнокровно стараясь превратить Аустерлиц в свой Тулон – и был сражен возможностью иного, так сказать, звездного пути. Смутный ассоциативный ряд, связанный с небом, накапливался давно, исподволь и только на поле Аустерлица выплеснулся наружу. Отметим некоторые многозначительные штрихи, предшествовавшие мгновению «переоценки ценностей». Перед тем, как отправиться «завоевывать Бонапарта», в сцене прощания с княжной Марьей, мягко упрекнувшей своего своенравного брата в «большом грехе» – «гордости мысли», мы видим «Андрюшу» в состоянии, предвещающем (или, по крайней мере, не исключающем) эволюцию в сторону, противоположную «рассудочности». Глубоко религиозная сестра князя Андрея, торжественно вручая ему «старинный образок спасителя», сопроводила этот жест проникновенной речью: «Против твоей воли он спасет и помилует тебя и обратит тебя к себе, потому что в нем одном истина и успокоение». Княжна Марья понимала всю безнадежность миссионерства в семье Болконских. Характеризуя образ мыслей отца в религиозном отношении, она кротко замечает: «Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться?» Сама-то она не заблуждается и в отношении брата: «Я знаю, ты такой же, как и mon pere». И тем не менее княжна Марья не убоялась наивного и трогательного жеста. И что же? «Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею. (...) Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут) 96 и насмешливо». У нас есть основания предположить, что князь Андрей был тронут не только отношением сестры, но и тем, что он, помимо своей воли, вступил под защиту спасителя. Иными словами Толстой дал понять, что у его далеко не сентиментального героя существовал уголок души, куда критический «образ мыслей в религиозном отношении» чудесным образом не распространялся. Даже в сердце «сухого» князя Андрея был обнаружен оазис иррационального, неподвластного разуму. Оазис этот постепенно разрастался. В начале памятного сражения при Голлабруне (Шенграбенское дело), находясь в боевом строю рядом с Багратионом, «князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал большое счастие». При разборе этого, достаточно удачного для русских «дела», князю Андрею пришлось вступиться за героя дня Тушина и «выручить» его. Карьерная возня при штабе, унизительная затравленность героя перед начальством – «все это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся». «Князю Андрею было грустно и тяжело». И все же он по-прежнему испытывал зависть к «сильным мира сего», подобным своему герою Наполеону или даже министру иностранных дел, князю Адаму Чарторижскому, которые, как представлялось Болконскому, «решают судьбы народов». Кульминация в идейно-духовном развитии нашего героя на «военном» этапе его судьбы наступает в ночь перед Аустерлицким сражением, что нашло свое отражение в самом большом к этому моменту романа внутреннем монологе князя Андрея. Интрига монолога заключается в том, что писатель впервые ставит героя перед вопросом, который самому повествователю представляется неразрешимым средствами разума. «Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? Неужели это не может иначе делаться? Неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, моей жизнью?» – думал он. (Прервем монолог, чтобы зафиксировать главную особенность склонного к «гордости мысли» Андрея Болконского, а именно: его убеждение в том, что правильными мыслями можно нейтрализовать неверные соображения и тем самым успешно регулировать стихию жизни. Продолжим монолог.) «Да, очень может быть, завтра убьют», – подумал он. И вдруг, при этой мысли о смерти, целый ряд воспоминаний, самых далеких и самых задушевных, восстал в его воображении; он вспоминал последнее прощание с отцом и женою; он вспомнил первые времена своей любви к ней; вспомнил о ее беременности, и ему стало жалко и ее и себя, и он в нервично-размягченном и взволнованном состоянии вышел из избы, в которой он стоял с Несвицким, и стал ходить перед домом». Вдруг, внезапно, нелогично и немотивированно при мысли о смерти – случилось душевное восстание. Логике разума повествователь противопоставляет логику чувств, стоящих на страже жизни, словно образок спасителя. Мысль же, неспособная принять во внимание 97 ценность жизни, в том числе его жизни, аргументированно соблазняет знающего цену логике князя Андрея той «счастливой минутой», «тем Тулоном», к которым он стремился всю свою жизнь. «А смерть и страдания? – говорит другой голос». «Другой голос», т.е. голос задушевный, а не рассудочный, уже нащупал пункт, обессмысливающий всякий «разумный» подход. Хорошо, пусть будут сражения, победы... «Кутузов сменяется, назначается он... Ну, а потом? – говорит опять другой голос (...)». «Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно», – подавляет другой голос князь Андрей. «И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно, ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать (...)». «(...) для одного этого я живу. Да, для одного этого!» Голос души «жалеет» дорогих людей – голос бездушной «абстрактной логики» заставляет приносить их в жертву ... чему? Противопоставляя «другой» голос «первому», повествователь закрепляет за другим нерассуждающее, но «человеческое», жизненное, следовательно, истинное, божественное начало; первый голос компрометирует сам «ход рассуждений», сам процесс мыслетворчества тем обескураживающим результатом, к которому приводит мышление: от первого, атеистического голоса исходит непосредственная угроза жизни, угроза близким и самому субъекту, инфецированному мышлением. Так, очевидно, следует понимать повествователя. На самом деле подчиненность Андрея Болконского «злой воле» не имеет ничего общего с феноменом «диктата разума» – по той простой причине, что именно разумности, всесторонне-критической обоснованности как раз и не хватает поведению князя. Болконский обуян страстью параноидальной природы, классической манией величия, т.е. именно душевно-психологически ослеплен, что выдается, однако, за «гордыню ума». Толстой в своей нелюбви к разуму зашел настолько далеко, что элементарную установку на размышление (которая по функции может быть идеологическим «обоснованием» той же иррациональной страсти) отождествляет с рациональным типом отношения к жизни. Это происходит вследствие демонстративного неразличения двух принципиально разных по функции типов ума. Надо полагать, оттенки зла – а разум подается как монолитный источник зла – не интересуют писателя. К сожалению, не интересуют, ибо пренебрежительное неразличение станет источником роковых заблуждений самого писателя. Два разноприродных ума, два разных типа отношения к жизни, за которыми стоят разные ценности, два языка культуры, две концепции личности – это не оттенки, а противоположные миры. Ум одномерно-схоластический, органично совмещающийся со страстью, не только не противостоял ей, но и подпитывал ее; ум универсальный, душевно неангажированный, нацеленный на разоблачение уловок и безумной логики 98 страсти – это уже нечто другое, и он не мог быть так легковесно, «по хотению», подвергнут критическому отрицанию. Одного нежелания считаться с таким умом явно недостаточно, чтобы объявить его несуществующим. Ты отвергаешь мудрый ум – он отвергает тебя. Таким образом, князь Андрей был ослеплен страстью, своего рода душевной болезнью, которая внешне напоминала «горе от ума». Не голос разума угрожал «дорогим» и «милым» людям, а именно дефицит разумной воли. Глупым, как это происходит всегда, можно быть только при отсутствии настоящего ума; при наличии ума можно выглядеть глупым, но не быть им по сути. Так вот князь Андрей Болконский не выглядит глупым; однако само по себе это не является достаточным основанием, чтобы судить о его уме. Ничего удивительного не произошло тогда, когда искусственно сконструированный «смысл жизни» развеялся над полем Аустерлица под напором нерассуждающей стихии. Вопрос только, стихии ли в этом заслуга или все объясняется нежизнеспособностью хилого смысла? Так или иначе, Болконский, вооруженный своей «железной логикой», которой он пока не сумел найти эффективное противоядие, выходит на поле брани в поисках своего шанса. Как ни странно, князь Андрей практически добился того, к чему так упорно стремился. Его Величество Случай распорядился таким образом, что Болконскому удалось проявить себя в сражении как фигуре весьма заметной. Он совершил подвиг – и судьба отметила целеустремленность князя комплиментом из уст его кумира, его героя, самого императора Наполеона: «Voila une belle mort (вот прекрасная смерть), – сказал Наполеон, глядя на Болконского». Более того, ему представилась возможность пообщаться с великим полководцем вскоре после того, как раненный в голову Болконский пришел в себя и мог говорить. Но князь Андрей молчал. «Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих». Произошла действительно «прекрасная смерть» прежних «славных» иллюзий, и герой Толстого стал мыслить по-иному. Он отрешился от суеты, мгновенно выздоровел и прикоснулся к вечности, знаком которой выступило небо, «высокое», «бесконечное», «вечное», «справедливое» и «доброе» небо. «Страдание и близкое ожидание смерти» (вспомним предостережения другого голоса) сделали свое дело: в голове Болконского возник «строгий и величественный строй мысли». Интересно в этой связи отметить характер и, так сказать, обстоятельства ранения: «Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову». Божественное предостережение донесено своеобразно, но доходчиво: простая жизнь руками простых русских людей, в которых находилось первобытно простое орудие, без всяких французских реверансов выбила дурь из головы замудренного князя. 99 Итак, Наполеон в сравнении с небом оказался просто ничтожеством (кстати, в начале сражения над Наполеоном «было ясное голубое небо»; иными словами, небо есть всегда и над всеми, даже над Бонапартом и ему подобными, только они этого, намекает повествователь, не замечают). Поскольку терзавшую Болконского страсть чисто условно можно было назвать системой ценностей, князю Андрею эту самую ценностную иерархию еще только предстояло создать. И судьба (направляемая скромным повествователем) дала ему шанс исправиться, указав верное направление. Имеющий глаза должен был увидеть. Знаком судьбы вновь послужил чудесным образом возвращенный князю Андрею украденный было золотой образок, навешенный на брата набожной сестрой. Покровительство высших сил дало немедленный результат: несмотря на то, что Болконский, «в числе других безнадежно раненых, был сдан на попечение жителей», он выжил, и все у него было впереди. Однако Болконский по-своему истолковал предоставленные ему возможности. «Хорошо бы это было, – подумал князь Андрей (...) – ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье». Следовательно, Болконский не может допустить мысли, что все в мире просто и ясно и не его, князя, забота курировать смыслы и вносить ясность. «Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!» "Небо» выступило всего только символом, направлением поисков, но оно само по себе не содержало непосредственной истины. Истину предстояло отыскать – так вызывающе реагировал Болконский на непонятный ему «ход вещей». И уже с самого начала нового жизненного этапа было видно, каким способом собирается это делать князь Андрей: он, как и прежде, размышляет, ничего не принимая на веру. Он и рад бы сказать «господи, помилуй меня!» – да неспособен к этому «простому и ясному» самоуничижению, отречению от себя. По версии повествователя, он просто лишен дара мгновенного и непосредственного постижения истины. Не забудем, что Андрей Болконский, далеко не худший, если вообще не лучший из породы рационалистов, служил Толстому своеобразным «безбожным полигоном», на ком он отрабатывал все мыслимые «спасительные» модели поведения. При этом задача писателя состояла не в том, чтобы помочь Болконскому исправиться, а в том, чтобы убедить читателя, что сама «технология» поиска истины, избранная Болконским, порочна настолько, что неизбежно губит , вроде бы, хорошего человека. Задача Толстого была – развенчать разум и стоящее за ним отношение к жизни, поэтому ждать милости писателя не приходится: ведь милость была бы непоследовательностью. Все последующие сюжетные ходы, связанные с судьбой Болконского, интересны именно как варианты спасения; Болконский мог, мог спастись, но почему-то не получилось. Почему? Что помешало ему и мешает человеку вообще стать счастливым? 100 2 Следующий виток жизненного пути князя Андрея «вычислялся» им (у автора был несколько иной расчет) по принципу «от противного»: если ни война миров в сознании Болконского, ни бурная жизнь в мире войны не принесли желаемого умиротворения, отчего бы не замкнуться в мире тихих семейных радостей? Уже на носилках, сразу после несостоявшегося диалога с Наполеоном (по причине того, что они оказались в разных мирах-измерениях), «тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему». Но человек полагает, а кто-то другой располагает: высшие силы тут же напомнили о себе и жестоко надсмеялись над неуместностью логических прогнозов. Как известно, в день возвращения «блудного сына» к отцу, в момент, когда буквально воскресший сын сам становится отцом, сын новорожденный потерял мать. Ну, где тут логика? Разве что ирония судьбы. Какие качества необходимы, чтобы приспособиться к такому миру? Разум – или способность читать в своем сердце простые ответы Бога на самые сложные вопросы? Княжна Марья, обладавшая указанной спасительной способностью в высшей степени, прочла: «Не желай ничего для себя; не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы быть готовой ко всему». Не с такой программой, не с такими «планами» вернулся в родовое гнездо князь Андрей; у него была своя программа. Во-первых – «Князь Андрей после Аустерлицкой кампании твердо решил никогда не служить более в военной службе» (что, очевидно, не слишком согласуется с пунктом «не желай ничего для себя»; Андрей Болконский по-прежнему считал себя хозяином своей судьбы). Во-вторых, несмотря на принятое решение, его «сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него, жизнь могла волновать его» (такова была реакция князя Андрея на прочтение письма Билибина, в котором дипломат подробно информирует о ходе очередной кампании против Наполеона). «Тамошняя» жизнь его волновала, он завидовал людям, ведущим активную общественную жизнь, желал для себя иной судьбы и крайне неохотно смирялся с тем, что он вынужден был ограничить свой искусственно выгороженный мирок заботами о подрастающем сыне: «Да, это одно, что осталось мне теперь», – сказал он со вздохом». Иными словами, он находился в неустойчивом состоянии поиска. Именно в таком состоянии застал его Пьер. Посмотрим на «постаревшего» князя Андрея глазами повествователя и одновременно Пьера: «взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то что похудел, побледнел, 101 возмужал его друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним». О чем же сосредоточенно размышлял живший явно неудовлетворявшей его жизнью несчастливый князь Андрей? «Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастие и на добро неприличны». Наконец, Пьер прямо спросил: «Какие ваши планы?» Князь Андрей изложил «свой новый взгляд на вещи» опять по-французски, что, во-первых, подчеркивало рационализм формул Болконского, а во-вторых, отчуждало «не в меру умного князя» не только от преданного «мечтам и надеждам на счастие» Пьера, но и от самого духа русскости, от народного взгляда на вещи (этот подтекст мы в полной мере оценим позднее, когда волею повествователя Болконский повернется лицом к народу). (Кстати, в свете сказанного легко понять, почему эпопея о русском народе начинается с пошловатой французской тирады в великосветском салоне, принадлежащем хозяйке с нерусской фамилией. Казалось бы, грипп, Генуя, Лукка, фрейлина, красный лакей, аббат – все это очень далеко от народа, от крестьян, солдат, Кутузова, Тушина, Каратаева, Щербатого... На самом деле роман и начинается с народа – только «от противного», от антинародной составляющей духа народного. Народная тема скрыто, имплицитно присутствует везде, во всем; особенно активно она переплетается с главной темой: противостоянием «разума» – «душе». Более того, народная тема и необходима именно как способ возвеличивания «души». Но и об этом – в свое время, позднее.) Князь Андрей сказал: «Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызения совести и болезнь. Жить для себя, избегая только этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь». Открытый вызов тому божественному откровению, истинность которого ни на секунду не ставила под сомнение княжна Марья, – налицо. Сестру Болконского тут же поддержал Пьер: «счастие жизни», считает он, заключается в том, чтобы «жить для других». (Болконский, между прочим, иронично заметил: «Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь».) Далее князь Андрей предстал во всем интеллектуальном блеске, по пунктам разбив программу «наслаждения делать добро» другим не искушенного в гимнастике ума Пьера. Но опять же: там, где повествователь пытается выставить на всеобщее обозрение «идиотизм мысли», там «в идиотах» оказывается не разум (как планировал всевидящий и всепонимающий «образ автора»), а нечто иное: стремление опорочить ум. Толстому вновь не удалось скомпрометировать ум как таковой (а это, главным образом, ум многомерный, всеобъемлющий, диалектический), хотя цель его, несомненно, заключалась именно в этом. Что касается критики ума догматического, то здесь Толстой весьма преуспел – и это, надо признать, является одной из сильнейших сторон романа. 102 Князь Андрей, словно на интеллектуальном турнире, логически безупречно доказывает бессмысленность позиции «творить добро». Реакция чуткого к интеллектуальной фальши Пьера не оставляет сомнения в том, что князь в очередной раз перемудрил: «Ах, это ужасно, ужасно! (...) Я не понимаю только, как можно жить с такими мыслями». Вот черта, за которую никогда всерьез не перешагивал Пьер: мысли должны быть такими, чтобы с ними можно было жить (а еще лучше, как выяснится впоследствии, вообще жить без мыслей). Дело даже не в том, прав или неправ князь Андрей; дело в том, что его логика несовместима с жизнью, вот что пугает жизнелюбивого Пьера. Болконский не побоялся истину развести с жизнью – и тем самым обрек себя на несчастливую жизнь. «Вы не должны так думать», – заключает Пьер. Признаем, что в новом взгляде на вещи у князя Андрея присутствуют элементы трагизма. В этом состоянии он отчасти напоминает нам незрелого Онегина, вплоть до буквальных совпадений: «А мне кажется, что единственно возможное счастье – есть счастье животное, а ты его-то (мужика – А.А.) хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств». Вот он, момент горя от ума. Однако если повествователь «Евгения Онегина» увидел в интеллектуальном мужании предпосылку прогресса духовного, то повествователь «Войны и мира» трактует «бессмысленную», далекую от жизни диалектику, игру ума как симптом реального «недуга», от которого надо как можно быстрее избавиться. Без всяких шуток Толстой встает на сторону осуждающего Онегина света (мира), на сторону человека комического, не признавая величия ума и, следовательно, высшей одухотворенности трагизма. Толстой, напротив, всячески снижает «мнимый», «искусственный» трагизм, который является следствием гордости ума, не более того. Оборотную сторону жизни – «счастье животное», комическое – автор легко делает своим союзником, прививая любви к жизни добро простым, как мир, иррациональным путем. Онегин, как мы помним, был сотворен природой, которая «к противуречиям склонна». Болконский же сотворен тем, кто склонен выкорчевывать «противуречия», склонен к простым императивам, предполагающим ответное кроткое послушание. Независимый Онегин завис между «небом» и «землей» не по чьей-то воле; он своею волей открыл законы мышления и жизни, что придавало обнаруженному им «противуречию» экзистенциальный характер; это была его проблема, и ничья более. Противоречие Болконского автор трактует как форму глупости, а неумение прислушиваться к простым императивам рассматривается если не как бунт, то, во всяком случае, не менее чем свидетельство склонности к суициду. Онегин благодаря своему уму выделился из природы, вознесся над представлением о «животном» счастье. Пушкин ценил в нем именно 103 выделенность из общего роя, из мира, поскольку интеллект – это персональный инструмент, и нация, да и вообще любой коллектив, им обладать не может. Нация поощряет не ум, а умение подчиняться сущему над личностью общему мировому закону. Вот почему, отметив умом Болконского, Бог и вместе с ним повествователь (точнее – наоборот) шельму метит. Князь Андрей выдвинулся из общего ряда, из общества, стал белой вороной, он дерзнул мыслить, мечтал стать уникальным человеком (отчего и подался в Наполеоны, посягнул на право решать судьбы народов!) – и это ставится ему не в заслугу, а вменяется в вину. Если в пушкинской картине мира личность выступает центром мироздания, то в толстовской – о центре мироздания громко и всуе говорить не принято; что касается толстовской личности, то она хороша тем, что растворяется в других, в миру – тем, что ее нет. Таким образом, князю Андрею, решившемуся «жить для себя», повторимся, была заранее уготована незавидная судьба; весь «фокус» был в том, чтобы разоблачить недуг, вывести на чистую воду «грязные» (по определению) мысли. Вот почему Андрей Болконский тяготится умом, смутно ощущая (по велению повествователя) вину перед жизнью, народом, мирозданием – следовательно, перед истиной; он переживает свою невольную вину, не понимая «главного пункта» своей ошибки. Во всем этом повествователь подмечает даже смесь некоторой инфернальности со стремлением к чистоте истины: «Взгляд его оживлялся тем более, чем безнадежнее были его суждения». И вот за это интуитивное, бессознательное стремление к «настоящей» истине, постигаемой не интеллектом, повествователь решается всерьез «зацепиться». Заключительная фаза диалога двух друзей (которые, по логике, должны быть врагами) происходит на пароме, что символизирует пограничную ситуацию распутья в душе Болконского: он как бы оторвался от одного берега, но еще не пристал к другому, к тому, куда «тянет» его Пьер. «Я чувствую (чувствую – любимое слово и главный аргумент в споре Пьера – А.А.)», – проповедует Безухов, – «(...) что в этом мире есть правда». «Надо жить, надо любить, надо верить, – говорил Пьер, – что (...) будем жить вечно там, во всем (он указал на небо)». Где-то в этот момент паром пристал к «берегу Пьера». "Князю Андрею казалось, что это полосканье волн (очень напоминающее шепот мира – А.А.) к словам Пьера приговаривало: «Правда, верь этому». Опять он обратил свой взор к «высокому», «вечному» небу и что-то «лучшее» в нем «вдруг радостно и молодо проснулось в его душе». Далее автор акцентирует: «Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь». Новая жизнь началась тогда, когда великий рационалист «вдруг» стал чувствовать и верить, презрев анализ. Едва наметившийся трагизм счастливо разрешился в «комическое» мироощущение, 104 не было сделано даже попытки вознестись до величественной гармонии, даже попытки повернуть голову в сторону гармонии такого рода. Итак, князь Андрей при успешном посредничестве Пьера получил новый, действительно серьезный шанс «исправиться», выздороветь, истребить вирус интеллекта и зажить в мире с собой и всем остальным миром. 3 Дальше, разумеется, кончилась зима и наступила весна, весна 1809 года. «Пригреваемый весенним солнцем, он (князь Андрей – А.А.) сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам». В таком состоянии он начинает общаться с лакеем Петром, человеком из народа (не с Шерер, заметим, или Наполеоном), и с природой (вспомним поразившие Болконского «параллельные» метаморфозы дуба, отражавшие эволюцию мироощущения жившего в деревне князя). Князь Андрей ощутил ритмы жизни, природы, зажил в унисон с не укладывающимися в формулы, но реальными законами мироздания. Разумеется, Болконский должен был влюбиться. И он влюбился – в юную графиню Ростову, «черноволосую, очень тоненькую, страннотоненькую, черноглазую девушку», до банальности напоминающую росток жизни. Под влиянием первого впечатления ему показалось, что она «была довольна и счастлива какой-то своей отдельной – верно, глупой, – но веселой и счастливой жизнью». Жизнь, жизнь со всех сторон окружает на французский манер умного князя Андрея, кружит его в вальсе с Наташей Ростовой – и благоразумный Болконский, к счастью, теряет голову. Наташа, всегда готовая «улететь в небо» (куда так тянет и нашего героя), но прочно укорененная в жизнь земную, была человеком, воплощавшим именно ту противоположность, которой так не хватало еще только учившемуся жить князю. Однако еще до отъезда в Петербург (князь Андрей приехал в столицу в августе 1809 года; бал же, на котором Болконский танцует с шестнадцатилетней Ростовой, состоялся 31 декабря, «накануне нового 1810 года») князь Андрей возобновил внутреннюю «войну» с собой, войну, зачинателем которой всегда выступал, конечно же, разум. «Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам». Ранее «на основании таких же бедных разумных доводов» он приходил к противоположным заключениям. «Теперь разум подсказывал совсем другое». Что же получается: разум только «подсказывает», озвучивает словами, логически аранжирует то, что предрешено уже до того, как разум спешит 105 предложить свои «услуги»? Чему же тогда служит разум (или: что сильнее разума, что на самом деле управляет человеком)? "И князь Андрей, заложив назад руки ( словно пленник чего-то доразумного – А.А.), долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, с женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь». Получается, что есть мысли и мысли; есть тайные, неразумные, невыразимые мысли (так сказать, чувства-мысли, думы-ощущения), от которых то хмуришься, то улыбаешься – а есть мысли выразимые, разумные, но «бедные», не отражающие полноту тайных ощущений, желаний. И вторые всего лишь отчасти реализуют первые, но необоснованно претендуют при этом на полноту истины! Так видятся Толстому взаимоотношения разума и души. Бедный разум обслуживает бессознательные, тайные, невнятные бездны души (становясь внятными – они перестают быть безднами), вот почему ему нельзя доверять, ибо он говорит не своим голосом, он не самостоятелен, не автономен, он рупор отдельных актуализированных «хотений». Толстовский «разум» выступает всего лишь продолжением или придатком неразума, иррационально-психологическим инвариантом, это идеологический разум, специализирующийся на выдавании желаемого за действительное. Поэтому толстовкая критика разума, по существу, адресована все той же душе, замаскированной под личину разумности. Но ведь весь пафос романа-эпопеи направлен именно против такого разума, представленного узурпатором истины, логическим монстром, обманным путем выступающим от имени человека! Этот разум делает людей заносчивыми, заставляет ошибаться. Носителями такого разума выступает целый ряд персонажей, тяготеющих к полюсу Болконского; последний так или иначе разделяет их мировидение и сам волейневолей выступает в авангарде их внушительной армии. «Братьями по разуму» оказываются и целая плеяда представителей света, среди которых «блистают» Элен Курагина с отцом и братьями, Борис Друбецкой, Берг и Вера, Билибин, масоны и Наполеон со свитой; и немецкий генералитет из окружения Кутузова, и Сперанский с обществом государственных людей, и отец князя Андрея, «генерал-аншеф князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе le roi de Prusse» – прусский король, учредивший в доме незыблемый порядок в духе века просвещения («Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности»). По существу, весь «Запад», столкнувшийся с «Востоком», отмечен печатью рациональности, а вот «Восток» выгодно отличается духом непочтения к самим идеям порядка, строгости, разумности, противопоставляя им совершенство хаоса, беспорядок живой жизни. И Толстой по-своему прав: жизнь невозможно понять, ибо то, что сотворено не умом, не поддается сведению к разумному порядку, к логической схеме или 106 концептуальному плану. В таком случае зачем же жизнью – поверять свойства разума? Не является ли подобный оригинальный ход всего лишь «разумным» трюком? Чтобы хоть как-то свести концы с концами, писатель вынужден «последовательно» «компрометировать» сознание, приписывая ему свойства психики. Большей мистификации мировая литература не знает. Надо быть семижды семи раз художественным гением, чтобы не замечать подмены. Все, что говорит Толстой – справедливо, но справедливо не в отношении собственно разума, автономного, независимого от души и нацеленного на объективную реальность (как фактор духовности он попросту не представлен в романе), а в отношении того разума, который служит не разуму, который, следовательно, выдает себя не за то, что он есть на самом деле. Для повествователя все это могло означать одно: надо непосредственно обращаться к душе, минуя «разумные доводы», которые вносят только смуту, раздор, войну, ибо искажают простую истину. Вот этим, единственно разумным путем, и продвигается Болконский по траектории, вычерченной для него заботливым повествователем. Можно приближаться к Христу, а можно удаляться от Сократа: все зависит от точки отсчета. В толстовской системе отсчета, в его мире приближение к истине означало удаление от разума, даже от поверхностного разума. Князь Андрей пока еще не умеет блаженно отдаваться переживанию тайных мыслей и при этом не держать в уме заднюю мысль (т.е. не умеет жить, не думая), не научился доверять тому, что могущественнее разума, он пока еще цепляется за логику. Вот почему порой он «говорил» «с особенной логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходящую в нем внутреннюю работу». Вот почему в Петербурге он был очарован отчасти придуманным, идеализированным образом разумности, отыскав в Сперанском «идеал вполне разумного и добродетельного человека», озабоченного исключительно общественным благом. «Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский, в глазах князя Андрея, был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно (отметим этот недружелюбный выпад в сторону диалектики, втягивающий в ареал сомнительной разумности не только просвещенную Европу, – перед нами с тонким умыслом обыгранная формула немецкой классической философии – но и проевропейски ориентированную часть русского общества, в том числе современного Толстому русского общества – А.А.), и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть». Трудно удержаться от следующей цитаты, с одной стороны, завершающей облик разумности, с другой – углубляющей понимание внутреннего состояния 107 князя Андрея, с третьей – проясняющей толстовскую концепцию разума: «Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?» Если в ум можно только верить, –а чем вера в законность ума отличается от любой другой веры? – то очевидно, что ум без веры в него ничего не стоит. Вновь очень изящно и умно уму отказано в праве на суверенность. Однако планиды (под попечительством повествователя) до поры до времени благоволили князю Андрею и не дали ему роковым образом увлечься новой вредной страстью: верой в законность ума. Чары Сперанского, а вместе с ними и вера в разум, развеялись мгновенно, при первом же столкновении со страстью законной, идущей не от головы. Во время танца с Наташей «вино ее прелести ударило ему в голову», и уже на следующий день за обедом у Сперанского «ему стало смешно, как он мог ждать чего-нибудь от Сперанского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как он мог приписывать важность тому, что делал Сперанский». «Вино прелести», так сказать, отрезвило Болконского, внесло ясность в перепутанную было систему координат. События развивались стремительно, как и положено, когда в дело вступают чувства. На другой день он уже обедал у Ростовых, и новое очарование, так гармонирующее с его новым взглядом на жизнь, стало заполнять его душу. «Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей (...). Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение». Итак, князь Андрей окончательно сменил старый, разумный мир, на новый, неразумный (сверхразумный?), но более симпатичный, нежели прежний. В этом новом мире происходили чудесные события: пение Наташи, слезы (!) князя Андрея, его бессонница и, наконец, оформившаяся вера в счастье: «я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым». В 1810 году Андрею Болконскому был тридцать один год. 4 Из несчастливого эгоиста князь Андрей превратился в эгоиста счастливого, сменив одну идеологическую парадигму на другую, обветшавшую систему ценностей – на противоположную. Сам повествователь с нескрываемой 108 симпатией и воодушевлением относится к мужественному решению князя отказаться от излишнего «умствования» (выражение Пьера, который в это же самое время переживал наиболее тяжкие моменты жизни) и одаривает своего героя высшими «романными милостями», т.е. вполне разделяет его чувства и мысли. «Князь Андрей казался и был совсем другим, новым человеком». Он любил и был, судя по всему, любим (несколько настораживал разве что нелишний в продуманном мире Толстого штрих: к чувству любви у Наташи «необъяснимо» примешивалось чувство страха). Казалось бы, нет никаких препятствий для счастья. Никаких – за исключением того пустячка, что жизнь не терпит логического насилия, ее нельзя отложить или отменить по чьей-либо прихоти. В дело вмешивается злая сила из старого мира, разрушительность которой князь Андрей, новичок в мире светлых чувств, явно недооценил. Николай Андреевич Болконский (который, между прочим, признавал в жизни «только две добродетели: деятельность и ум»), «приняв спокойный тон», «обсудил все дело»: во-первых... во-вторых... в-третьих... в-четвертых. Вердикт был таков: свадьбу отложить на год. Князь Андрей, видя неодолимое упрямство пунктуального старика, «решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год». А ведь в планах князя Андрея было не считаться с «капризами» отца, «заставить» его согласиться на брак или «обойтись» без его согласия – т.е. своей жизнелюбивой волей противостоять глупой логике... Тем не менее, казалось бы, произошло не самое страшное, что может произойти в жизни (если рассуждать здраво). Но реакция Наташи, своеобразного камертона жизни, убеждает в обратном: «Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! – вдруг (мгновенно: фильтр губительного здравого смысла просто отсутствует – А.А.) заговорила Наташа, и опять зарыдала. –Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно». «Недоумение» на лице князя (правда, и «сострадание» тоже) было ей ответом. Расставание с женихом было, по сути, уже первым актом трагедии, смысл которой мы рассмотрим в главе о Наташе Ростовой. Итак, князь сделал все правильно – и оказался, на первый взгляд, без вины виноват; но его несомненная (для повествователя) вина заключалась именно в том, что он был слишком «правильным» для жизни. Вина юной Наташи (имеется в виду история с Анатолем Курагиным) была другого рода: она слишком любила жизнь, она была сама жизнь – настолько органична, что компромиссное соглашение с сухим умствующим стариком, фанатично обожающим «порядок», не могло быть соблюдено по определению. Но нас в данном случае интересует реакция князя Андрея. Ведь он-то был, согласно новым своим убеждениям, на стороне невесты, против отца, т.е. против своей второй натуры. 109 Теперь повествователь поставил его в ситуацию решающего выбора. Ситуация была сложна, даже коварна своей завуалированной экзистенциальной ловушкой, и князя Андрея можно понять при любом исходе, можно логически обосновать любой выбор. Но в том-то и дело, что это были бы обманчивые выкладки услужливого ума. Не вдумчивый анализ требовался в данном случае от Болконского, а дар непосредственного постижения мотивов странного, необъяснимого поведения Наташи. И Пьер, например, сполна продемонстрировал такой дар, невольно, вопреки доводам рассудка выступая ее адвокатом перед Болконским. Впрочем, раз уж речь зашла о Пьере, два коротких разговора с Наташей убедили его, что невеста князя Андрея поступила дурно только потому, что она была очень хороший человек. Безухов почувствовал это и, вместо осуждения, признался ей в любви: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей». Реакция же князя Андрея, даже по тону и стилю, была в духе его отца: это была чисто рассудочная реакция оскорбленного человека. Его я, его самолюбию был нанесен чувствительнейший укол, поэтому он реагировал не на поступок совершенно запутавшейся и уже жестоко раскаявшейся любимой девушки, а на логику ситуации: «(...) я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу», – приводит он эгоистические доводы Пьеру. Повествователь совершенно прав: Болконский не сумел и даже не потрудился сделать попытку почувствовать другого человека, поставить себя на его место, посопереживать ему. Значит ли это, что князь Андрей возвратился в свой хорошо обжитый, но ненавистный старый мир, где доводы рассудка определяли направление жизни? Повествователь гениально уходит от схемы, очень тонко не упрощает ситуацию, что не удалось сделать его герою, князю Андрею. Болконский расчетливо устраивает свое существование, но вместе с тем мы постоянно ощущаем присутствующий в нем пульс живой, иррациональной стихии. «Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы»; «и это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не изжита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно-хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции». «Искусственная деятельность» была естественной реакцией на более чем естественную обиду. Однако характерно и симптоматично то, что спасение от душевных ран и невзгод князь Андрей интуитивно находит в спокойствии ума. Тем не менее он открыто выступил против воли отца, который, по обыкновению, «стал объяснять причины», по которым он устроил настоящий ад любимой дочери. 110 С уверенностью можно сказать одно: состояние князя Андрея («он объездил и запад и восток», обронил повествователь) было мучительно и неопределенно; он не разочаровался в своем новом взгляде на жизнь настолько, чтобы появилась необходимость и потребность заменить его на еще более новый. Несомненно, однако, что новый взгляд, на который столько надежд возлагал изверившийся рационалист, не оправдал его ожидания. Переоценки ценностей пока не последовало; но преобладало ощущение гнетущего несчастья, всегда предшествовавшее переоценке, свод неба «превратился в низкий, определенный, давивший его свод» (небо как таковое, подчеркнем, – не исчезло). Связь явлений «рассыпалась», они стали «бессмысленными», из них ушла жизнь. Читатель, конечно, понимает всю условность аналитического приема, условность вычленения сюжетной линии, отдельной судьбы отдельно взятого я, Андрея Болконского, из общего сплетения судеб громадного количества персонажей, образующих мир. Позитивную или негативную содержательность поступков и сторон натуры князя Андрея необходимо рассматривать в контексте. Все главные герои эпопеи в свое время попадают в безвыходные, критические ситуации, но они по-разному ищут и находят выход. Наташа и Николай Ростовы, княжна Марья и Пьер от чего заболели, тем и лечатся: они ищут выход в любви к жизни, а не в недоверии к ней. Вот как раз любви к жизни или, если угодно, воли к жизни катастрофически не хватало князю Андрею (с позиций повествователя), поэтому в личном плане дело опять завершилось войной, непосредственной угрозой жизни. В 1812 году, когда началась война с Наполеоном, князь Андрей в качестве командира полка оказался в Западной армии, т.е. был призван непосредственно противостоять продвижению французских войск вглубь России. Важно отметить, что князь Андрей «навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя»; точно так же князь Андрей отклонил предложение Кутузова служить «при нем» в штабе, предпочитая почему-то тянуть лямку в полку, быть «пушечным мясом», разделив судьбу большинства, а не элиты, приданной какой-либо важно особе. Почему? Может быть, интуитивно искал смерти, не имея воли к жизни? Так однозначно ответить нельзя, если опираться на информацию, предоставляемую тенденциозным повествователем. Воля к жизни князя укреплялась по линии соединения незримыми нитями с миром людских интересов, интересов других, причем по большей части интересов простых людей. «Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь, им гордились и его любили». Князь Андрей нашел точку соприкосновения со всеми, «с чужой средой», став «народным князем». И князь Кутузов, подлинный народный герой, благословил его выбор: «Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога 111 – это дорога чести». Обратим внимание: не славы, не тщеславия, не самолюбия – а чести; князь Андрей вступил на дорогу, где «один» представлял интересы «всех»; поэтому «все» были за «одного». В этом смысле Болконский был не одинок. Много еще мудрых напутствий подарил своему любимцу Кутузов, человек, который тонко понимал (т.е. чувствовал) людей и жизнь. И советы его были универсальны, применимы не только к конкретной ситуации войны с Наполеоном. «А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время», – пророчествовал главнокомандующий русской армией, избранный на свой пост по «народным соображениям». «В сомнении, мой милый, воздерживайся», – выговаривал он «с расстановкой» по-французски, вкладывая в изречение какой-то русский, не вредящий общему делу смысл. «Голубчик» и «мой милый» – это знак обратной связи и с повествователем, и с народом, и с миром. И все-таки в личном плане Болконский был одинок. Полк не мог заменить потери любимой невесты, а вместе с ней и стимула к жизни. Надо было терпение и время, чтобы побороть свои сомнения и придать смысл «рассыпавшимся» фрагментам мира. Но ни первого, ни второго не было отпущено строгим, но справедливым повествователем в той мере, в какой необходимо для того, чтобы начать, наконец, богоугодную жизнь. В мире выживает сильнейший, т.е. тот, кто умеет выживать. («Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть»: это credo самого Болконского.) В назидание и поучение всем остальным, «образ автора», послушник истины, без ложной жалости распорядился судьбой того, кто ценил смысл жизни едва ли не более, чем саму жизнь. На Бородинском поле во всенародном сражении (по версии безымянного солдата, на врага «всем народом навалиться хотели»), в редкостном порыве единения и сплочения перед одинаково нависшей над всеми смертельной угрозой князь Андрей умудрился отдельным, особым способом получить смертельное ранение. Уже вечером накануне сражения его одолевают «самые простые, ясные и потому страшные мысли», что само по себе служит очень тревожным признаком. Однако содержание дум – уже просто приговор ясно мыслящему герою. В «холодном белом свете» он увидел «всю жизнь». Свет, излучаемый «ясной мыслью о смерти», так безжалостно окарикатурил главное, что представлялось раньше «прекрасным и таинственным», что Болконскому стало чуть ли не стыдно за смысл прожитого и пережитого. «Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество – как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». (Отметим попутно совершенно уникальную способность Толстого к многомерному, симфоническому, полифоническому 112 образно-художественному мышлению, которое сказывается в тончайшей отделке поэтики. Сложнейшая смысловая перекличка «утоплена» в детали или емкие словесные формулы, диалектически предрасположенные к неожиданным трансформациям, к мерцанию смыслами. Страницу спустя «добродушный» Тимохин, «беспрестанно оглядываясь» на Болконского, говорит Пьеру: «Свет увидели, ваше сиятельство, как светлейший (т.е. Кутузов – А.А.) поступил». Причем слова эти будут продублированы, и «ваше сиятельство» будет уже обращением к князю Андрею... А если учесть, что «новый свет» в этот день (еще спустя страницу) озарил и мировидение Безухова, то внутренняя рифмовка смыслов становится просто виртуозной. Внутреннюю полемику с надломленным Болконским устами Тимохина и мыслями Пьера продолжает повествователь. В данном случае «свет» и объединяет миры в единую суперсферу, и разрывает мир разнонаправленными функциями. И это только микрофрагмент романа-эпопеи.) Наконец-то повествователь «просто и грубо» отождествил функцию мысли с функцией смерти. Мысль убивает жизнь, анализ есть эквивалент смерти. И самое страшное и безнадежное – живой князь Андрей предчувствует смерть. По логике жизни он должен бессознательно сопротивляться, шерсть должна встать дыбом, организм должен мобилизовать все ресурсы. Но князь заворожен «ясным светом» и предчувствием. Было бы непростительным художественным упущением не свести в этот момент князя Андрея с Пьером и не сверить их мироощущения. Вновь линии их судеб («Какими судьбами?» – воскликнул князь Андрей) пересекаются в момент, когда идут в разных направлениях (в который уже раз). Разные амплитуды, разные точки отсчета – разные жизненные итоги и идеологии. Пьеру – «интересно», князь Андрей – готовился к смерти. И все же диалог между ними состоялся, сначала при свидетелях, а потом и с глазу на глаз. Точнее, это было, по сути, продолжение монолога Болконского. Он отчетливо солировал, мысли его были точны, глубоки и екклесиастически безысходны. «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да ненадолго! – прибавил он». Признаем, что вновь трагическая нота диссонансом вторгается в духовный мир героя и, отчасти, романа и расстраивает потенциальную гармонию, на страже которой стоит и к которой ведет вездесущий повествователь. Но тут же и отметим, что дисгармония – «ненадолго», что вовсе не на этой ноте закончится жизненный путь Болконского. Итоги пути будут однозначно и недвусмысленно «работать» на общую концепцию (общий план, как сказал бы Пушкин) романа. И это общий принцип эпопеи. Любой и каждый фрагмент всемирной битвы за душу человека просто не может, в соответствии с убеждениями повествователя, оканчиваться «ясной мыслью о смерти». Последнее слово в столкновении жизни и смерти, принимающем форму противостояния «души» и «разума», должно оставаться за жизнью. 113 Эпизод с «войной и миром» на территории души Болконского завершается, как и все столкновения подобного рода в романе (речь идет, правда, о больших, заметных душах), миротворческим пассажем. Попрощавшись с Пьером (который тоже почему-то «знал», что это их последнее свидание: видимо, пронзительность интеллекта несчастного друга смутила и Пьера), князь Андрей стал вспоминать. «Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом» пыталась передать ему «страстнопоэтическое ощущение». «Я понимал ее, – думал князь Андрей. – Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил..». Приговоренный князь Андрей, предчувствуя смерть, переживает поэзию жизни... Чего ж вам больше? Бородинское сражение, если бы роман был только о князе Андрее, можно было и не начинать: судьба героя была предрешена. Но духовный путь Болконского явно не укладывается в рамки его персональной сюжетной линии. Обстоятельства ранения князя Андрея проливают свет на его внутреннее состояние и важны едва ли не более, чем сам факт рокового ранения. Сначала князь вел себя «точно так же как и все люди полка». Но в самый критический момент сказалась-таки смертельная склонность к «умствованию»! Полк князя подвергся интенсивному бомбометанию. Перед гранатами, как и перед судьбой, все были равны. В тот момент, когда «в двух шагах от князя шлепнулась граната», заботливый повествователь окружил бесстрашного командира полка целой группой обычных живых существ: с одной стороны подходил адъютант, с другой на лошади подъехал майор, командир батальона. Не стоит сбрасывать со счетов также соседство луговой травы и куста полыни. Как ведут себя все нормальные живые существа в обстоятельствах непосредственной угрозы смерти? «Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было выказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям. – Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле (живые ищут защиты у земли, где коренятся трава и полынь – А.А.). Князь Андрей стоял в нерешительности». «Он думал» (о любви к жизни и о смерти) «и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят». «Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту». Нельзя сказать, что князь Андрей искал смерти; однако если ты сомневаешься, стоит ли тебе жить, если тебе стыдно прятаться от смерти, если ты «думаешь» и оцениваешь себя со стороны, а не фыркаешь в ужасе перед смертельным снарядом – значит ты выбрал смерть. Вот кто продемонстрировал потрясающие масонские задатки («любовь к смерти» – главная добродетель масонов), которых так не хватало Пьеру. 114 Князь Андрей на сей раз был поражен в живот, что в художественном смысле гораздо опаснее, нежели ранение в голову, ибо живот есть не просто жизненно важная зона, но символ жизни (вспомним выражение: сражаться не на живот, а на смерть). Что касается адъютанта, майора и его лошади, то все они не мудрствуя лукаво уцелели. Они были хранимы Богом, что в данном контексте означает: кого Всевышний хочет сохранить, того он лишает разума. Однако физическая смерть князя наступила не сразу, а только после того, как он, тридцатитрехлетний, смертию смерть попрал. Подобрав раненого князя, «опустившегося лицом до травы» (клонит к жизни! – А.А.), ополченцы принесли его «к лесу». «Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему». (Вот они, жизнь и смерть в оболочке «мира» и «войны»!) Перед тем, как его внесли в палатку и передали в руки докторов, князь Андрей подумал: «Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю». Повествователь, конечно, намекает на то, что князь Андрей не понимал главного: жизнь права уж тем, что она жизнь, и если мысль, орудие смерти, угрожает жизни, значит живое существо тем более совершенно, тем более соответствует замыслам Творца, чем менее оно думает, мыслит. Преступление князя Андрея, за которым последовала столь беспощадная расправа, состояло в том, что он так и не сумел отказаться от претензии жить собственным умом, уже понимая, что умом не проживешь. У Болконского было два пути к гармонии (соответственно, они вели к разным типам гармонии): он мог избрать простой, проверенный пьеровский способ разрешения противоречия между мыслью и чувством – это был путь элементарного устранения одного из членов противоречия, а именно: мысли; но у него была и, скажем прямо, закрытая, табуированная Толстым, онегинская возможность гармонии, когда противоречия между антиподами сохраняются, но это не мешает мыслям и чувствам жить в границах целостного духовного мира личности. Повествователь, фактически, лишил Болконского выбора, предельно жестко сформулировав (художественными средствами, конечно) альтернативу: или Болконский станет Безуховым – или он умрет. В толстовском мире андреи болконские, не говоря уже о евгениях онегиных, не живут; они есть именно угроза этому прекрасному, поэтическому, беззащитному перед мыслью миру. Оставить Болконского в раздвоенном состоянии значило бы слишком робко и нерешительно встать на защиту жизни (и тем самым уступить часть жизненной инициативы и территории – смерти). Этого автор допустить не мог. Поэтому умирающий князь Андрей должен был осознать всю неправоту и преступную половинчатость своей позиции и тем самым признать правоту жизнелюбивой, нерассуждающей партии персонажей романа. Вот почему затянулась пауза между жизнью и смертью, вот почему в поле зрения Болконского вновь появилась Наташа и между ними возобновились 115 отношения жениха и невесты. Князь Андрей понял, как надо было жить – но было уже слишком поздно: такова художественная логика заключительного этапа судьбы Андрея Николаевича Болконского. 5 Не успел князь Андрей покинуть палатку, где, заботливо сняв с него платье, ему сделали болезненную операцию, в результате чего он «потерял сознание», как уже произошел радикальный, окончательный переворот в его душе. «После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, – представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность». Тут же, в палатке, князь Андрей увидел злейшего врага своего, Анатоля Курагина, которого он мечтал вызвать на дуэль и пристрелить. Разве не заслуживал этот господин, поглумившийся над его надеждами, самой суровой мести? Месть ничтожному Курагину стала едва ли не ближайшей целью жизни испытавшего все прелести унижения Болконского. Реакция на присутствие личного врага стала первой и лучшей иллюстрацией «новейшего» взгляда на вещи: «Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце. Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!» Комментарии к столь тенденциозному тексту едва ли необходимы. Христианское мироощущение безраздельно завладело душой отходившего в мир иной некогда мятежного князя. И он попросил Евангелие. Перед лицом смерти смертельно опасные мысли уступили место любви, этому всепроникающему ферменту жизни. Разумеется, в новом свете предстали и отношения с Наташей. Князь Андрей «в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею». Конечно же, Наташа не могла не появиться рядом с ним. «Вы? – сказал он. – Как счастливо! 116 (...) – Простите! – сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. – Простите меня! – Я вас люблю, – сказал князь Андрей. – Простите... – Что простить? – спросил князь Андрей». Прощать было нечего. В свете новых ценностей исчезла вина Наташи и появилось чувство вины самого Болконского. Князь Андрей стремительно, в обидно-сокращенном варианте прошел все фазы не только личного, но всечеловеческого пути. Он как никто другой в романе продемонстрировал нам логику этого единственно достойного (по замыслу повествователя) пути. Он слишком быстро стал «слишком хорош» для жизни, по словам Наташи. За два дня до приезда княжны Марьи с князем Андреем, по словам той же Наташи, никогда не умевшей выражаться внятно, но всегда чувствующей глубину главного, это сделалось. Что же «сделалось» с князем Андреем? Неужели смерть пришла к нему, испытавшему прилив вселенской любви, через мысль? Толстовскому космосу, конечно, явно не хватает диалектичности, зато он безупречно непротиворечив. Мысль в мире Толстого есть смерть; но смерть для любящих жизнь, для любящих – не есть мысль. Смерть есть нечто другое, располагающееся в одной плоскости с жизнью; можно было бы сказать, что она является оборотной стороной жизни, если бы это не выглядело навязыванием ненавистной автору умственной диалектики (что касается «диалектики души» – то здесь Толстой по праву может считаться корифеем, не знающим себе равных; при этом толстовская «диалектика души» служит способом дискредитации диалектики ума). Переход от бытия к небытию совершается в космосе Толстого не через мысль, а через чувство, ибо смерть, преодоленная наличием бога, гаранта жизни, есть в своем роде продолжение жизни. Именно приобщение к смерти (или «пробуждение от жизни») сделалось с Болконским, и это не вызвало у провожающих его, безвременно ушедшего, в последний путь Наташи и княжны Марьи протеста или, боже упаси, бунта, ибо они, не рассуждая, но чувствуя высшую целесообразность происходящего, приняли это как должное: «обе знали, что это так должно быть и что это хорошо». Впервые Болконский приобщился к смерти еще до того, как увидел Наташу и даже до того, как впервые почувствовал «жестокость своего отказа». «Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. (...) Все любить – любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской». Вот вам и формула полноценного, гармоничного человека (такова сводная, идеальная толстовская концепция личности): любовь человеческая + любовь божественная, и при этом ни тени дерзкой 117 мысли. Формула героя отражает главную функцию человека: реализовать некую внешнюю и высшую по отношению к человеку заданность, безропотно пестовать и взращивать предусмотрительно вложенные в него божественные «зерна». И если при наличии такой программы, обеспечивающей райский внутренний комфорт и гармонию с внешним миром, человек дерзает мыслить, т.е. самонадеянно присваивать несвойственные ему, «божественные» функции, – такой человек обрекает себя на трагедию гордой никчемности, отъединенности, отлучения от мира. Болконскому удалось преодолеть искушение мыслью – правда, ценой жизни. Он нашел себя в любви, а нашедший себя в любви – это уже Герой, ибо он исполняет человеческий долг, служит Тому, Кто выше человека (ведь «любить – любить бога во всех проявлениях»). Логика такой любви заставила совершить подвиг: «покорить припадок ужаса перед неведомым» (т.е. подавить чувство жизни, преодолеть человеческую любовь) и – обрести «странную легкость бытия». Все это князь Андрей исполнил как должно и приблизился к «грозному, вечному, неведомому и далекому, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни (...)». Вот что «сделалось с ним» и что составляет, по Толстому, самую суть таинства смерти, т.е. «пробуждения от жизни». И все же «пробуждаться от жизни» следует вовремя, после того, как сполна насладишься дарованной тебе жизнью: в этом заключается своеобразный приятный долг человека перед мирозданием. Этот долг повествователь доверил исполнять другим, гораздо более приспособленным для этой миссии персонажам. Они сполна испытали «человеческую любовь», никогда не забывая о «любви божеской». 4 ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ БЕЗУХОВ 1 В свете сказанного об Андрее Николаевиче Болконском совершенно ясно, что образ Пьера Безухова является зеркальной противоположностью характеру и типу личности князя Андрея. Несмотря на то, что впервые только в плену у французов Пьер «получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде», его путь был альтернативой строптивым виражам Болконского. Судьба Пьера – это уже, если так можно выразиться, осиновый кол в гроб мысли, это торжество чувства над мыслью, души над разумом, жизни над смертью, мира над войной. «Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в 118 солдатах в Бородинском сражении, – он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки все обманули его». На первый взгляд может показаться, что общего в судьбе двух друзей гораздо больше, чем различий. Дальше – больше: «И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве». Не правда ли, знакомые мотивы? Тем не менее объединяет их судьбы только общий для всех людей сюжет: через страдания – к успокоению и согласию, к миру. Однако содержание страданий, способ их преодоления и, главное, результат – диаметрально противоположны. У каждого своя «война» и свой «мир» ( но это именно «война» и «мир»). Русский граф Петр Кириллович Безухов, выросший из мальчишки Пьера (чуть ли не Пьеро), не испытает до конца «ужас смерти»; ему суждено остаться в нашей памяти вечно живым, живущим исключительно полноценной, счастливой жизнью, которую разделяют с ним его супруга Наталья Ильинична (бывшая Ростова), графиня Марья Ростова (сестра князя Андрея) с мужем Николаем, их чады и домочадцы. Крестный путь Безухова ведет к торжеству идиллической гармонии жизни и преодолению страха смерти, который так мучил Андрея Болконского. Имея в виду полярную значимость героев в своем мире, повествователь с самого начала скрупулезно выдерживает контраст. Уже внешне они отличаются как Кутузов и Наполеон или как Наташа и Элен. В мир толстовского романа Пьер, «массивный, толстый молодой человек», бывший «несколько больше других мужчин в комнате», входит все через тот же салон Шерер – и сразу же производит впечатление чего-то «огромного и несвойственного месту». Он чересчур масштабен для салона и раута, а потому неуместен, как слон в посудной лавке. У Толстого, правда, сказано иначе: «у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза»; кстати, в отличие от «усталого, скучающего взгляда» Болконского, взгляд Пьера был «умный и вместе робкий, наблюдательный и естественный». «Слон» или «ребенок» (князь Василий назовет его «медведем»), но он был неприлично естественен в мире условной салонной культуры, чем шокировал приближенную императрицы Марии Феодоровны «энтузиастку» Анну Павловну. Повествователь сразу же обозначил доминанту личности: стихийную, бьющую через край жизненную силу молодого человека. Естественно, Пьер не в состоянии был сдержать хоть и «честное», но всего лишь слово, данное князю Андрею, оставить «кутежи», «гусарство», «женщин Курагина» и «вино» – не в состоянии сдержать прущую из него природную мощь культурной, словесной регуляцией. После салона фрейлины и ученой кельи Болконского Пьер, вопреки своим намерениям (он не обладал волей князя 119 Андрея) и здравому смыслу, но согласно логике своей натуры, едет к Курагину. Здесь он попал в свою стихию: попойка, гусарские выходки и сумасбродные пари, выворачивание дубовых рам, танцы с медведем Мишкой... Кончился вечер, разумеется, «одним из любимых увеселений Пьера»: поездкой к «женщинам Курагина», «к актрисам». Если уж быть совсем точным, то финалом разгульного кутежа стало «неповиновение властям»: Мишку привязали «спина с спиной» к квартальному и пустили в Мойку. Вслед за буйной забавой последовали санкции: Пьера выслали в Москву, где в это время умирал его отец, Кирилл Владимирович Безухов. При всем желании такой легкомысленный образ жизни трудно назвать поисками пути. Это была демонстрация умения просто, т.е. бессознательно жить. Непочтение к законным властям в частности (кстати: Пьер был незаконным сыном графа Безухова – какая контрастная краска и по отношению к Рюриковичу Болконскому!), и неприятие любого «закона» и регламента вообще, кроме закона удовольствий, имели для Пьера далеко идущие последствия. Ибо: закон был в мире до Пьера, и закон гласил: бессознательная жизнь облагораживается страданиями, которые ведут к согласию с собой. К согласию можно придти только через временное внутреннее рассогласование, несогласованность (страдание), иного пути к согласию с собой просто нет. Избежать пути страдания – значило остаться Мишкой или, в лучшем случае, Курагиным (повествователь со знанием дела организовал свой мир, обозначая ярусы духовности). Вот почему Пьер был обречен на страдания, но скрытый смысл его Голгофы был весьма благоприятен для Пьера. Кто-то расчетливо, с большой перспективой планировал его судьбу... Для начала незаконный сын признается законным, но это обстоятельство не только не уберегло графа Пьера Безухова (вот вам французско-русское несочетание, диссонанс, отдающий комизмом; не оно ли послужило отправной точкой для рассогласования?) от несчастий, но стало точкой притяжения невзгод. Законно унаследовав огромное состояние, Пьер закономерно спровоцировал алчный интерес к нему расчетливо-бессердечного семейства Курагиных, которые, как пираньи, тупо, но безуспешно атаковали отходящего в мир иной вельможного графа. Пьер сам по себе их не интересовал, их интересовало богатство графа Безухова (старого или молодого – неважно). Закономерно также, что антично совершенные телесные прелести Элен обворожили новоиспеченного графа, склонного к удовольствиям. А за удовольствия рано или поздно приходится расплачиваться. Князь Василий, сам живший «по инстинкту», сделал из своей дочери отменную приманку для такого крупного зверя, как Пьер. «Мраморная» Элен тоже вела себя «по инстинкту» (иначе она просто не умела), и ставка была сделана на «инстинкт» Пьера. 120 Результат был более чем закономерен. «Она (Элен – А.А.) была страшно близка ему. Она имела уже власть над ним. И между ним и ею не было уже никаких преград, кроме преград его собственной воли». А с волей, как известно, у незрелого душой Пьера были проблемы. Чем «плохи» инстинкты? Тем, что человек им подчиняется, а они ему – нет. Инстинктам можно противопоставить либо врожденный «нравственный инстинкт» (таким даром, судя по всему, в высшей степени обладала Наташа Ростова), либо, на худой конец, разумную волю (что просматривалось в натуре князя Андрея). Курагины были «страшны» тем, что их звериный кураж не был ограничен ни тем, ни другим. Катастрофический дефицит одухотворяющей, божьей искры делал эту «подлую, бессердечную породу» (так аттестовал Пьер великосветскую семейку после низкой интриги Анатоля в отношении невесты князя Андрея) людьми самой низшей пробы. Отсутствие нравственных преград страшно сближало эту породу с животными. Черты человеческого вырождения явно сквозили в облике Ипполита (по едва ли случайному совпадению обладавшему «лошадиным» именем). Впрочем, Пьер достаточно трезво видел порочные наклонности хищной породы еще до женитьбы на выразительной Элен. Скандальный интерес Анатоля к сестре. «Брат ее – Ипполит. Отец ее – князь Василий. Это нехорошо». Но охота пуще неволи. Что были бедные (подчеркнутые скудным синтаксисом) доводы разума в сравнении с ее телом, «только прикрытым серым платьем!» Когда душа и воля молчат – говорит тело языком инстинктов. Но даже они не могли заставить Пьера сделать решающий шаг – формально просить руки Элен. И подобная непоследовательность поведения (отражающая, как мы убедимся, «последовательность наоборот») в высшей степени характерна для Пьера. Он испытывал «неосознанное чувство виноватости», поскольку его влечение к Элен было напрочь лишено не то что поэзии, но просто элементарной душевности. Он был виноват тем, что де факто был одним из стаи и жил по законам стаи, поступал не по-человечески, а по-курагински. Пьер не в силах был выдавить из себя «да»; но у него не хватило характера отрезать «нет»! Особенность поведения Пьера состояла в том, что он руководствовался не стратегией «от ума», а – «неосознанными чувствами». Персонажи именно такого типа, как Пьер, и потребовали «диалектики души», вскрывающей противоречия сознания и подсознания с тем, чтобы вечно оставлять разум в дураках. Психологизм Толстого – невероятно разнообразен, тонок, художественно точен и убедителен. Он подчинен единой сверхзадаче – всегда, в любом невольном психологическом жесте или интеллектуальном контрдвижении обнаруживать неземную зависимость – и, соответственно, сверхразумность – первого и поверхностную надуманность (следовательно, неосновательность и несостоятельность) второго. По Толстому получается: 121 Пьер был прав в главном – прав в том, что испытывал чувство вины. Узы брака был не его выбор, он запутался в сетях не умной, но хитрой породы. Получилось то, что в народе называется «без меня меня женили». Пьер, конечно, пролепетал положенное в таких случаях «я вас люблю» (однако не порусски, а по-французски, по-светски, без души); «но слова эти прозвучали так бедно, что ему стало стыдно за себя». В общем, читатель, благодаря психологизму, на каждом шагу чувствует, что в Пьере присутствует несомненный внутренний стержень, что жизнь его складывается «нехорошо» не потому, что он плохой, а потому, что он еще не окреп душой, не узнал себе истинную цену. Вместе с тем на фоне хищного семейства «невинная» склонность Пьера к телесным удовольствиям, обнаруживающая избыток сил – симптом укорененности в жизнь, обнаружила и изнанку природной саморегуляции: дефицит человечности и воли к добродетели. По мере разворачивания в Пьере его изначально «не подлой», честной натуры, склонность к удовольствиям постепенно ограничивалась до нормы и свято место в душе заполнялось стремлением к добродетели. Следовательно, наступало время платить за удовольствия – по предъявленным векселям судьбы. 2 Бурная молодость не прошла бесследно. Долохов, свидетель и инициатор милых проказ, «пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером», «прямо приехал к нему в дом» – и вторгся в жизнь Пьера. Совершенно «цинически» Долохов воспользовался гостеприимством «друга», чтобы как можно больнее унизить его. Пьеру предстояло сделать несколько неприятных открытий: в глазах друга и света он был всего лишь жалким посмешищем, «мужем хорошенькой женщины», жена его была «развратная женщина», а в глазах жены он был дураком и полным ничтожеством. Положение обманутого супруга обязывало. Пьер должен был определить отношения с миром, где в цене были только удовольствия и инстинкты. Когда он думал об этих людях, «что-то страшное и безобразное поднималось в его душе». Соприкасаться с этим миром и не содрогаться брезгливо – значило принимать законы этого мира. Пьер, к его чести, поступил абсолютно неразумно, дав волю чувствам: он вызвал на дуэль записного бретера и буяна. Казалось бы, шансов у Пьера – никаких. Долохов, вспомнив совет «костромского медвежатника», уже смаковал «медведя"-Безухова в качестве жертвы, так сказать, делил шкуру неубитого зверя. Однако произошло чудо (дело в романе Толстого обычное). Вопреки всем законам здравого смысла близорукий и неуклюжий Пьер, который к тому же никогда прежде не держал в руках оружия, подстрелил бравого охотника. И это был первый серьезный тест Пьеру и читателю, размышляющему над судьбой 122 Пьера: кто добыча, кто охотник? Что разумно, что неразумно? Кто знает? «Кто прав, кто виноват? Никто. А жив – и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Ведь Пьер, по существу, уже нащупал главный аргумент в споре об истине, он как-то сразу, мгновенно и счастливо совершил главное открытие, к которому вернется много лет спустя в плену у французов. Почему же он не поверил себе? Потому что это был всего лишь логический ход, только «рассуждение». Для полноты истины не хватало одного, и тоже главного: убежденности в том, что все предельно просто, веры в то, что не тебе решать, кто прав и кто виноват. Путь к этой высшей простоте – и есть путь Пьера. Следующий шаг в направлении простоты был сделан при выяснении отношений с женой. Способ, подвернувшийся под руку Пьеру (он, опять же, ничего не просчитывал, все вышло случайно, само собой, даже вопреки планам уехать от жены без объяснений, оставив лишь письмо), был гениально прост: он почувствовал, что на подонков, у которых душевные комплексы находятся в зародышевом состоянии, успокаивающее и отрезвляющее влияние оказывал метод непосредственного физического воздействия, от тела – к телу, минуя совесть и душу: на Долохова – пистолет, на Элен – мраморная доска, на Анатоля – трепка за воротник, как урок нашкодившему коту. Подобное укрощается подобным. «Общение телами», оказывается, был не только способ сближения, это был универсальный способ регулирования отношений с «бессердечной породой». Жена Пьера «с морщинкой гнева» «на мраморном, несколько выпуклом лбе» (богиня, да и только!) – «взвизгнула и отскочила от него», увидев занесенную мраморную доску в руках рассвирепевшего «медведя». И далее: «Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!» – таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик». Вот кто был истинный Юпитергромовержец, а не его визгливая потаскушка-жена. Пьер был ослеплен бешенством (т.е. не мог разумом контролировать свои действия), но, в отличие от Юпитера, он открывал в себе «неизвестную еще ему силу», которая состояла в том, что он был силен тогда, когда чувствовал, что прав. Он был из той породы, что сильна чувством правоты. Только после выяснения отношений с женой Пьер вступил в новый, собственно духовный этап своей жизни. И начал он, по духовной неискушенности, не с того конца. Будучи сильным даром веры, даром всепоглощающего чувства («прелесть бешенства» и прелесть добродетели – полюса которого), Пьер принялся задавать себе умные вопросы. Холостые обороты мысли гоняли «смысл» по замкнутому кругу. Механистичность, неорганичность вопросов подчеркнута «механическим» сравнением: «Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь». 123 Вопросы были такие: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» Очевидно, что вопросы выросли из тех, что пришли ему в голову после дуэли с Долоховым. Ответ был один, но «вовсе не на эти вопросы»: «Умрешь – все кончится. Умрешь, и все узнаешь – или перестанешь спрашивать». Жизнь – не конструкция, она не может держаться «на винте», читаем мы между строк, в последовательности «сцепления образов» инструкцию повествователя. Чего не хватало безупречной, механистичной логике вопросов? Им «не хватало» только одного: они не имели отношения к жизни. Они были сами по себе – жизнь сама по себе. Поэтому ответ был правильным – но он «не решал вопросов». Не было «сцепки», если продолжить механику сравнения, вопросов с жизнью. Но Пьеру казалось, что вся разгадка жизни именно в нерешенности вопросов. И он пошел по пути решения вопросов, т.е. по пути отдаления от жизни. Следующий круг жизни Пьера, его хождение в масоны, это именно холостой круг мысли. Лжемудрость иероглифов, алхимия мысли, софистика, гимнастика ума, таинственная атрибутика и «наука» ордена – словом, «мистическая сторона масонства» просто не имела никакого отношения к жизни, к душе, к дару веры. Он же искал в масонстве то, что могло объяснить жизнь. Ростки жизни торчали из масонской доктрины, как трава «между плитами камней» (таким сравнением , как известно, начинается роман «Воскресение»). В мире «свободных каменщиков», в их надуманном братстве Пьер очутился по одной простой причине: потеряв веру в разумность, он, как ему казалось, вместе с ней потерял и веру в бога. И он хотел именно с помощью разумно выверенной веры восстановить веру в бога. Вот почему «разумные доводы» Баздеева, масонского «ловца человеков», произвели такое сильное впечатление на Пьера. После того, как Пьер произнес «кощунственные слова» о своем неверии в бога, он услышал в ответ мастерское, искусно выстроенное и опять же «механическое» слово: «ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что (споткнемся о «механический» синтаксис и отдадим должное искусности повествователя – А.А.) он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал». Масонство предписывало три назначения, семь добродетелей – в общем, не так уж много премудростей, с помощью. которых Пьер надеялся разгадать тайну жизни и смерти. А главное – Пьер видел в масонстве то, что хотел видеть: для него это был способ отринуть «порочное прошедшее» (когда Пьера, проходящего ритуал вступления в масоны, попросили назвать основной свой порок, то поставили его в большое затруднение: у него было из чего выбирать: «Вино? Объедение? Праздность? Леность? Порочность? Злоба? Женщины?») и 124 наладить «добродетельное будущее». «Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным». В нем была добродетель, но она «случайно» оказалась невостребована... Он хотел «обновления». Мастера риторики тут же предложили технологию «включения» призабытой добродетели, и Пьер с его искренней верой в мудрость братства оказался в таком же глупом положении, как и тогда, когда верил в добродетельность своей жены. Никакого «обновления» на деле, конечно же, не произошло и произойти не могло. Произошла только смена декораций: «Вместо новой жизни, которую надеялся повести Пьер, он жил все той же прежней жизнью (читай: прежними «слабостями», пороками – А.А.), только в другой обстановке». Но смена вектора духовного все же наметилась. И вот с наивной верой в силу добра, любовь к ближнему и самопожертвование Пьер предстал перед князем Андреем (вспомним их диалог на пароме). Вера оказалась настолько заразительной, что победила неверие Болконского. Итак, Пьер Безухов знал, как следует жить, но у него почему-то не получалось так, как надо. И спустя два года «жизнь его (...) шла по-прежнему, с теми же увлечениями и распущенностью». Неизбежно приближался кризис. Пьер, стоявший во главе петербургского масонства, побывал за границей, посвятил себя в высшие тайны ордена и по возвращении предложил своим собратьям весьма рациональную программу деятельности братства, смысл которой сводился к тому, чтобы быть тайной властью, управлять, «нечувствительно вязать руки покровителям беспорядка», внедрять порядок, «всеобщий владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом» и т.д. Пьер по-своему замахнулся на генеральные функции господа бога, мастера над мастерами: «переродить порочный род человеческий», отладить, отрегулировать жизнь, внести в нее тайный порядок. Вот чему научила «мыслящая» заграница русского графа Безухова. Однако жизнь мгновенно отрезвила Пьера. Он увидел «бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям». Он сделал попытку, так сказать, унифицировать истину, навязать свое, очевидно, наиболее объективное представление об истине (гарантией чему, надо полагать, служили субъективные, но добрые намерения просветившегося графа) братьям по ложе, а в перспективе и «целому свету», но не смог найти и одного полного единомышленника. Истина одна, умов много, и каждый ум видит истину посвоему. Следовательно, истину умом не понять. Хочешь понять истину – откажись от ума. В результате проделанной громадной умственной работы «на Пьера опять нашла та тоска, которой он так боялся». Механизм происхождения тоски нам 125 уже известен: «свернутый» винт безупречной логики «в себе» – и просто жизнь со своей тайной логикой... Тоска есть результат их нестыковки, невозможности одним познать другое, результат ощущения их разной природы. Мир вновь распался на части, фрагменты, осколки смыслов. Пьер перестал чем-либо дорожить в жизни. Ему было все равно. Он сошелся с женой, стал исполнять роль мужа-чудака при «самой замечательной женщине Петербурга». И все же подспудная, неподотчетная разуму работа в душе Пьера не прекращалась, несмотря на «припадки ипохондрии» и «мрачные мысли о тщете всего человеческого». 3 Лучшим подтверждением невидимой работы в душе героя, по мнению повествователя, послужил тот факт, что «Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь». «Прежнюю» – в данном контексте означает «увлекаться внутренней работой самосовершенствования», как советовал его благодетель Иосиф Алексеевич Баздеев. «Неочевидной» же причиной послужило именно сватовство. Очевидно, Пьер уже давно, втайне от себя любил эту «редкую девушку», это «сокровище», как он отозвался о ней князю Андрею. Но любил он ее не так, как Берг – Веру: «я люблю ее», – обосновывает Берг – «потому что у нее характер рассудительный – очень хороший. Вот другая ее сестра – одной фамилии, а совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того (...)» (речь идет о Наташе – А.А.). В разговоре с княжной Марьей, рекомендуя ей будущую невестку, Наташу, Пьер «сказал то, что он скорее чувствовал, чем думал. (...) «я решительно не знаю, что это за девушка; я никак не могу анализировать ее. Она обворожительна». «– Умна она? – спросила княжна Марья. Пьер задумался. – Я думаю, нет, – сказал он, – а впрочем – да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего». Пьер действительно любил Наташу, поэтому не мог «анализировать» ее. Критерии ума в данном случае были неактуальны, не важны. Пьер в своей тайной внутренней работе давно уже, практически всегда, ориентировался не на ум, а на что-то другое; и в то же время он продолжал «прежнюю», умственную жизнь, ведя аналитический дневник, в котором отражал поучительные разговоры и фиксировал фазы своего «совершенствования», главная цель которого была – достичь «любви к смерти». Таким образом, противоречие, определяющее внутреннюю жизнь Пьера и ввергавшее его в тоску, было очень простым (что не мешало ему фокусировать кардинальное противоречие всего романа): он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил Наташу, не любил сухой умственной работы – и обязан был, по добровольно исповедываемому заблуждению, не любить жизнь и 126 стремиться к «любви к смерти», через аналитическую мысль, через убиение души и чувства... Когда Наташу «отобрали», он «вдруг почувствовал», что давно уже шел тропами тайного душевного курса, параллельного, а то и встречного курсу аналитическому, который он и сам считал правильным и единственным. Теперь, когда терять было нечего, следовало расставить все на свои места и назвать вещи своими именами. Но Пьер лишен был цели, точки приложения незаурядных внутренних сил – лишен Наташи. Поэтому: «Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание». Дремлющие жизненные силы невозможно было смирить любовью к смерти (Пьер так и не научился не бояться ее), время от времени они начинали клокотать, как вулкан; но никак не удавалось Пьеру найти соответствующее собственному человеческому масштабу социальное и персональное русло. И он с ужасом думал, что «его колея давно пробита», что ему, богатому мужу неверной жены, любящему покушать и выпить, придется «добродушно доживать свой век в Москве» отставным камергером, участь столь же пустая, сколь и унизительно типичная. «Болезнь» задавать вопросы не прошла, она «была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его». Но уже был «опыт», который подсказывал, что на вопросы не было ответов. Поэтому Пьер отвлекался, увлекался, забывался – «спасался от жизни», ибо жить без смысла он не мог. Именно Пьеру, по замыслу повествователя, суждено было отыскать тот род смысла, который предрасположен стыковаться с жизнью, а также просеять и отвергнуть тот род смысла, который засоряет жизнь, мешает и угрожает ей. Тот, кому дан ум, может идти только универсальным путем Пьера – так библейски широко ставит вопрос Толстой. Простая задача «любить жизнь» была уже почти решена Пьером бессознательно на личном уровне. После истории с Анатолем Курагиным (именно тогда Пьер устроил выволочку шурину) Пьер неожиданно для самого себя, но предсказуемо для читателя и запланированно для «образа автора», признался Наташе в любви. Это было глупо, безрассудно, это не имело смысла –- и одновременно в этом сквозил высший смысл. Пьер распахнул свою «медвежью шубу», подставляя незащищенную грудь всем морозам мира, и душа его возвысилась до звезд. Даже контакт с лучистой кометой радостно плачущий Пьер воспринял как должное: «звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе». И все-таки чтобы философски решить задачу «любви к жизни», надо было вернуться к Наташе, обогащенным опытом переживаний, добытым не только из сферы «малого мира» (московское и петербургское общество, масонство, 127 неудачный брак ), но и «мира большого»: страны, народа, истории. Вот тогда личная жизнь становилась моментом общей жизни, мира и тогда человек обретал неслучайную гармонию, равновесие и довольство собой. Как видим, Пьер меньше всего решал личные проблемы; как персонаж, как герой «Войны и мира» он выполнял миссию: концентрировал в душе все проблемы мира и, преодолевая сопротивление реальности, становился счастлив. Он добывал рецепт счастья для всех, в том числе и безнадежных, т.е. самых умных; он добывал методологию нейтрализации ума. Любить и понимать Толстого – значит сочувствовать Пьеру. Повествователь исключительно точно и корректно, в безупречных с научной точки зрения терминах прописал механизм замещения проблемы. И психоаналитически, и философски – безупречно. Пьер с того дня, как смотрел на комету, символизирующую яркость и быстротечность жизни, «почувствовал» новый способ решения вопроса: теперь «вопрос о тщете и безумности всего земного» («зачем? к чему?») «заменился» не более правильным вопросом и не правильным ответом на прежний вопрос, а – «представлением ее» (Наташи – А.А.). Абстрактные системы понятий заменились переживанием представлений, образов, чувственными ощущениями; феномен сознания устраняется, заменяясь психогенными фантомами. Строго говоря, происходит подмена одного другим. Толстой прав: от этого бывает только «хорошо», и вопросы, объективно не решенные, субъективно перестают существовать, перестают быть источником мучений. Они «вынуты» из души как представления, и душа переключается на совсем иные, более приятные для субъекта представления (позднее, после опыта общения с Каратаевым, Пьер назовет это «спасительной силой перемещения внимания»). «Представление ее» вытеснило тоску, а вместе с последней и вопросы: произошел классический эффект вытеснения. Но Толстой придал этому сугубо психическому акту и философское измерение: проблему отношения к миру он свел к проблеме приспособления (посредством вытеснения), а проблему познания вынес за скобки. Стало неважно, насколько реальны твои вопросы, поскольку была открыта возможность избегать самих вопросов. И получилось: а был ли мальчик? Стоит ли думать, если представления живут по своей логике, которая не зависит от логики мыслей? Можно думать и становиться от этого несчастным, а можно стать счастливым вовсе не думая. Все это по большому счету давно называется субъективным идеализмом, но в мире Толстого имеет статус чрезвычайного открытия. И действительно: никто так до Толстого языком представлений и образов не прописывал противоречий между психикой и сознанием, тенденциозно (и абсолютно ненаучно) отдавая предпочтение животворным функциям первой. Но это уже другая, не толстовская тема. Толстой же по-своему, художественно и «по-человечески», был прав: «хорошо» бывает тогда, когда перестает быть «плохо». 128 Далее Пьер, интуитивно предчувствовавший вселенскую катастрофу, стал нащупывать нити, которые связывали его с «большим миром». Он открыл, что именно он, «русский Безухов», призван (кем? чем? кометами, Библией?) уничтожить Наполеона. Предчувствие было верным, но Пьер опять оглупил его рационально-мистической каббалистикой, примененной по технологии масонской науки. Впрочем, любой шаг в его положении выглядел бы глупым: он безнадежно любил Наташу, которая, очевидно, уже догадывалась об этом; но он был женат, Наташа же надеялась на примирение с Болконским . Перспектив в их отношениях не было. И Пьер пошел в народ, в мир. 4 Первый опыт знакомства со стихией народного энтузиазма прошел для Пьера не вполне успешно, хотя и весьма поучительно. Случилось это в Москве, в зале Дворянского собрания Слободского дворца, а не на поле сражения. Что выделяет в этой массовой сцене повествователь? Собрание дворянства и купечества было способом консолидации, сплочения сословий перед лицом опасности, которая угрожала государству; кроме того, от сословий, помимо патриотического одушевления, ждали конкретных действий: отечество нуждалось в ополчении, в «пушечном мясе», в мужиках. Был прочтен манифест государя императора, все ждали приезда самого русского самодержца. Пьер в своем «узком» дворянском мундире (забегая вперед, отметим, что и платье мужика будет ему тесно) был в волнении: он ждал совещания государя с народом. Возник стихийный митинг, где Пьер и решил обнародовать вольное, конституционное направление своих мыслей. Словно в ложе перед братьями, он размеренно, акцентируя разумность доводов, начал речь: «(...) я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтобы обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю (...), что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, (...) но не нашел бы в нас со... со... совета. (...) Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммюникировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда..». Европейски образованный Пьер попал в положение тех, в основном, иностранных генералов, которые верили в строгую логику диспозиции, военную науку и вообще в силу разума, логики и дисциплины. Такие генералы, как известно, были посрамлены мощью русского беспорядка, победоносным легкомыслием русского духа. На Пьера налетели со всех сторон. Лейтмотив 129 «оппозиции» был один: «не время рассуждать», «бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию». Толпа не реагировала на мысль, она сочувственно воспринимала именно восторг, воодушевление, патриотизм, она ценила больше звуки, мимику, жесты, чем смысл речей. И Пьер поддался настроению дворянского собрания: «Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться». Под конец, когда, после слез государя, всеобщая истерия достигла апогея, собственная речь уже представлялась Пьеру «как упрек»; он искал случая «загладить» это, и, разумеется, нашел. Так Пьер слился с народом, растворился в нем, отрекся от гордости мысли. Смысл урока, полученного при общении с народом, состоял в следующем. Один в поле не воин, надо быть со всеми, с миром; а мир, народ не воспринимает «коммюникирования» при посредничестве мысли, он реагирует только на язык представлений, таких, например, которые содержались в речи «писателя Глинки»: «ад», «улыбающийся ребенок», «блеск молнии», « раскат грома»... Это совсем не то, что «обсудить меры». Глинку слушали и восторженно ревели, а конституционная публицистика Пьера сделала последнего «предметом ненависти» для толпы. Хочешь быть с народом – говори с ним тем языком, который он понимает. Дух народа – исключительно психологическая материя, вот почему народ «понимает» того, кто чувствует с ним заодно. Тот, кто начинает думать – неизбежно отдаляется от народа. Пьер, как вытекает из представлений, из концептуальных картинок повествователя (за которым стоит писатель Толстой), был просто создан из народного теста (хотя до поры до времени плохо себе это представлял), был плоть от плоти народа, как Кутузов, Наташа и Николай Ростовы, Каратаев. Вот почему Отечественная, народная война стала для Пьера способом единения с большим миром, способом окончательно связать все миры в один, цельный и неделимый. Он как бы случайно оказался «при войске», хотя его тянуло туда «чувство необходимости предпринять что-то и пожертвовать чем-то». Это и был своеобразный эквивалент чувства единения: он чувствовал то же, что и все. И это было «новое радостное чувство». Примеров деятельной жертвенности, эпидемией охватившей народ, разные сословия, низы и верхи, в романе представлено достаточно много. Граф Мамонтов «жертвовал» полк, Безухов – тысячу человек и их содержание, семья Ростовых – нажитое богатство, которое было, фактически, приданым дочерей; купец Ферапонтов с «рыдающим хохотом»: «Решилась! Расея!» – сам «запалил» свое хозяйство, чтоб только не досталось «дьяволам», Расея пожертвовала Москву... Бородинское сражение, ставшее кульминацией романа, вовсе не случайно мы наблюдаем неравнодушными, близорукими в отношении выгоды, но не истины, глазами Пьера. Он как никакой другой герой подходит на роль активного свидетеля противостояния не двух армий (это близорукое 130 представление), а двух цивилизаций, двух способов освоения мира: европейского и русского, разума и иррационального духа народного. Пьер вокруг себя видит больше, чем войну; он видит модель того, что происходило – и происходит на тот момент – в его душе. Победа русского духа над просвещенными двунадесятью языками Европы символизирует перелом во внутреннем мире Пьера, а именно: окончательное утверждение «веры» над «разумом». Даже сам факт военной «непобеды» ни одной из двух сторон был на руку Толстому: ибо победил тот, кто верил, что он победил. А если факт непобеды был очевиден даже в числовом выражении (русские потеряли половину своего войска, французы – только одну четверть), то тем хуже для факта. Вера питается не фактами, а субстанцией еще «дофактической». «Вещество» веры – не материально, а потому мерки разума к ней непреложимы. Если принять сказанное во внимание, то мы должны признать целесообразность того, что Безухову отведена была роль наблюдателя не за количественно-фактической стороной дела (где, когда, сколько, позиции, диспозиции), а за главными компонентами победы. Близорукий во внешнем мире Пьер обостренным внутренним зрением выделял принципиальные мелочи, которые, на первый взгляд, не имели отношения к схватке Востока с Западом. Вот почему общая панорама исторической битвы – за тенденциозным повествователем, а главные духовные мелочи – за подслеповатым Пьером (вместе они, надо полагать, делают общее дело). Вот почему чудаковатый граф, оказавшись в эпицентре событий, так глупо мотивировал свое присутствие: «да вот хотелось посмотреть», «интересно». «Я хотел видеть сражение,» – скажет Пьер князю Андрею. Словно он решал свои личные проблемы, а потому стеснялся своей функциональной свободы. Он ведь был ни к чему не приписан, никому ничем не обязан, ничего не должен. Самое «интересное», что так оно и было. Но правда при этом заключалась в том, что его личные проблемы стали проблемой народной. В поле зрения Пьера попадают какие-то заурядные, обыденные картины, которые потрясают его своим «пафосом отсутствия пафоса». Нерв, «тайная связь» , объединяющая бесконечную мозаику увиденного, чрезвычайно проста: русским наплевать на военный гений Бонапарта, они решили победить во что бы то ни стало, «всем народом навалиться хотят». И у них нет ни тени сомнений в своей победе. А о жизни и смерти они не думали. Но это и есть самая настоящая победа жизни и преодоление страха смерти. Надо делать то, что надо и не думать о том, что будет. Рутинные действия простых солдат, в восприятии Пьера, оказывались исполнены высшей значимости. Не на личностях сильных мира сего и не на ключевых диспозициях сосредоточился Пьер. Ему казалось, что в поезде раненых (в Шевардинском сражении), спускавшемся с Можайской горы, «тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса» (это было, напомним, 25 августа, за сутки до начала битвы). Дух раненых был не сломлен. А мимо раненых бодро, с 131 песнями двигались «щегольки"-кавалеристы, – шли весело, видя перед собой то, что их ждет в лучшем случае. Их ждала смерть – а они подмигивали раненым. «Странно!» – думал Пьер. «По какой-то тайной связи мыслей» он остановил свое внимание на мужиках-ополченцах «с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали (...)». Вид этих просто делающих свое дело и ко всему готовых мужиков «подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты». Вот какие «представления» действовали на Пьера. (Между прочим, «таинственная связь» поддерживала и дух армии, составляла «главный нерв войны». Кутузов, вопреки «объективному» донесению Вольцогена, объявил о победе русских и подписал приказ о завтрашнем наступлении на неприятеля – чем и «доказал» факт победы, а также укрепил дух войска. Общий дух армии регулировался теми же способами (тайной связью), что и персональный дух Пьера: вот еще одно несомненное «доказательство» правоты графа.) Но видел Пьер и эгоизм рационалистов, подобных Борису Друбецкому, которые «в такую минуту» были возбуждены «вопросами личного успеха», а не «общими, вопросами жизни и смерти». Тут интересна сама отмеченная связь эгоизма, циничной рассудочности и черствости души; другой ряд ценностей – общность, жертвенность, душевная открытость – не просто противостоит первому, но делает первый жалким пятном на втором, всего лишь ничтожным вкраплением на полотне жизни. Очевидная несоразмерность первого со вторым снимает вопрос о приоритете, о нормальной ценностной ориентации. Масштаб и значимость происходящего отводят место «партии Бенигсена» (к которой примыкал и карьерист Друбецкой) на обочине жизни и истории. Кстати, примерно о том же говорит князь Андрей Пьеру вечером накануне битвы. «Аккуратный немец» Барклай, по мнению Болконского, не годился в главнокомандующие именно потому, что тщательно все «обдумывал». Какой же русский станет «обдумывать»? Тут уж либо «обдумывать» – либо «наваливаться». И самую «минуту», т.е. непосредственный момент сражения, Пьер воспринимает как-то обыденно, не как ситуацию героическую. Но не будем забывать, что еще в последнем разговоре с князем Андреем Пьер «в новом свете» «понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. (...) Он понял ту скрытую (...) теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти». Пьер ничего не понимал в том, как развивается сражение, он был по-детски заворожен внешней «красотой зрелища», дымами и звуками выстрелов. Но по странному, необъяснимому, как хотелось бы повествователю, стечению обстоятельств он оказался в самом важном месте сражения, которое, впрочем, 132 ему самому казалось одним из самых незначительных мест – на курганной батарее Раевского. Разумеется, невоенный Пьер в своей нелепой белой шляпе производил впечатление белой вороны, но вскоре солдаты «мысленно приняли Пьера в свою семью» и дали ему ласковое прозвище «наш барин». Безо всяких усилий он стал одним из всех, «нашим», хотя и барином. (Так логика целого романа была заключена в «зерно», из которого это целое и вырастало. Этот момент романа, как и все остальные, не эпизод, не часть целого – а именно момент целого, такой же, как и Пьер по отношению к народу, к миру. Каждый момент, зерно целостности сохраняет все свойства целого, а целостность – это и есть совокупность моментов, но не частей. Иначе говоря, момент и целое, в отличие от части и целого, связаны органически, а не механически.) «Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание (...) разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе». Пропуском в семью, в общий мир послужило наличие огня в душе, возникающего из скрытой теплоты патриотизма. Состояние духа интересовало Пьера, и ничто другое. При этом Пьер, как и все, «не помня себя от страха», совершал судорожные, жизнеохранительные маневры. Он, в отличие от князя Андрея, вел себя естественно, «инстинктивно оборонялся» – так же, как лошади, которые метались вокруг него. Пьер не стеснялся «сидеть на заду, опираясь руками о землю», «нагнуть голову» под свистом ядра. Судьба и повествователь бережно хранили Пьера, одного оставшегося в живых из всего «семейного кружка». Патриотический дух, «доказывали» они, не противоречил духу жизни. Пьер уцелел в той мясорубке и почувствовал главное, что повествователь выразил такими словами: «Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы (...), погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника». Мысль и разум были повержены, оставалось только надлежащим образом (философски и художественно) оформить эту «нравственную победу». 5 Роман уже тем, что он роман, противостоит собранию соединенных мыслей; мыслей как таковых в романе нет (во всяком случае, не они делают роман), они живут в концептуальных «представлениях», сама концептуальность которых возникает «из ничего», из последовательности и контекста «представлений». В хорошем романе все происходит естественно, т.е. в продуманной последовательности. В данном случае впечатление естественности значительно 133 усиливается интересом к диалектике души, ибо естественность складывается из противоречивости. Пьер хоть и «мыслит», по преимуществу, чувствами и представлениями, но чувствами живыми, противоречивыми. Прочувствовав теплоту семейного кружка, Пьер проникся глубочайшим благоговением перед простыми солдатами: «Они – эти странные, неведомые ему доселе они ясно и резко отделялись в его мысли (читай – в представлении – А.А.) от всех других людей». Уже в конце сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер пошел, «замешавшись в толпы солдат». Они же вечером того же исторического дня накормили его народной пищей, «кавардачком», который граф ел из общего котелка деревянной ложкой, одолженной у солдата. Кушанье показалось ему «самым вкусным из всех кушаний, которые он когда-либо ел». «– Ты, стало, барин? – Да. – А как звать? – Петр Кириллович». Так, самым естественным образом, офранцуженный граф стал русским барином. Здесь же, кстати, пригодилась простонародная семантика, заключенная в фамилии Петра Кирилловича. Гармония, которую Пьер ощутил внутри, чудесным образом стала распространяться и на мир внешний. Граф все более и более врастал в народ. «Солдатом быть, просто солдатом! – думал Пьер, засыпая. – Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими». Андрей Болконский, природный аристократ, «опустился» до командира полка, стоящего все же, что ни говори, над солдатами (хотя и он заслужил титул «наш князь»). Это был предел княжеского опрощения. Петр Кириллович пошел значительно дальше, желая стать одним из них, из солдат. Но секрета, как стать клеточкой организма под названием народ, Пьер пока не знал. И вот в здоровом сне после сытного кавардачка Пьер услышал мысли, «вызванные впечатлениями этого дня». «Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное – золотое». Они – это целая категория. Как же достичь их золотой простоты ему, думающему и говорящему, утратившему за границей естественную простоту, растерявшему в салонах умение просто делать и покоряться? От народного, близкого к природной «неразвитости» (т.е. неразвращенности культурой), осталась разве что способность подчиняться припадкам бешенства, поступать импульсивно, по инстинкту, не рассуждая. Как, как подняться до их неразвитости, сбросить культурный груз, стать проще – более соответствовать самым главным законам мира? (Переведем представления Пьера на язык мысли: весь давящий культурный груз есть не что иное, как умение думать, оперировать мыслями, концепциями, теориями, 134 мировоззренческими системами, умение задавать себе «лишние» вопросы; отсюда следует: стать проще – это, в первую очередь, перестать думать или научиться не думать и только во вторую – отказаться от изысканных кушаний, привычной роскоши, привилегированных условий жизни.) Во сне же, когда разум спал, и был получен не вполне членораздельный, недосказанный, но вполне исчерпывающий ответ. Его, конечно, нельзя было объяснить, зато без труда можно было усвоить. Итак, откровение гласило: «Самое трудное (...) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. – Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!» – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос». (Заметим: смысл того, что выразилось (кем?), был настолько глубок и магистрален, что Пьер долго еще будет осваивать его.) Что же хотел выразить Пьер и что же «выразилось» этими золотыми словами (мы опять вынуждены «переводить» Пьера с золотого языка души на серебряный язык разума, в противном случае мы должны немо остолбенеть перед романом в «золотой» позе и ограничиться душевной медитацией; нас оправдывает только то, что роман также написан словами, пусть и золотыми, с серебряными вкраплениями «формул»)? Понимая, что в мире Толстого все сказанные аналитические слова по поводу слов золотых (заключающих неизрекаемый смысл) будут по определению «серебряными», т.е. неадекватно выражающими «несказанный смысл», мы тем не менее прокомментируем золотой термин, имея в виду, что в мире чистой мысли, не вошедшим в мир Толстого, надо говорить, если способен что-либо понять, а не прятаться за «представления»; молчание или художественное говорение будут означать следующее: ты не понял или недостаточно понял то, по поводу чего ты молчишь или выражаешься художественными представлениями. Почему надо именно «сопрягать» мысли, но ни в коем случае их не «соединять»? Потому что сопрягать мысли в душе – значит подчинить их не мысли или (что то же самое) соединять мысли по законам чувства, души; мысли же, соединенные по законам мысли, функционируют сами по себе, вхолостую. Вот когда «скрутившийся винт» занял свое, подобающее винтику место в органике жизни! Можно мыслить – но в рамках души. Мысль и сохраняется (ведь есть же мысль в мире!), и в то же время, как и положено, обессмысливается (ведь мир же несводим к мысли, к вопросам и ответам). И волки разума сыты, и овцы жизни целы. По существу повествователь не предложил ничего иного, как объявить сознание продленным рычагом психики; функции сознания предлагается 135 считать нормальными только тогда, когда они осуществляют функции психики. Разум был объявлен моментом души. (С позиции разума, напомним, рефлектирующее и моделирующее сознание могут стать моментом друг друга только ценой отказа от собственной сущности. Они автономны и суверенны, логика одного не признает и не понимает логики другого. И если они нашли общий язык – значит одно включает в себя другое, значит сознание заговорило языком психики: здесь Толстой безупречен. Однако в интересах истины не следует сводить отношения психики и сознания к поглощению одного другим. Тип отношений здоровых и самоценных психической и сознательной субстанций – принципиально иной; но это, повторим, не тема Толстого; это уязвимая философская точка гениального писателя.) Отдадим должное философскому дару Толстого. Ничего более гениального в истории культуры душа, выражающая себя через моделирующее сознание, не придумала: она может только верить в свою победу над разумом, не интересуясь тем пустяковым фактом, была победа или нет. Поздравим и Пьера: он и совесть сохранил, и чувство истины сберег, и мыслью по-прежнему баловался. Графа, кстати, пробудили от его вещего сна весьма прозаично: «Запрягать надо, пора запрягать..». Ключевой термин новой методологии познания тут же был сопряжен с реальной практикой, став локомотивом, то бишь коляской жизни, которая неслась по ухабам судьбы, будучи оснащенной (запряженной) путеводителем. Судьба между тем отлично знала, что делала, отмечая своего покорного избранника немыслимыми, просто чудесными дарами. Она расчищала (указывала?) ему необходимый и, чего греха таить, желанный путь. В то время, как Пьер находился на Бородинском поле, ему в дом привезли письмо от жены, извещавшей, что она выходит замуж за другого. Так сбылась одна тайная мечта Пьера. По дороге от Бородина в Москву он узнал о смерти князя Андрея (это известие было преждевременно). Не хочется обижать Пьера подозрением в низкой радости, доставленной скорбными известиями; но дело не в нем, а в воле повествователя, в мире которого покорный Пьер играл одну из ключевых ролей. Его судьба сама по себе, как и судьба Болконского, Элен, Анатоля, Сони, имеет художественное значение. Она исполнена неслучайного смысла. Невозможно представить, чтобы отыскавший (не без ведома автора) ключ к золотому духовному кладу Петр Кириллович скончался, скажем, в плену. Ключто найден – но должен быть и впечатляющий результат, нужны представления, картины, образы, которые бы убедительно «доказали» читателю, кто на самом деле правит миром и как следует вести себя в мире, где есть свой закон, хозяин и порядок (при кажущемся беззаконии, неуправляемости и хаосе). Тенденциозность повествователя продиктована императивами души и совести. Повествователя можно понять. А на Пьера нашел очередной «глупый стих»: «(...) на него нашло вдруг (...) чувство спутанности и безнадежности» (ведь он не понял до конца того 136 путеводного смысла откровения, которое сошло на него во сне; только потом, после общения с Каратаевым, смысл этот восстановится вполне). Пока что перед нами был человек, который поступал «по чувству», но которому казалось, что без смысла нет жизни, поэтому он все силы употреблял на то, чтобы жить «по уму». Пьер, подобно смертельно раненной французской армии, еще двигался в гибельном направлении по инерции – и тем самым изживал ресурс той стратегии поведения, которая формируется «от ума». Если детально проанализировать мотивы поведения Пьера только в короткий период его «нечаянного» пребывания в Москве (с момента возвращения с Бородинской битвы – вплоть до ареста), не говоря уже о всем его пути, то мы приходим к парадоксальному заключению: повествователь нашел один-единственный способ отрицать разум – делать это рациональным путем, что само по себе свидетельствует о силе разума, о том, что иного, «неразумного» пути в поисках истины – нет. Но Толстой принуждает разум отыскивать именно иной, внеразумный путь, ибо Толстой отрезал для себя все пути, кроме этого. Оставим это «незамеченное» противоречие на совести повествователя. Отметим, однако, что данное противоречие вносит в жизнелюбивые поиски Пьера заданность и схематизм, которые жизнелюбию как раз и противопоказаны. Даже самому философскому роману о жизни вредит именно философия: она мешает «полюбить жизнь» уже самим фактом присутствия в ткани жизни инородной, насыщенной смертоносной мыслью материи. Тот, кто способен на умственное усилие, адекватное интеллектуальному напряжению Пьера, повествователя или самого Толстого, вряд ли уже сможет существовать на манер «мыслящего тростника», подобно Наташе и Николаю Ростовым. Но повествователь, убежденный, что жизнь важнее всякой истины, стремится постичь все истины, чтобы «доказать», что истина – это жизнь. Итак, озадачивающий способ жизнелюбия приводит Пьера к мысли о когдато открытом им призвании: «остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона». Читатель, ознакомившийся к этому времени с историко-философскими воззрениями автора, – а историко-философские вкрапления или отступления в художественном отношении размывают границу между повествователем и Толстым, что усиливает эффект личного присутствия живого, невыдуманного автора ,– должен понимать, как безнадежно заблуждался Пьер, руководимый сухим масонским умом. Пьер заблуждался, однако – «два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению». Чувства Пьера питают его рациональные, следовательно, ошибочные установки. И чуткая к экзистенциальной фальши натура героя вновь взяла верх: задумав убить человека ( хоть и антихриста Наполеона), он на своем пути к неправедной цели не рассуждая спасает две жизни: французского капитана Рамбаля и русской 137 девочки Кати, дочери простой бабы (Катю Пьер зачем-то назвал своей дочерью...). Сюжетный поворот обрушивает на просвещенного читателя и, надо полагать, на самого героя, ряд вопросов в духе Пьера: что руководит человеком, кто ведет его по жизни, насколько ты волен в своих поступках? Правда, Пьер рассуждал теперь уже только тогда, когда он бездействовал; когда он действовал, то не рассуждал. А действовал он исключительно по велению души, разум просто не поспевал за импульсивными реакциями и поступками Пьера, которые удивительно непротиворечиво укладывались в одну поведенческую линию: нести другим добро. Увидев наглый уличный грабеж, которому подверглась красавица армянка, Пьер тотчас впал в «восторг бешенства», вызываемый в нем откровенным торжеством зла и оскорблением чувства справедливости, и разметал французских мародеров, как медведь. Так «глупо» Петр Кириллович попал в плен к французам – как подозреваемый в поджигательстве Москвы. 6 Необдуманные поступки Пьера складывались в законченную и симпатичную линию судьбы. Благодаря своим спонтанным действиям, которые могли привести к серьезным бедам, он всегда оказывался в том месте, где его ждали ответы на прямо-таки «древнегреческие» по простоте, глубине и дерзости вопросы. В плену у французов, но в окружении своих, в солдатском балагане Пьер обрел те университеты, которых ему так не хватало в его рассеянной светской жизни. И учителем Пьера оказался простой русский мужик с символическим для европейской культуры именем Платон (имевший, впрочем, выразительную, восточного происхождения фамилию Каратаев), который завершил, свел воедино «человеческое» образование Петра Кирилловича. Именно Платон Каратаев скрепил мировоззрение Безухова тем последним звеном, без которого взгляды на мир Пьера разваливались, словно карточный домик. «Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека – дурачка,» – говорил впоследствии Пьер Наташе. Платон – дурак, но истина при нем. В первые дни плена, после совершенной французами показательной казни поджигателей, состояние Пьера характеризуется следующим образом: «В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога». Но уже через месяц плена Петр Кириллович впервые «получил то спокойствие и довольство собой», к которым безуспешно стремился всю свою жизнь (с этого мы и начали главу о Безухове). А успокоение он получил, главным образом, «через то, что он понял в Каратаеве». Так что же понял Петр Кириллович Безухов в Каратаеве, какому озарению и какого 138 (интеллектуального, психологического?) порядка обязан он тем, что всего за месяц – и уже навсегда – оно смогло вернуть веру «и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога»? Ответ нам уже известен: прежде Пьер искал веры «путем мысли», а Платон просто фактом своего существования и своим образом жизни (так сказать, наглядно, через «представления») сумел убедить его в том, что вера – выше мысли и не зависит от мысли. Если уж быть совсем точным, то Платон, подброшенный судьбой на заключительном этапе духовного становления ценнейшего героя эпопеи, не спровоцировал революцию, а всего только способствовал довершению давно идущего «тайного» процесса. Тайное при Каратаеве стало явным, но не возникло само по себе – такова вспомогательная роль «соколика» в судьбе Пьера в частности и в романе в целом. Солдат Каратаев – только штрих, хотя и важный штрих. Пьер, кого, как и всякого, отравленного культурой, раскачивало на качелях от веры к неверию, увидел в солдате Каратаеве «круглый», цельный, органический момент народного (в основе своей – природного, докультурного) отношения к жизни, космос в космосе. Платон произвел на Пьера впечатление в силу того, что последний был высококультурен, что первый был «заряжен» информацией, которая могла поразить культурного человека. Иначе говоря, невежественного, не тронутого цивилизацией «Платона» Пьер воспринимает именно как высшую культурную ценность – и, что самое главное, повествователь поддерживает Пьера в его «прозрениях» (Пьер делал, согласно комментарию образа автора, «тончайшие духовные извлечения» из разговоров с Платоном). Повествователь лукавит, увлекшись сомнительной культурной задачей разумом «скомпрометировать» разум. Он представляет ситуацию так, словно и в самом деле не изведавший вредных наук дурачок Каратаев и европейски образованный барин Безухов – в культурном смысле ничем друг от друга не отличаются. Более того: ничему не обучавшийся (слава богу!) Платон каким-то чудесным образом получил фору и постиг все те духовные премудрости, которые никак не давались искушенному интеллектуалу. При этом, внушается читателю, Платон даже не сам по себе был важен – а как знак свыше, как культурная подсказка бога: он (Каратаев) не отрицал культуру, а задавал ей нужный вектор (хотя он и не ведал, что творил, не ведал себе истинной цены, и это только увеличивало его ценность). «Рок головы ищет,» – трактовал Платон. Андрею Болконскому и не снилась такая мудрость. Так, очевидно, надо понимать сказанное повествователем. Если это так, то гораздо важнее то, что «выразилось» в романе помимо воли повествователя, а именно: Каратаев самым что ни на есть мужицким способом отрицал культуру, демонстрируя сермяжную природную жизнеспособность. Пьер, в таком случае, не возвысился до «неизрекаемой» золотой мудрости (как намекает повествователь), а стал культивировать мужицкую темноту. Ум ведь 139 подвел, «обманул» Петра Кирилловича, заставляя объяснять, аналитически препарировать объект познания, выстраивая бесконечные причинноследственные ряды, которые рушились от любого мало-мальски ощутимого толчка извне. И Пьер в очередной раз «вдруг» понимает: если переключиться из сферы бесплодного объяснения в сферу бездумного приспособления ( «не нашим умом, а божьим судом») – все начинает получаться. Именно как гений приспособления Платон имеет солидное преимущество перед своим прилежным учеником. На языке науки это может быть сформулировано так: теоретическое, рефлектирующее сознание оказывается бессильным перед стихией психики, поскольку первое познает, а вторая приспосабливает(ся). Все истины стали для Пьера «утешительными», «спасительными» – иначе говоря, душевными. «Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа». Друг Платон проиллюстрировал уже известную Пьеру, но, видимо, забытую (т.е. до поры до времени мало актуальную) истину: интеллект – сам по себе, а реальные духовные проблемы человека – сами по себе. «Думать» стала душа, а интеллект в силу ненадобности был попросту аннулирован, изъят из области духа как непригодная к делу жизни машинка. Толстой развел, разграничил сферы психики и сознания и воздвиг между ними железный занавес. В таком случае нравственность, понимаемая исключительно как область эмоций и переживаний, перестает зависеть от интеллекта. В таком случае Каратаев действительно мог оказаться нравственно мудрее Безухова и последнему действительно было чему поучиться у первого. Но в действительности все, предложенное Толстым, есть не более, чем интеллектуальная схема, которые так высмеивал сам писатель. На языке народной мудрости, перед которой он благоговел, это звучит следующим образом: за что боролся, на то и напоролся. По достоинству оценить силу и слабость Толстого можно не тогда, когда мы поймем его логику (это сделать не очень сложно), а когда разберемся в сути различий между двумя типами сознания (что гораздо сложнее, чем понять Толстого). Если отвлечься от «синтетического» характера духовности, где психологические проблемы углубляются не сами по себе (душа вдруг начинает думать), а за счет привнесения в них мыслей (и это идет на пользу душе), то высокоморальные идеалы образованного и мыслящего Безухова и дешевый набор моральнорелигиозных догм дремучего Каратаева – можно считать одним и тем же. Это вопиющее упрощение Толстой «не замечал» и не акцентировал только потому, что ему важно было подчеркнуть момент общности, примирить разные «элементы» одного (однородного) народа. «Различье барина и мужика» – степень развития интеллекта – оказывается гораздо менее существенным, чем то, что их объединяет: чем вера. 140 Причем Толстого мало интересуют различия между вероучением как методологически обоснованным путем познания (иначе говоря – как идеологией) и верой как слепой, нерассуждающей установкой (собственно психическим, иррациональным актом). Одним, таким, как княжна Марья, Наташа, Платон вера дается как благодать, другим она посылается как награда за перенесенные умствования и страдания. И все они равны перед истиной, и это объединяет их в мир. Следует признать, что Толстой по-своему последователен. Если вера, противостоящая неверию, есть главное в человеке, то путь к ней – это действительно мелочи и детали. Главное-то заключается в том, что самый мощный интеллект оказывается бессилен перед вечными и непостигаемыми законами. Сила интеллекта проявляется разве что в том, насколько быстро этот самый интеллект приступает к самоликвидации. Следовательно, самое ценное в личности – дар мгновенного и непосредственного постижения истины. Какой сложнейший путь духовных исканий прошел князь Андрей, прежде чем постиг ценность иконки, навязанной своему не в меру умному брату «слепо» верующей княжной Марьей. Сколько пережил и передумал Пьер, прежде чем он отыскал «вечное олицетворение духа простоты и правды» – Платона Каратаева. « (...) жизнь его (Каратаева – А.А.), как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал» – вот то, что Пьер понял в Каратаеве и «через» что к нему пришло, наконец, умиротворение. Пьер мог бы подвести духовный итог своего пребывания в плену словами Каратаева: вере и разуму, как России да лету, – союзу нету. Это означало, что ни война, ни Россия, ни политика, ни Наполеон Петра Кирилловича более не интересовали. «Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и поэтому не мог судить обо всем этом». Вот и все. Пьер до оптимума сузил сферу своих, человеческих интересов, перестал умствовать, задавать вопросы, перестал брать на себя несвойственные человеку функции – и преуспел. И это преуспеяние Пьера было красноречивым ответом того, Кто был призван, Кто мог судить обо всем. Простота – покорность богу. «В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом (...)». По существу, Пьер пришел (или вернулся) к тому, что надо сопрягать мысли. Новым было только то, что он окончательно уяснил себе, что общение с «ними», с народом есть лучшая и единственная школа жизни. Народ, целый народ, главный субъект истории, ее движущая сила – просто не может ошибаться (иначе вся история – ошибка); а личность, «вооруженная» персональным инструментом, разумом, может, конечно, объявить войну отвергаемому ей порядку мира (начнет судить, не будучи призванной), но окажется, по меткой народной пословице, одиноким воином в поле; а один 141 в поле – не воин. Вот к какому смысловому итогу приводит интуитивное сопряжение мыслей. Повествователь окончательно убедил и себя, и Пьера, и нормального читателя в наличии Бога, который и есть главное условие дискредитации разума. Именно к этому выводу, такому простому для княжны Марьи, Платона, Кутузова и целого народа, и подводит роман. «Он (Петр Кириллович – А.А.) не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру – не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога» (вероучение заменено каратаевской верой – А.А.). «Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя (не этим ли вызвана художественная деталь: подслеповатость Пьера? – А.А.)». «Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль», «поверх голов окружающих людей». «Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем», с этой целью «он бросил трубу». «И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив». «Теперь на этот вопрос – зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть бог, тот бог, без воли которого не спадет волос с головы человека». Но зачем надо было подводить к такому простому и «очевидному» даже для Каратаева факту – четырехтомной эпопеей? Для Каратаева, всех «них» и иже с «ними» нет в мире такой субстанции и, соответственно, категории, которую можно было бы противопоставить Богу. Они неспособны были в силу неиспорченности опуститься до дерзкого вызова Богу. Это была покорная, положительная публика, не предрасположенная к внутренним конфликтам, и потому совершенно непригодная в качестве героев романических. Эпопею на славословиях также не создашь. Для масштабного полотна необходим масштабный же, планетарный, как минимум, национальноисторический конфликт. К счастью для романистов, есть в мире вечное искушение, отвлекающее от Бога; следовательно, неизбежны и конфликты. Вывод напрашивается такой: если убрать из романа двух мыслящих героев – Андрея Николаевича Болконского и Петра Кирилловича Безухова – то художественное целое развалится, ибо герои эти составляют полюс, замкнутый вместе с иными противоположностями в противоречие, которое и есть источник развития, есть движущая сила романа. Эти герои незаменимы как представители мыслящих существ. Таким образом, борьба с разумом, антиподом жизни, есть главный пафос эпопеи. И уже сам факт того, что борьба эта изображена в форме романа, в художественной форме, – уже этот факт поэтизирует борьбу с разумом и возвеличивает веру. Такова диалектика художественного сознания. Однако факт того, что для борьбы с разумом потребовался развернутый четырехтомный дискурс, свидетельствует о том, что с разумом можно 142 сражаться только средствами разума. Большое сражение, напряжение всех сил возможны только при серьезном противнике, иначе «битва» будет выглядеть комично. Тем самым косвенно признается величие разума. Такова диалектика художественного сознания. В сущности, богоугодная эпопея является своего рода евангелием, «доказательством» (с использованием современной психологической техники и элементов тотальной диалектики) существования бога. Натужность доказательств при этом гениально скрашена бьющим через край жизнелюбием, подменена изображением земных чувств и страстей, которые и выступают решающим «аргументом» в логическом споре. Реального, земного, невыдуманного человека Толстой повенчал с горним, виртуальным миром: уже сама задача и в плане «технологии», и по степени нереалистичности, и по степени востребованности «мирянами» – вполне сопоставима с библейской. Вот почему в эпопее напряженно ощутим обжигающий мессианский пафос (психоидеологическая интервенция) повествователя, появляющийся только при отсутствии вразумительных аргументов. Л.Н. Толстой вместе с Ф.М. Достоевским замыкают цепочку титанов, которые принимали и отстаивали только одну культурную модель человека: покорного богу. На этом основании роман-эпопею, соединяя ее не жанрово, а по внутреннему смыслу и по выдающейся художественной мощи с творением великого Данте, можно назвать «божественной идиллией», выстроенной на фундаменте героики. Божественная героика (социоцентризм) с идиллическим уклоном (персоноцентризм) торжествует в эпилоге. Божественный свет скрыто проступает сквозь сугубо земные дела в меру (речь идет о толстовской мере) мыслящих людей. Вернемся к эпилогу, завершающему собор романа, как и положено: в конце работы. 5 НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА РОСТОВА 1 Этот образ, возможно, – самая большая удача писателя. Наташа Ростова есть сама жизнь – и больше ничего. Вот почему ее образ легко стал нарицательным, легко обнаружил свою символическую природу и естественно растворился «в миру». Именно женщина могла и должна была противостоять по всем позициям «неорганическому», рассудительному мужскому началу. Женщина дает жизнь, оберегает и защищает ее; женщине некогда думать, но «по статусу» в мироздании ей положено знать о жизни самое главное. И Ростова блестяще 143 начинает и завершает концепцию Толстого, которая легла в основу «плана» эпопеи. Что такое гнет «задних мыслей», что такое беспристрастная ревизия здравого смысла, Ростова просто не знает. Она есть цельный, органический кусок природы, так сказать, идеальное воплощение «мыслящего тростника» (точнее, чувствующего и совсем чуть-чуть мыслящего). И вот за обладание этим «тростником», «тоненьким, странно-тоненьким» ростком, стебельком жизни серьезно сражаются разумные и неразумные герои романа. Она как романтическое воплощение человека комического есть главный и лучший приз, самая престижная награда наиболее жизнеспособному (а жизнеспособность, как мы убедились и еще убедимся, включает в свой состав и необходимый компонент добра). Таким рыцарем добра и жизни оказался Пьер, который обошел целый мир конкурентов. Последовательность и внутренняя себетождественность Ростовой не имеют ничего общего с монотонностью. Удивительно тонко Толстой избегает опасности «схематизации» образа, иначе говоря, демонстрирует в высшей степени художественное мышление, а не иллюстрирует тезисы «картинками». Ведь Ростова по сути своей неизменна и однообразна, даже своей новизной и легендарной «непредсказуемостью», но она не приедается, как жизнь. Она буквально врывается на страницы романа-эпопеи и приковывает к себе внимание гостиной (и читателей) как нечто несалонное, естественное и чуждое условностям, как фигура, в сравнении с которой все искусственное и фальшивое тотчас же дезавуируется и блекнет: «(...) в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко». «Нечаянно» и особенно «нерассчитанно» – это способ существования Ростовой. Отметим и следующую черту, без которой немыслима Наташа, всеобщая любимица. (Ее, кстати, родители баловали и «притворялись строгими» в отличие от планомерного родительского воздействия на рассудительную Веру, которую мать «держала строго»; «графинюшка мудрила с Верой», считал граф. Каковы отношения – таково и чадо (плюс, разумеется, непросчитываемые капризы генетики, которые, впрочем, автору угодно считать скрытой от человеческого сознания логикой Сеятеля; зерна бросает Сеятель, а жнут, почему-то, неразумные человеки). С Наташей «не мудрят», она просто купается в море любви. Тут же, кстати, отметим по-толстовки тонкий штрих, имеющий отношение к натуре Наташи (Сеятель Сеятелем, а порода породой). Князь Василий с удивительным постоянством называет «медведями» великодушных и добродушных людей. Следующим после Безухова, кто удостоился этой незамысловатой метафоры из уст князя, был Илья Андреич Ростов, большой любитель охоты, хлебосол и нестрогий отец. То ли князь Василий приписывает им свои звериные склонности, то ли бессознательно вкладывает в определение 144 некий комплимент, хотя имеет намерение унизить и уничтожить. Так или иначе «медведи» оказываются антиподами элегантным, но бездушным светским людям.) С момента первого появления она – влюблена. Конечно, это было подетски чистое чувство к Борису Друбецкому, хотя Наташа к самому чувству относилась не по-детски серьезно (четыре года спустя после «объяснения» с Борисом – «Навсегда? – сказала девочка. – До самой смерти?» – «вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой или важным, связующим обещанием, мучил ее»). Пожалуй, точнее отроческо-юношеское состояние Наташи можно было бы назвать предчувствием любви, готовностью к любви, ожиданием любви. Как бы то ни было Наташа постоянно находилась в состоянии любви – состоянии предшествующим и сопутствующим чувству, состоянии деятельном, трагическом, легкомысленном, экзальтированном, повседневном. Любовь и была содержанием ее жизни, отличительным родовым признаком Наташи. Очень ярко это состояние проявилось уже на балу у Иогеля: «Наташа сделалась влюблена с самой той минуты, как она вошла на бал. Она не была влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена». Не случайно состояния готовности к любви так обострялись во время танцев или пения: момент эстетизации придает чувству колорит праздничности, преодоления повседневности, приближения к звездным мигам краткой жизни. Причем, разные искусства по-разному подчеркивают содержательность любви. Пластика и вокал, наиболее чувственные искусства, приобщают Наташу к сотворению праздника жизни, возвышая при этом и «инстинкты» с помощью искусства, и искусство с помощью жизни. Наташа в романе очень много танцует, и все ее танцы становятся судьбоносными, если не роковыми для партнеров. Первый свой танец «тоненькая девочка» танцует (вряд ли и это случайно) с «толстым» Пьером. Затем она вскружила голову лихому гусару, мастеру мазурки Василию Дмитриевичу Денисову, который, не откладывая дела в долгий ящик, сделал предложение «волшебнице». Отношения, их отношения с князем Андреем тоже начались после танца. Во время танца Анатоль Курагин признался Наташе в любви – и теперь уже Наташа потеряла голову. Если у Пьера или у того же Николая Ростова жажда жизни проявлялась в грубом, сниженном, мужском варианте, то в Ростовой жизнелюбие находило предельно одухотворенные, эстетические и даже поэтические формы. Исключительное жизнелюбие – и при этом исключительный душевный, человеческий такт, врожденный такт, делающий жизнелюбие «божественным». Наташа неотразимо действовала даже на малопоэтические, черствые, циничные души. «Воспоминание о Наташе было самым поэтическим воспоминанием Бориса», а на Анатоля Курагина «Наташа произвела сильное впечатление». Недостаточно сказать, что в Наташе проявились лучшие женские качества. В романе-исследовании человеческой природы выведено много женщин (что позволило создать естественный фон, оттеняющий уникальность Наташи). 145 Женский ансамбль – чрезвычайно разнообразен, но это именно ансамбль: от незримо присутствующих «женщин Курагина» (поездки к ним, «туда» привлекали и молодого гусарского офицера Николая Ростова, который одновременно с этим наслаждался обществом своей особенной сестры) до чрезмерно одухотворенной Марьи Болконской; а ведь есть еще «мраморная» Элен Курагина, Соня, Вера, маленькая княгиня Lise Болконская, энтузиастка Анна Павловна, интриганка Анна Михайловна, Жюли Карагина, мадмуазель Бурьен и т.д. Весь этот продуманно выписанный контекст подчеркивает уникальные достоинства Наташи, которые состояли в редком сочетании личного, почти эгоистического порыва к счастью (не чуждого той же Элен) с готовностью любить другого, осчастливить другого, полностью растворить себя в нем (что составляло нравственный капитал княжны Марьи). Индивидуальная привлекательность Наташи не мешала «общеженскому» призванию, а наоборот, возвышала это призвание, делала его философски самым важным. Судьба Наташи заставляет (так задумано повествователем) поклоняться женской судьбе, а любой невозвышенный, иронический или снисходительный тон, уместный в отношении, скажем, Элен, Жюли или Бурьен, в отношении Наташи будет выглядеть фальшивым, как злая сплетня в отношении чистых помыслов мадонны. Вот почему волшебница, певунья и танцовщица в эпилоге романа совершенно естественно появляется с запачканной детской пеленкой в руках. И этот аксессуар украшает ее не менее, чем бальное платье, в котором она танцевала с князем Андреем. Итак, в Наташе духовно-поэтическое начало преодолевает начало телесноприродное, но при этом не уничтожает и не очерняет последнее, а сообщает ему свою поэтичность. Такой букет достоинств делает Наташу, как говорят французы, женщиной на все времена. То, что у «развратной» Элен, которую сама мысль о детях от мужа приводила в трепет отвращения, выглядит как любовная интрижка, у Наташи наполняется чрезвычайно богатым человеческим содержанием. Если Элен была женщиной, т.е. полом, привлекающим противоположный пол, что позволяло ей быть центром внимания в светских кружках, то Наташа являлась женщиной, призвание которой состояло в том, чтобы стать любящей, любимой, женой, матерью, сестрой, что обеспечивало ей иную роль – сделаться центром мироздания. И ведь не от большого ума стала Наташа той универсальной женщиной, какой она стала! Напротив, это сделалось само собой, вопреки уму, точнее, она как бы не замечала проблемы «горе от ума», была если не выше этого (подобная высота достигается, что ни говори, за счет ума), то как-то счастливо в стороне («она не удостоивает быть умной», по словам Пьера). Почему же тогда Курагин Анатоль, Долохов, да и многие другие персонажи, не менее Наташи любящие жизнь, были при этом лишены способности одухотворения? Почему они были обделены тем, чем сверх меры была наделена Наташа? В чем заслуга Натальи Ильиничны Ростовой? 146 А в чем заслуга породистой собаки Милки, статями и мастями которой так восхищалось общество охотников? Ни в чем. Она просто создана такой, она есть восхитительное, прелестное порождение природы (Сеятеля?), не более того. Никакой личной заслуги Наташи в том, что она обладает «волшебными» качествами – нет. Она не может похвалиться тем, что она сама, и никто другой, сделала себя, ибо человеческое самосовершенствование достижимо только одним путем – путем развития интеллекта. Эта возможность для Наташи, да и для всех приличных людей, была закрыта по определению (специально делегированные персонажи, как мы помним, убедились в неконструктивности этой возможности). Тут мы вновь упираемся в проблему, от которой Толстой уходил, но не ушел. Если Наташа не думает попусту и хороша именно тем, что не берет себе лишнего в голову, живет бессознательной жизнью души, – следовательно, за нее, как за птичку божию, думает кто-то другой. Пускай это будет бог, повествователь, автор. Это не столь важно. Важно то, что в мире романа присутствует шкала ценностей, наличествуют отчетливо обозначенные «хорошо» и «плохо», «верх» и «низ», и шкала эта создана именно интеллектом (иерархический порядок есть результат усилий ума и только ума). Как следствие – читателя заставляют думать. И чтобы понять, что Наташа хороша именно отсутствием в ее жизни состава мысли, надо воспринять концепцию романа-эпопеи, что мы и пытаемся делать. Следовательно, сам роман, развенчиваюший мысль как таковую, держится на мысли. Само наличие Наташи Ростовой, сам гимн душе не только не отвергают, но подразумевают наличие интеллекта в мире – вот что вытекает из значения образа, взятого в системе других образов. Образ Ростовой, будучи символом без-смысленного существования, имеет достаточно великий смысловой коэффициент. Наташа воплощает торжество жизни – но из этого не следует, что интеллект плох или что он не нужен; напротив, именно интеллект делает Наташу символом жизни. Разумом утвердив ценность жизни и сделав вид, что разум человеческий здесь не при чем, Толстой отводит познающему разуму роль всецело отрицательную: разрушительную, неконструктивную. Писатель в старом добром христианском ключе решает противоречие, заключенное в разуме (ведь что ни говори, а разумная любовь к жизни – это тоже одна из граней реальности; в таком контексте «разумный» не значит «разрушительный»): единый разум он расщепляет на несколько «видов», на «добрый» и «злой». «Добро», конечно, закреплено за небесами, за сверхразумом, а ум человеческий, знакомый лишь с азбукой логики, пытается уяснить масштабы вселенского промысла на свой пигмейский лад (чем и несет «зло» человеку). Получается, что Толстой «сверхлогичен» (откуда такая мессианская осведомленность?): он, как подобает только «посвященному», сохраняет в жизни присутствие «того», горнего разума, но защищает жизнь от блудливого, 147 мошеннического людского ума. Грустно наблюдать за тем, как человек из когорты титанов, Лев Толстой, отказывается «верить» в силу продемонстрированного им самим разума, в то, что он без божьей помощи почти разобрался с человеком, и считает своим долгом иступленно веровать в то, что человек должен быть ничтожен. Казалось бы, манипуляция с разумом – пустячок, но пустячок этот, положенный в основу концепции, перевернул человеческий мир с ног на голову, и мир «головой вниз», уродливый, но угодный богу, поэтизируется изо всех человеческих сил. Слава богу, гения человеку не занимать, а потому гимн жизни удался на славу. Отчего существуют «породы» Курагиных, Ростовых , Болконских и отчего в породах бывают исключения, наподобие Веры и княжны Марьи, пошедших не в породу отца-матери? Породы, несомненно, присутствуют в романе, и они проанализированы как таковые, как проанализированы мотивы поведения представителя каждой породы. И сделано это, напомним, писателем, т.е. всего лишь человеком. Однако если мы зададим вопрос: может ли происходить «улучшение породы», понимаемое как преодоление биологической (по другой версии, божественной) детерминации за счет личных усилий, направленное в сторону самовольного изменения заданной, предопределенной духовной программы (проще говоря, не грех ли было тому же Долохову или Курагину пытаться стать лучше, чем они задуманы Творцом?) – мы зададим один из тех вопросов, которые неприлично задавать вслух, ибо нет призвания отвечать на него. Человеческим умом пытаться понять нечеловеческую логику – значит вторгаться в чужую епархию, значит слишком много на себя брать. Во всяком случае, в романе, деле рук человеческих, нет ответа на этот вопрос, или, если угодно, есть ответ, который подчеркивает неуместность вопроса. Ответ таков: есть непостижимая логика жизни, которая не совпадает с логикой человеческих вопросов и ответов, и есть Тот, Кому положено заботиться о логике жизни. Таким образом, самые острые вопросы элементарно нейтрализуются примитивным предположением о существовании некоего неземного сверхразума, у которого, очевидно, куда больше информации, чем у тех, кого он заставил играть в свою игру. Убрав ум, Толстой убрал и активность субъекта, личности – такова логика вещей, у которой нет никаких хозяев. Тем самым, независимо от своих субъективных намерений, писатель провозгласил мировоззренческую покорность, пассивность человека – лучшим видом активности. Получается, что Наташа Ростова, представитель явно «элитарной породы», не в силах изменить ни Соню, ни Веру – никого. Люди лишены выбора, они не вольны выбирать себе породу и судьбу. Получается, что проблема изменения мира с целью его совершенствования – изымается из компетенции человека. Получается, что Элен всего лишь без вины виновата, и напрасно так гневался 148 Пьер, едва не расплющив эту тварь божью мраморным столиком (впрочем, Пьер также действовал в соответствии с императивом породы). Показав, кто есть кто, показав плохие и хорошие стороны людей, повествователь лишает человека возможности судить, выносить нравственные оценки. Впрочем, по неизвестной нам логике (мы бы, располагая доступной нам информацией, предположили, что это всего лишь логика реализма), человеческое в романе не чуждо даже самым бесчеловечным людям. В принципе, почти у каждого «негодяя» повествователь подмечает светлую человеческую (божью?) метку: кровожадный бретер Долохов нелогично оказывается нежным сыном и братом; князь Василий искренне рыдает ( и это не спектакль с корыстной подоплекой) у гроба почившего «в бозе» графа Безухова как простой смертный, которого не минет участь графа; Друбецкой сопротивляется поэтическому чувству – и т.д. Что это: намек на нереализованные возможности, свидетельство изначальной одухотворенности бренной плоти или «доказательства» бессилия ума в делах человеческих? Получается, что «плохое» и «хорошее» в человеке не поддается принципиальной коррекции. Справедливо ли это по отношению к человеку? Повествователь прямо и без обиняков, что, несомненно, делает честь тому, кто ищет истину, даже если при этом и ошибается, – прямо и недвусмысленно отвечает на этот «коварный» (с точки зрения разума, конечно) вопрос, и все «коварство» (если подойти к вопросу «душевно») улетучивается, как дурной сон. Ответ привязан к образцово-богоугодной линии поведения княжны Марьи: «Княжна никогда не думала об этом гордом слове: справедливость. Все сложные законы человечества сосредотачивались для нее в одном простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения, преподанном нам тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он – бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и она это делала». Отмеченные выше логические несуразности «получаются» в рамках человеческой логики, которая объявлена Толстым не имеющей смысла. Таким образом, генезис пестроты мира и человека – не в компетенции автора. Он берет на себя скромную, по сравнению с князем Андреем, которого он авторитарно покарал за нескромность, роль регистратора-евангелиста. Его роль и статус как бы защищают от нескромных вопросов, грозящих разрушить сотворенный им «божий» мир. Уже при вступлении в концептуальный диалог с повествователем, подталкивающим к определению «высший разум» (ибо он нашел то, что пробивается сквозь разум, не покрывается им, определяет и, в конечном счете, побеждает его), исследователю предлагается испытывать приличествующее деликатности ситуации что-то вроде чувства вины за сам неподобающий пафос исследования. В свое оправдание могу сказать следующее. Сам факт наличия романа и его автора активно противоречат идее пассивности. Если мне предложена 149 концепция («план»), лишающая концептуальный подход как таковой смысла, – я и оцениваю ее как концепцию, т.е. средствами человеческого мышления, и нахожу в ней много изъянов; но поскольку, согласно моей эстетической концепции, художественное произведение не может быть сведено к мировоззренческой концепции, к решению «вопросов» – я считаю роман Толстого счастливо противоречащим его, писателя, концепции, я считаю произведение великим по своим художественным достоинствам. Писатель Толстой талантливее философа Толстого, первый преодолевает второго – и в этом залог успеха романа. Все на свете противоречиво: этого не отменить никому, даже Толстому. Великий русский классик, стремясь оправдать «глупое» жизнелюбие, обнажить читателю его, жизнелюбия, божественную сущность, предоставил возможность и иной, вполне земной трактовки человека, вплотную подвел к иной (по сравнению с отстаиваемой) модели культурного человека. 2 Вернемся к нашей героине. Как выяснилось, мало не иметь ума (этим достоинством в избытке обладали наравне с Наташей и злосчастные Курагины, в особенности Ипполит); надо иметь в душе нравственно озабоченное жизнелюбие (если будет на то воля бога). В сущности, повествователь, от которого не слишком активно дистанцируется автор, намечает две крайности, одинаково угрожающие добру (а значит и жизни): чрезмерный рационализм и злая глупость. Ростова милостью неба счастливо избежала обеих крайностей, что было чудом само по себе. Она вроде бы и думала, но как-то так в меру, что вопросы Болконского и Безухова ее почему-то не волновали. С другой стороны, глупым можно назвать, скажем, классического идиота Ипполита, но Наташу глупой не хочется называть. В ней ум не мешал жизни – «она обворожительна, и больше ничего», как выразился Пьер, знавший толк в определениях. И поскольку в ней не было самодовлеющего умственного содержания, линия жизни Ростовой слилась с линией любви. Вот пример «рассуждений» Наташи (которая, кстати, за минуту до того «прямо и неподвижно» смотрела «на одного из сфинксов красного дерева», и мать ее была поражена «серьезным и сосредоточенным выражением» профиля дочери). Разговор с матерью шел о влюбленном в шестнадцатилетнюю Наташу Борисе Друбецком: «И он очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый... – Что ты врешь? – сказала графиня. Наташа продолжала: – Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял... Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный. 150 – Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь, сказала графиня». Наташа по поводу людей, которых она неплохо знает и с которыми она поддерживает определенные отношения, может воспроизвести только ряд цветовых и геометрических ассоциаций («представлений»). Предметное, художественное мышление Наташи свидетельствует о том, что умом, в сущности, она не обладала; то, что у нее было, называется интуицией, чувственно-психологическим восприятием. Но вот что характерно. Уже после разговора с матерью «она все думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть». «Это удивительно, как я умна» – думала она, воображая, что сказал бы про нее «какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина…». Все, все в ней есть, – продолжал этот мужчина, – умна необыкновенно, мила и, потом, хороша, необыкновенно хороша, ловка – плавает, верхом ездит отлично, а голос!» Свой дар вчувствования и сопереживания она называет «умом», ставит его на первое место и ждет такого же «ума» от других, в частности, от самого лучшего мужчины – и повествователь с тихой серьезностью благословляет ее убеждения. Интуиция, присущая активным, но не до агрессивности, росткам жизни, заменяет ум. Божественное отсутствие ума (назвать это глупостью – такова обворожительная сила гения Толстого! – выглядит кощунственно), оборачивающееся утонченностью души, – вот способ жить в гармонии с миром и, что является для Толстого решающим разумным аргументом в споре против разума, с народом. Этим, в сущности, исчерпывается вся умственная загадочность Наташи. Истинная ее обворожительность, сила и волшебство – в другом, в умении любить жизнь, в умении любить, в умении подчиняться закону любви. И вот феноменальная способность любить в сочетании с потребностью быть любимой сыграли с Наташей злую шутку (Толстой тенденциозно чуток к диалектике души, которая «работает» на его концепцию, на дискредитацию диалектики ума). Князь Андрей, ее первый избранник, знающий цену слова, был потрясен ее неформальным, можно было бы сказать, экзистенциальным, если бы это слово не было бессмысленным в отношении к Наташе, не ведавшей цены умных слов, отношением к любви и браку. Форма предложения руки и сердца была, как всегда у князя, точна и изысканна: «Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?» Лицо Наташи говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь». Но князь Андрей был далек от «невыразимых» премудростей жизни. «– Любите ли вы меня? – Да, да, – как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще. и зарыдала. – О чем? Что с вами? 151 – Ах, я так счастлива (...)». В этом микрофрагменте – вся Наташа (или/и весь творческий метод писателя в отношении к данному персонажу). Она безукоризненно ведет партию чувств, при этом очаровательным диссонансом нарушая внешнюю логику, и даже приличия. Две точки зрения фокусируются на Наташе (как, впрочем, на каждом из героев): точка зрения презренного ума, куцого здравого смысла, глупого человеческого разума (персонифицируемая в одном из «рационалистов») – и точка зрения чувств, интуиции, высшего разума (которую так или иначе поддержит повествователь через опекаемый им персонаж). Наташа всегда поступает «по чувству», и никогда не поддается искушению ума. Отсюда ее обворожительная бессловесность или, в лучшем случае, вдохновенное косноязычие. После вынужденного (с позиций здравого смысла) отъезда жениха, Наташа – отдадим должное корифею человековедения Толстому – не «заскучала», не «затосковала» и не стала испытывать иных приличествующих моменту и смыслу ситуации чувств, пусть сколь угодно тонких и неоднозначных. Она даже не плакала. Она испытала клиническое состояние «нравственной болезни», что само по себе подчеркивает Наташино умение любить: она срослась с избранником, проросла в него, и никакие «слова» не могли исправить или отменить «закон любви». Нет любви – нет жизни. Попробуйте теперь лишить объекта любви того, для кого любовь есть жизнь... Спрашивается, как же Наташа могла увлечься ничтожным Анатолем? Где была ее интуиция, ее чувство жизни и привязанное к нему чувство долга? Здесь дело не в Анатоле, а в ней самой, и «сгубили» её именно интуиция, её потрясающие, редкие достоинства, которые превратились в недостатки только в ситуации, ненормальной по отношению к чувствам. Чувства и жизнь – отложить невозможно, а если все же удается сделать невозможное, это говорит о дефиците воли к жизни и катастрофическом переизбытке ума. Князь Андрей, испытывая чувства к невесте, по себе судил о ней и с точки зрения ума и умом же выверенных нравственных категорий судил её легкомысленное, анормальное, не внявшее императивам морали поведение. Но есть еще и «божий суд», который, как ни странно, оказался не на стороне оскорбленного жениха (позднее князь Андрей, как мы помним, стал смотреть на ситуацию с точки зрения логики чувств и не только не нашел «состава преступления» в действиях Наташи, но и признал свою вину). Что случилось с Наташей, если посмотреть на ситуацию глазами самой «потерпевшей» ( а повествователь намеренно сталкивает две шкалы оценок, полемически примеряя их к явно неоднозначной ситуации и при этом недвусмысленно принимая сторону Наташи)? Прежде всего – Ростова ни на секунду не изменила себе. Она не строила никаких умыслов, вся её духовная жизнь состояла из предчувствий и мучительно-невнятных, хотя и определенных по тональности, ощущений. Два 152 лейтмотива доминировали в грустной музыке души Наташи. Первый: «Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой! как я боюсь за него и за себя, и за все мне страшно..». Второй: «Мысль (строго говоря – чувство – А.А.) о том, что так, даром, ни для кого пропадает её лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила её». Вот с такой тяжелой, угнетающей гаммой ощущений появляется Наташа в Москве, куда со дня на день ждали прибытия князя Андрея. Марья Дмитриевна Ахросимова, в доме которой остановились Ростовы, по-женски мудро наставляла свою любимицу: «(...) против воли (отца князя Андрея – А.А.) в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись, как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет». Но как только в дело включаются соображения ума, все странным образом начинает рушиться, и дело склоняется к непредвиденному итогу. Словно мы становимся свидетелями пантеистического бунта, бунта тонко организованного миропорядка, отторгающего чуждые его природе «соображения». Первая встреча с княжной Марьей (ведь надо было познакомиться с сестрой будущего мужа!) свелась к «тяжелому, притворному разговору» и закончилась холодной враждебностью родственных сторон. (А ведь впоследствии, когда они встретятся не по замыслу, а волей случая у изголовья умирающего Болконского, они сойдутся душа в душу, как родственные души; позднее новый случай, точнее, новое несчастье (гибель Пети Ростова) сблизят их настолько, что отношения их перерастут в «страстную и нежную дружбу».) Причем никто из них персонально не был виноват, напротив они были, как всегда, предельно чутки и деликатны. Но они не созрели еще для общения, а разумная воля, как всегда, неразумно форсировала ход событий – в итоге вышло «нехорошо», хоть и задумано было «умненько». Чтобы ярче оттенить своеобразие Наташи, повествователь дал ей в подруги девушку спокойную и рассудительную (что и подчеркнул именем Соня, Софья: «сонные» и «мудро-расчетливые» ассоциации имени органично сопровождают предсказуемое поведение довольно мелкой души и неглубокой натуры). Соня, спокойно, «ровно», по словам Наташи, любя Николая, спокойно ждала, выжидала верный случай. И дождалась. Она, просчитав, как шахматную партию, ситуацию, блестяще сымитировала, разыграла великодушие, возвратив «слово» Николаю в надежде этим отпускающим на волю жестом еще больше, теперь уже навсегда, привязать к себе благородного возлюбленного. Соня, как и всякий другой, кто дерзнул играть с судьбой в умные игры, просчиталась. Наташа и Соня соотносятся как действующий вулкан по сравнению с уснувшей сопкой. Неукротимый вулкан не спрашивает, хорошо или нехорошо жить и бурлить. При посещении оперы Наташа испытывала ту вулканическую «полноту жизни», когда «ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно 153 теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно её сердце». Конечно, это было неразумно, зато очаровательно. После деревни, после многомесячного культурно-светского «воздержания», Наташа оказалась в театре, где все было «так вычурно-фальшиво и ненатурально», но где все считали нужным выразить свое восхищение происходящим на сцене. Полнота жизни в сочетании с плохо усвоенными (или хорошо забытыми) условностями света привели к тому, что Наташа пришла «в давно не испытанное ею состояние опьянения», когда желаемое легко выдается за действительное, когда реальность игнорируется самым грубым образом в угоду сиюминутной полноте ощущения. Таким образом, жажда жизни, наложившись на светскую и житейскую неопытность, сделала Наташу без вины виноватой; отмеченные факторы в комплексе стали предпосылкой трагического развития событий. (Попутно отметим такую «мелочь»: в оперу Наташа поехала из вежливости по отношению к Марье Дмитриевне, которая достала билет специально для Наташи. И Марья Дмитриевна, и Наташа поступили вполне разумно.) В сущности, не произошло ничего экстраординарного, но писатель с чрезвычайным литературным мастерством и прямо-таки компрометирующей его магистральную антирациональную доктрину научной дотошностью разложил метафору «полнота жизни» на физиолого-психологическую и нравственно-духовную составляющие, отделяя зерна от плевел. В результате обычная игривая светская беседа Наташи с Анатолем Курагиным, не выходящая за рамки заурядного флирта, в мире, где неестественное – естественно, а нормальное – смешно и неэлегантно, поставила перед Наташей серьезную духовную проблему. Приняв намекающий тон Анатоля, Наташа почувствовала, что ей нравится нравиться. Она ощутила себя женщиной, и впервые отделила поэтическое чувство от власти инстинкта. Но в Наташе – и это сразу же поймет Пьер, а позднее и князь Андрей – одно без другого не существует. И сам факт достаточно невинного раздвоения Наташа восприняла как начало грехопадения. Иными словами, она была органически чиста и непорочна и, открыв в себе грубое, «скотское» начало, к которому совершенно естественно апеллировал органически порочный сердцеед Курагин, она почувствовала, что невольно оскорбила свое чувство любви к князю Андрею и его – к ней. «Погибла ли я для любви князя Андрея, или нет? (...) Что ж со мной было? Ничего. Я ничего не сделала, ничем не вызвала этого. (...) Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такою. Но какою такою? (...)» «Наташа успокоивалась на мгновенье, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда и хотя ничего не было, – инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви её к князю Андрею погибла». 154 Писатель здесь не только прав, но и мудр, как мудра и вся его «философия» Ростовой. Поэтому все страницы романа, связанные с Наташей, исключительно поэтичны, умны и исполнены впечатляющего художественного мастерства, замешанного на психологии, на тонком, умном понимании женской психологии. Главное противоречие, которое могла испытывать Наташа, было противоречие именно между душой и инстинктом, а не между душой и умом. Бонвиван и безмозглый эпикуреец Анатоль Курагин, конечно, был недостоин Наташи, как недостоин её (совсем по иным соображениям) оказался глубокомысленный князь Андрей. Наташа задумана как мера всех вещей – вот почему она стала центром притяжения самого разнородного мужского внимания. Через отношение к ней выявляется истинная цена каждого «претендента», но они же и создали Наташе репутацию женщины универсальной, на все времена. Наташа, безусловно, ошиблась и в отношении себя, и в отношении Анатоля. Однако главная «мораль» этой истории видится в следующем: несмотря на все свое внешнее сближение с Элен, Наташа не стала и не могла стать такой, как Элен. Она сохранила себя, осталась верна себе и, более того, познала себя. Отвергнув князя Андрея, Наташа, как ни парадоксально, сделала это не из побуждений совершенно уж эгоистических, а скорее ради него, ради его блага. Их отношения были для неё святыней: «(...) дело любви князя Андрея (и Наташи – А.А.), (...) представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по её понятиям, не мог понимать его». Искренне посчитав себя недостойной высокой любви князя Андрея, Наташа решила не то чтобы максимально самоустраниться (это было бы жертвой в духе Сонечки, на что эгоистически заряженная на счастье Наташа была просто неспособна), но принудила себя избрать все же «сниженный», по её меркам, вариант. Она уже чувствовала, что «погубит» себя , но то же чувство подсказывало ей: не отказать в этой ситуации Болконскому, что ни говори, означало поступить «дурно». И в отношениях с Анатолем она не наслаждения и удовольствия искала (что было бы в духе «развратной» Элен). Она с самыми серьезными намерениями бросилась в авантюру. Для неё любовь, любовь к мужчине по-прежнему была самым главным делом в жизни, событием, случающимся раз и «навсегда», «до самой смерти» (как было с Борисом Друбецким). Важность «дела любви» сомнений не вызывала; проблема была в том, какая любовь окажется той самой, исключительной и судьбоносной: «её мучил неразрешимый вопрос, кого она любила: Анатоля или князя Андрея?» Ведь сама «неразрешимость вопроса» была унизительна для Наташи, а значит и для её «дела любви» с князем Андреем. Наташа потому так нелепо попалась на грубую интрижку Анатоля, что она по себе судила о честности намерений другого, а главное – она стала 155 заложницей своего неумения жить без любви, т.е. заложницей своего основного достоинства. Но за это же ей и воздалось. В конце концов, Наташа была вознаграждена за непорочность своей отзывчивой на любовь натуры. Не стоит слишком жалеть Наташу: ведь в расстройстве её помолвки можно усмотреть и горний промысел, который сберег её для настоящей любви к Петру Кирилловичу Безухову; с другой стороны, граф Безухов (также явно не без вмешательства высших сил) был коронован её любовью. И это, согласно замыслу автора, справедливо. Строго во исполнение замысла автора, в соответствии с которым путь к настоящей любви лежит через страдание, Наташа вступила в достаточно мрачную полосу своей жизни. 3 Наташа поступила самым безрассудным и нерасчетливым образом. Её взбунтовавшееся сердце, рассудочно обреченное на роковое бездействие, было право уж тем, что, по божьему промыслу, оно не могло не любить. Наташа согрешила против правил и норм логики человеческой, «себя осрамила, как девка самая последняя», по словам ревнительницы морали Марьи Дмитриевны, которая делала все «умненько» и соблюдала, главным образом, внешнюю сторону приличий (по достаточно злой и ироничной логике всевышнего, та же Ахросимова сделала все для того, чтобы Наташа «себя осрамила»). Этот взгляд со стороны примет к сведению и положит в основу своей оценки князь Андрей. Но против логики жизни, подчеркнем, Наташа не согрешила. И это было залогом её будущего счастья. Завтра есть только у тех героев Толстого (сразу же исключим из их числа негодяев), которые живут сиюминутным и не слишком стремятся заглядывать за горизонт. («Настоящие мудрецы», вроде Анатоля, «ничего не видят дальше настоящей минуты удовольствия» (наблюдение заблуждающегося Пьера) – и именно по этой причине лишают себя завтра; может быть, стоит добавить, что содержание минуты у «мудрецов» от бога должно как-то реферировать с вечностью.) А уж в этом смертном грехе, грехе соперничества с богом, Наташа была никак не повинна. Но этого ей знать было не дано. В результате родился еще и третий взгляд на ситуацию – взгляд самой Наташи. Уже после неудавшегося побега с Анатолем, Наташа «зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной». И это была естественная реакция человека, который своими руками, в дьявольском состоянии опьянения разрушил не только для себя самое дорогое, но и нанес глубокую рану другому человеку, который, по меркам совести, никак не заслуживал этого. Наташа, хоть и была орудием в руках божьих, судила себя по законам человеческого представления о справедливости, по законам совести. И это была образцово-показательная ситуация, когда человек чувствует себя виноватым уж тем, что он человек, и 156 страданием своим искупляет предусмотренное несовершенство своей природы, вследствие чего, вкусив благо самоуничижения, может надеяться на компенсацию моральных издержек. Что ни говори, но в плане собственно человеческом Наташа вела себя безукоризненно. Она, не зная разумной меры в делах сердечных, казнила себя беспощадно. Анатоль, конечно, не стоил слез и мук душевных, и он так же быстро выпал из мира Ростовой, как и внезапно в нем появился. Все стало на свои места, все чувства и мысли обращены были к оскорбленному князю Андрею: «Нет, я знаю, что все кончено, – сказала она (Пьеру – А.А.) поспешно. – Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за все..». С потерей любви Наташа, как ей казалось, лишилась будущего. Когда Пьер решил утешить её здравым замечанием «вся жизнь впереди для вас», он услышал: «Для меня? Нет! Для меня все пропало, – сказала она со стыдом и самоуничижением». Все запутано в мире людей, но сквозь запутанность эту проступают знаки некой стратегической целесообразности. В момент, когда Наташа ставит на себе крест, она вдруг получает признание в любви от человека, который, считая себя глупым и недостойным, от имени «красивейшего, умнейшего и лучшего» (каким, кстати, он во многом был на самом деле) считал бы за честь «на коленях просить руки и любви» Наташи... Если это не реализация промысла всевышнего (через замысел скромного повествователя), то что это? А пока что Ростова вновь испытала приступы долгой «нравственной болезни», сопровождавшиеся нешуточной угрозой для жизни – болезни отсутствия любви. «Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась». Она не смеялась. Она не могла петь. «Смех и пение особенно казались ей кощунством над её горем». Смех и пение сразу же вызывали слезы, «слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива». Она вела «жизнь без жизни». А между тем шел июль 1812 года. Жизнь постепенно возвращалась к Наташе, а вместе с ней и любовь. Понятие «любовь» все более и более трансформировалось и расширялось (и для Наташи и – через Наташу – для просвещенного читателя). Теперь Наташа видела в любви нечто большее, чем одухотворенные отношения полов. И выразились новые, возвращающие к жизни, ощущения героини в «молитвах раскаяния». Кульминацией нового акцента в мироощущении Наташи явилась воскресная «приобщающая» молитва (это было во время службы, завершающей Петровский пост). Наступило счастливое воскресенье. Диакон читал слова молитвы: «Миром господу помолимся». «Миром, – все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью – будем молиться», – думала Наташа». Эта 157 молитва перешла в молитву о «спасении России от вражеского нашествия». Наташа была «в состоянии раскрытости душевной». «Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигающим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила бога о том, чтобы он простил их всех и её и дал бы им всем и ей спокойствия и счастья в жизни. И ей казалось, что бог слышит её молитву». Видимо, так оно и было. Во всяком случае, Наташа стала пробовать петь, к ней вернулось прежнее оживление. Своим чередом развивались даже отношения с Пьером, которые Наташа, правда, и в мыслях не смела назвать любовью. По-своему Наташа была права, но отношения тем не менее развивались – по своей, не зависимой от её и Пьера логике. Во всяком случае, кризис счастливо миновал. Своим чередом развивались и отношения с князем Андреем, который после смертельного ранения обрел, наконец, «новое счастье и (...) это счастье имело что-то такое общее с Евангелием». Наташа не отходила от раненого Болконского, искусно ухаживала за ним. Она делала то, что должна была делать. Возможно, Болконский выжил бы, возможно были бы возобновлены отношения жениха и невесты. Однако личным отношениям уже было придано сверхличное, общее измерение: «нерешенный, висящий вопрос жизни и смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения». 4 Тут самое место перейти к той стороне личности Наташи, которая позволяла ей без труда и усилий, совершенно естественно, концентрировать в себе общий строй мира, народа. «Всемирная» отзывчивость Наташи была предопределена тем счастливым обстоятельством, что разум не мешал ей жить (чтобы не сказать, что у нее просто не было ума; кстати, эта очаровательная черта евиного племени непосредственным образом роднит Наташу Ростову с Татьяной Лариной: вот еще одна глубинная пушкинская традиция, актуализированная Толстым). Интеллект – выделяет, объединяют – чувства. Наташа Ростова была создана как начало объединяющее, соединяющее – «всех вместе, без различия сословий» и без различия интеллектуальных способностей. Писатель просто не мог избежать темы «Наташа и народ»: это было бы явным обеднением такой идеологически важной фигуры, как Ростова и, с другой стороны, собирательный образ народа лишился бы колоритнейшей краски (кстати – там где Наташа, там возникает очень и очень много попутных «кстати», ибо образ аккумулирует дух народного мира – само имя Наташа в переводе с латинского означает «родная» или, с латинского же, название праздника рождества, рождения. Наташа, род, родина, народ, рождение – вот к какому душевному ряду «привязана» семантика имени). Наташа тысячью нитями и россыпью 158 эпизодов породнена с народом. Отметим и проанализируем наиболее характерные. Непосредственно перед злосчастной историей с Курагиным, когда Наташа коротала время в ожидании «гарантированного» счастья с Болконским, она принимала участие в охоте (впоследствии она вспоминала именно «охоту, дядюшку и святки» как самый «беззаботный, полный надежд склад жизни»). Охота, т.е. общение, тесное соприкосновение с природой, растворение в ней в изображении Толстого выглядит как процесс, когда все культурное (читай «наносное») отбрасывается само собой и остается некий стержень, не сводимый, конечно, к инстинктам, но составляющий простую, естественную человеческую суть. Перед нами разворачивается не процесс травли волка или зайца, но поэтизированное, облагороженное человеческими страстями действо, где волк похож на собак, собаки на псарей, ловчие на хозяев-помещиков, а хозяева без ущерба для достоинства уподобляются волкам, и все они вместе образуют целый мир, живущий по своим законам. Быть своим в этом мире, переживать перипетии и сюжеты охоты – значит просто любить жизнь, почитать законы космоса. «Глянцевито-мокро чернела» земля, ей вторили «большие черные навыкате глаза» Милки, которые напоминали «черные блестящие глаза» Данилы, родственные «блестящим глазам» Наташи (тоже, кстати, черным), глазам Ильи Андреича («подернутые влагой», они «особенно блестели»), да и «большим стеклянным глазам» матерого волка... Глаза, зеркало души, отражают гармонию мира. А дальше в этом странном мире ловчий Данило мог грозить арапником графу и свирепо распекать его непечатными словами, старый кобель Карай превращался в «отца» («Караюшка! Отец!.. – плакал Николай..».), черно-пегая широкозадая сука Милка – в «матушку» («Милушка, матушка! – послышался торжествующий крик Николая»), красно-пегая сучка Ерза – в «сестрицу» («Ерзынька! сестрица! – послышался плачущий, не свой голос Илагина»), красный горбатый кобель дядюшки Ругай стал родным «Ругаюшкой» (позже Николай отметит, что Ругай похож на дядюшку). В то время как кипели охотничьи страсти, «Наташа, не переводя дух, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором (попросту – галдежом – А.А.). И визг этот был так странен, что она сама должна была бы стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время». Но никто ничему не удивлялся, люди счастливо вернулись в свое первородное состояние, к своей первой (и единственной?) натуре. Наташа стала тем, кем она и всегда была: восхитительным ростком природы, порождением космоса, вселенной, мира. (И после этого, напомним, Наташа оказалась в Москве, в театре, в обществе Элен и Анатоля...) 159 Когда разгоряченные охотники и сопереживающая им свита, основательно подрастерявшие дворянскую и светскую спесь в поле, вваливаются в «деревянный, заросший садом домик» дядюшки, уже никого не удивляла простая, почти деревенская обстановка и тяготеющий к простонародному «склад жизни» дворянина. Дядюшка, дальний родственник Ростовых (у которого, по его же словам, «ума не хватает служить»), потчевал гостей немудреными разносолами, появившимися на столе стараньями Анисьи Федоровны, Анисьюшки, экономки дядюшки, которая, судя по его «нахмуренным бровям и счастливой, самодовольной улыбке», сопровождавшим её появление с подносом, была больше, чем экономка. «На столе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду». Сам перечень блюд источает не только гастрономический, но и народно-поэтический аромат. Нас, конечно, интересует самочувствие Наташи в этом, отчасти экзотическом, контексте. Но экзотики-то как раз и не вышло. И не надо лучшей характеристики Наташе, воспринимающей, казалось бы, чуждый ей мир как близкий и давно освоенный. (В этой связи отметим, что в подобной обстановке совершенно невозможно представить себе ту же Элен.) «Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для неё обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки». Была всего лишь новая обстановка, но не было унизительного для дядюшки и его образа жизни ощущения экзотики. И в этой обстановке «графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой», чувствовала себя так же естественно, как и на охоте. После того, как дядюшка «со степенным весельем (тем самым, которым дышало все существо Анисьи Федоровны)» «отделал» русскую народную песню, Наташу обуял языческий восторг. Она «забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала». Здесь повествователь от захлестнувших и его не чуждую народности душу эмоций «сбивается» чуть ли не на лирическое отступление (чем «нечаянно» обнаруживает свое отношение к «барышне-графинюшке»). Вначале все испугались, что она в танце «не то сделает». «Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для её дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и бархате воспитанную графиню, которая умела понять то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке». Собственно, Наташа затем и появилась в деревне у дядюшки, чтобы продемонстрировать «всосанный из русского воздуха» русский дух, «неподражаемый» и «неизучаемый», дающийся едва ли не от рождения. Точно так же, как «бессознательный напев» дядюшки, «как бывает напев птицы», доказал его органическую народность, так и бессознательно точные движения обнаружили в его племяннице неизвестно откуда взявшуюся у нее народную 160 закваску. «Неизвестно откуда» означает: точно известно, что «закваска» не прививалась путем изучения, сознательным путем; значит, она привита путем бессознательным. И это, по Толстому, «доказывает», что настоящее объединение, сплочение может быть только бессознательным. Родственный и роднящий компонент есть компонент бессознательно-душевный. Вот почему народ приветствовал назначение Кутузова в главнокомандующие, а сам светлейший, за версту чуявший русский дух, видел свою задачу как народного полководца в том, чтобы не мешать народу, и потому презирал всяческие диспозиции, всю военную науку, предписывающую сознательное вмешательство в дела бессознательные (это, правда с роковым опозданием, «понял» и князь Андрей). Именно феномен бессознательного единения так поразил умного Пьера на поле Бородина, и уже сам бессознательно «читая» людей, он поразился феномену Наташи, в высшей степени обладавшей свойством настраиваться на волну другого, проникать в душу, минуя сознание. Таким образом, Наташа Ростова еще и еще раз убедительно демонстрировала преимущества внесознательного постижения реальности. Уже зная Наташу, мы не удивляемся тому, насколько органично её личные интересы переплетаются с интересами народа, семьи, любимого человека. Патриотический, и даже в известной степени героический акт она облекает в форму женской истерики, забота о раненых преподносится повествователем как дело сугубо семейное. Мы имеем в виду ситуацию, когда Ростовы покидали свой московский дом и должны были увозить на подводах «детское состояние» (в доме оставалось «на сто тысяч добра»). Граф хотел отдать часть подвод под раненых, однако графиня воспротивилась. Она вполне разумно настаивала, чтобы вывезли добро «как люди», а не разорялись «как дураки». И тогда в дело вмешалась Наташа. Она «с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. – Это гадость! Это мерзость! – закричала она. – Это не может быть, чтобы вы приказали». Своими неразумными действиями она, как и следовало ожидать, добивается нужного, правильного результата. И в отношениях с раненым Болконским уже подспудно присутствовали незримые связи с миром, укреплявшие душу Наташи и давшие ей силу перенести утрату. После смерти князя Андрея можно было ожидать обострения «нравственной болезни». Отчасти так оно и произошло. Наташа и княжна Марья, «нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни». «Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти». К счастью, Наташа ненадолго ушла в мир скорби; к несчастью, вывело Наташу из состояния изнурительного уединения, из бесплодного сосредоточения на «непосильном ей вопросе» о значении смерти известие о смерти её младшего брата Пети. 161 Строго говоря, к жизни Наташу вернула все та же любовь – на этот раз любовь к матери. Страшное известие оживило Наташу, так как без её любви рушился мир семьи. «Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило её в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе». «Нежная борьба» с обезумевшей матерью потребовала от Наташи напряжения всех её духовных и физических сил. «Друг мой, маменька, – повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего её горя. (...) Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со все сторон обнимала графиню». Вновь вечный мотив «смертию смерть поправ» становится руководством к действию для конкретных живых людей. Смерть для писателя – это способ прикоснуться к вечности; но долг живых он видит в том, чтобы противостоять смерти. Само допущение вечности, возможность вечности делает мир Толстого прекрасно сиюминутным, трагически неповторимым, хрупким – и тем самым в чем-то равновеликим вечности, поскольку он выступает единственно возможным противовесом смерти. Роман-эпопею по его пристрастному жизнелюбию можно назвать гимном мгновению, учитывая то, что мгновение есть момент вечности. Вот и получается, что жизнь коротка – зато искусство вечно. Жизнь получает измерение вечности. Получается, что жизнь еще более, нежели смерть, является способом укрощения вечности (может быть, это не соответствует смиренному религиозному послушанию автора, однако жизнелюбивая модель дает основания для непослушно широких, в том числе антирелигиозных трактовок). Получается, что присущий жизни смысл не пустячок, на который не следует обращать неприлично большого внимания (как делали это «мудрец» Курагин, или умник Друбецкой, или «пользовавшаяся репутацией умнейшей женщины» Элен). Получается, что трижды, сотни раз правы в своем серьезном отношении к жизни (любви, уму, смерти) Андрей Болконский, Петр Кириллович Безухов, Наташа Ростова, Марья Болконская. Получается, что мотыльковое беспроблемное существование и соответствующая ему идеология (система взглядов на мир) – просто говоря, элементарная абсолютизация принципа удовольствия – совершенно не соответствуют космическому, экзистенциальному феномену жизни. Получается, что сам дух и тон романа-эпопеи органично адекватны самому главному в жизни: проблеме как следует жить. Толстой не решил проблему, но он не опошлил, а возвысил её. Художников такого ранга и класса в мировой культуре – единицы. Он гениально уловил и модельно передал непередаваемые 162 разумным путем, не фиксируемые рационально драгоценные смыслы бытия. Толстой почувствовал жизнь как личность колоссальная, как человек, в чем-то прорвавшийся к своим пределам, и потому он навечно остался в культуре как эпохальная величина. Итак, рана, которая «наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни». Повествователь безукоризненно точно выстроил логику возвращения к жизни: «рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни». Не маскируя концептуальное зерно, из которого вырос образ Ростовой, повествователь, поборник жизни, анализирует: «Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь её кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность её жизни – любовь – ещё жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь». А дальше уже делом писательской техники и делом утверждения высшей справедливости было довести начатое возрождение до разумного завершения. Наташа вновь была готова к любви. Она еще не догадывалась, что бессознательно (не исключено, что с первого мгновения, когда она в свои тринадцать лет думала, что влюблена в Друбецкого, но сидела за именинным столом напротив Пьера и «переглядывалась» с ним; иначе говоря, бессознательная жизнь Наташи сознательно выстроена как бессознательная) давно уже проросла в Пьера, давно уже любит его. Пьер тоже давно уже любит Наташу (не исключено, что с того же мгновения, когда «ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему»). Но теперь он свободен. (Писатель даже толком «не удостоил» разъяснить, как и при каких обстоятельствах «сгинула» прекрасная Елена Васильевна; писателя можно понять: промысел божий на то и промысел, чтобы не осквернять его комментариями, промысел самодостаточен, он говорит сам за себя – тем, правда, кто способен за случайностями жизни ощущать промысел; ради тех же (прав, прав писатель), кто не ангажирован ощущениями настолько, чтобы перестать получать удовольствие от разъяснений, – ради них не стоит тратить попусту «золотые» слова.) Необходим был эпилог, который мог бы служить послесловием не только к истории Пьера и Наташи, но и ко всему роману-эпопее. 6 ЭПИЛОГ «ВОЙНЫ И МИРА» 1 В эпилоге, капле океана, моменте целого, реализованы «назначения» человека. С этой целью в эпилог допущены тщательно отобранные и прошедшие горнило страданий персонажи, с которыми связана магистральная 163 мысль романа. Очевидно, писатель творит свой роман на манер того, как создается и регулируется мир настоящий вездесущим Творцом; роман задуман как образ и подобие мира; надо полагать, что в таком случае у романа не один, а уж как минимум два творца. Скромность и покорность богу, о которых столько говорилось на страницах эпопеи, конечно, не позволили бы Толстому ставить вопрос таким образом; но уж коль скоро в мире господствует только один «истинный» творец, а роман пишет другой – то роман либо ниспровергает и компрометирует творца (или, по-другому, возвышает человека), либо Творец чужими руками творит из себя самого кумира (что, конечно, человека унижает, а Творцу не слишком прибавляет лавров). Так обстоит дело в сфере человеческой логики. А иной логики в мире романа не обнаружено. Обнаружена (при помощи все той же логики) способность и потребность верить – однако логика как таковая в делах душевно-сердечных не при чем. Если наличие души (психики) «опровергает» логику разума и «доказывает» его никчемность – то это как минимум нелогично и неразумно; это, как и всякая логика наоборот, смешно. Объявлять же нелогичность высшей, сверхразумной логикой – чистейшей воды трюк, основанный, кстати, на все той же «сомнительной» способности критического суждения. И всё, круг замкнулся, остаётся вера, Наташа, любовь... Но романа, а тем более романа-эпопеи из этой чисто психологической материи не создашь. Роман есть «материя» организованная, а организация (порядок) есть результат деятельности ума. Итак, будем анализировать эпилог, потому что, по логике вещей, у нас нет другого выхода, если мы ставим себе целью познание романа. Наташа Ростова прочитала бы роман и ограничилась бы сопереживанием, т.е. психологической реакцией на «материал» (благо тут ума не надо); но она никогда не написала бы роман. Наташа могла только бессознательно заниматься жизнетворчеством, продлевать и воспроизводить жизнь, как и её мать (тоже, кстати, Наталья, Nathalie), как женщины вообще. Наташа была «настоящая женщина», а потому великолепно исполняла своё «назначение». Толстой, показав способ существования настоящей женщины, позаботился и о том, чтобы дать и аналитическую характеристику этого достаточно редкого типа женщины. Петр Кириллович, рассказывая свои военные похождения Наташе (это было еще до их свадьбы), «испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, – не умные женщины», которые озабочены «своими умными речами, выработанными в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслаждение, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины». Наташа ловила на лету и «угадывала» все, что хотел сказать ей Пьер. (Тип «настоящего мужчины», заметим в скобках, гораздо менее удался Толстому, ибо настоящий мужчина – это прежде всего 164 умный мужчина. Все «настоящие» толстовские мужчины бессознательно тяготеют к женскому типу человеческого идеала.) Наташа не умничала, она приспосабливалась под «проявления мужчины» и под законы жизни. В 1813 году Наташа вышла замуж за Безухова – и в тот же год со смертью графа Ильи Андреевича «распалась старая семья» Ростовых. Однако уже осенью 1814 года Николай женился на княжне Марье – и создалась новая семья Ростовых. Ко времени, когда происходят события эпилога (а не происходит ничего особенного или, по художественной – неоднозначной – логике, происходит самое главное: размеренное течение семейной жизни), к концу 1820 года, у Наташи было уже три дочери и один сын (у матери Наташи тоже было четверо детей). Если настоящей женщине следовало вынашивать, рожать, кормить и воспитывать детей и «принимать участие в каждой минуте жизни мужа», и если ради этого надо было отказаться от удовольствий светской жизни – Наташа идеально выполняла все «назначения»: рожала детей и отдалилась от света. «Странно-тоненькая» юная «графинечка» до замужества и «пополневшая, поширевшая» «сильная мать», которой она стала после замужества, поражают своим контрастом. Однако всё внешнее, в том числе и контрасты, само по себе не интересовало повествователя. Контраст лишь подчеркивал неизменность и органичность бессознательной жизненной линии Ростовой-Безуховой. Наташа осталась прежней, неизменной, как сама природа или жизнь. Наташа не стеснялась противоречить правилам культуры. «Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедоваемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа». Писатель полемично, как в трактате, по пунктам показывает, что Наташа «делала все противное этим правилам». И что же? А то, что она блестяще исполняла свое «назначение». Она, слава богу, не была умной женщиной, а потому поступала по правилам жизни, которые писатель не считал возможным называть умными или глупыми. Наташа – фигура символическая. Она, не рассуждая, стоит на страже жизни, следовательно, семьи. Она бессознательно концентрировала в себе лучшее, что было в мужчине – вплоть до того, что становилась своеобразным отражением мужчины, отражением только «истинно хороших» его свойств. Иначе говоря, она была инструментом исправления «не совсем хорошего», дурного в человеке. «И отражение это произошло (в случае с Пьером – А.А.) не путем логической мысли, а другим – таинственным, непосредственным отражением». Предлагаемый писателем идеал женщины и женственности, при всей его патриархальной немудрености и полемической антизападной заостренности 165 (Наташа по-русски все доводила до крайности, в том числе любовь к мужу и детям), является все же идеалом, а не карикатурой. Карикатурой на идеал женщины Толстой, как известно, воспринимал героиню рассказа А.П. Чехова «Душечка». Ростова и есть «душечка», только всерьез, без иронии. Между Оленькой Племянниковой и Наташей Ростовой разница такая же, как между комическим и космическим (нам представляется, что первое суть момент второго – момент, который Толстой предпочитал игнорировать). Идеал Толстого концептуально глубок и художественно совершенен. Наташа универсально стыкуется с миром в его самых разных проявлениях. Таким образом, Наташа улучшала, облагораживала мир, не давала ему нравственно опускаться, при том, что сама она внешне «то что называют, опустилась». Внутренне мир, нормальный человеческий мир держался именно на тех качествах, который пестовала и свирепо обороняла Наташа. Жизнь – женственна, она сторонится бесплодного ума, непроизвольно, по-инстинкту оберегает очаг души от смертельного бесстрастия интеллекта. Быть человеком – значит быть в значительной, в решающей степени женщиной – к такому выводу вольно или невольно приходит повествователь и заставляет приходить читателей. Вот почему «Пьер был под башмаком своей жены» – и «был польщен ими (требованиями жены, загнавшими его под башмак – А.А.) и подчинился им». Наташа стала не просто символом женственности, но женственности как символа жизни и жизнестойкости. Русская нация, по Толстому, – женственна, и потому эти русские, наплевав на золотые правила, выводимые умными историками и военачальниками, немцами да французами, взяли и победили. Женственность Кутузова – очевидна, женственность Пьера стала залогом его непредсказуемого жизненного успеха; складывается впечатление, что капризная фортуна, направляемая богом-отцом, также не лишена женского начала; мужественность Николая Ростова замешана на самой что ни на есть женственной чуткости и отзывчивости, и его «сангвиническая» неукротимость и драчливое гусарство скрывают всего лишь ранимую душу (во всяком случае, чуткость и вспыльчивость, как и положено, уживаются в нем мирно). А вот каменно-холодная Элен при всей своей внешней, лепной прелести не имела ничего общего с духом женственности. Соня, по словам любящей её Наташи, оказалась «пустоцветом», и «примирилась с своим назначением «пустоцвета». Женщина назначена плодоносить и вместе с тем духовно оплодотворять; проще говоря, бессознательно творить, а не сознательно «разрушать» (анализировать) то, что сотворено без ведущего участия сознания. Сам мир Толстого сотворен по женской технологии, ибо художник вынашивает и рождает образную модель мира, которая вдруг начинает источать смыслы, вложенные во многом непреднамеренно. Роман может оказаться даже умнее автора. Художники, как и женщины, не ведают, что творят. Разумеется, неженские функции Толстой, как и всякий художник, бессознательно отводит Богу-отцу, началу собственно 166 мужскому. Но в жизни, стоящей у истоков модели (или в модели, опирающейся на оригинал), мужское начало, как начало организующее, подавляющее женственную жизнь, – писатель последовательно истребляет. Мысль, ум, логика, рациональное отношение несут непосредственную угрозу жизни, они иссушают душу, убивают чувство, иррациональное отношение, веру, надежду, любовь – так чувствуют все женственные герои эпопеи, включая повествователя. И у нас нет никаких разумных оснований исключать из этого почетного списка Льва Николаевича Толстого. Если принять во внимание все сказанное, становится понятным, почему Наташи всегда так «много», отчего все её проявления так избыточны. Она даже своим «маленьким умственным хозяйством» выработала формулу (точнее, поскольку речь идет об уме, заимствовала её из Евангелия): «Имущему дастся, а у неимущего отнимется». Поощряется «имущий» женственность (а хорошего, как известно, много не бывает), «не имущие» не имеют прежде всего безумной воли жить. Но и пустоцветы имеют назначение быть при жизни, служить имущим: так Соня волею судеб была придана и предана новой семье Ростовых (у Николая и Марьи тоже было немало, четверо детей, считая воспитывавшегося в их доме Николеньку Болконского). И избыточность Пьера, его едва ли не карнавальная склонность к излишествам имеют все ту же женственную, трудно поддающуюся обузданию и тирании порядка природу. Безухов, ассоциирующийся с насыщенными, густыми тонами, «темно-синий с красным», объёмный (хотя и не по-женски «четвероугольный», а может, как раз по-женски основательный? Образы, как и женщин, понять трудно...), явно относится к породе имущих. Уж как бился математик и офранцуженный рационалист Николай Андреевич Болконский, порождение архаического 18 века, над «дурой» княжной Марьей, не восприимчивой к выкладкам ума! Но он был бессилен против чрезмерной любви, разлившейся из просто безбрежной её души. Становится понятно, почему в эпилог попали именно эти две пары: попали «имущие». Именно по этому признаку пары были совместимы каждая внутри себя и между собой. Представить живого и здорового князя Андрея на месте Пьера – невозможно, для этого пришлось бы переписать роман. И пары честно отрабатывали своё назначение: усиленно и неустанно плодились и размножались. Делали они всё это, конечно, по инстинкту, безо всякого умысла. Однако они-то и придали картине «войны и мира» решающие смысловые штрихи. Семьи не просто разрастались, они создавали свои миры, и миры эти чудесным образом становились опорными моментами всего мироздания. Сферическая, глобусообразная конструкция романа находит своё концептуальное, следовательно, и сюжетно-композиционное завершение именно в эпилоге, именно через избранных героев и именно через их семьи. Ростовы жили во вновь отстроенной усадьбе в Лысых Горах. Новый огромный 167 дом был возведен на «старом каменном фундаменте». Семья жила обычной семейной жизнью, «с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами». «За чаем все сидели на обычных местах». Рядом с Николаем, у которого в любимицах, конечно же, состояла маленькая черноглазая дочурка Наташа, лежала «борзая Милка, дочь первой Милки»; старшего сына Николая и Марьи звали Андрюша, младшего – Митей. Единственный мальчик Наташи носил имя Петя. Излишне спрашивать, почему повествователь запланировал столько дочерей для четы Безуховых; впрочем, сам он не считает нужным специально акцентировать внимание на этом обстоятельстве; известно лишь, что одну из дочерей звали Машенькой, другую – Лизой. Разумеется, ничего исключительного в том, чтобы воспроизводить дорогие имена в поколениях потомков нет; скорее, это самая обычная практика. Это – в жизни. В художественном произведении, тем более романе такого уровня полифонического мышления, как «Война и мир», наделение нового поколения «старыми» именами несет отчетливую смысловую нагрузку. Поддерживая высокий строй романа, определим её следующим образом: согласно закону жизни и в соответствии с волей автора всё возвращается на круги своя. В «старом» романе уже просматриваются зародыши новых сюжетов, которые, однако, могут быть выстроены только на старом фундаменте: на антагонизме души и ума. Писатель сознательно придал вращательную, спиралевидную траекторию роману, подчеркивая центральную мысль: жизнь есть беспрестанное движение, и оно только на поверхностный взгляд напоминает беспорядочное броуновское движение. На самом деле у движения есть свои законы, и ни одному из живших поколений еще не удалось их отменить или познать , не говоря уже о том, чтобы внести в жизнь свои законы, хотя каждое новое поколение бессмысленно и заносчиво тратит силы именно на это. Ну, что ж, и оно получит свою долю страданий, поделится на «имущих» и «неимущих» и будет отстраивать новую жизнь – на старом, вечном фундаменте. Мы бы не увидели самого главного, если бы не заметили, что в эпицентре кругообращения, в самом центре мироздания находится женщина. Она единосущна и прекрасна во всех своих ликах: и когда она, едва из пеленок, «энергичными шажками тупых ножек» осваивает мир, как маленькая Наташа Ростова; и когда она с пелёнкой в руках, как взрослая Наталья Ильинична, становится «сильной, красивой и плодовитой самкой», покоряющей мир своей жизнетворящей волей; и когда она, подобно старой графине Ростовой, «чувствует себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла». Никому, коль скоро он пришел в мир людей, не дано избежать своего «назначения» и всех сопутствующих этому назначению фаз жизни. «Memento mori» придаёт быстротекущей жизни человека, возможно, горчинку грусти, зато женская программа позволяет избежать трагизма. 168 А что же мужская часть мира, смирилась ли она с распределением ролей? Наташа общалась с мужем «путём, противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом». Признаком того, что между ними что-то было «неладно» «для неё служил логический ход мыслей Пьера». Как только начинаются ум и логика – кончается взаимопонимание. Что касается Наташи, то она поступает совершенно естественным для себя образом. Она общается с Пьером тем же способом, каким общалась с трёхмесячным Петей, который умудрялся сообщать ей то, что «было больше, чем правда». Наташа всегда, вступая в сокровенные диалоги с матушкой-природой (в лице Пети, Николая, дядюшки, Пьера – она кого угодно мгновенно разворачивала так, что «отражала» его лучшую, неразумную, но светлую сторону), узнавала нечто большее, чем правда, а именно: она тестировала любого на чуткость, женственность, жизнеспособность. Но у Пьера, кроме его лучшей стороны, которую обнаружила и, не щадя сил, отшлифовывала Наташа, была ещё пусть скромная, но дававшая о себе знать сторона разумная, его ахиллесова пята и, что ни говори, родовая отметина: мыслишь, следовательно, мужчина. Это назначение, хотя оно и было основательно скомпрометировано, всё же не было истреблено до конца. Наташе не удалось навязать Пьеру исключительно женские функции и заставить исполнять их с наслаждением. «– Нет, Пьер отлично их (грудных детей – А.А.) нянчит, – сказала Наташа, – он говорит, что у него рука как раз сделана по задку ребёнка. Посмотрите. – Ну, только не для этого, – вдруг, смеясь, сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне». Видимо, у Пьера не совсем ещё была заглушена потребность общаться не «совершенно особенным способом», а способом обычным, нормальным, через внятное и членораздельное слово. Через потребность мыслить и возникли у Пьера в Петербурге «особенные дела». Он был «одним из главных основателей» «одного общества», «общества настоящих консерваторов». Не совсем ясно, в чем состояла цель создания такого общества, но совершенно ясно, что основано оно было «под идею», под идеологию. Эта деятельность Пьера, ставшая зоной его свободы, неподконтрольной Наташе, была деятельностью «от ума». Как совместить рецидив такой активности, подобного реликтового разумного вмешательства в жизнь с новым духовным обликом кроткого Пьера? Ведь во всей этой затее с обществом отчетливо ощутима «отрыжка» масонства. Более того, Пьер в отчете Наташе делает достаточно грозные заявления, которые, скажем прямо, неожиданно слышать из уст человека, находящего удовольствие быть под башмаком у жены, которая специализировалась на противостоянии уму. Для Николая, рассуждает Пьер, «мысли забава», «а для меня всё остальное забава. (...) Когда меня занимает мысль, то всё остальное забава». Далее Пьер 169 категорично заявляет, что он не может не думать. Он думает, и мысль его (относительно «общества») «проста и ясна». И тут Наташа в своей особенной, ассоциативной манере спрашивает (очевидно, намекая на противоречие: как совместить то, что любящий мыслить Пьер получает ни с чем не сравнимое наслаждение от семейного «склада жизни», где мысли нет и самого скромного местечка): «– Ты знаешь, о чём я думаю? – сказала она, – о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?» Имя Платона Каратаева всплыло как имя самого уважаемого Пьером человека. Когда Пьер ответил: «Он не понял бы, а впрочем, я думаю, что да» – Наташа отреагировала даже и весьма особенно: «Я ужасно люблю тебя! – сказала вдруг Наташа. – Ужасно. Ужасно!» Чему так внезапно обрадовалась Наташа? Не тому ли, что в мыслях Пьера, судя по гипотетическому вердикту Каратаева, нет состава мысли? Не тому ли, что мысли Пьера именно «забава»? Впрочем, Пьер задумался ещё раз, и передумал: «Нет, не одобрил бы, – сказал Пьер, подумав. – Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь». После этого чуткая Наташа должна была бы насторожиться. Но закончил свой ответ Пьер словами об «особенном чувстве» к ней после разлуки – и дальше они стали общаться путём, «противным всем правилам логики». Одно из двух: или мысли Пьера действительно стали «ручными» и «забавными» – или Наташа просмотрела грозную опасность. Судя по всему, в случае с Пьером не состоялось рокового возврата на старые круги. Сам факт того, что Каратаев остался незыблемым авторитетом для Пьера (вот решающий аргумент для Наташи!), сам факт того, что он сверяет свои мысли со строем его души, сам факт того, что Безухову важно, одобрил или не одобрил бы Каратаев его мысли – всё это говорит о характере мыслей Пьера, об их лояльности жизни, счастью, спокойствию. Пьер считал себя призванным «дать новое направление всему русскому обществу и всему миру» и рассказал о своих «наполеоновских» планах Наташе – в ответ же он услышал куда более важные новости о проделках крохотного Пети. После этого Наташа спокойно пошла кормить сына. Забавно, не правда ли? Рецидив умственной болезни Пьера в контексте эпилога, где всё вокруг организовано так, чтобы возвратить жизнь на круги своя, – в этом контексте рецидив подчеркивает движение жизни. Победы человека, как бы трудны и «окончательны» они ни были, это не раз и навсегда выигранные сражения, требуется постоянное напряжение всех сил, чтобы сохранить динамическое равновесие. Движение – есть, есть и знак того, что «демоны разума» не дремлют; но полномасштабного возврата к старому – нет. Давайте представим себе на секунду, что Толстой всем романом подводит к финальному аккорду – «победе разума». Искусственность, произвольность и спекулятивная безответственность такой интерпретации – очевидна, она не то, что не 170 выдерживает критики, но сама идея защиты подобной трактовки выглядит глупо, ибо «защитнику» потребуется представить весь роман натяжкой к двусмысленному моменту в целом гармоничного (имеется в виду гармония социоцентрического типа) финала. Нет, контридиллический штрих эпилога становится способом cоздания общественно значимой «идиллии», способом окончательного утверждения основ мира. Если допустить, что заключительная сцена является утверждением нового облика «мыслящего» Пьера (а для этого у нас, повторим, слишком мало оснований), то мы должны признать, что писатель приблизился к революционному перевороту в понимании духовной природы человека, к персоноцентризму – и тем самым допустил колоссальный художественный просчет в отношении уже написанного романа. Нет, Пьер отнюдь не нарушает социоцентрической гармонии финала своими умными речами. А вот Николенька Болконский, вполне возможно, был уже заражён вирусом ума и честолюбия (сказалась дурная наследственность?), он уже стал мечтать о судьбе, скроенной по лекалам судеб «людей Плутарха». Что ж, «назначение» людей, вознамерившихся потрясти старые основы мира, в принципе, уже известно читателю. Только Николеньке об этом ничего не известно... ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА Что такое умный человек? Это человек культурный в точном смысле этого слова, т.е. не только художественно, но и научно культурный. Все, с кем или чем ни общается умный человек, приобретает культурную маркировку, ценность и значимость. Умный человек не отвергает жизни, однако жизнь для него – и только для него! – становится больше, чем жизнь, а именно: феноменом культуры. Он смотрит на жизнь, природу, женщину с противоположных точек отсчета, совмещая несовместимые измерения. И жизнь, отражённая сквозь призму культуры, и культура как тончайшее «духовное извлечение» жизни – превращаются в процесс познания жизни и культуры, познания себя. Человек не культурный (не умный) не способен познавать себя. Ему даже не скучно, ему страшно оставаться одному, без окружения других людей, а общение с миром людей выполняет всего лишь функцию ощущения жизни. Потребность в общении – потребность в продлении жизни. Вот почему умные люди испытывают горе от ума, они одиноки, ибо для них все остальные люди, бессознательно тянущиеся к общению, немногим отличаются от немой природы. Интенсивное, но пустое и бессодержательное общение с культурной точки зрения мало чем отличается от рокота волн, шелеста деревьев или щебетания птиц. Умные люди не отвергают общество людей, народ, мир, 171 потому что это глупо и потому что они люди; они не отвергают бессознательное общение, но не признают такое общение контактом разумных существ, так как это еще глупее, чем отвергать жизнь. Их одиночество не страшно, оно трагически безысходно. Умные люди поймут всё и всех, они, владея логикой жизни и логикой культуры, видят ограниченность, неуниверсальность культурных или жизненных законов, и закон идеологической абсолютизации моментов универсума – не их закон. Умный человек прекрасно понимает того, кто «не удостоивает» быть умным, а вот последний – никогда не поймёт первого. Но неумные видят друг друга издалека, они бессознательно сплачиваются в стаи, семьи, нации, народы, даже во всемирные братства. Человек умный, увы, всегда не равен среде, он всегда трагическим образом выше семьи, народа, самой жизни. И не умные будут всегда бессознательно избегать «умников», не пускать их в свой тесный круг, в свой тёмный мирок, будут объявлять их врагами жизни и, соответственно, «не удостоивать» жизни. А теперь спросим себя: есть ли умные герои на страницах романа-эпопеи? Несомненно, князь Андрей – один из самых умных героев «Войны и мира»; но несомненно также и то, что ум князя – идеологический, ангажированный, лишённый подлинной независимости и самостоятельности. Это ум, действующий в рамках неумно избранной позиции дискредитации ума. Писатель позаботился и о том, чтобы дать определение ума – определение вызывающе тенденциозное и неполное, устраивающее разве что концепцию романа. Князь Андрей видел, что в Кутузове оставалась «вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий». Ум как способность «группировать события и делать выводы» – это характеристика функционального, специализированного ума, которым отличались глупые немецкие и французские высшие военные чины, Борис Друбецкой, Берг, Билибин и даже Элен. Настоящий ум – это именно «способность спокойного созерцания хода событий» как результат понимания природы такого, а не иного хода событий. Ум же, который группирует события и не видит причин, их вызвавших, есть банальная глупость. Именно таким умом (несколько, правда, усиленным по сравнению с глупостью одиозной) был силён и князь Андрей, и Пьер. А другого ума – философского, видящего (выражаясь языком автора, осмеливающегося видеть) причины причин – в романе просто нет, ибо он выведен за рамки человеческих возможностей по причине того, что автор романа не верил в человека, а желал верить в высший разум. Пафос Толстого не пропал даром, но то, что он разоблачил – был поверхностный интеллект, выдаваемый за мудрость. Толстой дезавуировал глупость, хотя метил именно в ум универсальный. Но такого ума, повторим, равно как и его носителей, в романе нет. 172 Поскольку писатель не считал нужным маскировать свою позицию, что, кстати, позволяло избежать ложно-высокопарной объективности (оправданной и не ложной только при ставке на ум) и придавало эпопее пристрастносубъективную убедительность, окутывало сгруппированные события и выводы аурой честности и искренности, постольку мы вправе задаться вопросом: а был ли умён повествователь, образ автора, естественно перетекающий в автора романа, в Льва Николаевича Толстого? На этот вопрос лучше всего ответить в его излюбленной «особенной» манере: он был гениальный художник и потому мог предложить единственно достойное художника отношение к миру: познание человека заменить просто любовью к жизни, просто любовью. Один из парадоксов Толстого состоит в том, что предлагаемая им грандиозная картина мира генетически выводится из осмеянного им же «маленького умственного хозяйства». Мир Толстого – это его миф. Автор не видит существенной разницы между моделирующим и рефлектирующим типами сознания. Умная душа для него есть альтернатива глупому разуму. Вся разница между ними, по убеждению Толстого, состоит в том, что ум, «группирующий события», выдаёт желаемое за действительное рациональными средствами, а душа – средствами иррациональными. Ослепленный граф Толстой, как в своё время Болконский, «душевное» отношение изволит считать «истинным», а рациональное – ложным. Что касается второго – то так оно и есть; что касается первого, то, вопреки убеждению писателя, оно имеет гораздо больше общего со вторым, нежели с истиной. Но существует еще и третья, в литературе обозначенная Пушкиным возможность! Рефлектирующего, неангажированного мышления, единственного только и приспособленного под постижение истины, Толстой не ценил в должной мере и абсолютно не доверял ему. Вот почему у писателя нет персонажей философов (есть «умствующие» личности), нет умных героев, нет горя от ума, нет трагизма. Толстой изгнал трагизм – ценой отказа от воли к разуму. Тут Толстого подстерегал еще один парадокс «не в его пользу»: он вынужден был доказывать несостоятельность разума средствами именно разума, ибо иных средств у него, культурного человека, попросту не было. Толстой впал в грех абсолютизации внесознательного отношения к миру – классический грех художника, питающегося соками души и довольствующегося «бессознательными крохами» разума. В сущности, роман, где эпопейность переходит в библейскость, как мы уже отмечали, сделан по типу Евангелия: от бессознательного страха перед смертью – через страдания, часто сдобренные глупостью, – к любви к жизни и преодолению страха смерти – и, далее, к любви к смерти (выступающей оборотной стороной любви к жизни). Конечно, этот сюжетный архетип – вечный крестный ход литературы, не Толстым открытый и не им исчерпавший себя. В художественной литературе как таковой уже давно 173 ощутим, так сказать, дефицит новизны. Всё в ней старо, как мир, но, как мир, и актуально. Своей цели, цели художника, Толстой добился, создав волшебный роман. Сила жизни, любви к жизни побеждают все, и этому так же трудно возразить, как матери – крику новорожденного малютки. Можно разве что бесконечно умиляться. Писатель не решил вопрос – но заставил «полюблять» жизнь. Однако если изменить цель и сформулировать её так: познать человека (решить вопрос) – то в этом случае к Толстому, который, что бы он ни говорил о цели художника, своим романом предлагал решение кардинальнейших вопросов бытия, у нас возникнет много претензий. Толстой лишь с одной стороны, в одном измерении – со стороны души – знает о человеке редкостно много. Но со стороны ума человек остался для него безнадежно далёкой от разгадки тайной. Толстой был художник, и мы судим его – не по его законам, как иногда лукаво предлагают, ибо по своим законам всякий прав – по законам художника, по законам моделирующего сознания. Часто упускают из виду, что один из законов художника – закон объективной, научной истины, закон ума и рефлектирующего сознания. Вот почему Толстой, сознательно или бессознательно, обречен был решать вопрос. Если подойти к роману с позиций высших культурных ценностей, где ценности философско-интеллектуальные и ценности жизни (добра и красоты) не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга, то оценка его оказывается такой же противоречивой, как и сам роман. И данный тезис вовсе не свидетельство в пользу того, что роман Толстого «плох». Сказать, что «Война и мир» «плох», – равнозначно утверждению «Библия плоха». Бога, с позиций сознания научного, давно уже нет, а библия все существует и процветает, и конца этому триумфальному малокультурному просвещению пока не видно. Библия, как и «Война и мир», совершенна и несовершенна ровно настолько, насколько совершенен и несовершенен человек. Дело не в оценках, «привязанных» к разным системам отсчета, а в степени соответствия природе человеческой. Глубина заблуждений русского гения предопределена тем, что он глубоко проник в суть человека. С точки зрения познания человека роман интересен разве что тем, что в очередной раз подтвердил простую истину: сознание художественное не отражает реального человека, оно моделирует нового человека в соответствии с идеалами и представлениями творца. С точки зрения эстетического воплощения культа «комического человека» – роман исполнен на уровне, близком к предельным возможностям человека. Толстому нет равных, и величие его будет только возрастать. Само эпическое начало романа служит способом возвеличивания начала «комического». Эпохально-историческая подкладка под бессознательнороевую жизнь указывает на глубину укоренения психических программ. 174 Аромат истории источает у Толстого просто жизнь, а жизнь, в свою очередь, складывается в историю. Поскольку история есть история человека комического – умом историю не понять. Война необходима была писателю для того, чтобы ярче показать возможности иррационального духа, составляющего сердцевину и личности (личность не думающая превращается в индивидуума), и народа. Связь одного с другим, личности и народа, технология сплачивания людей, технология мирообразования – вот что интересовало писателя, который подчеркивал, что главной для него в романе была «мысль народная». Как люди связаны друг с другом? Что позволяет создать сам субъект истории – народ? Люди связаны, спаяны посредством чувства, посредством женского начала. Поэтому стихия народная предстает как сфера национальной психологии, коллективного бессознательного, с которым тесно связано личное бессознательное. Культ личности, европейский культ личности, основанный на культе ума, просто органически неприемлем для романа. Толстого интересуют личности, стремящиеся к тому, чтобы перестать быть личностями, отрицающие свою самость, легко совместимые со стихией народной. По этой причине в романе нет главного героя, персоны, на которую «завязана» вся проблематика романа (как это было в «Евгении Онегине»). Культ чувств, души, психики, культ человека комического, задающий тон и пафос эпопее, невозможно привязать к персоне и этим исчерпать проблематику, ибо душа как феномен природный, вселенский есть атрибут «мира», но не отдельной личности. Вот почему всюду, всюду в романе мы сталкиваемся с «диалектикой души», т.е. диалектикой «бессознательного» и «глупости, претендующей на ум». Бессознательное выступает в качестве активного, ведущего члена противоречия и обеспечивает поступательное движение личности, семьи, народа, истории, мира. Все сферы души увязаны в единый «мирный» и «мировой» узел. Мир Л.Н. Толстого скреплён душой. И все же мы изменили бы принципу «в научном исследовании истина превыше всего», если бы, в соответствии с законом, определяющим диалектику сознания, не акцентировали момент, противоположный вышеизложенному (ничего не поделаешь: полнота истины складывается из противоположностей). Мы не отрекаемся: понять Толстого – значит развеять миф о Толстом, понять его культурное значение – значит уяснить его заблуждения. Однако заблуждения Толстого относительно человека базировались на исключительно глубоком понимании (здесь нет оговорки) человека. Чтобы в полной мере осознать величие культурного подвига Толстого и его заслуги перед собственно мышлением, следует отдавать себе отчёт, какую грозную, далеко не академическую опасность несёт в себе развенчанный Толстым в пух и прах тип одномерной рассудочности. Толстой одним из первых в мировой культуре почувствовал угрозу, таящуюся в европейской ментальности, уже доказавшей свою исключительную 175 эффективность в деле преобразования мира. Толстой – и это вызывает бесконечное восхищение и уважение – принципиально и недвусмысленно (т.е. в научном ключе) подчеркнул, что отличие западноевропейцев от русских по линии менталитета заключается в том, что русские обладают потрясающим чутьём на присутствие противоречия, чувством того, что мир соткан из противоречий. Их, русских, мерцающий, асцеллирующий, сомневающийся, нежёсткий, гибкий, не склонный к категоричной однозначности ум зачастую куда более адекватен реальности, нежели бюргерский, практический, одномерно-линейный, нечуткий к сложности жизни, а потому ничтожный в культурном отношении умишко. Ум практический обеспечивает примитивное целеполагание и доводит до совершенства технологию осуществления заданных целей. Тотальный культ порядка – это более чем неверное, с позиций диалектики, мышление; это прямой путь к культурному «гулагу», это смерть началу творческому. Одномерность мышления, заблокированного от чувства диалектичности мира, есть классическое культурное хамство. Такой однобокий, догматический ум всегда чреват угрозой неверно отражаемому миру, и если такого рода ум определяет параметры цивилизации – а сегодня так оно и есть – то цивилизация заражена вирусом самоуничтожения. Способ действия такого ума Толстой пророчески точно и глубоко увязал с войной, не конкретно с войной 1812 года, а с войной вообще, с войной как способом культурного воздействия на народы недостаточно просвещенные, а потому менее сильные. «Сила есть ума не надо» превращается в доктрину «сила есть свидетельство ума». Ум, направленный на порабощение, подавление, закабаление (техникоэкономическое или военно-политическое – это уже решает прагматический ум) тех, кто подобным умом не обладает – вот закон современной западной цивилизации. Отсюда: не в силе (не в догматическом уме) бог, а в правде (в том, что более совершенно, по сравнению с грубой силой, отражает реальность). Ничего удивительного в том, что обе мировые войны затеяли «культурные» европейцы – нет; будет удивительно, если они не начнут третью. А чтобы не начать её, надо будет принять к сведению в качестве культурной профилактики роман русского писателя «Война и мир». Я ни в коем случае не подвергаю сомнению целесообразность культурной эволюции в сторону Запада, в сторону умения мыслить; однако я не только не отождествляю умение мыслить с одномерной рассудочностью, но и противопоставляю их друг другу. Дело в том, что такого рода рассудочность есть разновидность насилия над реальностью. В чём-то отрицая субъективный произвол моделирующего мышления, доктринёрское сознание смыкается с ним по результату: реальность отражается неверно, тенденциозно – в одном случае реальность замещается желанной картиной мира по технологии воображения (вижу не то, что есть, а то, что хочу видеть), в другом происходит подгонка «мира» под умственно-рожденную доктрину (вижу не то, что есть и не то, что хочу видеть, а то, что должно быть). 176 Толстой избрал первый вариант (и как художник он был вполне в русле культурной традиции), но зато как же реалистично и дальновидно он развенчал вариант второй, показав его антигуманную сущность, радикальную нестыковку с творчески-психической природой живого человека. Разумеется, личная честность Толстого и его благородная «воля к сомнению» (выражение Б. Рассела) бесспорны, что, впрочем, не помешало ему не замечать кардинальных духовных противоречий иного уровня и порядка. Духовная интенция Толстого промаркирована извечно русским «хотел как лучше». Но благие намерения не всегда ведут к благой цели. Благими намерениями, не подкрепленными мудростью аналитического отношения, как известно, вымощена дорога в ад. Пора спокойно (т.е. научно) отнестись к тому факту, что мир художественной культуры – даже в своих высших, классических образцах – может выступать не только как способ духовного производства, но и (одновременно!) как орудие духовного закабаления и духовной примитивизации личности. Толстой бесстрашно и безжалостно развенчал одни, иррациональные по сути (рациональные только по форме) догмы, чтобы на их место воодрузить другие – уже откровенно иррациональные. Со своим культом «истинной веры» неуёмный правдоискатель столь же опасен и неоднозначен, как и религия, как и моделирующее сознание вообще. Толстой, как ни дико это звучит, мешает стать трезвее, стряхнуть иррациональный дурман и выработать диалектически-рациональный тип духовности. Я ни под каким видом не призываю к «отлучению от Толстого». Я утверждаю (надеюсь, мне удалось доказать объективную истинность этого утверждения), что культура – продукт для разумного (избирательного, критического), а не бездумного потребления. Мы рассмотрели, в основном, «план», концепцию, которая легла в фундамент романа (сколько в этой концепции сознательного, а сколько бессознательного и в каких отношениях они находятся, насколько стимулируют и угнетают друг друга – это отдельный вопрос). На языке научного литературоведения задача исследования может быть сформулирована следующим образом: мы провели целостный (противостоящий анализу) анализ (разложение целостности), сосредоточившись, преимущественно, на творческом методе, который связывает концепцию личности (план содержания) и стиль (план выражения). Мы исследовали творческий метод со стороны его обусловленности концепцией личности, ядро которой составляет система духовных ценностей (отсюда – вечные и пресловутые поиски «смысла» героями). Гораздо меньше внимания мы уделили тому, как метод отразился в стиле, как метод определил поэтику романа (хотя характерные черты поэтики – система персонажеобразования вокруг конфликта определенного типа, принципы сюжетосложения, архитектоника, композиция, функции деталей предметных и речевых, поэтика имен и т.д. – так или иначе, в той или иной связи были затронуты); такой аспект – тема отдельного исследования. 177 В заключение – последний парадокс Толстого, который и сам был мастером не слишком глубоких парадоксов, но неизменно становился жертвой парадоксов глобальных: такова ирония истории, из которой пытались вычеркнуть всего лишь личность (незамеченный полноправный субъект истории). Концепция Толстого, при всей свойственной ей идеологии жизнелюбия и ненависти к схематизму, оказалась гораздо более схематична, нежели концепция Пушкина (в которой разуму отводилось не последнее место). Толстой грешил именно тем, против чего так мудро выступал – грешил одномерной рассудочностью. Диалектически насыщенные моменты у Толстого, как уже было отмечено, связаны с диалектикой души, а не души и сознания, что только и обеспечивает подлинное, несхематическое единство мира, подлинную органику, органику высшего порядка. Человеческий мир Толстого крепится на одной опоре; вторая же, умственная опора, искусственно убирается, что и придает поразительному по естественности миру Толстого заданность и схематизм. У Пушкина получилась «воздушная громада», т.е. громада реальная, производящая впечатление воздушности; у Толстого – «воздушная громада» наоборот: впечатление громады при легковесной воздушности идей. Получилась, так сказать, воздушная громадность или громадная воздушность. Толстой с впечатляющей полнотой и мощью эпопейно воспел односторонний, «моделирующий» взгляд на двусторонние отношения «рефлектирующего» и «моделирующего» типов сознания. Это эпопея о победе не русских над французами, а искушенного диалектикой «сердца» над извечным противником – кичливым «умом». Горе – от ума, а без ума – счастье: вот формула Толстого. Вся мощь гениального художественного ума была обрушена на ум научно-логический, и последний был признан в человеческом отношении наихудшим из зол. Следует согласиться, что в этом выразилась своего рода вечная правота человека. На этом основании «Войну и мир» можно рассматривать как могучее завершение допушкинского этапа в развитии не только русской, но и всей мировой литературы, а «Евгения Онегина» – как столь же могучее начало этапа нового. У вечной проблемы, которая волновала и Пушкина, и Толстого, и Достоевского, и Чехова, существуют разные варианты вечных решений, в зависимости от того, от чего отталкивается стратегия решения: от ума или от психики. Уже сам тип названия произведений отражает тип мышления. Одно дело «Пир во время чумы», и совсем другое – «Война и мир», «Преступление и наказание», «Отцы и дети»... Жизнь в принципе возможна только как пир души во время эпидемии умственной чумы (впрочем, справедливо и обратное): «так нас природа сотворила, к противуречию склонна». Если же мы загоняем себя в тупик ложной альтернативы: или пир – или чума, мы идем супротив природы и нормы. Проблема в том, что «противуречие» вмешивается и в мышление. В 178 результате мы имеем противоречивую (нормальную) ситуацию, которая смущает тех, кто мыслит по допотопной технологии, «группируя события» и «делая выводы»; нормально мыслят избранные, единицы, а все остальные (имя им – легион), народ и народы, нормально не дотягивают до нормального уровня. Нормальная ситуация, где или сойдешь с ума (выработаешь иммунитет против ума, как против чумной заразы) – или начнешь мыслить. Ошибка мыслящих от психики предопределена их наивной убежденностью в том, что надо постигать мир, наделенный, якобы, присущими ему законами (выводимыми, якобы, из мира, имманентными миру), а не законами законов: законами мышления. Законы как бы сами по себе «выводятся» из мира. На самом деле зависимость мира и имманентных ему законов более сложная, чем это видится не мудрствующим мыслителям. Каково мышление – таков и объект: и мир, и человек. Ошибочно полагать, что мышление всегда правильно и неизменно, а действительная сложность таится в «непостигаемом» мире. Если мир непостижим – то «виноват» в этом, якобы, мир, а не мышление. Обратная связь между законами и законами законов – это тоже часть мира. Но законы законов – мало кому интересны, а те, кому они интересны, обречены на горе от ума. К счастью, это достойно сожаления (или: к сожалению, это достойно восхищения). Вполне вероятно, что подобная логика мышления – от ума – будет определять специфику искусства в будущем, ибо прогресс искусства определяется развитием не моделирующего, а именно рефлектирующего мышления в составе мышления художественного. Это будет новый реализм, реализм тотальной диалектики. Нормально (это значит: может быть, и хорошо, и плохо, в зависимости от ценностного контекста) воевать ради мира и хотеть мира, подталкивая к войне; нормально, когда оказывается преступным наказывать за преступление, нормально совершать преступления, чтобы избежать наказания... Картина мира – есть детище отношений. Другое мышление устанавливает связь других отношений. В результате возникают другие качества, другая наполненность категории. Человек меняет мир не меньше, чем мир меняет человека, и это объясняет всё; потребность же в высшем разуме просто отпадает. Война и мир, преступление и наказание, отцы и дети – это тип мышления, отражающий достижения вчерашнего дня; но достижения эти недосягаемы и нетленны и сегодня, и всегда. 179 3.2. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА ГОЛОВИНА Повесть Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» является подлинным шедевром мировой реалистической прозы. Полагаем, что это именно повесть, а не рассказ. У нас будет больше оснований для ответа на этот вопрос ближе к концу анализа. Начинать целостный эстетический анализ произведения следует с метода. Поскольку метод всегда реализуется в стиле, анализ метода будет одновременно анализом стиля. Но вот в чем конкретно увидеть «зерно метода», т.е. ключевое понятие, выражение, сцену, характеризующих метод произведения, – это всегда исследовательская проблема. В самом начале произведения мы узнаем, что Иван Ильич умер. Он прожил жизнь, ничем особо не примечательную – как все. Именно эти самые обычные слова являются для повести ключевыми. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная..». (Здесь и далее все слова в тексте выделены мной – А.А.) В начале повести Толстой всячески подчеркивает типичность происходившего. «... самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех , узнавших про нее, как всегда , чувство радости о том, что умер он, а не я». То, что все происходит как обычно, как всегда – принципиально важно. Из этого будет проистекать основной принцип обусловленности поведения главного героя (да и почти всех других героев тоже). Сослуживец Ивана Ильича приехал на панихиду: «Петр Иванович вошел, как всегда это бывает , с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает». «Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело... и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб..». «Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов , лицо его было красивее, главное – значительнее, чем оно было у живого». Мотив «как всегда» и «как у всех» проходит через всю повесть – вплоть до духовного кризиса, когда Иван Ильич вынужден был индивидуально решать свою проблему. Мотив этот достигает своей кульминации тогда, когда Иван Ильич получает новое назначение, переезжает из провинции в столицу, устраивается на новой квартире. Ему кажется, что вот тут-то он и выделился понастоящему. «В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее – все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему это казалось чем-то особенным». Стремление быть «как все», быть похожим «на всех» («на всех людей 180 известного рода», т.е. на более богатых и вышестоящих) – вот главный принцип обусловленности поведения Ивана Ильича. Итак, точка опоры найдена. В чем заключается особый интерес того, что совершалось «как всегда», будет видно позднее, а сейчас отметим еще одну стилевую особенность, чрезвычайно усиливающую, сознательно концентрирующую типичность происходящего: поэтику имен повести. Прежде всего отметим, что либо имя, либо отчество, либо фамилия Ивана Ильича Головина так или иначе связаны с именами всех действующих лиц повести. «Сотоварищи» Ивана Ильича: Иван Егорович Шебек, Петр Иванович, Фёдор Васильевич. Последний, казалось бы, не имеет «ничего общего» с именем главного героя. Однако Толстой выявляет скрытую связь «сотоварищей»: дело в том, что жену Ивана Ильича зовут Прасковья Фёдоровна (в девичестве Михель). Поэтому Фёдор Васильевич отнюдь не выпадает из тесного круга живущих «как все». В начале повести мелькают – однажды – фамилии господ, претендующих на места, освободившиеся вследствие перемещений, вызванных смертью Ивана Ильича Головина: Винников, Штабель. Фамилия первого содержит часть фамилии Головина ( Винников), фамилия второго напоминает девичью фамилию жены Головина. Во время самого сильного служебного кризиса решающее влияние на карьеру Ивана Ильича оказали друзья и покровители. «Взлет» Ивана Ильича чрезвычайно напоминает карьеру Винникова или Штабеля. «В Курске подсел в первый класс (все перечисленные до этого момента и далее господа принадлежат к первому, лучшему классу А.А.). Ф.С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семёновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Ивановича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу». Иван Ильич был вторым сыном такого же крупного, как впоследствии и он сам, чиновника тайного советника Ильи Ефимовича Головина. Старший сын, Дмитрий Ильич, «делал такую же карьеру, как и отец»; младший, Владимир Ильич, был неудачник, т.е. не как все известного рода люди: «в разных местах напортил себе и теперь служил по железным дорогам» (т.е. все же был чиновником). Сестра, Екатерина Ильинична, «была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть». Самый, казалось бы, экзотический «барон Греф» по сути дела оказывается родственником Ивана Ильича и таким же чиновником. 181 У Ивана Ильича – трое детей: Елизавета Ивановна, Павел Иванович и Василий Иванович. За Елизаветой Ивановной ухаживает Фёдор Дмитриевич Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева. Будущий зять Ивана Ильича – судебный следователь, т.е. буквально идет по стопам будущего тестя. Можно было бы перебрать действительно всех персонажей повести и обнаружить неслучайность их имен. Но и сказанного вполне достаточно, чтобы резюмировать: сходство, совпадение, внутренняя рифмовка имен подчеркивает сходство Ивана Ильича со всеми остальными. Все остальные – те же иваны ильичи, и достаточно понять одного Ивана Ильича, чтобы понять всех. Не случайно имя Иван является почти нарицательным по отношению к русским. Кроме «объединительного» кода в поэтике имен просматривается и социальный код: уже название произведения «Смерть Ивана Ильича» оппозиционно таким возможным вариантам названия, как «Смерть чиновника» или «Смерть Головина». Подобное обращение – Иван Ильич узаконено среди людей, ездящих в первом классе, влияющих на судьбы России. Перед нами история жизни и смерти чиновника, становящегося человеком, но несущего на себе родимые пятна своей среды, своего круга. Перед нами история человека лучшего, высшего, избранного общества. (Кстати, прототипом героя повести послужил Иван Ильич Мечников, прокурор Тульского окружного суда, скончавшийся от тяжелого заболевания). На этом фоне особняком стоит имя одного персонажа – молодого буфетного мужика Герасима. (Имя Петра-лакея, тоже употребляемое без отчества, во-первых, не уникально, а во-вторых, легко трансформируется в отчества и фамилии благородных господ (например, в фамилию жениха Елизаветы Ивановны). Имя Герасима попросту невозможно представить в среде ивановичей и ильичей). С какой целью Толстой выделяет этот персонаж мы поговорим позднее. Есть и иные смысловые коды в поэтике имен. Так имя Иван (Иоанн) в переводе с древнееврейского означает: Бог милостив; Илья (Илия) переводится следующим образом: Иегова есть Бог. «Божественный» подтекст имениотчества главного героя станет вполне ясен в финале повести. А сейчас вернёмся в основное русло и продолжим нить рассуждений: зачем Толстому понадобилось обратиться к «самой простой и обыкновенной жизни» – жизни, которой живут все «лучшие» люди России, образованные, культурные? И что означает: жить как все? Дело в том, что: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная». Жизнь, которой живут все – причем, избранные все – ужасна, порочна в своей основе – вот что является главным «предметом» Толстого. Сразу же обратим внимание: из только что полностью процитированной фразы явственно виден «указующий перст» того, кто взял на себя право, смелость и ответственность судить о том, что является подлинным добром и 182 злом для человека. Перст этот – постоянно, демонстративно указующий – принадлежит повествователю, образу автора, который в этой повести, вероятно, во многом напоминает самого позднего Толстого. Дидактическая, наставительная, почти библейская интонация необходима Толстому для создания и оценки требуемой концепции личности. Как же изображает Толстой «обыкновенную» и в то же время «ужасную» жизнь личности? Для того, чтобы отобразить заурядную, рутинную, ничем особо не примечательную жизнь, Толстой избирает чрезвычайно оригинальный, емкий, соответствующий сразу всем художественным задачам стилевой прием: писатель сосредотачивается не на отдельных сценах семейной, служебной и прочей жизни, а на ключевых нравственно-психологических механизмах, определяющих закономерности соответствующей стороны жизни. Механизм поведения как таковой интересует повествователя. Несколько звеньев механизмов – вот и все, что считает важным и нужным сообщить повествователь о всей жизни своего героя – до того момента, пока сам смысл и способ такой жизни не довели героя до гибели. Но затем при помощи этих же механизмов Толстой показывает процесс умирания – и одновременно превращение этого процесса в процесс нравственного оживания. В конечном итоге, смерть Ивана Ильича оборачивается торжеством жизни над смертью, духовного над телесным. Обратим внимание: одни и те же психологические механизмы реализуют разные духовные задачи. Смысл приема еще и в том, чтобы подчеркнуть противоречивое единство человека, показать: в нем есть все, чтобы быть кем угодно. И то, кем человек становится, зависит от многих причин, но прежде всего – от него самого. Толстой, дав человеку все, возлагает на него ответственность за то, кем тот решается быть. Вот почему в первой главе лицо покойного Ивана Ильича «было красивее, главное – значительнее, чем оно было у живого». В лице отражен результат происшедшей напряжённейшей внутренней борьбы. «На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым». Однако Петр Иванович не захотел вдуматься в смысл упрека или напоминания. Круг замкнулся. И следующий «ильич» будет так же в одиночку сражаться со смертью, а жизнь его будет по-прежнему «простой, обыкновенной и ужасной». В том и заключается сверхзадача повествователя (а с ним и автора), чтобы помочь разорвать этот порочный круг, что бы тайно пережитую трагедию сделать явной – и тем самым попытаться спасти живых людей при помощи «искусственного», «рукотворного» произведения. Духовная сверхзадача Толстого представлена в художественной форме. И только эстетический анализ повести поможет выявить ее многогранную духовную содержательность. 183 Итак, проследим за кругами ада Ивана Ильича. Наш герой с самого начала жил как все: «легко, приятно и прилично». При этом он строго исполнял «то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми». Таким образом, выполнять долг – и означало жить «легко, приятно и прилично». Со временем Иван Ильич стал думать, что этот «характер жизни» «свойственен жизни вообще», а не только его жизни. Такое отношение к «долгу» (к АИ) характерно для сатирических героев. Иван Ильич и есть вплоть до пятой главы (почти половину повести) герой преимущественно сатирический (местами сатира переходит даже в комическую иронию – см. начало третьей главы). Таким образом, творческий метод повести Толстого заключается в том, чтобы показать героя, стремящегося жить «как все известного рода люди» (а именно: жить легко, приятно и прилично) и в то же время показать сатирическую суть такой программы. Жить как все – значит взять правила жизни из конкретного социума и в этом же социуме в соответствии со своими индивидуальными особенностями попытаться их применить, вырабатывая попутно «несокрушимую» оправдательную идеологию. Иными словами, перед нами вариант реалистической обусловленности поведения, вариант реализма. Именно для того, чтобы реализовать такую мировоззренческую программу персонажа и одновременно оценить ее как сатирическую и понадобились Толстому «механизмы» (так перебрасывается мостик к стилю). Повествователь сухо, «протокольно» излагает канву жизни Ивана Ильича начиная с учебы в Правоведении. Сама манера изложения как бы намекает на то, что мы имеем дело если не с подсудимым, то по крайней мере с человеком, совершившим тяжкие проступки. По иронии судьбы (а от ее авторитарного возмездия герою, как известно, не уйти), подсудимый Иван Ильич сам оказывается рьяным слугой закона – судьей. (Вспомним: не судите, да не судимы будете). Перед нами – механизм становления юноши Ивана Головина в Правоведении; механизм начала карьеры в провинции; механизм превращения молодого юриста в матерого чиновника, опытного служивого зубра; механизм женитьбы Ивана Ильича на девице Прасковье Федоровне из ложно понятого чувства долга, а не из нравственной потребности; механизм притирки на начальной стадии супружеской жизни; механизм выработки стратегии служебного рвения под влиянием семейных невзгод. Все это – во второй главе (всего в повести глав – двенадцать). Третья глава начинается следующим образом: «Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы». До 1880 года. В этом году Иван Ильич получил неожиданно крупное повышение. В начале 1882 года Иван Ильич умирает в возрасте сорока пяти лет. Иными словами, во второй главе изложена почти вся история жизни – скудной, действительно «ужасной», недостойной человека. 184 Прозрения могло и не наступить: если судить по концепции, определяющей поведение героя, он бы мирно дожил до старости, повторив судьбу отца. Однако в соответствии с неким законом высшей справедливости (по иронии судьбы) все, накопленное, нажитое героем, оборачивается против него. Закон высшей справедливости это тот принцип, обуславливающий поведение и судьбу людей, который исповедует повествователь, но не сам Иван Ильич; и это та необходимая моральная высота, которая позволяет повествователю «право иметь», чтобы так сурово отнестись к «иванам ильичам». Так сознание Ивана Ильича просвечивает сквозь сознание повествователя. Смертельное заболевание Ивана Ильича начинается с «обыкновенного», но «ужасного», как потом выяснится, ушиба: он ударился о те самые вещи, которые так упорно наживал, чтобы быть как все. Этот сюжетный ход как раз и «доказывает правоту» повествователя. Однако содержание повести гораздо глубже, философичнее. Оно не ограничивается критическим отрицанием элементарной программы человеческого существования, но показывает духовный переворот, ведущий к нравственному прозрению, к Истине. И тут избранный Толстым метод обнаруживает фантастические художественные возможности. Толстой не только не отказывается от избранного метода, но, напротив, еще более сосредотачивается на механизмах – но на каких!: на механизмах начала нравственно-психологического кризиса, его развития, кульминации и, наконец, разрешения. Толстому это необходимо ещё и вот по какой причине: избранная стилевая доминанта позволяет видеть за жизнью, подобной смерти, и смертью, возвращающей к жизни, не только смерть и жизнь конкретного Ивана Ильича, и не только жизнь и смерть ивановичей и ильичей, но человека вообще, человека как такового. Все индивидуальные национальные, социальные, психологические признаки личности и характера Ивана Ильича работают на выявление общечеловеческой сути, на выявление логики жизни и смерти человека. Именно поэтому перед нами механизмы функционирования чиновника, семьянина, механизмы семейных конфликтов, механизм болезни (причем, на различных ее стадиях: начальной, в развитии и конечной); механизм умирания, нравственного прозрения, лечения, отношения окружающих к смертельно больному и т.д. Перед нами – архетипы всех перечисленных ситуаций и архетипы поведения в них человека, живущего «по лжи». Остановимся на типичном примере такого механизма. Вот как повествователь анализирует наиболее общие причины семейных конфликтов в семье Головиных после начала болезни Ивана Ильича: «И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был 185 такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастие ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтобы он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение». Повествователь неутомимо обобщает, стремится указать общие причины, закономерности поведения. Перед нами нет ни одной конкретной сцены; перед нами суть того, что происходит обычно на той или иной стадии того или иного процесса. Аналитизм повествователя порой доходит до того, что он вообще убирает перечень конкретных причин (вроде испорченной посуды, локтя сына на столе, прически дочери) и полностью сосредотачивается на том, как это происходит, на самом механизме: «Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т.д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей – блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой». Нам воспроизвели логику доктора, не желающего видеть реальность уклоняющегося от неё, потому что констатация реального факта влечёт за собой не «легкое и приятное» исполнение обязанностей, а нелегкий и неприятный труд души. Механизмы, о которых идет речь, – психологические. Это классические образцы типично толстовского психологизма. Психологическая динамика (см. состояние Прасковьи Федоровны в конце первого приведенного отрывка) прописана скурпулезно и безукоризненно точно. Взаимодействие и 186 взаимообусловленность сознания и подсознания, сознания и собственно психических сфер показаны блестяще. Однако не сами по себе психологические закономерности интересуют повествователя и Толстого. Психологизм, как это всегда бывает, реализует иные стоящие за ним ценности и идеалы. Точный психологический анализ всякий раз позволяет вскрыть ложь поведения людей, несовпадение их мыслей и действий, мыслей и желаний. В этом – цель и смысл психологизма Толстого. Иван Ильич лжет, обвиняя во всех своих бедах Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна еще более лжет (в т.ч. и перед собой), не понимая, да и не желая понимать истинных мотивов своего и мужа состояния. Лжет доктор себе и другим -, не желая вникать в обременительные проблемы умирающего, обходя вопрос о жизни и смерти Ивана Ильича и заменяя его вопросом технологии болезни. Причем (ирония судьбы!), такую же лукавую подмену совершал и Иван Ильич в бытность свою судьей. Продолжим цитирование второго отрывка: «И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-вточь то же, что делал тысячу раз Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора». Механизм общения с подсудимыми (больными) вскрывает ложь поведения судей (докторов). А лгут они с одной целью: чтобы жить «легко, приятно и прилично», обходя вопросы, которые сразу же могут нарушить легкость и приятность бытия. До предела обнажен принцип психологического анализа: несовпадение мотивов с мотивировками, причин – с предлогами, поводами. И путь Ивана Ильича – постепенное осознание окружающей его тотальной лжи и понимание того, что он жил как все – лгал как все. Превратившись из судьи в подсудимого, Иван Ильич не мог не признать ложь, так необходимую судьям, лучшим людям, для их душевного комфорта. «Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича». Можно сделать некоторые предварительные выводы. Логика нравственного прозрения Ивана Ильича, этапы духовного пути героя становятся и эстетической структурой повести. Стилевой доминантой, соответствующей 187 художественным задачам Толстого, не могли стать принципы сюжетосложения: Толстой демонстративно выкладывает все сюжетные секреты вначале, переключая внимание читателей с того, что происходит, на то, как и почему это происходит. Если самая обыкновенная жизнь может быть и самой ужасной – это требует разъяснения и, стало быть, по-своему возбуждает читательское ожидание. Было бы неверным отнести к стилевой доминанте речь и деталь (хотя там, где они употреблены, они использованы виртуозно). Диалогов и монологов сравнительно мало, деталь также не несет основную художественную нагрузку. Это вполне объяснимо: Толстого интересуют не конкретные сцены, где как раз и важны деталь и речь, а архетипы ситуаций. Для воспроизведения нравственно-психологических механизмов Толстому необходима прежде всего повествовательная речь от третьего лица, речь аналитическая, объясняющая, убеждающая, вскрывающая противоречия душевной и духовной жизни. Отсюда «наукообразный» синтаксис, с обилием сложноподчиненных предложений, материализующий причинно-следственные отношения исследуемых явлений. Пафос объяснения, анализа, всевидения явно оказывает решающее воздействие на выбор стилевых средств. Лексика – нейтральна, она не мешает анализу; метафорические возможности речи также стушевываются перед пафосом бесстрастного исследования. Многочисленные начала предложений с союза и поддерживают напряженную «библейскую» интонацию, соответствующую причинно-следственным переходам и сцеплениям. (Кстати, помимо синтаксиса, в повести много смысловых реминисценций из священного писания, служащего, очевидно, нравственной опорой повествователю). Отметим и такую принципиально важную особенность повести: стиль ее гибок и изменчив. Он следует не формальному требованию монолитности и единообразия, но «оживает», фиксируя возвращение к живой (не формальноправильной) жизни Ивана Ильича. Повествователь все чаще начинает уступать место самому Ивану Ильичу в осмыслении им своих невзгод. Нравственная активность, естественно, отражается в стиле. С пятой главы, с моментов решительного прозрения появляются внутренние монологи Ивана Ильича. Они последовательно ведут к основному внутреннему конфликту. Проследим, как конкретно осуществляет это Толстой. В шестой главе повествователь вначале сам объясняет, что происходит в «глубине души» Ивана Ильича: «В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого». Иван Ильич знает, но не понимает. Глубинное сознание отторгает формальное знание, которое становится для первого не более, чем сопутствующей информацией. Далее повествователь берет на себя труд объяснить это противоречие на примере силлогизма из учебника логики: Кай – 188 человек, люди смертны, потому Кай смертен. И Иван Ильич Головин начинает, наконец, жить не формально, руководствоваться не формальной логикой, не только головой , но и душой, чувствами (заметим: еще один, и, конечно, не последний, смысловой код поэтики имен): «И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему». Толстой – гениален. Иван Ильич идет к истине не формально логическим, а чувственно-интуитивным путем. Поэтому и истина Ивана Ильича будет простой, но «неизрекаемой». Ее легче постичь, чем потом объяснить. Посредник между автором (Толстым) и героем постепенно сменяет «гнев на милость». Сатирические интонации по отношению к Ивану Ильичу уступают место трагическим; сам Иван Ильич с высоты почувствованной им истины начинает в душе сатирически обличать «всех». Он становится союзником повествователя, и они как бы на равных участвуют в освещении нравственного переворота в душе главного героя. Монологи Ивана Ильича свидетельствуют о происходящей в нем интенсивной внутренней жизни: «Если бы мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы мне и говорил внутренний голос..». «Внутренний голос» как нечто «более умное» говорил бы «мне» т.е. кто-то «другой» во мне говорил бы «мне»: в Иване Ильиче просыпается голос гуманистической совести. Общение Ивана Ильича с собой – раздвоение его личности, противостояние себя прошлого и себя истинного – будет окончательно формализовано в диалоге с самим собой: «Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем. – Чего тебе нужно? – было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. – Что тебе нужно? Чего тебе нужно? – повторил он себе. – Чего? – Не страдать. Жить, ответил он. И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его. – Жить? Как жить? – спросил голос души. – Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно. – Как ты жил прежде, хорошо и приятно? – спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но – странное дело – все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все – кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом. 189 Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшееся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое». В этом отрывке, помимо всего прочего, следует обратить внимание вот на что. Во-первых, повествователь настойчиво вскрывает тот пласт сознания, который он называет «голос души», говорящий «не звуками» и не «ясными» словами, а неконтролируемым «ходом мыслей». Во-вторых, эта стихия управляла Иваном Ильичом только в детстве – и только в детстве он и был счастлив. Потом он, как и все, был скован доктринами разума. И разум обманул, подвел его: «В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!» Таким образом, замена косвенной речи на монолог, монолога на диалог представляет собой не формальные изыски и приемы, а глубоко мотивированную динамику стиля, отражающую смену принципов обусловленности поведения персонажа и, конечно, динамику пафоса. Иначе говоря, эволюция личности влечет за собой эволюцию метода, а он в свою очередь – стиля. Вполне естественно, главным источником мучения Ивана Ильича стало то, чему он с таким усердием и успехом поклонялся всю жизнь: «Главное мучение Ивана Ильича была ложь, – та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича». Отрывок этот великолепно демонстрирует крен сатирического героя в сторону ГИ и резко критическое отношение к АИ (к «общественному мнению»). Перед нами уже трагический персонаж, попавший в безысходный мировоззренческий тупик. Эмоциональность повествователя, дотоле тщательно маскируемая им под сдержанность, выступает как нравственная поддержка Ивану Ильичу. Здесь их голоса сливаются в унисон. Неожиданную поддержку находит Иван Ильич в Герасиме, ухаживающим за господином. «Утешение» Ивана Ильича состоит в том, что Герасим не лгал. Он понимал, что барин помирает и просто жалел его. Казалось бы, грубоватая констатация факта («все умирать будем») должна была расстроить Ивана Ильича, но все оказалось наоборот. «Приличие» требовало не замечать умирания человека и относиться к нему как ко всем. Такое формальное уравнивание Ивана Ильича со всеми фактически означало невнимание, 190 равнодушие к нему. А Герасим относился к нему как умирающему, и потому жалел его. Герасим и научил Ивана Ильича жалости. Жалость эта не формально, а по существу объединяла людей. Ивану Ильичу, барину, и в голову не пришло обидеться, когда буфетный мужик переходил с ним на «ты», как с равным: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Толстой очень искусно выписывает атмосферу лжи, постоянно окружавшую Ивана Ильича и бесконечно его терзавшую. Вот, возможно наиболее яркий эпизод, состоящий из нескольких композиционных фрагментов. Дочь с женихом собрались ехать в театр смотреть Сарру Бернар. Они вошли к умирающему Ивану Ильичу и завели светский разговор о достоинствах игры знаменитой актрисы. Этот разговор глубоко оскорбил умирающего, и это отразилось на его лице. Все замолкли. «Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась. – Однако, если ехать, (выделено Толстым – А.А.) то пора, сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем. Все встали, простились и уехали». «Если ехать» – означает: если жить по прежним правилам, то следует ехать. А если разоблачить ложь, то надо забыть о легкости и приятности жизни и никуда не ехать, а вести себя как-то иначе с умирающим. Выбор был сделан: все уехали в театр. (Тут уместно сделать небольшое отступление – «вылазку» непосредственно в реальность. Известно отношение Толстого к условному театру. Он считал нереалистическое искусство фальшью и ложью. И то, что умирающего бросили со своими действительно грандиозными реальными духовными проблемами, променяв его на театр, на фальшь и ложь, которые так ненавидит Иван Ильич, вносит дополнительные смысловые оттенки в сюжетный ход, в поведение персонажей и в оценку их поведения. Однако если оставаться только в границах текста и отвлечься от субъективного толстовского отношения к театру (на самом деле театр ведь не обязательно ложь), то мы должны констатировать: Ивану Ильичу предпочли театр – иллюзию жизни (но не ложь!). Только этот подтекст прочитывается в тексте. Отождествлять личность писателя и образ автора – недопустимо. Это ведет просто-напросто к подмене художественного мира – реальным. Исследуя произведение, не всегда корректно ссылаться на личность писателя. Апелляция к скрытым субъективным, авторским смыслам, а не к смыслам объективным, видимым всем без предварительного знакомства с биографией и личностью Толстого, грозит перевести анализ в произвольную интерпретацию текста. Но с другой стороны, квалифицированная интерпретация может помочь увидеть действительно неявные смыслы, которые 191 способны обогатить восприятие конкретного художественного текста, не искажая при этом его. Такая интерпретация должна дополнять анализ, но не подменять его. Трактовка произведения сквозь личность Толстого не входит в задачи нашего анализа). Перед нами типично толстовский психологический диалог с пространным аналитическим комментарием, который позволяет видеть за репликой гораздо более того, что она формально содержит. Но обратим внимание: мы стали свидетелями конкретной сцены – в своей единичности и уникальности. Не общий механизм обиды на равнодушие окружающих интересует здесь повествователя, а именно отдельная сцена. Вроде бы, речь идет о том же, просто прием другой. На самом деле этот иной прием таит в себе и иные смыслы. Отдельная сцена – по закону образности – воздействует и на читателя, и на героя гораздо эмоциональнее «архитипических» картин. Герой ведь становится все более ранимым; и всех больнее ранят самые близкие люди. (Отметим: вновь скрытая библейская «цитата»). В заключительном эпизоде, после отъезда всех домочадцев в театр, Иван Ильич посылает за чужим мужиком Герасимом. Кроме того, дело идет к смерти, и каждое мгновение жизни становится именно отдельным, неповторимым; мгновения уже не сливаются до неразличимости в один сплошной бесконечный ряд (архетип), а каждое стоит особо. Их уже осталось мало. Это последние капли жизни. Кроме того, эти мгновения становятся этапами быстротечной духовной эволюции. Наконец: каждое мгновение приобретает свое неповторимое лицо, а уж человеку это положено и подавно: вот еще один глубинный смысловой подтекст этой бытовой сценки. Однако на трагических противоречиях не завершается крестный путь бывшего судьи, судившего обо всем так легко и просто. «... ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные его страдания состояли в том, что в эту ночь, (опять конкретное событие – А.А.) глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то». Одно дело – видеть порочность своих прежних идеалов, и совсем иное – решительно отрицать их. Иван Ильич попал в трагический вакуум: былые идеалы изжиты до конца, а новых пока нет. Но уже то, на какой основе отвергается старое, может кое-что сказать о несуществующем пока новом. Иван Ильич сводит счеты со старым, глядя на лицо Герасима. И сама постановка вопроса по-герасимовски проста, стилизована под нерефлектирующую народную мудрость: «а что, как и в самом деле вся моя жизнь (...) была «не то». 192 Летописец жизни Ивана Ильича бесстрастно, возвращаясь к первоначальной манере, констатирует: как только Иван Ильич сказал себе, что было «не то», «поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой погибели». Вот он новый – и последний порочный круг, в который попал Иван Ильич: отсутствие перспективы, позитивной программы, признание полного жизненного краха заставляют ненавидеть себя и «всех»; ненависть порождает физические страдания, а вместе с ними и идею смерти, т.е. бессмысленности всего происходящего, – впечатления, возникающего от отсутствия перспективы. «Сознательно», головным путем, путем рациональных выкладок и обоснований круг, очевидно, было не разомкнуть. Во всяком случае, ни повествователь, ни Иван Ильич не видели в этом направлении никаких перспектив. Очевидно так же, не видел их и автор. (Толстой не дал в этой повести повода принципиально размежеваться с повествователем; последний очень напоминает рупор идей автора). Бессилие разума актуализирует животное начало в человеке. Единственный раз в повести на первый план выступает фонетический уровень текста: «У! У! У! – кричал он (Иван Ильич – А.А.) на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» – и так продолжал кричать на букву «у». Казалось, из трагического противоречия выхода нет и не может быть (в предлагаемой системе отсчета). Но бессилие разума в нематериалистической системе ориентации означает вселение чего-то другого. Когда все было учтено, и разум не мог подсказать достойного выхода из трагического тупика, Головин терпит последнее – и спасительное! – поражение. «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то». Иван Ильич попытался «рационализировать» свет в конце дыры». – Да, все было не то. (...) Что ж «то»? – спросил он себя и вдруг затих». Вместо ответа он «почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. (...) Ему стало жалко ее». Очень непростой финал повести опять же требует прежде всего филологического, эстетического комментария, без которого не ясен будет финал духовный. Итак, Ивану Ильичу «открылось, что жизнь его была не то»; ему «стало жалко»; «вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон». Безличные конструкции подчеркивают иррациональность, непостижимость произошедшего (вдруг!). Синтаксис предельно упрощается: аналитическая вычурность, отражая неуместность рационального, редуцируется до немногословной, прямо скажем, неземной, мудрости. Сам повествователь словно бы стушевался: он «вдруг» из активного персонажа превратился в статиста, «просто» передающего логику событий там, где без него не обойтись. 193 Он словно онемел и вроде бы немотивированно отказался от своего до этого момента безжалостного комментария. Повествователь уступил место тому, что ни в каких комментариях не нуждается, да и никакими комментариями не объяснимо. Разум капитулировал перед чудом сверхъестественного обновления, прикосновения к непостижимой истине. Естественно, боль сразу же утихла. «Вместо смерти был свет». Иван Ильич умирает с радостью, отрицающей ужас смерти. Радость от воспринятой «откуда-то» истины. А истина состоит в том, что Иван Ильич, наконец, отвергает бездуховную ориентацию (жить легко, приятно и прилично) и познает такую жизнь (пусть на мгновение), после которой и умирать не страшно. «Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер». Он умер на половине вздоха, задышав полной грудью. Но если один Иван Ильич смог победить смерть (точнее: нашел рецепт победы), то все остальные наверняка смогут рано или поздно нравственно ее преодолеть. Иван Ильич умирает как герой, утверждая АИ, а вместе с ними ту инстанцию, которая ему их подарила. «Жалко их, (людей, «всех») надо сделать так, чтобы им не больно было». Трагизм разрешается в героику – вот откуда такой «светлый» финал. Это, конечно, героика религиозного, жертвенного, сострадательного типа. Но художественная логика произведения – не линейная, одномерная логика. Последняя точка может и не совпадать с истинным финалом. Архитектоника повести во многом заставляет подкорректировать финал. Первая глава повести, по существу, есть и последняя глава, т.е. тринадцатая. По крайней мере, хронологически; а хронологический принцип сюжетосложения в этой повести совпадает с концентрическим. Толстой и формально, и по существу замыкает круг повести: композиционный и смысловой. Думается, теперь ясно, почему это повесть, а не рассказ. Перед нами в деталях, по фазам прослежен процесс созревания, развития и разрешения противоречия, тогда как рассказу важна демонстрация противоречия. Гроб с телом героя, у которого на лице последняя печать торжества над смертью, окружают сатирические персонажи. Нравственный опыт героя не востребован ими, не нужен им. Вещи по-прежнему показывают свою цепкую власть над хозяевами; и повествователь по-прежнему смеется горьким сатирическим смехом (настолько горьким, что почти не смешно) над близкими и сотоварищами достойно усопшего: «Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и 194 проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать». Перед нами самый настоящий бунт вещей – бунт против бесконечной, никогда не прекращающейся лжи и в мелочах, и в самых важных вопросах жизни. Именно такой бунт привел к гибели Ивана Ильича. Повествователь подчеркивает, что даже бездушные вещи не в состоянии вынести невиданного глумления человека над своей собственной природой. Начало повести, как ни странно, изрядно омрачает ее оптимистический финал. Но у начала всегда есть конец – оптимистический, как мы помним, конец. Диалектическое совмещение в человеке противоположных начал и невозможность победы без привкуса горечи – такой подход к жизни и человеку позволяет Толстому создать гениальный реалистический шедевр. В финале двенадцатой главы Иван Ильич умирает уже без имени, без фамилии и без отчества. Начиная с того момента, как «Иван Ильич провалился, увидал свет», он перестал быть Иваном Ильичом Головиным. Он будет назван еще тридцать три раза, но только при помощи, главным образом, личных местоимений (преимущественно третьего лица) в разных падежах. Он стал просто человеком, всечеловеком, умершим за всех остальных людей. Параллель с Иисусом Христом здесь очевидна. Однако смысл финала (и всей повести) шире однозначных истолкований. Неправомерно интерпретировать реалистическую повесть Толстого только в религиозном плане (личная религиозность автора не может выступать здесь как решающий аргумент), или только в социологическом, или каком-либо ином «отдельно взятом» плане. Принципиальная поливариантность трактовок – непременное условие истинно художественного произведения, в этом нет ничего удивительного. Конечно, мы выбираем какую-то одну систему отсчета, в которой разные планы увязаны друг с другом, иерархически организованы, в которой более «важные» планы поглощают планы второстепенные. И в этом смысле наша трактовка является монотрактовкой. Однако сама проблема выбора трактовки (посредством целостного анализа!) возникает только потому, что писатель сумел показать объективную сложность личности, понятую и отраженную реалистически. Причем, объективная сложность личности может быть отражена более глубоко, чем это субъективно представлялось автору. Нас ведь интересует объективная художественная ценность произведения, а не субъективная авторская интерпретация его. 195 Главное заключается в том, что залогом высочайшего художественного уровня повести стала смелая и честная попытка Толстого разрешить кардинальные «экзистенциальные дихотомии» человека. Толстой именно переживает мысли, а не смутно живописует словом. И концепция его оборачивается оригинальным вариантом реалистического стиля. Разумеется, целостный эстетический анализ повести Толстого может быть и иным. Но если это будет целостный эстетический анализ, он непременно будет включать в себя анализ понятий концепция личности, метод, стиль. Наконец, последнее. Данное исследование поэтики и идейного потенциала произведения никак не может претендовать на исчерпывающее постижение шедевра Толстого. Нам важно было указать на отстаиваемый способ исследования поэтики. Дальнейшее изучение произведения требует последовательного расширения контекстов. Максимально полно произведение может быть изучено только тогда, когда мы осознаем его как момент целостностей иных уровней и порядков. Повесть «Смерть Ивана Ильича» одновременно является: * моментом творческой и духовной биографии писателя; * моментом русской классической литературы определенного этапа ее развития; * моментом русской литературы в целом; * моментом реализма как величайшей русской, европейской и мировой художественной системы; * шедевром мировой литературы в целом; * моментом духовной жизни русского общества конкретного периода; * образцом действенной воспитательной мощи произведения; * и т.д. и т.д. Каждая форма общественного сознания может предложить свой набор контекстов. Все это можно и нужно видеть в повести Толстого. Однако это уже задача исследования иных контекстов, иных целостных образований, с иными целями. Практически смыслы данного произведения – неисчерпаемы, как и смыслы всех значительных произведений искусства. Вполне понятно, что замечания о специфике целостного анализа в полной мере относятся и к следующему разбираемому произведению. 196 ЧАСТЬ 4. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 4.1. ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ (роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в свете целостного анализа) 1 Для разговора о Ф.М. Достоевском, одном из самых ярких и влиятельных русских писателей, уже создан необходимый теоретический контекст. Мы уже знакомы с функциями моделирующего и рефлектирующего сознания, мы познакомились с версиями Пушкина и Л. Толстого, а также с научной версией по поводу их художественных версий. То же самое нам предстоит сделать в отношении Достоевского. Принципы нашего анализа – неизменны, зато материал, подлежащий осмыслению, поражает своей броской оригинальностью. Так называемая «достоевщина» (употребляю это расхожее, надо признать, меткое определение не как ярлык с негативно окрашенной семантикой, а как совокупность качеств и свойств, присущих моделям писателя, как обозначение характерно достоевских идей и переживаний; отношение же к достоевщине – не личное наше пристрастие (личное пристрастие – это личные проблемы), а отношение, вытекающее из предлагаемого методологического подхода – мы будем определять не ярлыками, а всей логикой работы) оказала столь заметное воздействие на всю мировую культуру, что от «проклятой достоевщины» невозможно отмахнуться, как это позволили себе, скажем, корифеи эпитетов и метафор Бунин и Набоков. Царственный жест «нравится – не нравится» – это скорая расправа тех, кто не даёт себе труда подумать, кто не в силах преодолеть смутную и порывистую стихию эмоционального отношения, ту же достоевщину. Познавать художника способом художественным же, возможно, и эффектно, не исключено, что порой любопытно, но всегда глупо. Такое «познание» в лучшем случае сгодится как материал для познания «познающего», как, например, речь Достоевского о Пушкине, гораздо более говорящая о субъекте познания, нежели о несчастном объекте. Механизм «достоевщины», при всей его антропологической «навороченности», достаточно прост в своих корнях и истоках. По существу, писатель специализировался на рассогласовании «отражений реальности» с реальностью как таковой, происходящем на поле сугубо психическом. Он пожертвовал духовно-физической гармонией, и даже простой нормальностью человека, дисгармонично выпятив психический компонент личности. Человек Достоевского – это человек переживающий, причём переживающий интенсивно, болезненно, замкнувшись параноидально на пунктике, которому он безо всяких на то объективных оснований склонен придавать чрезвычайное 197 значение. Его героев не интересуют интриги социальных связей, они не получают удовольствия ни от еды, ни от нормальных душевных отношений, ни от любви или эротики, ни от ответственного мышления, они равнодушны к природе и людям – их волнуют и поглощают исключительно утончённые, зашкаливающие за грань нормы психические взлёты и падения, переживания ради переживания. Нездоровую крайность, свойственную, отчасти, всем здоровым людям, Достоевский превратил в свою золотую жилу. Да, эта грань человека по-своему интересна, но главное – все эти фокусы с иррациональным элементарны. Психическая глубина – это псевдоглубина. Картинки и переживания поражают калейдоскопической избыточностью и вместе с тем однообразием «базовых моделей», которые лихорадочно расцвечиваются безудержными фантазиями, при этом неадекватность реальности обескураживающе очевидна. Содержание достоевщины – не реальность, а её психически-виртуальное замещение, поданное с особым, нервным градусом. Импульс надуманных переживаний выдуманных героев – не от реальности, а от первичных впечатлений по поводу реальности; переживания по поводу переживаний, фантомы по поводу фантомов – вот извилистый путь духовных исканий «философов» Достоевского. Реальность достаточно проста, груба и пошла, она не предрасполагает к изощрённому эстетизму, хотя и не отторгает поэтизации как таковой, и даже поощряет здоровую идеализацию, которая приспосабливает к реальности (вспомним в этой связи тех же Пушкина и Л. Толстого). Всякого рода эстетизм всегда является детищем игрового, болезненно-психического отношения к реальности. Такого рода искусство, будь то романтизм или постмодернизм, всегда рождается в результате взаимодействия не с реальностью, не с миром объектов и предметов, а как итог взаимодействия с преодолённой, задвинутой, удалённой – вторичной – реальностью, итог подвига-сдвига воспалённого воображения. Повышенная психичность влечёт за собой концептуальную бессодержательность такого искусства. Оно самим механизмом творчества запрограммировано на легковесность, на абсолютизацию эстетизма, ибо когда нечего выражать, содержанием выражения становится само выражение. Вот почему реализм (то есть искусство, моделирование реальности, ориентированное, вместе с тем, на познавательное отражение объективной действительности) – это больше, чем искусство: это деятельность моделирующего воображения, опирающегося, отчасти, и на противоположное моделирующему, научное отношение. Нереализм (в широком смысле), с точки зрения излагаемой в данной книге теории художественного творчества, представляет собой чистое искусство, то есть собственно психическую деятельность, вырастающую из себя же, а не из реальности. Нет ничего удивительного в том, что реализм Достоевского стал предтечей вовсе «не реалистического» модернизма и постмодернизма. Внимание, уделяемое Достоевским болезненным психическим ощущениям и переживаниям, стало 198 основой, на которой отрицается реальность модернизмом. А другой основы в природе не существует. Вот почему Достоевский по «механизму» замещения реальности близок одновременно и дореалистическому нереализму (тому же романтизму) и постреалистическому сюрреализму (тому же модернизму). Запад и Восток дружно удивляются: сколько всего пакостного и «святого» разглядел Достоевский в душе человека. А чему тут удивляться? Удивления достойна неистребимость реалистической тенденции в искусстве, увенчанной явлением зрелого, классического реализма. Размывание же нормальной, здоровой тенденции – дело банальное. Психопатологические искажения, крайности психического экстремизма – это оборотная сторона отхода от реализма, это цена за утрату нормального, гармоничного склада личности. Если сосредоточиться исключительно на психике, на галлюцинациях, страхах и тревожных предчувствиях, то культ иррационального бреда благополучно приведёт только к отрыву от реальности. Заслуга Достоевского в том, что он подчеркнул психичность человека, его бессознательную душевность, а в этой душевности – непредсказуемость. Но он же и противопоставил эту истерическую душевность – нормальности, абсолютизировав первую и поставив под сомнение вторую. Герои Достоевского, если уж быть точным, по складу личности, по типу отношений к действительности – фанатики и психопаты. В таком случае совершенно естественно, что отношение к разуму, к сознанию рефлектирующему предопределено было самой однобокой природой персонажей, их отчуждённостью от мира, их вырванностью из контекста социального и природного. Однако отдадим должное писателю: его герои не просто избегали разума или настороженно относились к нему; Достоевский отчётливо осознавал, что такого рода персонажи в сознании должны видеть своего смертельного врага. А такое противопоставление – уже неплохая сцепка с реальностью. Не было бы сосредоточенности на магистральном для культуры, особенно новейшей, конфликте между психикой и сознанием (отражением запутанных отношений приспособления и познания) – не явилось бы и великого пятикнижия Достоевского (имеются в виду романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»), представляющего собой вариации на центральную и главную тему культуры: единства и борьбы психики и сознания. Психика чувствует, чего ей не хватает, она тянется к сознанию, ощущая при этом свою ущербность и неполноценность и не переставая тянуться к началу противоположному, так как это единственный, что ни говори, способ самопознания (пусть и ограниченный рамками живительного процесса психо- и логотерапии). Иначе зачем же писать столько «идеологических» романов во славу «бессознательного» и во посрамление разума, бесконечно воспроизводя 199 одни и те же типажи святых– «идиотов» и преступных умствующих еретиковраскольников? В свете сознания персонажи Достоевского начинают смотреться худосочными марионетками, прилежно иллюстрирующими беспомощность мысли и всесилие капризных вулканов бессознательного. Поразительная бедность мысли автора идеологических романов впечатляет даже не столько сама по себе, сколько вследствие того, что это скудомыслие было воспринято мировой интеллектуальной общественностью как философское откровение. Что тут скажешь? Общественность читает роман, роман высвечивает гуманитарную невежественность общественности. Крикливая иррациональность панически открещивается от цепких щупалец разума – вот всё «содержание» романов психически ангажированного гения. Весомостью аргументов служит не контрпродукция ума (не забудем: коварные концепции и смыслы – это мишень), а интенсивность, противоречивость и полная неподконтрольность интеллекту переживаний и, шире, психических комплексов. Фактура переживаний – это и есть главный иррациональный аргумент. Вот почему не следует усматривать в данной работе намёков на личное нездоровье творца как на главную причину странного его мировидения. Однако не будем впадать в противоположную крайность: так ведь можно «отмахнуться» от доброй половины мировой литературной классики, поставив под сомнение её содержательность. Не будем требовать от литературы более того, что она может дать; с другой стороны, литература, претендующая на статус сверхлитературы (иначе сказать, умной, мудрой литературы), должна быть подвергнута анализу критическому. И главное, что выявляет такой анализ, заключается в следующем: вновь злейшим врагом психически-моделирующего восприятия было объявлено ориентированное на объективность сознание. Подчеркнём, что пока мы ограничились принципиальной оценкой «достоевщины», не распространяя её вместе с тем как окончательный и исчерпывающий философско-эстетический вердикт на творчество писателя в целом и тем более на какое-либо конкретное художественное произведение, которое всегда в чём-то преодолевает бессознательные установки самого автора. Какой из романов избрать для анализа? Мы выберем не тот, который максимально полно репрезентирует интересующую нас проблематику (это было бы подгонкой под концепцию, то есть тем самым насилием над реальностью, что так характерно для Достоевского, представляющего мышление моделирующее, художественно- и религиозно-идеологическое, и что совершенно неприемлемо для сознания научного, ибо насилие над реальностью несовместимо с деятельностью «чистого сознания», есть приговор ему, другими словами – превращение его в свой антипод, вариант сознания идеологического), а наиболее совершенный в художественном отношении, по нашему мнению. Иное дело, что этот роман как 200 никакой другой оказывается соответствующим нашей концепции, великолепно «подтверждает» её и одновременно даёт ей содержание. Но это, повторим, уже другое дело. Мы имеем в виду «Преступление и наказание», конечно, первый из романов, открывающий пятикнижие. Как же долго, неприлично долго не замечалась главная тема и проблема, которой подчинено в романе (и в творчестве Достоевского в целом) буквально всё. И пресловутая острая социальность романа, и его прямо-таки иезуитская идеологичность, и неслыханный психологизм, и сама хвалёная религиозная философия Достоевского, и оригинальная поэтика – всё, всё это следствия из пункта, скрестившего причины причин: борьба с разумом не на жизнь, а на смерть. Без компромиссов. Или – или. Академическая тема «психика и сознание», поставленная ребром, неизбежно тянет за собой кровь и смерть. Так было в «Евгении Онегине». Так было в «Войне и мире», в «Пиковой даме». Так будет и в «Преступлении и наказании». 2 Начнём с последнего абзаца одного из самых «странных» романов в мировой литературе (трудно удержаться от замечания, что все великие произведения – странны, ибо вызывающе не соответствуют аршину общепринятой логики и общих представлений; а ещё потому странны, что внутренне противоречивы). Под подушкой, под головой исстрадавшегося Родиона Романовича Раскольникова уже лежало Евангелие. «Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен». (Роман цитируется по изданию: Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч. в 30-ти томах, т. 7. – Л., Наука, 1972-1988. Здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсив – автора. – А.А.) Обратим внимание прежде всего на то, что «рассказ», представленный нам, вовсе не безличен, у него, как и у всех «рассказов» в мировой литературе, есть свой творец, в данном случае делегировавший свои полномочия повествователю («наш» рассказ). Ни о какой нейтральности, ни о какой беспристрастности и неангажированности повествователя, ни о какой равноправной «диалогичности» не может идти и речи, так как повествователь и не скрывает, что его временно «невменяемый» герой находился в «одном мире», закрытый пока что для диалога с миром иным. Если под диалогом понимать самоценность вступивших в контакт суверенных миров, не сводимых один к другому, то такого диалога в романе нет. Мир Раскольникова явно и естественно соотносится с миром того же повествователя, причём первый 201 выступает как «низшее» измерение по отношению ко второму, «высшему». Если и говорить о диалогичности иерархически (так или иначе – моноцентрически) устроенного романа, то правильнее было бы говорить о диалоге как моменте монологической, концептуально определённой структуры. Многоуровневый, многоклеточный мир Л. Толстого своим единством не отменяет автономности микромиров, диалектически взаимосвязанных и производящих впечатление космической упорядоченности. Мир Достоевского устроен принципиально иначе. Его мир ограничен душой человека, взятой в определённом, «тёмном» или «светлом», качестве. Полярно разбросанные мировоззренческие полюса присутствуют в романе, иначе и не возникло бы энергии конфликта. Однако «светлая», святая душа, «другой» мир обозначены, по большому счёту, как наличие противоположности, как возможность, перспектива или идеал (главным героем такая душа стала в романе «Идиот», персонифицируясь в образе князя Мышкина). Центром мироздания становится душа, догадывающаяся о существовании иного мира, но обитающая в своём, противоположном идеальному, мире. Что это за мир, чем он так притягателен для писателя, и почему так долог или невозможен путь в мир иной? Мир, непропорционально сведённый к душе человека, позволил многократно увеличить её «тёмные» и «светлые» стороны. При таком подходе к делу логично было бы ограничиться несколькими персонажами, два из которых обязательно должны быть полярными (и, собственно, главными), остальные призваны усиливать и детализировать линию главных. «Двойники» и «двойничество», будучи продуктом рационального дробления единого комплекса идей (так сказать, идейной достоевщины), дают вместе с тем уникальные возможности для инфернальных, запредельно-трансцендентальных наитий и «прозрений» (достоевщины психологической). Именно так с точки зрения логики персонажеобразования и соотношения характеров выстроен роман «Преступление и наказание». Родион Раскольников – это один полюс, Софья Мармеладова – другой (уже по звукам и по семантике – полюса). «Разве могут её убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Её чувства, её стремления по крайней мере...», – читаем мы в самом конце эпилога, когда герои находились «в начале своего счастия». Начало «счастия» – начало приобщения к сонечкиным убеждениям. До этого момента были исключительно «несчастия», заблуждения. Таким образом, природа Раскольникова, без сомнения, главного героя романа, двойственна, что, собственно, является необходимым условием, создающим почву для пронзительных внутренних раздраев. Раскольников – это Соня Мармеладова, в которую вселился (временно, но цепко) бес рациональности и неверия. И эта бестиарность, повторим, есть обязательное условие существования романа, который, по сути, от начала и до конца являет 202 собой картины торжества, бессилия, а затем и изгнания сего беса. Бесом, понятно, служит всё тот же ум. 3 Итак, Раскольников и не подозревал, что весь его тернисто-тёмный путь ведёт в мир светлый. Но повествователь знал это с самого начала, и ни на градус не уклонялся от избранного выверенного маршрута. «Как бы» импровизационность и непредсказуемость поведения постоянно находившегося на грани душевного срыва Раскольникова (в романе более пятисот раз употреблено роковое «вдруг», что отражает «странную» спонтанную логику действия героев) на самом деле жестко предопределена мировоззренческими императивами повествователя. Роман, состоящий из шести частей с эпилогом (что в сумме составляет неслучайное число семь), начинается весьма и весьма многозначительно: «В начале июля (седьмого месяца года – А.А.), в чрезвычайно жаркое время, под вечер (где-то в районе семи, в тот час, когда, спустя сутки-другие, будет совершено преступление – А.А.), один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С–м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К–ну мосту». (Сведения о поэтике чисел и имён взяты из книги: Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. Пособие для учителя. / под. Ред. Д.С. Лихачева. – Л., 1979. – 240 с. В дальнейшем ссылки на эту книгу специально не оговариваются.) С самого начала читателя окунают в раскалённое пекло, своеобразную модель ада, причудливо сдабривая действо мистикой библейских чисел, не вполне ясной, но зато вполне «реально» влияющей на происходящее. Двойное отражение реальности, отражение отражения, о котором мы говорили в связи с достоевщиной, с самого начала пронизывает образную ткань произведения, сообщая нервную напряжённость всему стилю, в том числе ритму и синтаксису повествования. «Как бы в нерешимости», впавший «как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы какое-то забытьё», «чувствуя какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился», молодой человек, ещё не определивший для себя, решился он на «это» или нет, ступил из своей каморки, похожей на гроб, в адскую жизнь. Если добавить к сказанному, что молодой человек «и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день, как уж он почти совсем ничего не ел» и что в таком состоянии он, обуреваемый «безобразною» мечтой, которую «как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил», шёл «делать пробу» «этому» (идти было «ровно семьсот тридцать» шагов), «и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее» – если попытаться все упомянутые обстоятельства 203 принять во внимание, то можно составить себе представление о типе художественности произведения. «Мечта» неотличима от «предприятия», всё зыбко, неопределённо, неоднозначно, и когда оно как бы есть, то неясно, есть ли оно или, напротив, ничего такого и в помине не было. То ли мерещится, то ли пророчески бредится, будто бы явь, а может быть, как бы сон – вот лучшая почва и питательная среда для перетекания бессознательного в полусознательное и, далее, в как бы осознанное, от которого всего-то один маленький шажок до исходного великого «немого» – океана бессознательного. Балансировка на грани ирреального, впечатление полуяви, дьявольски скользкой амбивалентности – вот чего добивается и достигает повествователь для того, чтобы его «рассказ» отразил больше, чем реальность, а именно: реальность ирреальной природы человека. Писатель вуалирует контртезис подтекста: грубо отразить реальность такой, какова она есть, это и значит исказить её. А вот размывая её полутонами – получаешь некоторое представление о реальности... О реальности чего, спросим мы, вспомнив о стоящей перед нами задаче научного познания романа? О реальности фокусов психики, о реальных законах моделирующего сознания, стремящегося всегда раскрасить реальность в близкой ему гамме ощущений. Итак, экзальтация мгновенно достигает точки кипения, и накал страстей не спадает уже вплоть до последнего абзаца. Добро пожаловать в преисподнюю человеческой души, читатель. Роман «Преступление и наказание», если угодно, очень и очень художественное произведение. Мы в данном случае имеем в виду не степень художественности, а качество, противоположное научной рефлексии. В романе всегда говорится одно, подразумевается другое, а на самом деле речь идёт о третьем. Подлинный роман как бы утоплен в подтекст, и его смысловой корпус действительно надо извлечь, проделав с этой целью определённую работу. Таким «романом в романе» является скрытое противостояние психики – сознанию. Сдержанное остервенение переживающей свою априорную правоту «души», бессильной при этом против убогой арифметики разума, нет-нет да и прорывается святым гневом наружу, создавая как бы немотивированные конфликты. Будем бдительны. Раскольников «с замиранием сердца и нервною дрожью» подошёл к дому, где он собирался «делать пробу». Разговор с малосимпатичной, похожей на бабу Ягу, однако живой старушонкой, которой отводилась роль невинной, но закономерной жертвы в его «предприятии», вверг взявшего было себя в руки студента в пучину такой психологической мерзости, что шокировал переживающего всё наперёд «предпринимателя» и довёл его до состояния психо-физической прострации. «Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более и более увеличивалось. Сходя по лестнице 204 (вниз!– А.А.), он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно поражённый. И, наконец, уже на улице, он воскликнул: «О боже! Как это всё отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц...» Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его ещё в то время, как он только шёл к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шёл по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице». Весь отрывок посвящён описанию «невыразимых» чувств: смущению, отвращению, волнению... Если отвлечься от описания ощущений, роман съёжится до размеров бессмертной «Пиковой дамы». Следовательно, чувства и ощущения «сердца», в гибельном экстазе реагирующего на «ужас», пришедший «в голову», и составляют суть романа. Причём – и это самое главное – не просто описанием чувств озабочен повествователь, а их логикой и динамикой: в результате создаётся впечатление концептуальной глубины. Вот как развиваются чувства далее. Не надо быть большим психологом, чтобы предположить, что душевный маятник, дойдя до крайней точки, неизбежно качнётся в противоположную сторону. Так и произошло. Раскольников спустился, опять же, «вниз», «в распивочную» – и «тотчас же всё отлегло, и мысли его прояснели. «Всё это вздор, сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое всё это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих» (отметим мотив «Раскольников и другие», другие как индикатор «ужаса»: чем «ужаснее» мысли, тем менее дружелюбности и более одиночества). Однако надо быть уже незаурядным психологом, чтобы так прокомментировать улучшение состояния: «Но даже и в эту минуту он отдалённо предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная». Ведь это значит, что Раскольников предчувствовал (точнее, предчувствовал, что его предчувствия окажутся верны), что глубоко поражён метастазами... чего? Какое «ужасное бремя» давило на него? Бремя разума, как мы вскоре многократно убедимся. «Раздавите гадину!» – могло бы стать эпиграфом и девизом романа, ибо сражение с разумом – вот что происходит в каждом фрагменте текста даже тогда, когда происходит всего лишь смена состояний героя. 205 Мы воспроизвели образец типичного для Достоевского психологизма, направленного на то, чтобы вскрыть последний, окончательно последний пласт в душе, после которого не было бы уже ничего, что могло бы прощупыватся «отдалёнными предчувствиями». Многослойно «устроенная» живая душа както ненасильственно и вместе с тем с принципиальностью святых старцев сражается с разрушительным вмешательством в её чуткую и благостную ткань инородного тела «грязного» разума. Раскольников, по Достоевскому, был действительно болен, но не в том обычно-естественном смысле, о котором говорим мы, нехудожественные человеки, а в смысле «высокой болезни», которая не поддаётся ни медикаментозному, ни психотерапевтическому лечению: он был инфецирован «преступным» по составу вирусом, который разъедал душу, толкая её к несвойственным ей извращениям. В моменты прояснения душа его «плевалась»: «грязно, пакостно, гадко, гадко!.». Но болезнь не отпускала. Почему? Вот ради выяснения этого жизненно важного обстоятельства и стоило писать роман. 4 Раскольников, как мы уже говорили и ещё не единожды будем говорить, по своей душевной отзывчивости, «христианскости» был человеком уникально одарённым, что в романе признавали самые чуткие или прозорливые люди. Вспомним реакцию Сонечки, этого ни разу не сфальшивевшего христианского камертона: « Вдруг, точно пронзённая, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени. – Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками. Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на неё: – Странная какая ты, Соня, – обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь. – Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! – воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике». Смысл её бессознательных истерических причитаний прост, как вера с точки зрения психоаналитика: он совершил преступление именно потому, что по натуре своей исключительно чист и непорочен. (Вспомним: Наташа Ростова поступила «дурно» в истории с Анатолем Курагиным именно потому, что она была очень хорошим человеком.) Это всё шпильки в сторону заносчивого разума: умом, дескать, не понять, а на колени встать хочется. И то, что «непонятно», но «хочется» – становится составом «наказания». Может быть, ещё более впечатляет характеристика праведника с червоточинкой, с душевными окаменелостями (Петр – «камень» (греч.)), умного следователя Порфирия Петровича: «Изверились, да и думаете, что я вам грубо 206 льщу; да много ль вы ещё и жили-то? Много ль понимаете-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то всё-таки не безнадёжный подлец. Совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошёл. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль бога найдёт. Ну, и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. (...) Знаю, что не веруется, – а вы лукаво не мудрствуйте: отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, – прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почём знаю? Я только верую, что вам ещё много жить. (...) Ещё бога, может, надо благодарить; почём вы знаете: может, вас бог для чего и бережёт. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а, ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» Между прочим, Порфирий Петрович в одном, далеко не самом продолжительном своём монологе, выболтал всю концепцию романа. Большето и добавить нечего. Но – обратим внимание – концепция выболтана тогда, когда художественно она уже воплощена. Откристаллизованные Порфирием смыслы растворены в ткани романа, придавая ей некий интеллектуальный отлив. Достоевский, конечно, прав; не будем и мы путать концепцию как таковую с романной концептуализацией, философию с литературой, психику с сознанием, разум с душой; не будем выяснять, что лучше: именно такая постановка вопроса и оглупляет роман, а вовсе не отсутствие подлинной философии. Требовать от романа ума – это в свою очередь глупость. Но это так, к слову. Итак, именно то, что Раскольников по своим задаткам и был рыцарем милосердия, подвигнуло его на идейную «подлость». Холостые диалектические обороты мыслей, знакомые уже нам по роману «Война и мир», очертили тот порочный круг, который Раскольников собирался разорвать при помощи всё той же мысли. И если исходить из того, что мир устраивается волею и возможностями людей, то Родион Романович был прав. Он был прав до тех пор, пока не выздоровел, не прозрел и не принял как должное, что мир устроен иначе, не людским хотением и произволом, а тем, что Сонечка называла «что ж бы я без бога-то была». Вот эта надуманная правота и была преступлением Родиона Романовича. Преступление его состояло в том, что он безотчётную веру решил заменить на регуляцию от ума, и тем самым разорвать порочный круг (глупым умом же и заданный). Иначе говоря, само вмешательство в 207 фундаментальные принципы мироздания и есть преступление, неверие же в Бога – преступление преступлений. Ведь что произошло: Родион Романович Раскольников не вынес страданий других. Он несколько раз был на грани решительного срыва, отказа от логической каторги, но страдания «униженных и оскорблённых» питали его преступную «предприимчивость». Вспомним: увидев живую старуху, которую предстояло убить, Раскольников уже почувствовал, что готовит себе Голгофу. Он готов был отказаться от преступных замыслов, следуя, как Сонечка, непосредственным движениям души («отдаться жизни прямо, не рассуждая»), но на беду (или к великой радости?) он знакомится с несчастным семейством Мармеладовых... Под пером знающего своё дело повествователя судьба маленького человека и ничтожного чиновника, титулярного советника Семёна Захаровича Мармеладова превращается в притчу обо всех обездоленных, которым просто «идти больше некуда». Сладкая фамилия Мармеладов иронически подчёркивает горечь и беспросветность его положения, его «скотское состояние». Старшая дочь его, Сонечка, уже на панели, две других дочери, шести и девяти лет, очевидно, стоят в очередь туда же. Жена Катерина Ивановна, «из благородных», сгорает в чахотке. Дилемма, замыкавшаяся в железный порочный круг, была проста, как решение Сони стать проституткой: является ли преступлением помощь «мармеладовым», даже если помощь эта может быть оказана только ценой реального преступления? Разве сделать вид, что «мармеладовых» не существует – это не преступление, может, ещё более мерзкое, ибо бесчеловечное бездействие есть форма согласия на массовое истребление беззащитных? Всё это повествователь позднее определит как «тоску», которая «нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения». Прав, конечно, был Порфирий Петрович (или монологически сработанный роман: это уж кому как угодно). Если переводить «общие» рассуждения в конкретную плоскость, то на одной чаше весов оказывается жизнь кряхтящей «сухой старушонки» «с вострыми и злыми глазками» и «белобрысыми», между прочим, «мало поседевшими», «жирно смазанными маслом» волосами, «тонкой длинной шеей, похожей на куриную ногу»; на другой – жизни «скорчившейся» маленькой девочки, спящей на полу, дрожащего и плачущего мальчика, другой девочки «в одной худенькой и разодранной всюду рубашке», «с большими-большими тёмными глазами» на «исхудавшем и испуганном личике»... Да, ещё, пожалуй, к ним следует присовокупить Катерину Ивановну, «особу образованную и урождённую штаб-офицерскую дочь», «тонкую, довольно высокую и стройную, ещё с прекрасными тёмно-русыми волосами», «запёкшимися губами» и «чахоточным взволнованным лицом». Да, ещё Соню, «дщерь, что мачехе злой и 208 чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала», что вынуждена «наблюдать» «особую» чистоту. Да, не забудем и отца её «земного, пьяницу непотребного», который «стащил» у дщери последние тридцать копеек себе на похмелье, и пьёт, мучая себя и других. Если разумно разложить ситуацию, то «преступное» перераспределение средств (тем более нажитых малопочтенным ростовщичеством, тем более завещанных монастырю), конкретная «адресная» поддержка вовсе не кажутся таким уж преступным «предприятием». И душа, уязвлённая доводами рассудка, опять обрекает себя на мучение в «преступной» (в этом всё дело!) системе координат. С точки зрения психологии, слишком ранимая душа, защищаясь, оборачивается в определённом отношении холодной расчётливостью и преднамеренной жестокостью. Но Достоевского интересует не психология вообще, а христианская психология, то есть психология, приспособленная под определённую систему ценностей, сросшуюся с ней, где законы нормальной психологии подчинены императивам абсолютов: милосердия, добра и т.п. В такой ситуации остаётся только всех жалеть – и больше ничего. Раскольников с его нормальной, избирательной жалостью, был, конечно, ненормальным в мире, поставленным с ног на голову. Вот этот фокус – радикальную смену координат, проведённую явочным порядком на том простом основании, что абсолюты не нуждаются ни в каком и ни в чьём обосновании и никогда не меняют своего «хорошего» содержания, – исследователи Достоевского предпочитают не замечать. А в этом-то и есть вся суть вопроса. Переверните всё с головы на ноги – и перед вами окажется «пустой», бессодержательный роман. В романе было то, что могло бы быть, если бы... Если бы у меня была волшебная палочка, то... Никто не сомневается, что мир поменялся бы в лучшую сторону. Но волшебных палочек не бывает, тогда как в «Преступлении и наказании» несбыточные волшебные пожелания априори приняты за точку отсчёта в неволшебной, земной, «гадкой» реальности. Фокус-с. 5 В принципе нет ничего скучнее, чем разбирать невразумительную систему «идей», обслуживающую пунктик, спорить с логикой сумасшедших или, как осторожно выражается повествователь, «мономанов, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся» (характеристика Раскольникова). Главное – механизм, запустивший его систему идей; сами же идеи – не более, чем интеллектуальный ребус, за которым стоит мнимая мировоззренческая глубина. Однако художественная цельность романа вновь и вновь, с прямо-таки назойливым постоянством и энергичной настырностью, возвращает нас к заветному пунктику. Послушно внемлем очередной раз. 209 Раскольников (вновь раскроем карты повествователя) безбожными средствами пытается решить проблемы божественно устроенного мира. При этом мотивы его поведения изначально очень даже и согласуются с законами мира, однако парадоксы ума, смущающие душу «мономана», запутывают всё дело. Сквозь «умственную» призму Раскольников, даже не подозревающий, как глубоко, хотя и искренно, он заблуждается (об этом ведает контролирующий ложные и истинные параметры картины мира автор), и смотрит на все события, попадающие в поле его зрения (а о том, чтобы попало нужное, – опять забота автора). Вот Родион получает письмо от матери, Пульхерии Александровны, в котором речь идёт, в основном, о Дуне, сестре «Роди», и о предстоящем её браке с Петром Петровичем Лужиным. В самом конце письма простая и сердобольная (на сонечкин манер) мамаша напутственно и пророчески замечает: «Молишься ли ты богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце твоём, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как ещё в детстве своём, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» (Между прочим, семантика имени, отчества и фамилии героя, к которому обращён трогательный призыв матери, многократно расширяет и углубляет контекст конфликта. Раскольников несёт в себе ту новомодную убийственную заразу, которая реально угрожает родине Романовых, России, православной державе. Вновь – вспомним в этой связи «Войну и мир» – Запад сошёлся с Востоком в схватке за умы и сердца людей. Вовсе не личный конфликт «раскалывает» душу героя, а конфликт вечный, универсальный, всемирный, вселенский. Но русский начинает думать только тогда, когда слишком уж верит, поэтому он достаточно быстро и, разумеется, через кровь возвращается к истокам, к лепетанию молитв. А вот Западу есть над чем задуматься... Он и думает, внимая Достоевскому, как Родя – Пульхерии Александровне.) Конечно же, «с самого начала письма, лицо его было мокро от слёз; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжёлая, злая улыбка змеилась по его губам». Отчего? Не оттого ли, что он не верил «в благость творца и искупителя», но не был и до конца уверен в своём неверии? Не будем лишать читателя удовольствия подумать. Кстати, Раскольников после чтения письма тоже «думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли». И было отчего: Дуня, благодаря его, Родиной, неустроенности, собиралась выходить замуж по расчёту, то есть жертвуя собой по образцу Сонечки, «продавая» себя ради брата и матери. Список жертв, немо вопиющих об отмщении, продолжал расти. Слёзы невинных парадоксально отливались в приговор Алёне Ивановне. «Сонечкин жребий» («Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!») вновь актуализировал дилемму: или «вечная Сонечка» – или вечный бунт 210 против мира, в котором уготовано амплуа вечной Сонечки. И то, и другое предполагало соучастие самого Родиона в преступлении. С точки зрения разума из двух зол выбирают не иллюзорное добро, а наименьшее зло. Раскольников был по-своему прав. А как ещё прикажете решить «дикий и фантастический вопрос», вопрос неразрешимый, как бы теоретический, отвлечённый, но вместе с тем подбросивший его родной сестре (не абстрактной категории «униженных и оскорблённых») Сонечкин жребий? Определённый «процент» оскорблённых, к сожалению, был гнусной реальностью, что тут же подтвердила уличная (обычная) история с растленной девочкой (повествователь не скупится на аргументы «в пользу» теории Раскольникова; список жертв растёт). «А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадёт!.. Не в этот, так в другой?..» Прав ли был повествователь, из двух зол выбравший иллюзорное добро, ценой отвлечения от реальности? В это можно только верить. Однако вопросы – вопросами, а жизнь – жизнью. И вопросы как-то решаются, и жизнь продолжается, и без преступлений можно обойтись. Но такая логика, похоже, вовсе не знакома мономански устроенному сознанию автора. Трагедия нравственного максимализма (средневековый или подростковый тип трагедии, в сущности, мнимая трагедия) обретает художественную плоть. Достоевский, словно специально противореча аксиоме Л. Толстого, усердно «решает» вопросы, отвлекаясь от призвания искусства: быть нерассуждающей службой жизни. Но если столь откровенно пренебрегать природой искусства и взашеи гнать её в двери, то она, природа, будет лезть в окно. Решение вопросов средствами, для этой цели совершенно не приспособленными, приводит к тому, что решение вопросов будет всегда не в пользу способов, которыми вопросы действительно решаются. Проще говоря, решение вопросов «от психики» будет всегда направлено против ума. Вопрос об истинности подменяется способами решения: каковы способы – такова и истина. Всё это объективно на руку аксиоме: искусство должно позаботиться о том, чтобы заставить «полюблять жизнь». Достоевский «не заставляет» любить жизнь непосредственно, всем строем образного ряда; но он культивирует то, что безусловно стоит на страже жизни: психические интенции, доразумное начало. Таким образом, Достоевский опосредованно любит жизнь, оберегая тот потайной механизм, который и обеспечивает жизнелюбие. Однако не всё так просто. В аксиому Толстого по умолчанию заложена сама собой разумеющаяся посылка: здоровая нормальная психика естественным образом озабочена ценностями жизни. Но то, что является естественным для нормы, не может считаться само собой разумеющимся для находящегося за границей нормы. Психика болезненно раздражительная может предложить идеологию амбивалентную, как бы совместимую с идеологией жизнелюбия, но 211 вместе с тем непосредственно о этом ничего не говорящую. Идеология поиска смысла жизни (решения вопросов) оказалась вовсе не безобидна для жизни как таковой. Логикой идеологии, представленной моделирующим сознанием, Достоевский задвинул жизнь на периферию собственно человеческих интересов. Странно получилось: он и вопросов не решил, и о жизни позабыл, увлёкшись решением вопросов. Природа искусства, как вещь объективная, мстит за себя, с ней невозможно не считаться, даже если этого очень хочется, даже если ты – Достоевский. Любителей искать истину средствами, которыми она не может быть найдена, всегда оказывается настолько много, что они (от чистого сердца, как водится, но не от большого ума) провозгласили Достоевского мыслителем, философом, вменяя ему в заслугу именно решение вопросов. Более издевательского комплимента талантливому художнику придумать трудно. Достоевский гениально искажал реальность в угоду собственной психической потребности, армия же толмачей объявляет роман способом постижения реальности, искажая значение творчества писателя. Апологеты достоевщины, воспитанные на способе мышления великого мечтателя, никогда не поймут писателя; в лучшем случае они смогут разделить его иллюзии и утопии. Никто не вредит изучению Достоевского более тех, кто его любит. Отношение, предполагающее уважение, должно ориентирваться на установки непсихологического свойства, на способ умозрительного постижения, то есть на тот способ, который так горячо, до истерики, не жаловал писатель. Итак, аксиома Толстого лишь отчасти применима к творчеству (и разбираемому роману в частности) Достоевского. В том, что роман обрушивается на главного врага жизни, разум, – сомнений нет, и в этом смысле роман стоит на страже жизни; но ненавидеть разум ещё не значит любить жизнь. Толстой-художник сам сполна реализовал им же сформулированную аксиому. Что же «заставляет полюблять» Достоевский? Что он противопоставляет разуму? Или: что он имеет в виду под «жизнью»? Чудо, тайну, мистику души – но не жизнь в толстовском, да и в общепринятом смысле. Жизни как таковой нет в романе, а есть провозглашение любви к жизни – умствующее чувство, столь же далёкое от проблем жизнелюбивой Наташи Ростовой, как и масонские изыскания Пьера. «Чувство жизни» Достоевского парадоксальным образом находится по ту сторону жизни. 6 Вернёмся, однако, к нашему схематическому герою, который, по воле автора, вынужден был демонстрировать гибельность избранного им пути. 212 Трагедия Раскольникова заключалась не в том, что он умом понимал всю неотвратимость «решения неразрешимых вопросов» и в то же время отдавал себе отчёт, что психика, здоровая психика должна хитро ускользнуть от вопросов, преодолеть сам факт неразрешимости вопросов, поберечься во имя жизни (так осознанное устройство человека и мира, как мы помним, даёт качество высокой трагичности), – а в том, что он в равной мере был психически ангажирован двумя взаимоисключающими присутствие друг друга «истинами»: рациональной (по форме, но не по существу) и иррациональной (и по форме, и по существу). Невозможность предпочтения ни одной из них как самодостаточной – вот его проблема; избранная же (в силу необходимости выбирать) им истина влекла за собой «наказание», то есть являлась преступлением. Однако иной вариант – и в этом безысходность трагической ловушки – также не уберегал от наказания. Раскольников, как и Сонечка, и князь Мышкин, был обречён в этом мире чувствовать себя преступником. (Повествователь убеждён, что это качество «великих сердец», предназначенных к «великому предстоящему исполнению»; по иронии судьбы или в силу какихто иных обстоятельств «великие сердца», алкающие страдания, оказались тенью жизни, марионетками запутавшегося в диалектике повествователя, пытавшегося противопоставить жизнь – диалектике.) Вот как это воплощено – блестяще воплощено! – на уровне психологии, ставшей структурой персонажа, характеристикой творческого метода (на уровне стиля – не менее блестяще через «путаный» синтаксис и «рваный» ритм): «Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно «пронесётся», и уже ждал её; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера ещё, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам осознал это... Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах». В этом фрагменте подведён итог всё ещё «колеблющегося» состояния после прочтения письма. На импульс «мысль» у героев Достоевского мгновенно следует реакция, обратная смыслу импульса. Иначе говоря, глубина мысли поглощается глубиной предчувствий, происходит подавление очагов мысли. Ещё более убедительно сшибка разноприродных мотивов поведения (что, по мысли повествователя, доказывает если не априорное «знание» души, то опережающую, пророческую правоту интуиции) показана далее. Прочитав письмо, Раскольников пошёл к Разумихину. По пути он и стал свидетелем безобразной уличной сцены, когда уже совращённую «барышню» пытался перехватить «жирный франт» «с розовыми губами». Вот вам, кстати, тот самый парадокс: сочность, полнота и цвет жизни невыносимы своей пошлостью для повествователя. То ли дело губы, «запёкшиеся» или «запенившиеся от злобы», – праведной, уточним, злобы – исступлённо «горящий» взгляд и жёлтый или, на 213 худой конец, бледный цвет; отлично гармонирует со всем этим набором «изнеможение во всех членах» . А вот вам и формула писателя: жизнь есть страдание, и разуму противостоит не радость цвета крови с молоком, а изболевшаяся душа. Это не что иное, как иррациональная форма ненависти к жизни, угроза жизни едва ли не большая, чем бесстрастный разум. Раскольников с огромным удовлетворением убил бы Наташу Ростову, другое дело, что Достоевский не сумел бы создать столь отвратительный для уязвлённой души полнокровный женский образ. Даже в проститутки писатель отдаёт святую, тогда как для обладательницы жёлтого билета требуется всего-то дьявольски прельщать телесами. И это не пустячок или недосмотр писателя. Предпосылки, определяющие поведение человека Достоевского, лежат не в сфере биологической или социально-психологической (хотя и этот контекст обозначен); поведение героя почти напрямую определяется идеей, пропущенной через фильтры души, – вот откуда такая ненависть к разуму, идее, теории: ненависть к тому, к чему более всего тянется сам. В романах Достоевского нет характеров (ибо характер вскрывает связь личности с обстоятельствами, со средой), а есть иллюстрации «страдающей души» или «страдающей души, подмятой под себя злым гением разума». Впрочем, мы сбились с пути, следуя за Раскольниковым, направлявшимся к Разумихину. Но зачем он пошёл к Разумихину, едва ли не единственному своему приятелю? Техника и технология добывания нужной информации из бессознательных глубин у Достоевского доведена до виртуозного совершенства. «Вопрос, почему он пошёл теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось; с беспокойством отыскивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке. «Что ж, неужели я всё дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашёл в Разумихине?» – спрашивал он себя с удивлением. Он думал и тёр себе лоб, и, странное дело, как-то невзначай, вдруг и почти сама собой, после очень долгого раздумья, пришла ему в голову одна престранная мысль. «Гм... к Разумихину, – проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения, – к Разумихину я пойду, это конечно... но – не теперь... Я к нему... на другой день после того пойду, когда уже то будет кончено и когда всё по-новому пойдёт..». И вдруг он опомнился. «После того, – вскрикнул он, срываясь со скамейки, – да разве то будет? Неужели в самом деле будет?» Он идёт к Разумихину, не зная, почему именно к нему, почему именно сейчас, но предчувствует в этом, казалось бы, «обыкновенном» поступке «какой-то зловещий для себя смысл». Тут же всё и прояснилось. Раскольников какими-то таинственными, но полномочными службами контроля за сознанием был поставлен в известность, 214 что он несколько опередил события. Визит к Разумихину, оказывается, запланирован, но только на другой день после «того». Следовательно, «то» самое (если «предприятие» назвать своими словами, – предстоящее убийство старухи-процентщицы с целью ограбления – то благородная цель идейной акции как-то стушевывается) уже не подлежит обсуждению, оно просто стоит в графике и ждёт своего часа. Но какая инстанция столь нахально распоряжается волей Раскольникова, информируя его о том, что предстоит совершить, но не собираясь обсуждать с ним порядок действий? Ответ очевиден: Раскольников “действует на автопилоте», без участия сознания, но именно сознание, трезвый расчёт «включили автопилот». Именно разум сковал сопротивление души, парализовал волю и поставил перед фактом: эксперимент по обновлению («когда всё по-новому пойдёт») жизни неизбежен. Казалось бы, вопрос решён. Но психика ещё не исчерпала ресурс сопротивления. Во имя сохранения жизни своей и чужой, во имя жизни Раскольников получает ещё один «знак» – вещий сон. Как тонко – здесь вполне уместно затасканное слово гениально – Достоевский показывает перетекание информации с сознательного уровня на подсознательный, «разбрасывая» её по разным уголкам сознания – и не теряя при этом содержательную нить: с точки зрения автора, происходит обыкновенная трагедия человека: незаметное, скрытое даже от самого сознания, разъедание личности героя, превращение всего лишь «мономана» в убийцу, преступника, преступившего все человеческие законы и тем не менее убеждённого, что его действия не противоречат высшему моральному закону. Таково дьявольское коварство разума! Он убивает сначала личность потенциального убийцы. Человек становится орудием убийства, превращаясь из преступника – в жертву. Неудивительно, что после подобных произведений доверие к разуму утрачивается как минимум на несколько веков и так не слишком умной истории человечества. Странно, но факт (такова магически-гипнотическая власть художественного гения): Раскольников где-то на задворках нашего подсознания уже вызывает жалость как жертва, хотя мы не сомневаемся в том, что он становится убийцей. Кто же тогда истинный агрессор, кто преступник, которого не жалко, который хитростью и обманом (злодейским умыслом) завлёк чистую, детскую, предназначенную для светлых подвигов душу терзающегося молодого человека? Да разум, разум, конечно. Вот истинный враг, гадина, которую надо научиться истреблять. Как? Читайте роман дальше. Итак, бессмертная душа (которую можно, по вере повествователя, только на время охмурить, соблазнить – да и то для этого надо рядиться в белые одежды, прикидываться справедливым – и которая всегда держит в запасе 215 универальную возможность покаяния, очищения через страдание, что, собственно, и составляло кодекс «вечной Сонечки») в полной мере обнаружила свою чудодейственную прогностическую силу в «болезненном» и «страшном» сне Раскольникова. Вообще психологическая эпопея Родиона Романовича совершалась по модели сна: человек делает всё, чтобы уберечься от гибели, и странным образом все его усилия только приближают гибельный итог. Где сон, где явь, где истина, где хитроумный обман? Достоевский первый в мировой литературе, с беспрецедентным совершенством (настолько приближённым к абсолюту, что сегодня представляется, что усовершенствовать его в этом отношении едва ли возможно) уловил и сумел зафиксировать бесконечную текучесть и как бы духовную неопределённость человека. Но, сделав главную духовно-конструктивную возможность Homo sapiens, разум, главным его врагом, а творца иллюзий, психику, – гарантом стремления к «объективному» совершенству, Достоевский беспрецедентно же и «навредил» («польза» от литературы всегда невелика) человеку. Итак – сон. Разумеется, Роде приснилось детство. Обратим внимание: в контексте предлагаемых гонителями разума духовных ценностей дети и женщины как наименее подверженные чудовищной заразе интеллекта становятся носителями высшей мудрости, то есть интеллектуальной невинности (собственно глупости) или невменяемости (глупости же). Вообще вещий сон полон символов, и если его анализировать в контексте целого романа – это составит тему отдельного исследования. Тут и вечер, и окраина городка, кабак, пьянство, кладбище, насилие, кровь, убийство... Нас же заинтересует прежде всего «маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка», которая, надрываясь, тянет телегу с пьяными мужиками и бабами. «Лядащая кобылёнка», не в силах тянуть пьяную ораву, к тому же погоняющую и засекающую клячу кнутами до смерти, от бессилия начала лягаться. Кругом хохот. Кобылёнку свирепо «принимают в шесть кнутов» («по глазам хлещи, по глазам!»), а потом добивают «длинной и толстой оглоблей». Бедный мальчик, который во всех подробностях наблюдал эту дикую сцену, «с криком пробивается (...) сквозь толпу к савраске, обхватывает её мёртвую окровавленную морду и целует, целует её в глаза, в губы…» Поведение бедного Роди не слишком напоминает действия того, кто вскоре, проснувшись, топором расправится с беззащитными женщинами, не правда ли? Какая связь между сегодняшним сном и завтрашним убийством? «Слава богу, это только сон! – сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. – Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон!» Всё тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил локти на колена и подпер обеими руками голову. «Боже» – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, 216 тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?» (Именно, именно так всё и произойдёт! Сегодня это назвали бы феноменом самореализующегося прогноза. – А.А.) Он дрожал как лист, говоря это. «Да что же это я! – продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, – ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь ещё вчера, вчера, когда я пошёл делать эту... пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то? Чего ж я ещё до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило... Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчётах, будь это всё, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я же всё равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю! Чего же, чего же и до сих пор...» (Весь этот монолог воспринимается существенно иначе, если иметь в виду, что он-таки «решится»... – А.А.) Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашёл и сюда, и пошёл на Т–в мост. Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи! – молил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!» Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» Не правда ли, неожиданный поворот событий? Такого Раскольникова Роди мы ещё не видели, и наличие такого Раскольникова делает последующее зверское убийство, как ни парадоксально, как бы и «предстоящим исполнением», как бы фазой большого замысла, для которого и «берегли» «великое сердце» Родиона. А если нет – роман можно заканчивать. Психика, словно загнанная клячонка, сопротивляясь в отчаянии, совершила свой последний подвиг: остановила «заколдованного» Родю у последней черты. Всё ясно, как божий день: даже если преступление («проклятая мечта») – благо, душа не принимает, просто не в состоянии принять убийство как способ предотвращения другого убийства. Всё: свобода, облегчение, отречение. Чары ума бессильны. 217 Роде-то, положим, всё как бы ясно – но не другим потенциальным «умникам», ради вразумления которых и писался предостерегающий, евангелический по архетипу «рассказ». Ради них Раскольникова отправили на Голгофу. Впрочем, самому Родиону тоже всё было ясно до поры до времени... Что же могло произойти за столь короткое время, – считанные часы!– чтобы душа вновь оказалась готовой к преступлению? А ничего не произошло. Воскрешение души оказалось всего лишь последним содроганием кобылёнки. Метастазы логики настолько глубоко поразили даже «детские» очаги души, что достаточно было «в высшей степени случайной встречи на Сенной», чтобы чары вновь опутали нетвёрдую душу доброго Роди. Стоило ему «вдруг, внезапно и совершенно неожиданно» (мастерство оттеночных градаций в романе – на уровне эксцентрики) узнать, «что завтра, ровно в семь часов вечера» Лизаветы, старухиной сестры не будет дома, «и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, останется дома одна», как сон (жизнь!) был забыт, а явь (чары!) затуманила рассудок. «До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошёл к себе, как приговорённый к смерти. Ни о чём не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что всё вдруг решено окончательно». Вот это и есть высшее психологическое мастерство как способ лепки персонажа. Подлинное воскресение души возможно только через подлинное страдание, следовательно, через подлинное преступление. Искушение Родиона Раскольникова, испытавшего однажды обаяние смерти, не могло развеяться само по себе, всего лишь контрдвижением души. Если ты не Сонечка, надо жизнью воспитать вкус к страданию, перестать бояться его и через него идти к воскрешению. Итак, через преступление – к воскрешению. Иной, усечённый путь, – это всего лишь жалкий экстерн вместо подлинных университетов, всего только слова, слова. Необходим же титанический, непередаваемый словами труд души как самый главный аргумент против козней разума. И Родион Романович Раскольников вступил на Голгофу. Добро пожаловать вслед за ним, читатель. 7 «И во всём этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений». Изрядно сказано. Как бы ничего утверждать нельзя с полной уверенностью, однако есть основания полагать, будто какие-то силы не дремлют. (Мы же отметим и такую «как бы странность»: «всё это дело» уже рассматривается и с позиций обновлённого, раскаявшегося Раскольникова. Это придаёт повествованию пикантность скрытой поучительности, ауру 218 притчевости.) Как бы то ни было, преступление было совершено не случайно (иначе роман был бы другим). В закономерности преступления (предрасположенность к которому – чрезмерное увлечение мыслями и теориями) заложена закономерность наказания, что, собственно и отражено в названии романа. Концепция «преступления» нам более-менее ясна. В чём же содержится суть наказания? Или: как вечная душа берёт реванш у всего лишь «новомодного» неверия? Легко сопоставить проблематику и логику разворачивания «вопросов» в «Войне и мире» и «Преступлении и наказании», чтобы убедиться, что они при всём своём духовно-поэтическом несходстве находятся в одной культурной траншее, по одну сторону баррикад: их объединяет то, что у них общий враг. Раскольников начал свой путь, словно Сонечка, с лепета молитв, продолжил как величайший грешник и закончил (в романе) как родственник и, если так можно выразиться, единомышленник Христа. Версия «возрождения» заслуживает внимания не потому, что она истинна (она, как мы сказали, неглубока и бессодержательна), но потому, что она неприлично типична, то есть универсальна. Это типичная версия «верующих» и «презирающих» (вследствие панической боязни и чувства неполноценности) рассудок. Прежде, чем мы рассмотрим данную версию через детали, позволяющие концентрировать в себе целое, отметим тот немаловажный нюанс, на который мы обратили внимание анализируя «Войну и мир». Уже само прогрессивное понимание человека как сложнейшей информационной системы, в которой информация логическая соотносится с чувственно-эмоциональной, инстинктивной и даже физиологической (вспомним: Раскольников в распивочной, куда он спустился после «пробы» в гадчайшем расположении духа, выпил стакан холодного пива – и буквально преобразился, духовнопсихологически преобразился: «Всё это вздор, – сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какойнибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения!»), требует уточнить: что имеет в виду автор «Преступления и наказания» под «рассудком» (разумом, умом, мыслью, интеллектом, сознанием)? Он имеет в виду примерно то же самое, что и автор «Войны и мира», высказывая свои соображения устами весьма неглупого Порфирия Петровича. Во втором раунде интеллектуально-психологического поединка сей «буффон» размышляет: «(...) вы, батюшка Родион Романович, уж извините меня, старика, человек ещё молодой-с, так сказать, первой молодости («старику», напомним, тридцать пять лет; уж не бодростью ли души меряет свой век умный, «кой-что знающий» Порфирий? не ум ли, настоящий, не игривый ум, состарил его? – А.А.), а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодёжи. Игривая острота ума и отвлечённые доводы рассудка вас соблазняют-с. И это точь-в-точь как прежний австрийский гофкригсрат, например, насколько то есть я могу судить о военных 219 событиях: на бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, всё остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал-то Мак и сдаётся со всей своей армией, хе-хе-хе!» Итак, под разумом имеется в виду тип «игривого ума», падкого на «отвлечённые доводы рассудка» – тип одномерного, схоластического, пустого ума. Если так понятый «ум» делать врагом, то роман во многом оказывается прав. Но другого ума в романе попросту нет, следовательно, «отвлечённый ум» – это весь ум, по Достоевскому, ум как таковой. И вот здесь-то уже роман обнаруживает свою концептуальную пустоту. Даже в своей знаменитой «поэме» «Великий инквизитор», изложенной устами Ивана Карамазова, демонстрирующего дьявольскую изворотливость и, разумеется, бесплодность интеллекта, Достоевский противопоставляет «свободу выбора», «свободу, свободный ум и науку» – «чуду, тайне и авторитету». Не столь важно, какая позиция в этом, якобы, безысходно закрученном, интеллектуальном ребусе «от лукавого», а какая «от бога». Гораздо важнее что – чему противопоставлено. Результаты противостояния так обозначенных противников-субъектов также вполне предсказуемы. «Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна» (конец главы 3, книги 5 «Братья знакомятся»). Так понятый ум, естественно, стремится к темноте, в которой сокрыты коварные козни: чудо и тайна; что касается прямой и бесхитростной, «невиляющей» «глупости» (в этом кокетливом контексте – сверхума, подлинного ума), то она и является приверженцем «свободного выбора». За психикой, по Достоевскому, закреплена «прямота и честность», за умом (под которым понимается исключительно игривый и виляющий ум, то есть собственно психика с её классическими функциями) – «подлость». Чего не сделаешь ради благой цели! Ум, в соответствии с собственной психической потребностью, должен быть скомпрометирован любыми способами. А самый лучший способ – самый невероятный, диалектический: чёрное выдать за белое. Триумф психики предрешён, а терминология дело десятое. Если прочитать «поэму» в нашей терминологии, то жуликоватый ум есть не что иное как замаскированная психика («ум подлец» – это о психике), а честная глупость – ум. Великий инквизитор в результате выкладок ума приходит к ложно-мудрой теории; а Сын Божий, веря, что люди сердцем угадают неправоту тех, кто взялся «исправлять подвиг» его, непоколебимо отстаивает правоту своих, нелогичных и нецелесообразных, с точки зрения ума, подвигов. «Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет!» – догадывается «умудрённый» верой Алёша. Вера, в который уже раз, не пересекается с умом; она существует в ином (понятно, высшем, выше третьего) измерении. Вопросы веры – «это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трёх измерениях» (Иван Карамазов). 220 Ум «посрамлён» одним только наличием веры, легко и просто. Как видим, ничего принципиально нового Достоевский не предложил, да и не мог предложить. Всю жизнь, будучи в плену у иезуитски лживой психики, он был уверен, что разоблачает гнусные проделки ума – таков эффект иронического бумеранга поражающего тех, кто смотрит на человека «снизу» – «вверх» (психически интерпретирует разум, причём по разумной же технологии и языком разума: другого не дано). Он достаточно глубоко разобрался в логике «верха» и «низа» – но только поменял их местами. Тут уместно обратить внимание на немаловажный нюанс: Достоевский, предтеча модернизма, заблуждался искренне, и он не покушался на саму систему координат, на понятие «верха» и «низа». Его последователимодернисты упразднили саму систему координат, избавившись от традиционной морально-нравственной шкалы. Не стало ни верха, ни низа, ни хорошо, ни плохо. Достоевский непосредственно не стал идейным предшественником ниспровергателей, окончательно запутавшихся в проблемах человека и, в конце концов, объявивших эти проблемы несуществующими. Достоевский, поменяв качества полюсов в человеке, целиком относится к традиционной культуре. 8 А теперь вернёмся к «наказанию». Оно не просто соразмерно, адекватно преступлению; наказание помогает до конца понять смысл преступления и в этой связи – его бесперспективность в качестве способа решения проблем человека. Кроме того, наказание, как мы уже убедились, существовало задолго до преступления, родилось как бессознательная душевно-психологическая реакция на идею преступления. Наказание сопровождало и сам момент преступления, как диалектическая тень, а впоследствии (см. Эпилог), наплевав на диалектику, не оставило никаких шансов самой идее преступления. Большие кошмары Родиона начинаются как бы с мелочей. «Почти машинально» (машина, логика, механика, нежизнь, смерть: всё это рядополагающие ассоциации) убив маленькую старушку, он, будучи «в полном уме», почувствовал отвращение к тому, что он делает: «Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что он услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нём. Ему вдруг опять захотелось бросить всё и уйти». Душа сопротивляется. Но пока ещё слабо, неубедительно. Однако и ум уже в момент преступления стал утрачивать прежнюю уверенность и невозмутимость: «(...) он (Раскольников – А.А.) всё ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а всё суёт». И всё же с помощью отвлечённого ума, можно сказать, вследствие целой логической операции, удалось обнаружить ценные вещи. 221 Но тут происходит второе, «совсем неожиданное убийство» – Лизаветы (незапланированное, непросчитанное). «И если бы в эту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, всё отчаяние, всё безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств, ещё остаётся ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы всё и тотчас пошёл бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нём с каждою минутою. Ни за что на свете не пошёл бы он теперь к сундуку и даже в комнаты». Но это были цветочки. «Правильнее видеть и рассуждать» – значило подругому рассуждать, по-сонечкиному, от сердца, приняв к сведению «ужас» и «отвращение». Но если бы он умел так «душевно рассуждать», то и роман бы писать не имело смысла. Роман, а вместе с ним и наказание, и стали способом обучать сердечно-мудрому отношению, излечивать от хворобы внутреннего раскола, когда человек мыслит и чувствует раздельно, будучи правым и в мыслях, и в душе. Вот этот западный вирус раскольничества и решил наказать, на корню извести Достоевский, романтик, не справившийся даже с «великим» инквизитором. На самом деле все эти великие и ужасные инквизиторы, грандиозные расколы и катаклизмы, карамазовщина и идиоты, бесы и агнцы в другом, не в сонечкином, в научном измерении называются взаимодействием не вполне здоровой психики с сознанием – взаимодействием, сообщающим последнему карикатурные импульсы, которые приводят к тому, что созданный воображением писателя воображаемый же мир стонет и корчится, испытывая воображаемые боли. Нет в реальности таких проблем. Но если бы они были, виртуальный человек Достоевского (достоевщина) корчился бы именно так, как и «предчувствовал» великий и ужасный в своих пророчествах Фёдор Михайлович. Вот если бы у человека вдруг выросли крылья, то... Если бы да кабы... Достоевский блестяще специализируется на ощущениях человека, у которого внезапно и вдруг прорезались крылья, и он то взмывает, то камнем низвергается долу. Этакие русские горки. Реальность виртуального – вот тема писателя. Забавная, конечно, тема. Но таких проблем – «убить или не убить?» – для человека нормального не существует. Роман не о том человеке, не о той жизни. Но делать нечего: читаем тот роман, что есть. Противореча себе же, отметим, что реальный человек даёт-таки повод для такой традиционно-виртуальной интерпретации. Достоевский велик не в том, что он понял и открыл миру некую ипостась реального человека, а в том, что он гениально прописал реальные механизмы превращения реальности в виртуальность и наоборот; при этом он потерял, растворил человека на границе мира объективного и несуществующего, реального и психического. Такова реальная цена за «прорыв» в виртуальность. Достоевский 222 всю жизнь старался проточить хоть малюсенькую дырочку в занавесе, отделяющем жизнь от смерти, этот мир от того, как бы горнего, и, кажется, убедил и себя, и многих других в том, что это ему удалось. Если бы тот мир был, то Достоевский был бы не только великим писателем, но и великим мыслителем. Но поскольку это не совсем так, а, похоже, совсем не так, то великий писатель оказался виртуальным мыслителем. Это даже более невероятно, чем похождения Раскольникова, но это так. Это реальность, в которую трудно поверить; в Раскольникова же верить как раз хочется – но это «сказки», как изволил выразиться Германн, здраво относившийся к чудесам. Миф о том мире и самого Достоевского превращает в миф: такова реальность. А теперь вернёмся к реальности романа. Мы оставили бедного Раскольникова в квартире убиенных им Алены Ивановны и Лизаветы Ивановны, за дверью, запертой на крючок; в квартиру остервенело звонил Кох. Но этот Кох чудесным образом «сдурил», проворонил Раскольникова, спрятавшегося в пустой квартире второго этажа, которую, «как нарочно», именно в этот момент покинули рабочие. Воровато крадущийся преступник не встретил никого ни на лестнице, ни в подворотне, ни в дворницкой... Словом, повествователь с самого начала устроил всё так, чтобы Раскольников счастливо избежал свидетелей, улик – а потом и юридической, уголовной ответственности за преступление, оставив только «эфемерную», моральную-психологическую сторону наказания. Для чистоты эксперимента никаких фактических улик против «протестанта» (протестующего бунтом) Раскольникова в руках следствия не оказалось. Одна психология. Родион Романович ставит свой эксперимент, а повествователь – свой. Очнувшись от забытья (не от сна: забытьё – отдых уму, но не душе) в своей каморке, среди ночи, Раскольников пережил, натурально, волну сумасшествия. «Уверенность, что всё, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. “Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!”» Предчувствуя, что казнь неотвратима, Раскольников испытал «такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели», что на всё махнул рукой. Однако через несколько мгновений в конторе квартального надзирателя, куда Раскольникова вызвали по ничтожному поводу, он пережил «минуту полной, непосредственной, чисто животной радости». «Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности – вот что наполняло в эту минуту всё его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов». Вот амплитуда ощущений: от «цинизма гибели» до «торжества самосохранения» (собственно – «цинизма» самосохранения). Душевный маятник сразу же отмерил полюса и принялся методично раскачивать теорию Раскольникова, не давая ему покоя. Мгновением позже той минуты, когда Родион Раскольников был охвачен «торжеством самосохранения»: «ему вдруг 223 стало самому решительно всё равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. (...) если бы вдруг комната наполнилась (...) первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни единого человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его. (...) С ним совершалось чтото совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. (...) он никогда ещё до сей поры не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее – это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений». К «цинизму гибели» тут добавляется «ощущение уединения», мучительное, мучительнейшее – словом, дальше, казалось бы, некуда. Но человеки Достоевского умудряются испытывать ещё более «бесконечные» состояния (а писатель ухитряется их фиксировать). В этих ощущениях, в разительно контрастной инкарнации душевных состояний и состояло, собственно, наказание недооценившего власть души над личностью и увлёкшегося поверхностными выкладками ума Раскольникова. Возвратившись от квартального и удачно спрятав «конфискованные» у старухи вещи, «схоронив концы» («Всё кончено! Нет улик!»), Раскольников вновь истерически возликовал: «Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение. (...) И он засмеялся. Да, он помнил потом (в очередной раз загадочно обронённое «помнил потом»: то, что «сейчас» убедительно, «потом», при смене координат, выглядит нелепо; постоянное совмещение хронологическо-психологических планов делает душу космически безмерной, неподвластной жидкой «арифметике» – А.А.), что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и всё смеялся, всё время как проходил через площадь» (на этой же площади ему потом будет не до смеха – А.А.). Однако «смех его вдруг прошёл» (в самом душившем его смехе, реакции на чрезмерную радость, угадывались спазмы казни). «Вдруг» – в данном случае означает «как бы немотивированно». На самом же деле исчезновение смеха, одного из симпатичнейших проявлений человеческой атрибутики, превратило Раскольникова в человека, который не смеётся, следовательно, не общается, ибо смех есть реакция на удовольствие от общения. В нелюдя. Смех сменился «новым непреодолимым ощущением»: «это было какое-то бесконечное, почти физическое, отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, – гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил..». «Вдруг» (то есть независимо от сознательной воли, исключительно по наводке бессознательного) он оказался у дома Разумихина, поднялся к нему – и 224 «чуть не захлебнулся от злобы на самого себя, только что переступил порог Разумихина», потому как «сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете» Раскольников был «всего менее расположен в эту минуту». «Общение» с Разумихиным, конечно же, закончилось разрывом. (« – Да у тебя белая горячка, что ль! – заревел взбесившийся наконец Разумихин. – Чего ты комедии-то разыгрываешь! (...) Зачем же ты приходил после этого, чёрт?») Это была первая «проба» «чёрта» войти в мир людей, из которого он вышел, прорубая дорогу топором, по трупам. Следующий контакт с людьми вышел более, чем озадачивающим. «Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски (...). « «Удар кнута так разозлил его, что он отскочил к перилам (неизвестно почему он шёл по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защёлкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех». Во-первых, известно, почему он шёл там, где не ходят: он всё делал не полюдски; кроме того, уже скоро Мармеладов будет раздавлен «одной коляской»... Кто знает, чего искал отверженный на «самой середине моста, где ездят, а не ходят». Во-вторых, «укусил бы, кажется» и «злобно защёлкал зубами» говорит о том, что «проклятая мечта» не возвысила Раскольникова над людьми, а низвела его до звериного состояния. Логика наказания – логика не разума, а души, подсознания, psyche – заключалась в том, чтобы отделить изверга, выбросить его из круга людей – до тех пор, пока он сам не затоскует по человеческому облику. Однако и наказывать следует по-христиански, по-человечески. Вслед за ударом кнута и смехом (что ни говори, а это тоже форма человеческого общения, наказание зеваке или «выжиге», одному из своих, но не преступнику) ему, «ради Христа», сунули двугривенный. Сначала он «зажал» монету – и в этот момент «оборотился» лицом к куполу собора, к небу «без малейшего облачка». Но всё это знаки-знамения повествователя, не несущие для Родиона позитивной информации, а свидетельствующие о его потерях, так как этот «чёрт» находился духовно в иной системе координат. «Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил её в воду; затем повернулся и пошёл домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту». Логично. А вот и кульминация, где чётко проступает смысл наказания: «Я один хочу быть, один, один, один!» – «в исступлении вскричал» Раскольников уже после своей четырёхдневной болезни (последовавшей за преступлением), «лихорадочного состояния, с бредом и полусознанием». Описанное состояние не было эпизодическим, это был перманентный, негасимый, ровный огонь адова пламени. «Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить…» Это уже ощущения после встречи с родными. Излишне говорить, что одиночество есть 225 психологическая проекция смерти: если можно переживать ощущения умершего, то они близки к отчаянию полного одиночества. 9 Параллельно с наказанием развивается и другой сюжет, связанный с первым, однако в принципе автономный. Мы имеем в виду сюжет преступления, конечно, которое не закончилось убийством, как не с него оно и началось. Уже терзаясь наказанием, Раскольников и не думает отказываться от преступных мыслей. В тот момент, когда «наказываемый» Родион направлялся к Разумихину, «смотря кругом рассеянно и злобно», мысли его начинают новый виток, модернизируя теорию в свете новых реалий. «Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, – и он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим главным пунктом, – и что это даже в первый раз после этих двух месяцев». Загадочный «главный пункт» мыслителя из каморки был элементарен: если убийство старухи было актом «сознательным», идеологическим (Раскольников, как бы выразился Разумихин, «полез в направление» прежде чем взяться за топор), а не спонтанным, «дурацким», и если целью убийства было завладеть деньгами старухи с «определённой и твёрдой целью», – «то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелёк и не знаешь, что тебе досталось, изза чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шёл?» Вот эта неувязочка и беспокоит Родиона Романовича. Впрочем, как тут же выясняется, «совсем это не новый вопрос для него» и, что важнее всего, вопрос решённый: «чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал..». А решение такое: от «футляров» надлежит решительно, «безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно» – избавиться. Если это крах теории (и роман кончился, едва начавшись), то грош цена такой теории и теории вообще. Это не могло устроить повествователя, так как над грошовой теорией и победа не дорога. Повествователь же по-наполеоновски замахнулся на полное и окончательное торжество душевной регуляции над умственной, что привело бы к посрамлению вертлявого разума. Повествователь жаждал триумфа. Для этого необходимо было показать силу теории, поэтому сюжет преступления становится «главным пунктом» романа. Наивная «теория» Раскольникова, наивно выдаваемая повествователем за новое слово, оригинальное «направление», действительно гроша ломаного не стоит, однако не по причине недостаточной её, теории, аргументированности, а по причине того, что в основание теории легли надуманные, бредовые, произвольные допущения. Похоже, сам факт того, что любой бред может стать 226 «направлением», не на шутку беспокоил Ф.М. Достоевского. Все теории романа (все теории мира?) изготавливаются по матрице, «выболтанной» разгорячившимся Разумихиным: «Ну, да хочешь, я тебе сейчас выведу, – заревел он, – что у тебя белые ресницы единственно оттого только, что в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком? Берусь! Ну, хочешь пари!» Ведь это не что иное, как скрытая нападка на диалектический стиль мышления, который злобненько травестируется, пародируется, низводится с высоты Ивана Великого до кочек пигмейщины. Всему этому диалектическому «маразму» (ещё и подлому), по Достоевскому, может поставить заслон не другая столь же высосанная из пальца теория, а токмо «живая душа». Вот здесь и ловушка. Каждый, кто всерьёз отнесётся к теории Раскольникова, попадёт мало сказать в глупейшее положение – в нелепейшее и заведомо проигрышное положение, ибо он на виду у всего мира собирается сражаться с тем, чего нет, с фантомом, плодом возбуждённого воображения-ума ненормально впечатлительного студента. Теории как таковой – нет, они делаются иначе, изготавливаются по иной познавательной технологии. У «теории» Раскольникова благородная функция скомпрометировать теорию (помните данайцев, дары приносящих?): логически ловко сколоченная и не допускающая противоречий (у же в одном этом – приговор серьёзной теории) система идей так называемого «идеологического романа» призвана обнаружить глупость разума (то есть «глупость» именно того, что и не закладывалось в жиденькую теорию, не присутствует там – того, чего нет), дезавуировать рациональное доктринёрство. Роман Достоевского производит впечатление самоката, оснащённого компьютерами, или динозавра в качестве овчарки. Допотопная, средневековая, в сущности, технология мышления в причудливом сочетании с самой что ни на есть современной психоаналитической аранжировкой делают роман бесподобным курьёзом. В терминологии того же Разумихина «главный пункт» романа обозначен как оппозиция «математической головы» и «живого процесса жизни», «живой души». «Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!» «С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион!» Все эти достаточно «механические» формулировки взяты из живой полемики о природе преступления, где разбираются две позиции. Одна позиция («математическая», социалистическая): «среда заела», «натура не берётся в расчёт». Поменяйте среду – получите нормальную личность и, следовательно, нормальное общество. Вторая: преступление выводится непосредственно из натуры, из подозрительной живой души. Самое любопытное в рассуждениях Разумихина – резюме по поводу первой позиции: «Самое лёгкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не 227 надо! Главное – думать не надо!» Если следовать сверхлогике Разумихина (за язык которого дёргает повествователь), получается, что Раскольников был всего только логичен, но он не думал. Думать – это учитывать миллион случаев. «Думать» и «логически рассуждать» чётко и недвусмысленно разведены как антиподы. Вывод напрашивается такой: живая душа сама думает, и не логикой берёт, а как-то иначе, подозрительно для разума. Сколько ни жонглируй терминологией, суть не меняется: «живая душа» «умнее» «математической головы». В сущности, роман – это игра в поддавки, которая преподносится как схватка Бога с дьяволом. Весь роман и является по названным причинам грандиозной мистификацией. И спорить надо не с Раскольниковым, повествователем или Сонечкой, а с тем, что роман как форма приспособления человека к своему неумению «поделить» «ум» и «душу», развести функции психики и сознания, выдаётся за способ познания человека. Достоевский может заинтересовать науку о человеке в качестве поэта, который, как водится, стал больше, чем поэт, то есть в качестве творца, в произведении которого сказалось больше, чем он намеревался сказать. «Образы» оказались умнее поэта. А в этом качестве Достоевский действительно немало напророчествовал. Если принять за ум то, что за него выдаётся шарлатанами от мышления, адское пекло может стать реальностью. Это наше резюме из «Преступления и наказания», то, что сказалось помимо воли Достоевского. Говорит же он, сознательно вкладывает в свои образы, нечто совершенно из другого измерения, а именно: то, что выдаётся за ум (в частности, Раскольниковым или повествователем), то умом и является, то кажется истинным, хотя на самом деле – ложно; а другого ума и не бывает – вот почему противопоставить мышлению можно и нужно не лучшее, совершеннейшее мышление («лучшую», «совершеннейшую» ложь), а другую, истинную природу человека. Если иметь в виду, что теория Раскольникова и весь его копеечный надрывный бунт (идеологическая заморочка достаточно примитивного пошиба, не более того) на деле есть мистификация, – с такой поправкой анализ теории неминуемо превращается в анализ мистификации. 10 Вкратце философия Раскольникова, напоминающая ребус Великого инквизитора, сводится к следующему. Сам Родион изложил её ещё в первом своём (из трёх) психологическом поединке с Порфирием Петровичем при обстоятельствах весьма и весьма неординарных. Следователь безо всяких доказательств, сразу, непосредственно, определил преступника – и дальнейшая его, следователя, проблема заключалась 228 в чисто профессиональной доводке дела до соответствующего конца: суда, приговора и проч. Раскольников в смысле интуиции тоже был не лыком шит и мгновенно учуял, что Порфирий Петрович «знает»: «”Знает!” – промелькнуло в нём как молния». Разговор (диалог, если угодно) шёл начистоту, задиристо, с взаимными провокациями, шёл не в юридическом, а в философско-психологическом ключе. Русский, душевный разговор, начался вызовом и превратился в поединок. Раскольников не считал нужным скрывать то, что, по сути, являлось мотивами, и даже философией преступления. Почему? Раскольников не признавал себя преступником, он был выше самой ситуации «преступник – следователь – преступление». Ось человеческих координат, ось кристаллизации всех мотивов поведения была принципиально иной, сверхчеловеческой. О проработанности «вопроса» свидетельствует наличие некой «статейки» Раскольникова (подписанной, впрочем, одной буквой; с дальним прицелом?) с немудрёным названием, по словам Порфирия Петровича, «”О преступлении”... или как там у вас». Статейка свежая, двухмесячной давности. Тогда ещё статья не задумывалась как идеологический фундамент преступления, но в свете последних событий она стала именно программой Раскольникова. Хотя насчёт «не задумывалась» как сказать... Уже мысль, сама по себе мысль, академическиневинные комбинации смыслов потенциально преступны, ибо, как смертельный вирус, оживают в изменившейся среде. Подумал – ещё не сделал; но не подумаешь – не сделаешь. Дело в том, что – раскроем секрет повествователя, о котором он и сам, возможно, не очень осведомлён, – сознание Раскольникова, равно как и автора с повествователем, отличается подлинной религиозностью, что предполагает постоянное пребывание на границе бытия, здесь и сейчас – с небытием, с вечностью. Такая пограничность делает границы сфер бытия и небытия условными, проницаемыми, а сами сферы – сообщающимися. Маргинальность, рзвёрнутость и открытость одновременно в разные миры – вот психология религиозности. И это ощущение невозможно передать, не прибегая к психологии. А психология сама по себе маргинальна: она чревата сознанием, но предпринимает всё, чтобы вытравить из себя сей нежелательный плод, делая вид при этом, что она заботится прежде всего о сознании... «Живая душа» боится только одного: подлинной диалектики, то есть «живого мышления». Теперь понятно, что психологизм «генетически» связан с религиозностью, первый является способом реализации второго. Вот откуда эти зыбкие семантические планы и ракурсы: вроде бы написал статью – но как бы забыл о ней; вроде бы подписал – но буквой; вроде бы и не замышлял ничего – ан старуха-то убита... Вот пусть разум, с его одиозной логической трёхходовкой, попробует разобраться в этих лабиринтах «живой души», в душных потёмках чужой psyche. «Игривенькая», «психологическая-с» «идейка» Порфирия 229 Петровича в том и состояла: «Ведь вот-с, когда вы статейку-то сочиняли, – ведь уж быть того не может, хе, хе! чтобы вы сами себя не считали. – ну хоть на капельку, – тоже человеком «необыкновенным» и говорящим новое слово, – в вашем то есть смысле-с... Ведь так-с?» – Очень может быть, – презрительно ответил Раскольников». А сейчас самое время предоставить слово самонадеянному разуму. Уже в статейке «намёком, неясно», по словам вдумчивого и заинтересованного читателя Порфирия Петровича, проводится мысль, что все люди «как-то» разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Последние «имеют право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия», – в том случае, если цель оправдывает средства. А цели такие – в принципе возможны. Значит возможны и ситуации не преступления даже, а всего только перешагивания через препятствия. Главная мысль Раскольникова («я только в главную мысль мою верю», иными словами мысль без веры – ничто): люди по закону природы (пока что неизвестному) делятся на два разряда: на «низший», на «материал», массу и толпу, и «собственно на людей», которых «необыкновенно мало рождается, даже до странности мало». Низшие, обыкновенные для того только и существуют, чтобы породить «великих гениев, завершителей человечества», оправдание, цель и смысл существования «материала». Люди из разряда «высшего» – по определению, «по природе своей» преступники, ибо призвание их в том и состоит, чтобы переступить то, что мешает прогрессу. Таким образом, речь не идёт о преступлении ради преступления, а о преступлении с прогрессивным и даже с либеральным оттенком. Преступник становится преступником – во имя «материала», в конце концов, а потому, по трезвом размышлении, являет собой нечто вроде качества, образованного в результате диалектического скачка. Родился не преступником – ради «массы» идёт на преступление. Речь идёт о разумном преступлении, о совестливом преступлении – словом, не о преступлении в обычном смысле этого понятия. Это – собственно теория, согласно которой гений и злодейство – две вещи неразделимые. А дальше начинаются психологические идейки, вытекающие из смелой, гениальной, может быть, генеральной теории. Порфирий Петрович: «Ну как иной какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он Ликург али Магомет... – будущий, разумеется, – да и давай устранять к тому все препятствия..». Раскольников и здесь всё продумал: «ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть «обыкновенных» людей». И они действительно ошибаются. Но это уже, так сказать, издержки того самого закона. И если «обыкновенный», вдруг возомнивший, что он Наполеон, ошибётся, то пусть страдает, пусть испытывает муки совести. «У кого есть она (совесть – А.А.), тот страдай, коль сознаёт ошибку. Это и наказание ему, опричь каторги». 230 А это уже главная мысль романа, как любило выражаться марксистское литературоведение. Раскольников, если посмотреть на него с позиций его же теории, оказался лже-Наполеоном, человеком, перепутавшим разряды: «(...) я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался..». Здесь заслуживает внимания то, что Раскольников целиком и полностью остаётся в кругу, очерченном холостым ходом мыслей, его попутал и водит ехидный бес. «Эх, эстетическая я вошь» и «дрожащая тварь» – изгаляется над собой, «обыкновенным», Родион Романович с высоты трона, который ему уже никогда не занять. «Потому, потому я окончательная вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому что сам-то я, может быть, ещё сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью!» Итак, муки совести, «опричь каторги» или даже вне каторги, а также острейшее, до припадков, до помешательства переживание собственной ничтожности – вот внешний, «детективный» сюжет романа. Подспудный, главный сюжет – разрушение теории и высвобождение «живой души». Если ты «предчувствовал», что окажешься «вошью», то зачем же ты, спрашивается, убивал? А затем и убивал, что «верил в идею» больше, нежели «в Новый Иерусалим», «в Бога», «в воскресение Лазаря». «Идея» – и «живая душа»: таковы стороны суперконфликта романа. Сюжеты пересекаются, и Раскольников, цепляясь за свою теорию, страданием прокладывает себе путь к возможному воскрешению, терзаясь при этом комплексом Наполеона. Перед нами, опять же, своего рода Евангелие; не случайно окончание срока каторги расчётливым повествователем приурочено к тому возрасту Раскольникова, в каком были совершаемы деяния зрелого Христа. 11 Логично было бы предположить, что именно тогда, когда Раскольников острее всего переживал своё унижение и, соответственно, в момент, когда торжествовала его теория, – именно на этом этапе романа должна была произойти встреча Родиона с «вечной Сонечкой». Причём несложно вычислить в общем плане и обстоятельства, которые непременно должны были сопутствовать «внезапной» и судьбоносной встрече. В сконструированном романе, конструкция которого направлена против «математической головы» и конструкции вообще, всё происходит до карикатурности «конструктивно». Родион и Соня – это непосредственная точка пересечения или момент скрещения двух сюжетов. Собственно, Сонечка, как мы уже отмечали, есть 231 отделение, объективация «лучшего» (в системе координат повествователя), что есть в мятежном Родионе. Едва очнувшись после четырёхдневной болезни, Раскольников уже тогда понял, «что не хочет так жить». А как хочет? «Об этом он не имел понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль: мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы всё переменилось, так или этак, «хоть как бы то ни было», повторял он с отчаянною, неподвижною самоуверенностью и решимостью». Это первый ультиматум «живой души», бунт иррационального против каких-то там законов. Он был близок к тому, чтобы не разумом, а чувством определиться: по какому разряду жить? Сама идея разрядов ещё не ставилась под сомнение, поэтому требование «перемен» – это требование определённости. Но уже сам факт того, что Раскольникова тошнило от идеи, что судьбоносное решение принимается в недрах души – есть симптом выздоровления, восстановления попранных было «верха – низа» в иерархии духа. В таком состоянии кандидата в Ликурги потянуло к людям. Он вернул им, обыкновенным, должок: «вынул пятак и положил в руку девушке», которая «уличным» голосом «выпевала романс» под аккомпанемент шарманки. Уж куда обычнее: те самые, униженные и оскорблённые. Но вот ведь незадача: «Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику «будет!» (...)». То Раскольников «отрезал» себя от людей, а теперь «материал» не признал своего Наполеона и, так сказать, принял вызов: тоже вернул долг, «отрезал». И господин, к которому обратился Раскольников с невинным вопросом «любите вы уличное пение?», и даже поэтически прокомментировал, обращённый (так получилось) к себе же вопрос, – господин «перешёл на другую сторону улицы». Диалога не состоялось. Тогда Раскольников «обратился к молодому парню в красной рубахе, зевавшему у входа в мучной лабаз». Потом он подошёл к толпе и «залез в самую густоту, заглядывая в лица. Его почему-то тянуло со всеми заговаривать. Но мужики не обращали внимания на него и всё что-то галдели про себя, сбиваясь кучками». Дальше его прибило к увеселительному заведению. «Его почему-то занимало пенье и весь этот стук и гам, там, внизу..». Он с удовольствием пообщался с «прынцессой» Дуклидой (этой проститутке, очевидно, с умыслом даровано имя святой мученицы) и подарил ей вместо выпрашиваемых шести копеек на выпивку три пятака. В романе, главным действующим субъектом которого является подсознание, от этой сцены – прямая дорога к появлению Сонечки. Но этому предшествовали два прелюбопытных (искусно сконструированных) обстоятельства. Первое: Раскольников шокировал своим фактическим признанием Заметова («А что, если это я старуху и Лизавету убил? – проговорил он вдруг и – опомнился».). В данном случае Раскольников 232 бессознательно «язык высунул», то есть играл с судьбой в прятки, дразня «низших» и «обыкновенных». Уж не рецидив ли это наполеономании? Никак нет, не рецидив – по той простой причине, что мания эта и не была изжита, она присутствовала и сказывалась в нём постоянно, в каждом миге жизни. Раскольников, фактически, сам лез в тюрьму, презирая и себя, и других, и наказание, хотя наказание почему-то было ему необходимо. Суровая судьба не приняла вариант такой лёгкой каторги. Второе: «неотразимое и необъяснимое желание повлекло его» на место преступления («необъяснимое» для Раскольникова, но очень даже понятное повествователю и читателю). И здесь Раскольников «высунул язык», да так, что едва не очутился в конторе, куда сам и напрашивался. Спасла психология: дескать обычно виноватый бежит от наказания, а не ищет его, не лезет в петлю. С одной стороны, бывший студент вновь переиграл работников и мещан; с другой же – провидение знало, что делало, когда «упустило» и этот шанс наказать покинувшего лоно Христово. Провидение привело его не в контору, а на перекрёсток, хотя сам Раскольников «наверно решил про контору и твёрдо знал, что сейчас всё кончится». Раскольников в очередной раз ошибся, самоуверенно просчитался, а провидение сделало ход с далеко идущими последствиями. Мармеладов был раздавлен барской щегольской коляской, именно в ту минуту и едва ли не на глазах у Раскольникова. Как говорится, прямо как в жизни, хотите верьте, хотите нет. А жизнь Мармеладова оказалась не такой уж пустой и никчемной, напротив, даже содержательной в каком-то высшем, эзотерическом смысле: благодаря трагическому случаю путь Раскольникова пересёкся с путём Сонечки. Впрочем, можно и так сказать, что «материал» работает на избранного «кумира», не щадя живота своего... С перекрёстка началась не новая, конечно, жизнь, но наметилась некая новая динамика, которая приведёт к тому, что под головой у Раскольникова окажется Библия. Разумеется, Соня явилась в парадоксальном несоответствии её не легкомысленного даже, а профессионального наряда («в цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом», и в «светлых ботинках», и с «омбрелькой», в соломенной шляпке «с ярким огненного цвета пером») с миссией и функцией, отводимыми для неё тем же неутомимым провидением. Видимость не совпадает с сущностью – очевидно, такой философский урок следует извлечь читателю. Во всяком случае повествователь упорно разводит план житейский, создаваемый усилиями и заботами человека, и тот особый вселенский жизненный узор, который ткётся явно не людским радением. По крайней мере два измерения присутствуют в поступках и сюжетах: сиюминутный и вечный, «полагание» человека и «располагание» Бога. Соня вошла последняя, «приниженная» и «расфранченная», но именно у неё на руках умирает отец, и 233 последние слова прощания были обращены именно к ней. Присутствует в этом «узоре» какая-то логика или нет? Раскольников, у которого на Соню были свои, особые виды и ставки (об этом – несколько позже), отдав несчастным людям уже не пятаки, а приличную сумму (собственно, всё, чем он располагал), вышел от Мармеладовых с «новым, необъятным ощущением вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговорённого к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение». Казалось бы, ощущение жизни, та самая вожделенная перемена произошла, наконец, и в христианском контексте рождается это ощущение жизни (перекрёсток, сочувствие, милосердие, любовь к ближнему, даже просьба к маленькой Поленьке помолиться и о «рабе Родионе», упомянув его в ряду с сестрицей Соней и папашей). Казалось бы. Но мысли Родиона о другом. «Довольно! – произнёс он решительно и торжественно, – прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил (это отклик на сцену с Поленькой – А.А.)? Не умерла ещё моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и – довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и... и воли, и силы... и посмотрим теперь! Померяемся теперь! – прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то тёмной силе и вызывая её». Раскольников явно неверно воспринял знаки, ниспосланные милосердным провидением, намекающие на то, что ещё не всё потеряно для падшего. Он трактует их как белый флаг, выброшенный судьбой. Это ведь была речь Наполеона. Раскольников был вдохновлён тем, что почувствовал себя нужным людям. Всё строго по теории: «мармеладовы» порождают защитника своего Родиона, который и бьёт «материал», и милует. По праву сильного. В целях высшей справедливости. Однако в душевной симфонии Раскольникова помимо его воли отчётливо, контрапунктом звучат несколько партий или тем. Ведь «живая душа» также ликует – но на свой лад: она заботится о воскрешении заблудшего раба, а не о возрождении маниакальных идей, защищающих право на «кровь по совести». Всё это и называется классический образец психологизма в литературе. Симфония – это не наши домыслы. Как только Родя окажется в кругу любящих его матери и сестры, но с «царством рассудка и света» за пазухой, – душа будет упорно скорбеть и противиться этому «царству». «Успеем наговориться» – сказал Родя матери; и «вдруг» – «одно недавнее ужасное ощущение мёртвым холодом прошло по душе его»; он в очередной раз уразумел, что он «отрезан», «что не только никогда теперь не придётся ему успеть наговориться, но уже ни об чём больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь говорить». Ни с кем – за исключением Сони. 234 Об этом в следующей главе, а сейчас отметим, что в сценах, подобной той, где восстанавливается пошатнувшееся «царство рассудка», проявляется высшее мастерство Достоевского, которому с удивительным правдоподобием удалось совместить в душе героя его правду и правду повествователя. Иначе говоря, правду психики и правду «математического» (одномерного) сознания. Причём это именно писательское мастерство, а не только великий дар психолога. Впечатляет именно умение выразить невыразимое, а не умение понять человека. Человека Достоевский как раз не понимает, а мистифицирует. 12 Расстановка внутренних и внешних сил в эпопее «раскола» в общем-то уже понятна. Какая роль отводится в этой битве кроткой, тихой Соне? Всё просто: Раскольников хочет втянуть Соню в свою наполеоновскую возню, с математической ясностью доказывая ей, что она такая же преступница, как и он. Она, вольно или невольно, совершила преступление против «живой души». Как же она несёт наказание? Раскольников и здесь ставит своеобразный эксперимент: как она, не вооружённая теорией, вообще обходясь без поддержки разума, находясь вне царства рассудка, собирается жить, просто жить, не умирать? Быть преступницей (то есть своего рода сверхчеловеком, ибо преступление совершено было осознанно, «по совести») – и отвергать саму идею преступления? Что-то здесь не так. Но математика-то в случае с Соней и буксует, даёт сбой. Под сомнение ставится вся теория Раскольникова... Преподносится этот ребус в ребусе, конечно же, фатально и инфернально, с заламыванием рук, вскрикиваниями, «невыразимым волнением» и «ненасытимым состраданием». Иконописная, знаковая поэтика (этакий муляж натуральной художественности) – утомляет и раздражает претензией на псевдозначимость и мнимую глубину. Знаков чрезвычайно много, ориентироваться в них несложно, но обилие информации, в них заключённой, создаёт ненужный информационный шум, поддерживая и нагнетая состояние истерики. Знаков много, а роман, повторим, пустой. Феномен поэтики Достоевского – совершенное воплощение весьма далёкого от совершенства взгляда на человека; стиль Достоевского – совершенен и виртуозен, но степень художественности его лучшего романа заметно уступает лучшим творениям Пушкина, Л. Толстого, Чехова. Посещение Раскольниковым Сони обставлено, как вояж в Мекку. Дом, в котором Софья снимала комнату у портного Капернаумова, был, понятное дело, трёхэтажный и зелёного цвета (весь же роман мономански отделан уныло-назойливым, болезненным жёлтым цветом; вот и в комнате у 235 Сони обои желтоватые). Вход к Капернаумову обнаружился «вдруг», «в трёх шагах от него, отворилась какая-то дверь». В одиннадцать часов пришёл Раскольников («я поздно...»), что вызвало бурю пророческого восторга с библейской начинкой со стороны крайне религиозной Сони. И т.п. Вся эта искусственная, мёртвая (потому что знаковая, а не образная) поэтика порой превращает роман в богословский трактат. Прибавьте сюда нескончаемые идеологические диалоги, смысл которых утомительно однообразен, как «жёлтый цвет»: раз за разом, словно капля камень (в романе образ бездушного камня, знаково спрятанного в имя «Пётр», – по гречески Пётр и есть камень – очень значим), подтачивать основы «царства разума», обнаруживать нечто, ускользающее от разума, дразнить разум, показывать ему язык. Короче говоря, смысл всех «испуганных и безотчётных» слов и жестов слился для Раскольникова (а это и было задумкой и высшим торжеством повествователя) в символ «всего страдания человеческого», которому он, «как совсем сумасшедший», «вдруг» поклонился, да при этом поцеловал её ногу. Что так растрогало Родю? Формальная логика Раскольникова действительно напоминает логику сумасшедшего, ибо один какой-то (тот, который «болит») фрагмент реальности отражён здраво, а в целом картина безбожно искажена, поэтому с его логикой невозможно спорить: в неё можно только верить или не верить. По правилам этого способа мыслить противоречие легко преодолевается, если ты веришь, и странным образом превращается в ошибку, если ты взялся размышлять. Сумасшедший всегда прав. Сама Соня как продукт схоластического воображения повествователя схоластически же, даже как-то «алхимически» интерпретируется болезненным сознанием Раскольникова. Нормальных читателей просят всерьёз не беспокоиться. Манипуляции же Родиона Романовича, фантазии и импровизации мысли приводят к диким и уродливым комбинациям, подозрительно смахивающим на правду. К сожалению, он, по замыслу автора, склонен верить в логический бред. Будем отделять зёрна от плевел – работа рутинная и скучная, если ясно понимаешь, чем одно в принципе отличается от другого. Раскольников восторженно недоумевает (а повествователь тем самым намекает на присутствие некой божественной непоследовательности или последовательности высшего порядка): «(...) как этакой позор и такая низость в тебе (речь идёт о жёлтом билете Сони – А.А.) рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!» Наполеону с его рационалистически устроенными мозгами не понять... Тут думать надо. «Что же поддерживало её? Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся её только механически; настоящий разврат ещё не проник ни одною каплей в её сердце: он это видел (...)». 236 Если удержаться от улыбки и отвлечься от чувства неловкости, которое всегда испытываешь, общаясь с умственно неполноценными или душевнобольными, условную, умозрительную проблему можно условно считать «неразрешимой» загадкой. Раскольникову, разумеется, необходима разгадка. «”Ей три дороги, – думал он, – броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце”. Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее». Эта последняя фраза – самое трезвое и здравое из всего, написанного в романе. Веришь в то, во что хочешь верить, а отвлечённый ум, выступая слепым исполнителем души, соорудит тебе любую оправдательную концепцию, жестоко логичную. Если бы из духа и смысла этой фразы родился роман, это был бы иной художественный мир, иная модель. Но мифы жестокого, потому как отвлечённого, скептика повествователю угодно было сделать «реальностью» романа. Скептик, в конце концов, получил то, зачем пришёл, и был, как водится, предельно обескуражен. Конечно же, он «предчувствовал», и сбывшееся наяву – посрамление скептика. Четвёртая, тайно учтённая, но не озвученная даже во внутреннем монологе, дорога Сони явно смутила нераскаявшегося преступника. « – Ты очень молишься богу-то, Соня?» (...) «Что ж бы я без бога-то была? – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку». «”Ну, так и есть!” – подумал он». (...) «Так и есть! так и есть!» – повторил он настойчиво про себя». «”Вот исход! Вот и объяснение исхода!” – решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая её». Сцена завершается более, чем логично: «юродивая», по впечатлению Раскольникова, Соня читает по просьбе Родиона про воскресение Лазаря. С чего бы это? А «вдруг». Новый Завет, чтоб уж было ещё «страннее и чудеснее», был принесён убитой Родионом Лизаветой, тоже «юродивой». (Между прочим, Елизавета – «почитающая Бога» (евр.): вот куда целил Раскольников, когда он сначала теоретически, а потом и практически убивал «тварей дрожащих».) «Тут и сам станешь юродивым! заразительно!» – безвольно сопротивлялся он чарам божественных знамений. На четвёртый день после преступления, из четвёртого Евангелия, о сути четвёртого пути: «ибо четыре дни, как он во гробе». «Она энергично ударила на слово: четыре». Лазарь, как известно, воскрес. Какие ещё нужны доказательства в пользу веры? «Убийца и блудница» лихорадочно трепещут над священным текстом: тут без диалектики явно не обойтись. Впрочем, «диалектичен» (то есть «полоумен», на взгляд Сони) оказался лишь Раскольников. (Соня с её единственным аргументом «бог не допустит» была одиозно ортодоксальна и, к её чести, «антидиалектична»; точнее, она «не удостоивала» быть диалектичной.) Он объявил Соне, что им теперь идти «по 237 одной дороге». Для Раскольникова «Новый Завет» и был исходной точкой и оправданием преступления. Именно ради спасения детей, «образа Христова», надо идти на преступление. «Надо же, наконец, рассудить серьёзно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что бог не допустит!» А рассудить серьёзно – значило: «Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!» Вот куда заводит диалектика. С другой стороны, свяжите предчувствия Раскольникова («Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе (об убийстве – А.А.) (...), когда ещё Лизавета была жива») и его «полоумные» идеи... Без диалектики вновь не обойтись. 13 Проекту Раскольникова не помешал и второй поединок с Порфирием Петровичем, сделавшим ставку на то, что преступник, Раскольников Родион Романович, от него «”психологически” не убежит»; и преступник в какой-то момент смалодушничал. Проект же, напротив, ещё более окреп и утвердился в его сознании. Доказательств преступления – не было (об этом тщательно позаботился повествователь); была исключительно «психология, которая о двух концах». «”Теперь мы ещё поборемся”, – с злобною усмешкой проговорил он, сходя с лестницы (оппозиция «верха – низа», в том числе и пространственного «верха – низа», также монотонно присутствует в романе – А.А.). Злоба же относилась к нему самому; он с презрением и стыдом вспоминал о своём «малодушии» (в малодушии-то и сказалась живая душа; отсюда и кавычки – А.А.)». Можно подумать, что мономан Раскольников не сдвинулся с мёртвой точки. Ни опереточный злодей Свидригайлов (по бесхитростной задумке – двойник Раскольникова, одного поля ягода, родственная душа), трижды подло – с комфортом, на стуле! – подслушивавший за дверью интимно-откровенные и судьбоносные разговоры Родиона с Соней (не услышанные ли откровения и сыграют потом свою роль в судьбе самого Свидригайлова?), ни до карикатуры опростивший идейную схему Раскольникова Пётр Петрович Лужин – не поколебали решимость Роди идти по той самой дороге до конца. Куда важнее поединков с Порфирием Петровичем и футуристических диалогов со Свидригайловым были нервные, исполненные мистических пророчеств и сбывающихся предвидений трудные, этапные разговоры с глупой и безответной Софьей Семёновной. Излишне говорить, что Соня «с детскою улыбкой» и детским сознанием, странным, непостижимым образом («и странно и чудно») «сразу» постигла, что Раскольников и есть тот самый убийца, и даже «ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это самое и предчувствовала». Предчувствовала или нет, но общалась она с Раскольниковым как с тем, у кого на душе грех непосильный. Всё это нехитрые способы повествователя (пописательски – виртуозные) убедить читателя, что Соня обладала своего рода способностями душевного экстрасенса, и даже медиума, бессознательно 238 транслируя на Раскольникова незримую благодать страдания, указывая ему, ослеплённому идеей, путь простой, вечный и как бы само собой разумеющийся. За словами и поведением Сонечки всегда сквозит что-то большее, чем она говорит или делает, постоянно ощутим некий избыток дарованного ей знания, какой-то мудрёный подтекст, всегда безупречный. Она всегда предвидит результат. Не оттого ли и имя у неё обязывающее, нелогично «умное»? Хрестоматийная, как бы диалектическая реакция Софьи хорошо известна: «Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен (она «как бы себя не помня», «вдруг» «бросилась... перед ним на колени» – А.А.), бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками». Перед нами цельный и непорочный монолит, кусок милосердия, чрезмерность которого и создаёт кажущуюся диалектичность, эффект уверенного многознания, почти мудрости. Можно всех жалеть, быть противоречивым – и умудряться избегать диалектичности. Вот Соня из этой породы интеллектуальных девственниц. Истинная диалектичность в том и состоит, чтобы в подтексте всей этой темпераментной сцены разглядеть элементарный фанатизм, следствие банального слабоумия. Но хрупкая ткань романа как бы ускользает от ломового напора диалектики, оставляя диалектику ни с чем, в дураках. Воду решетом пробовали? Роман как бы выше диалектики – он соткан из воздушных и эфемерных тканей метафизики и эзотерики. Соня, вечная Соня видит и понимает все ошибки Раскольникова, а он – в упор не замечает её «глобальности». Может быть, и не стоило так пристально ворошить «психологию» романа, однако более чем вековое триумфальное шествие сонечкиных аргументов требует некоторого неадекватно-завышенного внимания со стороны научного сознания. Как-то очень просто и солидно-солидарно забывается о том, что психология, как сказано в романе, «о двух концах». Один конец – желаемое за действительное – и правы Сонечка, повествователь, Достоевский и вся культура, созданная моделирующим, психологизированным сознанием. Другой конец – действительность осталась действительностью, несмотря ни на какие моделирующие искажения; есть действительность, а есть миражи. Роман – и есть мираж, и в качестве бесплотной модели, синтезированной из фрагментов как бы реальности, он по-своему совершенен, а именно: совершенен как произведение искусства. Но если к фантому отнестись как к действительности, словно Раскольников к своей «мечте», недопущение материалистической диалектики в роман означает только одно: неразличение и подмену вымышленной, виртуальной реальности и реальности, где Соня – религиозно зомбированная дура, а клинический бред Раскольникова – психология «об одном конце». Проще сказать, роман ничего не познаёт, но претендует именно на познание всего. Вот это и есть подлинная архетипичность или подлинная банальность, когда раз за разом воспроизводится общая логика противостояния «ума» и 239 «души» и аргументы веры кажутся фундаментально весомыми, а доводы рассудка – поверхностными и в принципе лишёнными глубины. Гениально воспроизведённая банальность – шедевр. Не будем же банально путать божий дар с яичницей – шедевр с истиной. Итак, потоп и шквал милосердия (в которое, кстати, не верится именно потому, что слишком его много) захлестнул многострадальную душу Роди: «Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило её. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах». В этот просветлённый момент до Роди дошло, «куда» он её звал: «А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним и приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?» Нет, конечно, не оставит. Иногда, чтобы проявить силу, надо не побояться быть слабым и беззащитным. Можно было сказать, что Раскольников давно проиграл, именно в тот момент, когда, ещё не убив, уже предчувствовал, что после этого непременно пойдёт к Соне, и зачем пойдёт предчувствовал, а понял с роковым опозданием. Можно было бы сказать, что подсознание Раскольникова постоянно опережает сознание (детское, младенческое, женское, в сущности, сознание: одно «задушил ... по примеру авторитета», то бишь Наполеона, чего стоит...), что не является, конечно, свидетельством превосходства первого над вторым. А ведь на этом детском, в сущности, допущении сделано всё «Преступление и наказание». Но такое вполне научное предположение странным образом обедняет роман, ибо всё «богатство» романа заключено именно в многообразии представленных «моделей интуитивных прозрений», вся содержательность – в несводимости переживаний к вызвавшей эти переживания идее. Банальность идейной начинки не только не компрометирует роман, но способствует тому, что роман стал выдающимся культурным явлением. И это блестяще передано в следующей за «жутким» признанием сцене объяснения Раскольниковым Соне своей «идеи». Он говорил умно, а выглядел полным дураком; Соня же ничего не понимала (хотя упрашивала: «Я пойму, я про себя всё пойму!»), однако всё сразу постигла: «От бога вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу предал!.». И – приговор: «ничего, ничего-то вы не понимаете! О господи! Ничего-то, ничего-то он не поймёт!» Кто понимает, кто не понимает? Кто поймёт логику души! Раскольников в «мрачном восторге» выболтал Соне главное: позволил заглянуть в «реторту», где выплавлялась теория (Соня, кстати, даже «про себя» ничего не поняла): «у меня (...) одна мысль выдумалась, которую никто и никогда ещё до меня не выдумывал!» Это гениальная оговорка, стоящая пространных психологических длиннот. Раскольников именно «выдумывает мысли», но не мыслит, то есть не приводит собственные мысли в порядок, 240 соответствующий порядку действительности. Выдумывать – значит творить свой порядок, имя которому произвол. А если ещё проверять свои мысли (вошь ли я, тварь ли, или человек?) ценой убийства другого – это банальная клиника. Раскольников, если уж быть точным, типичный поэт мысли, жертвующий реальностью во имя миражей. Если бы повествователь не превращал клинику в серьёзный полигон для выработки нормальных моделей поведения – роман был бы умным, а серьёзное отношение к нему выглядело бы глупо. Получилось наоборот: роман глуп, а серьёзное отношение к нему выглядит умно. Раскольников разъяснял, Соня не понимала, но он получил то, зачем пришёл. «Ну, что теперь делать, говори!» (всё это с сопутствующими, достаточно однообразными истерическими гримасами; нормального лица Раскольникова мы, собственно, и не знаем; возможно, «корченье» свидетельствует об «исходе» или даже изгнании беса, кто знает). И Соня чеканит как по-писаному: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо». Думается, Соня несколько запоздала с советом: он именно принимал страдание, откуда же тогда все эти корчи. «Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову. « Казалось бы, классическая поза мыслителя, если немного бережнее относиться к голове. Но это на взгляд французов, поклоняющихся Наполеону и Родену. У русских всё иначе. « – Экое страдание! – вырвался мучительный вопль у Сони». И Соня была права: голова непрерывно «выдумывала» мысли, обрекающие на дальнейшие страдания. « – Я, может, на себя ещё наклепал, – мрачно заметил он, как бы в задумчивости, – может, я ещё человек, а не вошь, и поторопился себя осудить... Я ещё поборюсь». Вот до чего додумался Родя. Впрочем, мысли Раскольникова как бы и те же – а человек перед нами уже другой, уже крест страдания на себя примеривающий, да что там, в принципе уже готовый последовать императиву своего тихого ангела-хранителя. Но осознает он это, естественно, значительно позже. Напомним себе: роман о том, что происходит в потёмках «живой души», а не в мыслях. В мыслях ничего не происходит. Там мёртвая зона, нет движения, нет жизни. Родя, словно бездушный Кай, которого поцеловала Снежная Королева, заворожен холодной логикой, а Соня-Герда неутомимо возвращает его к жизни. Архетип. 14 Доведём до конца главную, сквозную линию романа: Раскольников – Соня, диалектика – живая душа, сознание – психика, смерть – жизнь. Не станем отвлекаться на злодейские пассы Свидригайлова, уже обречённого «предпринять некоторый... вояж» (как потом выяснится, сей вояж – изящный эвфемизм самоубийства), но одновременно питающего безотчётную надежду на 241 перемену обстоятельств, на «вдруг» («я, может быть, вместо вояжа-то женюсь»); его предсмертный кураж – бледная краска в палитру демонических эмоций Раскольникова. Оставим в стороне очередной (третий и последний) раунд между странно синтонным Раскольникову Порфирием Петровичем (очередная, надо полагать, родственная душа, двойничок-с, только не живая, а окаменевшая, потому как не истекающая милосердием, юридическая – западная, что ни говори – душа), где странный состоялся разговор, даже и для этого романа странный. Впрочем, одного момента разговора всё же коснёмся. Порфирий Петрович «объясниться пришёл-с», чтобы «всё дотла изложить». И излагает. Собственно, в уста разумного следователя вложены комментарий и принципиальная оценка теории. Преобладает, ясное дело, психология. Порфирий Петрович искал, как сам признался, не столько факты, – факты можно диалектически развернуть в любую сторону, можно сотворить улику или алиби: вот он, умственный произвол! – сколько «черточку», психологически убедительный штрих. Для необычного русского следователя это важнее всяких улик. Но не это главное во встрече двух искушенных интеллектуаловпсихологов, один из которых пришёл к другому уговаривать явиться с повинной – не имея на руках никаких улик, однако будучи убеждённым в своей прозорливости и желая добра страдающему преступнику. При желании в поступке таком можно усмотреть нечто отдающее и милосердием. « – Так... кто же...убил?..» – спросил психологически, нравственно, да и идейно обескураженный Раскольников. « – Как кто убил?.. – переговорил он (Порфирий Петрович – А.А.), точно не веря ушам своим, – да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с... – прибавил он почти шепотом, совершенно убеждённым голосом». Шепот – это находка, конечно: при сплошной истерике на повышенных тонах «шепот» – это смена интонации, заставляющая прислушаться. Впрочем, шепот может быть и кульминацией истерики. Кто знает? Психология-с, однако. Как бы то ни было «шептание» и длительное, «до странности долгое» молчание вслед за бесконечными сеансами массовой истерии – это карикатура на нормальный диалог. Но не это главное. В том главное, что Порфирий Петрович выступает, по сути, разновидностью Свидригайлова (или преступника Раскольникова), с той только разницей, что Свидригайлов решился «на вояж», а Порфирий Петрович как-то удивительно вовремя вышел из игры. Всё это Наполеоны Руси. (Вспомним философско-психологическую черточку Порфирия Петровича: « – Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? – с страшною фамильярностью произнёс вдруг Порфирий»; кстати, Свидригайлов уже при первой встрече вёл себя «непростительно дерзко», в контексте ситуации – фамильярно, а именно: предложил сестре Родиона десять тысяч рублей запросто, по-семейному. И Свидригайлов, и Порфирий на правах «своих» не церемонятся с Родей. Да и Лужин Петр Петрович едва не проник в семью 242 Раскольниковых. Да, вспомним также тех грамотных «наполеонов», студента и офицера, у которых и подслушал свою идею Раскольников.) Весь этот легион по-разному подошёл к одной и той же проблеме: регуляцией от ума устраивать жизнь человеческую или положиться, как Соня, по чувству положиться на Бога, – если не на сверхразум, то во всяком случае на то, что неподвластно разуму. Свидригайлов сразу же объявил Раскольникову: «между нами есть какая-то точка общая». Раскольников в свою очередь не из праздного любопытства с ним разговоры разговаривал: «некоторое любопытство и даже как бы расчёт удержали его на мгновение». Свидригайлов затем и явился в Петербург к Раскольникову (по наитию, конечно, как Раскольников к Соне), чтобы узнать, что «новенького» можно «выдумать», можно ли в принципе избежать «вояжа» – это был его расчёт. Резюме эксперта, поднаторевшего во зле: «Так себе теория», «теорийка», «theorie comme une autre» (теория как всякая другая). Ничего новенького. Раскольников же рассчитывал (бессознательно) укрепить свой дух примером «авторитета». Вот отчего эти двое так «всматривались» друг в друга. Вот отчего сам факт самоубийства Свидригайлова стал не решающей, конечно, но последней каплей, доточившейтаки камень сомнений Раскольникова: именно после этого известия «батюшка» Родион Романыч сдался властям, сдался. В этом контексте не поединок уже, а заговорщицкое шептание с Порфирием Петровичем приобретает особый смысл. На Раскольникова возлагает надежды и миссию найти выход из тупика, ликвидировать сам тупик, чтобы другим «наполеонам» неповадно было, умный Порфирий. Он вразумляет (мужское начало – пафос вразумления; даже Разумихин себя «в шутку» – а в романе туго с юмором: тут всем не до шуток; нервный смех может вызвать разве что излишняя серьёзность – называет Вразумихиным) безумного Родю: «ваше преступление вроде помрачения какого-то представится (в случае явки с повинной – А.А.), потому, по совести, оно помрачение и есть». «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю ..». Мы уже знаем за кого «почитает» «Романыча» Петрович. А вот за кого почитает Порфирий себя? Раскольников поинтересовался: « – Да вы-то кто такой, – вскричал он, – вы-то что за пророк? С высоты какого это спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчества изрекаете?» Следователь ответствовал преступнику достаточно взвешенно и трезво: « – Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы – другая статья: вам бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом пройдёт, ничего не будет). Ну, что ж, что вы в другой разряд людей перейдёте? Не комфорта же жалеть, вам-то с вашим-то сердцем? Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Вы чего опять улыбаетесь: что я такой 243 Шиллер? И бьюсь об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь! А что ж, может быть, и в самом деле подольщаюсь, хе! хе! хе! Вы мне, Родион Романыч, на слово-то, пожалуй, и не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне, – это уж такой мой норов, согласен; только вот что прибавлю: насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить!» Сам Порфирий Петрович – условный следователь, чудак, Шиллер: то два месяца уверяет всех, что в монахи идёт, то мистифицирует всех своей предстоящей женитьбой. И то, и другое – «миражи», но зачем понадобились именно такие миражи в качестве характеристики Порфирия Петровича? Это показатель широты души и одновременно дефицита воли Порфирия, равно готового и на подвиг духовного заточения, и на жизнь рутинную, которая «дымом пройдёт». Но не горит он ни тем, ни другим, не жаждет истины пуще жизни. (Порфирий, кстати, значит «багряный» (греч.). Порфирий Петрович – сочетание несочетаемого, совмещение противоположностей.) В определённом смысле, пожалуй, его можно назвать одного с Родионом Романычем поля ягодой. Впрочем, все персонажи романа до скучного – одного поля ягоды, кто с краю, а кто ближе к центру. Объясняется всё элементарно: все они суть разные проекции одного «мономански» устроенного сознания, все они – оттенки одной идеи. И всё же «дымом пройдёт» или «жизнь приготовил»? Как это всё понимать в отношении Раскольникова? А так понимать, что в Раскольникове есть редчайший дар служения правде и Богу, который он кощунственно обратил в бунт против того, к чему призвание имеет. Если Родиона очистить страданием, то он явится уже не карикатурой на Наполеона, а приговором нравственному бонапартизму, разоблачателем разума, действительно защитником униженных и оскорблённых. Строго говоря, Порфирий склоняет Раскольникова брать пример с другого авторитета: с Христа. Сам же Порфирий Петрович способен разве что вразумлять. Он не обладает для Раскольникова высшим авторитетом – авторитетом мученика, страдальца за правду. Ко Христу ведёт совместная дорога Родиона с Соней. Вот почему этот дуэт, так сказать, самодостаточен, он есть зерно о двух противоположностях, из которого вырастает выдуманная симфония романа. Все же побочные персонажи-муляжи тяготеют к двум заданным моноцентрам, а при более тщательном рассмотрении – к одному: к тому, который героически заполняет собой представительница «ангельской лиги» Сонечка, живущая, по земному, «во грехе». Родион – боюсь, здесь даже повествователь охмурён дурманом диалектики (ведь если диалектика служит идеологии, она становится зельем, которого действительно стоит опасаться) – по духу родственен именно Соне, а не Свидригайлову с Порфирием Петровичем, не говоря уже о «копиях копий» Лужине с Лебезятниковым. Тем самым Раскольников из проклятого 244 превращается едва ли не в избранного, из гадкого утёнка – в белоснежного лебедя. Ему бы только фамилию сменить на Сонечкину... А «помрачение» оно и есть «помрачение»: «помутилось сердце человеческое», «тут теоретически раздражённое сердце» (Порфирий Петрович). Словом, разум ввёл в соблазн или кто-то там ещё при помощи разума. Итак, жребий Сонечкин (уже в высшем смысле, том самом, который постоянно держит в подтексте повествователь) не минует и Раскольникова. Однако повествователь не хочет «упрощать» ситуацию. Своё гениальное психологическое чутьё и умение раскодировать те едва прослушиваемые сердечные ритмы, которые укрощают любой бессмысленный бунт разума, он выдаёт за объективность. А гениальным, как и юродивым, на Руси верят скорее, чем просто умным. Взыскует чудес Россия. Это не объективность, а виртуозная имитация глубоко засевшей мономании. И вот происходит то самое вышибание клина клином, смена одной мономанской парадигмы, выдуманной Раскольниковым, на сонечкину, якобы не выдуманную, а наличествующую a priori, от Бога данную. Объективно здесь лишь то, что «люди» сплошь и рядом выдают желаемое за действительное, – и Раскольников, и Сонечка, и повествователь; однако повествователь, сей генеральный поводырь, имеет слабость верить в то, что его вариант мономании и есть «объективность». В этой объективности есть доля объективности – и онато позволяет трактовать роман как гигантскую мономанию, субъективность, идеологическую тенденциозность, художественный (иррациональный) вариант реальности. Повествователь не хочет упрощать ситуацию – и Раскольников продолжает «бороться» (расчёт повествователя психологически точен: чем внушительнее битва, тем значительнее будет победа). Он обречённо признается Дуне (а Дуня, Авдотья, как и Катерина Ивановна, Пульхерия Александровна, убиенная Лизавета, да и бывшая его невеста, собиравшаяся идти в монастырь, и даже «прынцесса» Дуклида – это всё тени и блики вечной Сонечки, та самая «ангельская лига», о чём свидетельствуют их древние бесхитростные имена: Авдотья – в переводе с древнегреческого означает «стойкая», Катерина – «чистая» («она чистая» – «заступается» за неё Соня), Пульхерия – «прекрасная»): Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Если это не диалектика души, то что это? Согласно повествователю, очевидно, это всего лишь остаточные помехи разума, «теоретически раздражённое сердце». И тем не менее: страдания – в избытке, наказание – по всем позициям адекватно преступлению (Бог не дремлет, заботится о своём воспитаннике), а раскаяния – нет. Дремлет, что ли? Оставил своею милостию? Решил «дымом» пустить? 245 Нет, конечно. В этом случае роман затевать не стоило. Здесь иная, божественная (в сущности – диалектическая) непоследовательность: кого люблю – того и бью. «Бью» – потому как очищаю, умудряю, вкладываю стремление к истинно прекрасному; вот и окружаю заботой верных и преданных женщин. Ни маменька его не оставит, ни Авдотья, ни тем более Соня. Следовательно, будет раскаяние. По большому счёту (вспомним в этой связи «Войну и мир»), стать человеком там, где пуще дьявола опасаются разума, – означает стать женщиной, покорной, по природе не способной к бунту. Раскольников сопротивляется, однако в конце романа это действительно выглядит глупо. У него нет выбора, а есть только отвлечённая теория. «И всётаки вашим взглядом не стану смотреть», – иступлённо упорствует Родион. «Кровь все проливают», и за это «венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества». Он тоже пролил кровь, но сделал это как-то неубедительно, и за эту «неловкость», за эстетически уродливую форму, за невеличественность попал в разряд преступников. Но не за «преступление»! Значит, дело в форме. «Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!.». – с наполеоновским металлом в голосе восклицает тот, чьё сердце рвётся на части из-за правильности (справедливости!) теории. «Никогда, никогда не был я сильнее и убеждённее, чем теперь!..»., что означает: никогда, никогда ещё муки сердца не были столь невыносимыми. Чем совершеннее, чем острее и отточенней теория – тем болезненнее реагирует на неё сердце. С позиций разума, карикатурно выведенного в романе, из этого адского круга выхода нет. «(...) всякий из них (из людей – А.А.) подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот!»; однако того, кто осмелился назвать вещи своими именами, они из «благородного негодования» упекут на каторгу, в ссылку. А там просто «добьют окончательно», сломят дух – но ведь не теорию! Теория – не человек, её психологически не сломаешь. Сама каторга, ссылка, эти неизбежные следствия идиотизма людей, не имеют к правильности или неправильности теории никакого отношения. Человека можно уничтожить, но это лишь подчёркивает бессмертие теории. Всё «математично» и логично, а вместе с тем по-религиозному, по сонечкиному, фанатично. Повествователь знал, что делал, когда не спешил разбрасываться натурами, подобными Родиону Раскольникову. Нелогична была только жажда жить. «И зачем, зачем же жить после этого..». Жить незачем, но жизнь оказывалась сильнее логики. «Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но всё-таки шёл». Шёл к Соне, а от неё – на каторгу. Жить, но не умирать шёл. (Кстати, ситуация вновь архетипична, следовательно, банальна. Например, общий смысл её до мелочей воспроизведён в повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича», в принципе – и в «Войне и мире». Хочешь победить разум – читай и/или пиши евангелие. И бесы расточатся. Апеллируй к чуду. Без чудес разум неодолим.) 246 15 Концовка романа, та, что перед Эпилогом, задумана как формальная или ложная кульминация, а исполнена как кульминация настоящая. Проблема обостряется тысячекратно и ставится так: «только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить» (Соня) – или жить его заставит вкравшееся-таки в душу некое спасительное предчувствие неправоты сознания? В первом случае «малодушие» и «боязнь смерти» означали фактическую смерть «живой души»; во втором – живая душа победила разум, подспудно, заочно как-то победила, сохранив жизнь человеку. И тогда жажда жить – симптом победы души, торжества Сонечки, а не форма смерти. Вот это русское пан или пропал и предстояло прояснить до конца. Жажда жить может выступать и формой смерти... Давайте честно: повествователь на каждом шагу прибегает к диалектике, но почему же он так панически от неё открещивается? Да потому что диалектика, идеологически, мошеннически не усечённая, диалектика в полном объёме, диалектика тотальная, спроецированная на «модели» достоевщины, неизбежно приводит к разоблачению мистификации романа, к разумному отрицанию его идеологически вывернутой, казуистической, именно смертельно опасной диалектики. Повествователь совершенно справедливо предчувствует это, поэтому спешит объявить диалектику антиподом «живой души». Поступает, кстати, вполне логично и, по законам нелюбимой им диалектики, диалектически обосновывает ненависть к диалектике. Если это не бессознательное «малодушие», то вполне сознательная манипуляция мышлением, то есть то самое духовное преступление, ради наказания которого написан роман. Но жестко настаивать на безальтернативности обрисованного противоречия было бы недиалектичным. Мы, конечно, не собираемся отягощать совесть гениального писателя. Конечно, перед нами классический случай святой простоты: мощение дороги в преисподнюю при помощи благих намерений и веры в свою правоту. Но, как видим, даже святая простота может диалектически обернуться орудием дьявола. Если уж браться за диалектику, то следует делать это не только «по чувству», но и «по уму». А теперь от диалектики – к «пан или пропал». Раскольников пришёл к Соне «за крестами», чтобы идти «на перекрёсток». Говорит он «усмехаясь», но заметно, что он «как бы сам не свой»: «руки слегка дрожали», «мысли перескакивали», он «заговаривался», «на месте не мог устоять ни одной минуты»... С чего бы это, от малодушия? Впрочем, кипарисный крестик («кипарисный, то есть простонародный»), сонин крестик он безропотно, хотя и не без некоторого ёрничанья, принял: « – Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе, хе!» Это значит: он ещё не верит, что это не ритуал, а новая суть его. А между тем «чувство, однако же, 247 родилось в нём; сердце его сжалось», «и от чистого сердца, Соня, от чистого сердца» «он перекрестился несколько раз». Как Свидригайлов формально завис между «вояжем» и «женитьбой» (смертью и жизнью), хотя по сути всё уже было предопределено, так и Ракольников «диалектически» малость побунтовал («бунтующее сомнение вскипело в его душе»: может «остановиться и опять всё переправить ... и не ходить»), однако делал он то, что делал. «Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего задавать себе вопросы». «Вдруг» его повернуло затесаться в толпу, и толпа его простонародно приняла: толстяк немец по-свойски толкнул, баба с ребёнком даже попросила милостыню и смиренно приняла неизвестно как (чудом!) уцелевший в кармане пятак: « – Сохрани тебя бог!» Что это: знамения, первые сочувствующие отклики мира на установку не задавать себе вопросы, знаки прощения? Следующая сцена и есть неформальная кульминация, делающая весь последующий текст добавочным иллюстративным материалом. Посреди площади, именно там, «где виднелось больше народу», «с ним вдруг произошло одно движение». «Каким-то припадком оно (ощущение необходимого и безотлагательного раскаяния – А.А.) к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё разом в нём размягчилось, и хлынули слёзы. Как стоял, так и упал он на землю...» Безличные императивы, которым перестал сопротивляться Раскольников (он, умница, «перестал задавать себе вопросы»), и были воплощением воли Божией. Всё же «к жизни готовят» этот бойцовский дух и сильный характер. «Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз». После этого спокойно пошёл по направлению к конторе. Разумеется, невдалеке ангелом-хранителем мелькнуло видение («предчувствованное», впрочем): то была Соня в наброшенном зелёном платке, символе страдания, принятого от Катерины Ивановны, и одновременно символе возрождения, связанного со страданием. Она «сопровождала всё его скорбное шествие». Это для Раскольникова «скорбное»; для повествователя это триумфальное шествие, ибо «се человек», «воскрешение Лазаря» и путь в Новый Иерусалим одновременно. Излишне говорить, что «он почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдёт за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Всё сердце его перевернулось..». А тут ещё, в конторе, известие о самоубийстве Свидригайлова (свидетельство нежизнеспособности теорий, поданное в нужное, наинужнейшее время)... Кто плетёт кружева смыслов, справедливых, как арифметика, и убедительных, как воскрешение Лазаря? Раскольников вышел из конторы, сошёл с лестницы – но куда ему было идти? Не переписывать же роман заново. Дикий взгляд Сони довершил дело. 248 Раскольников поднялся наверх. «Тихо, с расстановками, но внятно»: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру её Лизавету топором и ограбил». «Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил своё показание». Далее следует, так сказать, соблюдение художественных формальностей. Эпилог. Душещипательный процесс. Трогательные свидетельства неординарного великодушия и жертвенности Раскольникова: он, как вдруг выяснилось, ухаживал за «расслабленным» отцом умершего товарища, спас во время пожара двух малолетних детей (архетип: шедший убивать Безухов спас во время пожара одного ребёнка); судя по всему, Раскольников с толком бы распорядился добытыми им деньгами, если бы разумом решались проблемы человеческие. Сибирь. Каторга. Муки нераскаявшегося Раскольникова. Болезнь, потом почти выздоровление (всё это – на фоне невидимого присутствия Сони). В один из ясных тёплых дней (шла вторая неделя после святой) Раскольников где-то около семи часов утра в перерыве между работой вышел на берег «широкой и пустынной реки», которая разделяла его с другими, свободными, полудикими людьми (виднелись кочевые юрты), «точно не прошли ещё века Авраама и стад его» (архетип). «Вдруг подле него очутилась Соня», в зелёном платке. «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени». «Заря обновлённого будущего, полного воскресения в новую жизнь» сияла на их бледных и худых лицах. «Их воскресила любовь». Так под подушкой Роди появилось Евангелие (правда, с опережением событий, незадолго до своей болезни, а не в этот вечер: пути душевные неисповедимы). «Он (...) не мог в этот вечер долго и постоянно о чём-нибудь думать, сосредоточиться на чём-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое». Аминь. Чудеса комментировать нет смысла (ибо тогда нет смысла в чудесах), они выше человеческого понимания, как жизнь выше диалектики. И тут должна начинаться новая, недиалектическая история... Вряд ли она могла быть столь же интересна, как история с элементами стихийной, живой диалектики. Во всяком случае новая история пока никем не написана. Нам же представляется, что и писать её незачем, ибо новая история будет мало чем отличаться от Нового Завета. 249 ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА Преступление Раскольникова – в широком, космическо-экзистенциальном смысле – состояло не в том, что он убил старуху: это, конечно ужасный, но всего лишь уголовный аспект преступления. Еще более ужасный аспект – нравственный, ибо убийца не раскаялся и не считал нужным раскаяться в содеянном. Но и это всё – следствия главного, главнейшего преступления, которое состояло в том, что Раскольников Родион Романович защищал саму идею преступления, саму идею поставил выше жизни. Факт подчинённости и подотчётности духовного космоса идее, разуму, отвлечённой диалектике, какой-то произвольно случившейся комбинации смысла – вот главное преступление, ради развенчания которого писался один из величайших в мировой литературе романов. Всю дыщащую амбивалентной сложностью натуру человека (вспомним полемически смутные, чреватые смыслами вперемешку с непередаваемой гаммой ощущений состояния героя) Раскольников свёл к «арифметике», к логической мотивированности – именно это не простилось и не могло быть прощено преступнику, от которого с омерзением отворачивались даже уголовники-христиане, имеющие на совести крови и поболее, чем безбожник Раскольников. «Содержательнейшие» состояния томления, вожделения, наития, предчувствия предчувствий свести к «чёрствой» и «пустой» логике – это ли не преступное выхолащивание души? Игнорирование психической содержательности человека и возвеличивание до степени приоритетных рассудочных функций – вот «философское» преступление Раскольникова, преступление не столько перед жизнью даже, сколько перед тем, кто её дал. Мыслить – бросать вызов Богу: приговор или диагноз, ставший уже банальным в мировой культуре. Соответственно, наказание такого особо опасного преступника осуществлялось не через исправительные учреждения, а путём обращения (возвращения?) в лоно Христово, в царство немысли, предмысли, где недоказуемые априорные ощущения предпочитаются безупречно доказанным концепциям. Уберите «томления» и «вожделения», всё это одухотворяющее вещество жизни – и вам просто нечем крыть, абсолютно нечего противопоставить хищному уму. Поэтому логике Раскольникова противостоит не другая, более совершенная логика (это внешний, идеологический уровень противостояния), а собственно плоть романа с его исключительным вниманием к психологическим состояниям героя – состояниям, непосредственно свидетельствующим о наличии души (в проявлениях ума души нет, что, согласимся, справедливо). Собственно, состояния эти (муки совести, души) и есть наказание Раскольникова. Представим себе на секунду, чтобы на подобного рода преступление мог решиться Безухов Пьер! Для этого надо иметь способность маниакально заболеть идеей, то есть иметь склонность психически нездорового, 250 неуравновешенного существа. Произвольность, ирреальность мотивов преступления настолько далека от нормы, что Достоевскому пришлось изрядно потрудиться, чтобы страдания полусвихнувшегося героя могли захватить людей, дружащих со здравым смыслом. Герои Достоевского изначально и по определению далеки от полюса душевной гармонии, сбалансированности. Вызывающая неадекватность реакций на мерзости жизни оправдывается тем, что реакция исходит из представлений о высшей справедливости, оправдывается, так сказать, высокой болезнью. А то, что реакция зашкаливает, это даже хорошо, ибо свидетельствует об озабоченности клиента. Достоевский вольно или невольно вместе с неестественным стремлением к абсолютной справедливости (идущим, кстати, от идеи) поэтизировал также неадекватность и неуправляемость ставших неестественными реакций, рассогласованность психики с действительностью, подавая это как неукротимое стремление к правде. Условный, истерический реализм Достоевского сводится в плане содержательном к реализму психопатологии. Во всех остальных смыслах степень художественного произвола сближает Достоевского с дореалистическими, нормативными художественными системами. (Соблазнительно объявить Достоевского непосредственным предшественником всякого рода и вида «модерна», однако такая посылка чревата грубыми упрощениями, в свою очередь искажающими реальность. Дело в том, что Достоевский искажал реальность на основе и во имя определённой системы ценностей, в определённом смысле отражавшей реальность. Модерн и особенно постмодерн в принципе перестали ориентироваться на систему ценностей как таковую, объявив всякий мир ценностей – абсурдом, что, конечно, тоже может быть осознано как система ценностей наоборот, если дать себе труд поразмыслить.) Это особенно отчётливо просматривается в образе «положительно прекрасного» человека – Софьи Мармеладовой. Она – отдельно существующая ипостась Раскольникова, его живая, неискалеченная душа. Если быть точным – вымученная идея «живой души», не самодостаточный образ-персонаж, а некая рубрика или параграф, рупор и свод авторских идей. Здесь и в помине нет той степени художественной убедительности, которая свойственна, скажем, Наташе Ростовой. В данном случае монотонная Соня «интересна» нам своей функцией – от начала и до конца схематичной функцией: она есть олицетворение «добра». По функции своей она «эквивалентна» таким ключевым персонажам, как крестьянин Платон Каратаев или буфетный мужик Герасим («Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого). Гордыня ума героев, противостоящих Платону с Софией, никогда не приводит к счастливому финалу. Блаженны нищие интеллектом (они же, по Достоевскому и Л. Толстому, богаты духом). 251 Соня есть тот самый «сюрприз», тот самый аргумент, а лучше сказать, общий логический ход, который является коронным в идейном противостоянии разуму. Ход этот многократно апробирован, чтобы не сказать затаскан, он архетипичен, а потому тривиален. Если это последний решающий аргумент, то значит это только одно: разумных аргументов против разума попросту нет. Сам факт иррационального нельзя рассматривать как довод против рационального (а это и есть, по существу, главный пункт художников всех времён и народов). Превратив Соню в аргумент, писатель поглумился в том числе и над законами художественности. Соня, строго говоря, и есть «эстетическая вошь», продукт разложения эстетики классического реализма, то самое пресловутое насилие над реальностью. В результате мы вынуждены анализировать не реальные смыслы «живого» образа, часто противоречащие конструкции романа, а разбирать спекулятивный реестр условных пороков и неописуемых добродетелей. Достоевский отвлеченен до того, что нет на страницах его романов мужчин и женщин, есть жертвы неправедной борьбы с «живой душой» и выхолощенная плоть условных антиподов. У героев Достоевского нет пола, строго говоря. Пол им не нужен, он мешает, отвлекает. Им нужна чётко промаркированная позиция в противостоянии ада – рая. Вот почему Достоевским чаще интересуется богословие, нежели непредвзятое, неангажированное литературоведение. Достоевский сам себя сделал инструментом в борьбе за души, а инструмент такой всегда и только – миф. Достоевский творит мифы – и сам превращается в миф. Относиться к нему как к философу – означает самому становиться мифотворцем. В истории мировой философии легко увидеть два крайних типа философствования: реалистический (или естественный) и мистический («сверхестественный»). Первый осуществляет переработку информации, полученной в процессе реального практического и познавательного (в их неразрывной связи) взаимоотношения субъекта и объекта, информации в принципе достоверной, доступной проверке не только со стороны содержания, но также средств и способов её получения, переработки и использования. Здесь проявляется здоровое чувство меры, скромность разума, отсутствует болезненное пристрастие духа к манипулированию идеями Абсолюта, формируются эффективные потенциалы регуляции конструктивных отношений с миром. Функционирование этого типа обеспечивается главным образом силами сознания. Второй тип существует, питаясь информацией искусственной, полученной путём необоснованных, принципиально непроверяемых, практически не реализуемых фантастических допущений, конструирование которых хотя и совершается при посредстве сознательных технологий (иначе это и не было бы философией), но заказывается и провоцируется не мыслью, а психической потребностью заглянуть за границы своего относительного бытия, устранить смерть на основании того, что жить уж больно хочется. Системы 252 философствования такого рода обусловлены исключительно психическими потребностями, но создаются всё же за счёт использования всех основных средств познания, обеспечивающих абстрактно-логическое мышление, корректируемое обратной связью, идущей от предметного мира к познающему субъекту. Второй тип не имеет своей обратной связи, поэтому он вынужден паразитировать на первом и поэтому все мистико-философские конструкции только тогда получают прописку в философии, когда формально отвечают требованиям философского, то есть умственного, интеллектуального, теоретического построения. Вот почему «Преступление и наказание» мгновенно обрёл статус идеологического, философского романа, собственно живой философии, наподобие поэмы о Великом инквизиторе. По строгому же счёту второй тип есть инерция детства человеческого разума, реликт мифологизма. Философствование Достоевского относится явно ко второму типу, артикулированной идеологией у него является тезис об антагонизме «диалектики» и «жизни». Лицемерный, в сущности тезис, ибо философии («диалектике») отводится чисто служебная роль под эгидой религии, обладающей якобы уникальным каналом связи с божественным, высшим миром. Психология такого конструирования понятна: в низшем мире верхней границей жизни является смерть, и это не только не укрепляет душу, но, наоборот, делает её болезненно-напряжённой, и тут ни математика, ни позитивно ориентированная философия не защитят. Защита приходит не плацдарма знаний, а от веры, дающей надежду на преодоление смерти, детища второстепенного мира, – вечной жизнью, если не в Абсолюте, то около него, так сказать в его конторе, а не в конторе Порфирия Петровича. «Преступление» – это философия, а «наказание» – уже реакция религиозной философии. Чтобы так запутать проблему, надо действительно впасть в детство, думая, что «по-взрослому» держишь Бога за бороду. Однако оборотной стороной детских заблуждений часто выступают пророчества, предчувствия – основа художественных открытий, психологическая основа чуда. Без диалектики, без философии разобраться в «философии» Достоевского невозможно: можно только разделять его иллюзии, мифологизируя при этом человека, творчество и личность самого Ф.М. Достоевского, гениального путаника библейского масштаба. 253 ЧАСТЬ 5. Н.В. ГОГОЛЬ 5.1. ЖИВЫЕ ДУШИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ (о концепции «Мертвых душ») 1 Давайте присмотримся, как все живое (в человеческом, духовном смысле) у Гоголя чудесным образом «мертвеет», хотя искра жизни при этом пробивается и теплится. Получается эффект «мертвого живого». «Мертвые души» – это ведь подлинный оксюморон, ибо душа по определению не может быть мертвой. Такая вот смысловая «бесовщина» источается уже хрестоматийным «гладким» названием. Сколько ни читай Гоголя, а все будет так, что «красивая бричка» некоего «господина средней руки» въехала «в ворота гостиницы губернского города NN». Хитроумному повествователю понадобилось так обставить вторжение незнакомца, что, с одной стороны, въезд «не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным»; а с другой – въезд господина Чичикова (гениально, согласимся с Набоковым, придуманная фамилия) был сопровожден совершенно особенным комментарием, собственно, «кое-какими замечаниями» двух русских мужиков. Мужики, разумеется, расположились у дверей кабака и, судя по всему, собирались войти туда, даже если они недавно оттуда вышли (обозначен своеобразный жизненный цикл вечно нетрезвых душ). Первых же людей, встреченных в повести, заинтересовал более экипаж, нежели сидевший в нем, вещь, но не человек. На нормальном русском языке мужики умудрились соорудить какую-то глубокомысленную (с претензией на мысль) ахинею. Послушаем их: «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился». (Цитируется по изданию: Гоголь Н.В. Собр.соч. в 4 томах, т. 3. – М., Изд. «Правда», 1968. Здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсив – автора. – А.А.) На неком перекрестке в пространстве, что раскинулось между Москвой и Казанью, Европой и, по сути, Азией (где девочка, отпрыск тех же мужиков, даже не знает, где «право», а где «лево») двух мыслящих существ интересует прочность колеса, они завороженно смотрят вниз, словно утки или собаки на движущийся предмет, одухотворяя его, делая подобным себе. В витиеватом созерцании homo sapiens’ов не обнаружилась душа. И неизвестно, есть ли она там вообще, ибо мужики эти не попадут больше в поле зрения повествователя (правда, они или им подобные «ярославские» мужики окажутся позднее героями лирических отступлений; но об этом в свое время). 254 Да вот зачем-то понадобился повествователю еще один созерцатель знаменательного въезда – «молодой человек» «во фраке с покушеньями на моду». Молодого человека, впрочем, тоже заинтересовал экипаж, бездушный предмет. Очевидно, интерес модника к «довольно красивой бричке» должен был польстить вкусам и возможностям господина средней руки, то есть Чичикова. Однако, если вдуматься, можно обнаружить и такой смысл: скажи мне, что интересует тебя, обладателя «белых канифасовых панталон, весьма узких и коротких», а также «тульской булавки с бронзовым пистолетом», – и я скажу, есть ли у тебя живая душа. Повествователь сознательно не пошел дальше внешнего ряда. А ведь перед нами уже не мужик из кабака. Впрочем, не скажешь наверное, есть ли там душа под манишкою и ум под картузом. Доподлинно известно лишь, что своим поведением молодой человек выказал более примитивного простонародного любопытства, нежели сдержанного достоинства, подобающего господину средней руки, вкусившему, надо полагать, просвещения и культуры. Манишка с булавкою наличествуют – а культурой и не пахнет. Молодой человек исчезнет, как видение, а впечатление останется. И все же начинается поэма – отдадим должное – с кое-каких замечаний, относившихся более к сидевшему в экипаже, нежели к «рессорной небольшой бричке». «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». Мы имеем дело с обобщением, анализом, мыслью (см. также пассаж о господине средней руки). Поэма «Мертвые души» принадлежит перу думающего господина, она есть плод ума, а также души, живо реагирующей на отсутствие … пока неясно чего. Ясно лишь, что повествователь с первых сюжетных тактов играет в какую-то свою игру. В какую? Не будем спешить. Гоголя будут читать еще много столетий, собственно, всегда, потому что он стоит того. Мы имеем в виду, что созданный им художественный текст можно читать, то есть сводить искусно разбросанные блики и пятна смыслов к некой высшей заданной в произведении точке, «связывать» смыслы, поддающиеся фокусированию и естественно к нему тяготеющие. Такое чтение превращается в культурный труд, пробуждающий ум и, обратим внимание, душу. Что касается «точки» (тут уж не забота Гоголя, а квалификация исследователя), то ее следует грамотно сопрягать с высшими культурными смыслами и ценностями, существующими помимо Гоголя, его «поэмы» и даже исследователя. Читаем. Во дворе господин Чичиков был встречен трактирным слугою, которого повествователю угодно было назвать «половым», «живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо». Живость – вот она, а лицо отсутствует. Есть лицо или нет лица – это не такой уж пустяк для произведения, населенного (пора догадываться) мертвыми душами. Не только глаза становятся «зеркалом души», правильнее было бы именно в лике искать запечатленную душу. А нет 255 лика – на зеркало неча пенять… Кстати, какое лицо было у модного молодого человека? Правильно, лица повествователь не обнаружил и в этом случае: так отсутствие детали само становится деталью, несущей определенный смысл. «Лица необщее выраженье» или, попросту, лицо – атрибут индивидуума, и даже личности, носителя живой души. Нет души – нет и лица. В густонаселенной повести скучать нам не придется. Едва исчез слуга, как невесть откуда появился «сосед», совсем уж безликий условный персонаж, както небрежно объединенный в одном предложении с тараканами, «выглядывающими, как чернослив, из всех углов», и такими же, надо полагать, любопытными, как гипотетический «сосед». А дальше нам зачем-то представлен «выглядывающий» «сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою». (Трудно удержаться и не забежать вперед: Собакевич «цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке». По поводу лиц впору писать отдельное отступление, ибо «философии лица» в повести уделено демонстративно много внимания. Вот несколько «авторских» обобщений. «Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила (…), просто рубила со всего плеча: хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и на диво стачанный образ был у Собакевича (…)». От общего – к частному; у Гоголя бывает и наоборот, однако он никогда не изменяет принципу типизации: частное, индивидуальное у него всегда есть способ отразить общее, универсальное. Но это так, к слову. Или вот еще наблюдение: «Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете». Пустые, безликие лица. Или вот: «вся середина лица выступала у него (Ивана Антоновича, чиновника «по крепостям» – А.А.) вперед и пошла в нос, – словом, это было то лицо, которое называют в общежитье кувшинным рылом». Почти во всем согласимся с «автором»; возражение только одно: над отделкою лиц мудрит не только натура, но и культура, озаряя их светом мысли. Но тут мы опять забежали вперед.) Материал для анализа накапливается чрезвычайно быстро, и он помечен вполне определенным «идейным» качеством, он все норовит складываться в некую живую мировоззренческую картину. И все же есть еще опасение, что его может показаться недостаточно для серьезных и далеко идущих обобщений, поэтому просто продолжим чтение. Оставим выразительно безлико мелькнувших кучера Селифана, «низенького человека в тулупчике» (что это: пристальное и бессмысленное внимание к внешности или назойливое сообщение о том, что информация порядка душевного в очередной раз 256 отсутствует?), и лакея Петрушку, у которого на месте лица оказались «очень крупные губы и нос». Займемся (давно бы пора: но повествователь, оккупировавший высшую «точку», как-то намеренно не спешит) главным героем, которого солидное размещение в гостинице и последующая основательная вылазка в город доставили много, много прелюбопытной информации. Впрочем, ни гостиница, ни город, ни сам господин, отрекомендовавшийся как «коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям», не дали пока оснований говорить о присутствии и, так сказать, дыхании живой души. Правда, «в приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко», «нос его звучал, как труба». Да, вот еще: умывался «помещик» весьма старательно; «потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги». Потом «выщипнул вылезшие из носу два волоска» – ну, и т.д. И все же громоподобного носа с выпирающей растительностью и солидных манер как свидетельств живой души – маловато будет. Читатель может усомниться и сослаться на неподдельный интерес Павла Ивановича к театру, этому институту и рассаднику душеведения, чему подтверждением является тщательное изучение оторванной от столба афиши. Мы возразим: интерес к театру ограничился более чем странным исследованием афиши: это было не осмысленное потребление культурной информации, а бездумное прочесывание словес, отчасти роднящее «коллежского советника» с легендарным читателем слогов Петрушкой. Созерцатель Чичиков глядел, как в афишу коза, сказали бы мы, если бы не побоялись быть заподозренными в грубой тенденциозности. А вот сошлемся-ка мы опять на повествователя, который в свое время обронит: наш герой, Чичиков, «заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей». А если заглянуть в конец поэмы, который вполне мог быть ее началом, то мы увидим, как повествователь без обиняков величает Павла Ивановича «подлецом». «Припряжем подлеца!» – восклицает склонный к экзальтации повествователь. И даже хмурый повытчик, у подчиненных которого были чиновники с лицами, «точно дурно выпеченный хлеб; щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула; словом, совсем некрасиво», – даже повытчик, «который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости», произносил себе под нос, аттестуя Чичикова: «Надул, надул, чертов сын!» Воля ваша, никуда, очевидно, не уйти от необходимости объясниться, хотя, казалось бы, удобней сделать это в тот момент, когда материал повести, рассмотренный в предложенном ключе, сказал бы все сам за себя. Плод созрел 257 бы – и упал. Идейная конструкция, растворенная в насыщенном тексте, выкристаллизовалась бы сама, естественным образом. Все так – и не так. Некий стихийный эмпиризм – это, скорее, художественный способ творить, нежели научно-аналитический способ познавать бессознательно сотворенное. Чрезвычайной плотности текст, где каждая предметная или речевая деталь, синтаксический прием или сюжетный ход бьют в одну точку, делает задачу охвата всей стилевой парадигмы занятием, во-первых, начетнически-талмудистским, рутинным (именно иссушающим душу), вовторых, занудным, в-третьих, глупым и недостойным уровня «Мертвых душ», ибо если есть концептуальная версия «поэмы», то следует идти не только от частного к общему (методом художественной индукции), но и одновременно от общего к частностям (дедуктивным способом). А если концептуального ключа нет, не стоит и браться за научное прочтение Гоголя: будешь заморочен, обманут и выставлен на всеобщее посмешище, как любой из персонажей «Мертвых душ». Вывод ясен, и он лежит на поверхности (мы обращаемся к той категории читателей, которые осознают смысл операции «делать выводы»): повествователь вслед за Чичиковым безо всякого излишнего шума затащил нас в маргинальное царство мертвых, где обитают не то, чтобы совсем уж покойники, но как бы «души», не подозревающие совершенно, что значит жить. Каждый живой в причудливой «поэме» намертво срифмован с символом или знаком, на корню убивающем живой дух, наподобие самовара с бородой, пугала, обряженного в чепец хозяйки своей, «дубинноголовой» Коробочки Настасьи Петровны (кстати сказать, стоящей, вследствие своей «крепколобости», «так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования»: бесценное откровение «автора»), «деревянного» лица «заплатанного» Плюшкина (между прочим, в ту пору, когда он был трудолюбивым хозяином, наделенным «мудрой скупостью», в его глазах «был виден ум») – и т.д. Антропоморфное «живое» методично и издевательски уподобляется миру предметов, насекомых или животных. Причем часто походя, очень искусным и оригинальным приемом, создаются сомнительные портреты целых социальных групп. Вот заметил Чичиков два любопытствующих лица: «женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья». Или: «Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням». Светлосерый цвет, взятый у самой погоды, не пропал даром, а был тут же художественно утилизован. На губернаторской вечеринке «черные фраки 258 мелькали и носились врозь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном» и т.д.. Такие объемные сопрягающие «параллели» весьма отчетливо характеризуют бдительность повествователя. Люди обездушиваются когортами и легионами. Чего стоят одни только фамилии окрестных здравствующих помещиков и почивших крестьян! Даже когда повествователь долго «занимается» одной только Коробочкой или «неугомонной юркости и бойкости характера» Ноздревым, не стоит питать иллюзий. Присмотришься, откровенно заявляет повествователь, «иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка». Увы, «легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком» (это сказано уже по поводу Ноздрева и добавлено: «он везде между нами»). Иными словами перед нами колоссальной вместимости морально-социальные типы, типажи, каждый из которых является обобщением тьмы и тьмы индивидуумов. С другой стороны, мертвецы магически оживают, когда становятся «предметом» размышлений или торга живых. Так было в монологе Чичикова, которого охватило «непонятное чувство», когда он смотрел «на листики (с фамилиями – отдадим должное деликатности Павла Ивановича – «несуществующих» – А.А.), на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками»; так было в сцене торга с Собакевичем, который продавал души, «что ядреный орех», а не какую-нибудь «дрянь». «Рысь и дар слова» оживили умерших: «А Пробка Степан? Я голову прозакладую, если вы где сыщите такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!» На замечание изумленного Чичикова, что «это все народ мертвый», Собакевич, «владеющий сведениями образованности», отреагировал и весьма странно: «Да, конечно, мертвые. (…) Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди». Где живые, где мертвые? Где люди, где мухи (кстати сказать, люди весьма часто уподобляются мухам)? Грань между миром тем и этим в «поэме» скандально размывается. Вообще сама коммерческая деятельность по поводу усопших душ намеренно окарикатурена, ибо она оскорбляет память отошедших в мир иной и бросает мрачную тень на репутацию «негоциантов»; иными словами, это чудовищное, дьявольское предприятие, теряющее свой безобидно-коммерческий смысл и обнажающее бездушие торгующего «душами» человеческого материала. Мертвыми – обратим внимание – персонажей делают не отсутствие живости, бледность вместо крови с молоком, отсутствие аппетита, в том числе и аппетита «попользоваться насчет клубнички»; напротив, физиологическая (отделенная от духовности) сторона жизни карикатурно выпячена почти в каждом из главных героев: вожделений в смысле пожрать-поспать не чужд и сам Чичиков, который 259 уже при первой же вылазке в город не упустил возможности и «посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности»; вспомним также гастрономические оргии Павла Ивановича solo, а также пиршества с участием Манилова, Собакевича, Ноздрева. У них у всех губа не дура и нос по ветру. Носы, рты, уши и глаза героев функционируют исправно и с полной выкладкой, однако же и Михаил («медведь! совершенный медведь!») Семенович Собакевич, «весьма похожий на средней величины медведя», и «шильник» с выразительной фамилией Ноздрев, смотревшийся среди своего пего-муругого собачьего царства «совершенно как отец среди семейства», – нацелены, словно бессловесные скоты, на кусок пожирнее, который, к тому же, плохо лежит. Мертвыми героев делает не натура с ее топорной работой, а их ценностные установки. Разве натура виновата в том, что главным делом сладчайшего Манилова стало выбивание пепла из курительных трубок и последующее выравнивание кучек золы «не без старания очень красивыми рядками»? В таком случае позволительно спросить, какие же ценностные ориентации делают человека человеком, что может обеспечить прогресс «на бесконечной лестнице человеческого совершенствования»? Или: какого компонента не хватает, чтобы души ожили, загорелись мечтой, надеждой, верой? Причем – и это принципиально важно – вопросы обращены не к Гоголю, повествователю (который рядится в «авторскую» личину), личному опыту читателя или конкретного исследователя. Если ответы на поставленные вопросы зависят от мнения конкретной персоны (кто бы она ни была), вступившей в диалог с «Мертвыми душами», то мы попадаем в то самое малокультурное измерение, где каждый считает «мертвыми» других, но не себя любимого. Короче говоря, нас интересует объективный подход к содержательной стороне духовности. Здесь надо мыслить уже не по-гоголевски, а по-гегелевски, не художественно, а научно. Для постижения маловразумительной, «навороченной», отчасти с проблесками инфернальности «поэмы» Гоголя необходима, как ни странно, глубокая гуманитарная теория. Здесь нечего делать с набором простеньких «общечеловеческих» доктрин типа «потревоженной христианской совести» или нравственного абсолюта, упакованных в притчи об аде и рае, о чертях и ангелах. Нужен, повторим, контекст теории, разъясняющей диалектику художественного сознания, ибо Гоголь гениально пользовался инструментом, возможности которого он не осознавал. Такой подход возвышает и Гоголя, и исследователя, тогда как «благоговейный» способ творить из Гоголя лукаво улыбающегося идола оскверняет память величайшего художника. Итак, все «странные герои» «поэмы» были показаны нам как существа, живущие в режиме бессознательно-психической регуляции, что не лишало их живости, но не делало героев культурными, по-человечески, духовно живыми; напротив, исключительная зависимость от натуры и претензия на человеческий 260 «образ» – вот источник комизма гоголевских характеров (более, конечно, типов, нежели характеров). Чтобы ожить, им не хватало культуркомпонента, а именно: рефлексии, умения думать. Как ни странно, живая «диалектика души» возможна тогда, когда души отражаются в зеркале разума, а работа разума – в глазах, зеркале души. Живые души в этом смысле изображали Л. Толстой, Достоевский, Чехов. Дефицит разумного начала – это как бы не тема Гоголя. Его тема и стихия – комично вывороченное наружу изобилие, корень которого ничто, пустота. Символом гоголевской темы может быть изображение «биллиарда с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими в воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». И вот Гоголь. Казалось бы, при чем тут разум? Вот образец ассоциативного (бессознательного), притчевого или, попросту, образно-модельного способа мыслить Гоголя: он изображает буйную, густую растительность на щеках исторического человека Ноздрева, дивно запущенный, кромешно заросший сад Плюшкина, невинную склонность «пожрать-поспать» деликатного Павла Ивановича, чревоугодничество неделикатного Собакевича. Все это прочитывается как симптомы торжества плоти, прущей жизни. Но: чем гуще жизнь – тем менее одухотворенности, тем меньше разумного начала. Взаимозависимость плоти и духа, натуры и культуры, психики и сознания, души и ума – постоянно в центре внимания писателя. А это – главный сюжет, по сути, единственная вечная тема всей мировой литературы. Мертвые души, по Гоголю, – это запущенные, малопросвещенные души. Отсюда культ вещей, предметов, тараканов, самоваров и булавок: не вещи как таковые интересуют автора, а вещи как симптоматика бездушия. Вы спросите: почему тогда нет пафоса истребления жизни, глупой плоти – антипода одухотворенной, мыслящей материи? Наоборот: плотское начало выписано с игривой симпатией. Да потому что бессознательно Гоголь догадывается, что именно непричесанная жизнь и питает душу, в здоровом теле – здоровая душа, здоровая натура – основа здоровой культуры. А если в здоровом теле гнездится «мертвая» душа, значит что-то не так, значит не плоть сама по себе виновата. Потому и решил прозаик свою этологическую (нравоописательную) повесть перевести в ранг поэмы – о пока что мертвых, но потенциально живых душах. Поэма – это намек на то, что корень жив. Амбивалентность и неуловимость гоголевской «концепции» отражает то обстоятельство, что он запутался сам и запутал, естественно, других. По Гоголю, очевидно, искра божия, оживляющая души, таится не в самой натуре. Нужен, видимо, какой-то человеческий, привнесенный интерес и компонент. Вот он-то и сокрыт в щемящих, живых интонациях лирических отступлений. Отступлений (исключений) из правил 261 мало – так ведь для оживления душ и требуется самая малость, божественный пустяк, а именно: поднять голову от земли, посмотреть в небо – подумать о вечном. Озарения души снисходят свыше, «там» души обретают свой смысл. В поэме вы не найдете, так сказать, рецепта оживления, в ней есть тоска по живым душам, тоска по мысли, которая проявляется через комизм. Помните смех сквозь «незримые, неведомые» миру слезы? Уже для того, чтобы разглядеть мертвые души, надо быть живым человеком, «много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья», дабы «вызвать наружу» «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога». Если угодно, «Мертвые души» и есть именно поэма, поскольку поэзия должна быть глуповата, малоконцептуальна. Это глупое (то есть поэтическое) сочинение на очень умную, самую умную тему. Вот и вся разгадка лукавого Гоголя. Он тянется к плоти как к источнику жизни – и дискредитирует ее как бездушное нечто. А в конечном счете, повторим, для оживления душ не хватало разума. Не важно, понимал или не понимал это сам Николай Васильевич: это выводится из его неподражаемой, фантастической по художественным совершенствам модели. «Мертвые души» – одно из самых совершенных творений в мировой художественной прозе. 2 Поэма – это не вопрос исторической поэтики и не определение жанра «Мертвых душ», а способ переакцентировки смысла повести с помощью жанрового сдвига. Это попытка сделать главным в повести о мертвых душах ностальгию по душам живым и «глубину душевную». Лирическое, «живое» начало, противостоящее «суровой прозе», должно, очевидно, стать живительным фоном. Пусть лирические отступления – всего лишь вкрапления в иронический монолит повествования, тем не менее их удельный идейный вес вполне сопоставим, что, кстати, придает иронии трагический оттенок. По сути же перед нами несколько неуклюжая попытка оправдать неуклюжее же совмещение двух стихий: лирически-сентиментальных, исповедальных по тону отступлений – и разящего, безжалостного, наступательного тона «собственно» текста повести. Как ни странно, милая неуклюжесть приобрела степень органичности, свойственную летающим бильярдистам. Это совмещение не выглядит не только неестественным, надуманным и лишним (в художественном смысле излишним), но, напротив, одно предполагает другое, одно является завершением (и духовным, и эстетическим) другого, оборотной стороной другого. Живая душа, повествователь – автор не только «отступлений», но и прямого, 262 непосредственного повествования. Следовательно, в самой мрачной иронии присутствует, подразумевается нота оптимистического лиризма. К чему таить правду? Пророк, не умеющий понять того, что он глубоко чувствует, иногда оказывается умнее себя самого. Мы не собираемся ловить «автора» на слове; мы обращаем внимание на знаменательно оброненное слово. Слово-то на «святой» Руси может «животрепетать». «К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами». «Глубокий взор» – вот что противопоставляет повествователь «недумающим глазам». Мысль – вот чего не хватает «вам» (нам всем, любезный читатель), чтобы души наши ожили. Так бегло, вскользь обозначен мессианский посыл книги: заставить «вас» (всех и каждого персонально), «полных христианского смиренья» (ложного, надо полагать, лицемерного, во всяком случае, недостаточного для того, чтобы души жили полнокровно), «не гласно, а в тишине», «одному», «в минуты уединенных бесед с самим собой», «углубить» «вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» «Да, как бы не так!» – посмеивается над собственными иллюзиями неплохо знающий «нас» повествователь. Как видим, подспудная лирическая струя – это инструмент идеологической коррекции: мир «чичиковых», мертвых душ, изображенный (бессознательно и мстительно) в порыве трезвого и окончательного отчаяния, преподносится (на уровне сознания) как трактат в назидание всем живущим, отчасти чичиковым. Автор понимает, что исправлять людей надо, необходимо и должно, хотя в глубине души и не верит, что это возможно сделать. И это глубинное неверие бессознательно ставит себе же в вину. Вот и превратилась замечательная книга – в сладчайшую «поэму». Лирика и «поэмность» – это ложка утопического меда в бочку с трезвящей горечью. И все же органичность лирико-иронического симбиоза не означает, что симбиоз перестал быть уродливым. Напротив, пластическая уродливость – отличительная эстетическая характеристика «поэмы»-гротеска. Посудите сами. Заглянем в финальное, наиболее пронзительное, поэмное по духу отступление. Здесь и «бойкий народ», и «расторопный мужик», и «кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.». Это вам не въезд тихой сапой; выезд из царства теней и «мух» обставлен героико-патриотически, фанфарно и победительно. Русь «мчится вся вдохновленная богом!.». Кто кого победил? Наша взяла, живы будем – не помрем? Думать, что ли, начнем? «Другие народы и государства» «постораниваются» с почтением, глядя как русские, обожающие быструю езду, несутся куда-то там сломя голову. А вот куда, кстати? Ответа двусмысленно не последовало. Из благих побуждений 263 можно предположить, что в светлое будущее мчится страна, разметнувшаяся на полсвета, туда, где обращают внимание прежде на сидящих в экипаже, а потом уже на колеса. «Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца?» Чего греха таить, читать подобное особенно приятно после того, как насмотрелся на хлопоты нерасторопного дядьки Митяя (похожего, кстати сказать, «на деревенскую колокольню, или, лучше, на крючок, которым достают воду в колодцах») и самобытно тупого дядьки Миняя («с черною, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка»). Почему бы не вывести расторопного мужика в самом тексте, а не сублимировать тоску по идеалу в лирический ключ? Уж не потому ли, что это означало бы пойти вразрез не с реализмом даже, а с чутьем художника: заставить себя изображать не то, что вижу и чувствую, а то, что хотелось бы видеть? Гений – он лиры милой не отдаст. Вот во втором томе и выдано желаемое за действительное, поэтому сусально-лубочная модель попросту лишена художественной энергетики и мощи. Худосочная модель, ибо из пальца высосана, придумана, лишена живительных (то есть внутренне противоречивых) красок реальности. Лира отдана идеологии, сознание катастрофически преобладает над бессознательным. Назвать человека умным, руководствуясь умными побуждениями, еще не значит изобразить живую душу. Возьмем Константина Федоровича Костанжогло. «Уж этакого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать». Но это не помешало Константину Федоровичу в художественном смысле остаться мертвой душой (хотя в смысле духовном стратегия оживления намечена верно). Лирические отступления задуманы как квинтэссенция и средоточие «духа живаго», как перспектива миру траги-иронического гротеска. В Россию, как известно, можно только верить, вот вера и стала альтернативой омертвленной душе. Если бы Гоголь отдавал себе отчет, что верующая душа – это всего только разновидность мертвой души! Какими сочно-мрачными красками заиграл его инфернальный город NN, опрокинувшись в неожиданный семантический план. И вот Гоголь… Ценен не «прямой» смысл, а двусмысленный тон отступлений, в которых задана поэтическая установка на одухотворенность, где пульсирует вера в «живой и бойкий русский ум». Вот откуда органическая спайка со здравостью и нормальностью трагико-иронического пафоса, ибо то, что так «кучеряво» изображено, следует оценить как сплав трагизма и иронии. Это очень высокая точка отсчета, реализованная в амбивалентной интонации повествователя. Его «образ» и есть точка отсчета в произведении, в соотношении с фигурой «автора» в истинном свете и масштабе предстают все остальные фигуры. Таким видится замысел «Мертвых душ». Повествователь наивно верит, что люди могут быть не такими, какие они есть и какими он их восхитительно изобразил. Вот этот «задний» лирический ход 264 демонстрирует запас человечности, гуманности, неиссякаемой веры, как принято считать. На самом деле образ повествователя превращается в комический персонаж, проливающий крокодиловы слезы над миром собственного гениального трагического гротеска. Точка отсчета становится иллюзорной, содержанием ее выступает смысловая и гносеологическая пустота – жалкое credo запутавшегося пророка. Подлинная точка отсчета, на которую объективно претендует хитроумный замысел масштабного полотна, – учение о двух типах сознания, моделирующем и рефлектирующем. Гоголь талантливо показал дураков разных мастей; объяснять же, почему они дураки и кто такие умники – не его дело, не его тема, он в этом попросту ничего не смыслит. Таковы величие и комизм Гоголя, который, при ближайшем рассмотрении, дает повод над собой посмеяться, а заодно и над теми, кто принимает его «незримые» миру слезы за влагу истины. Хочешь понять Гоголя – надо не плакать, не смеяться, а понимать. А дальше – читайте сами, и можете верить Николаю Васильевичу Гоголю, не верить себе или верить в то, что вы ни во что не верите, или потешаться над Чичиковым в себе и в Гоголе. Счастливого пути. Сами ищите дорогу из царства мертвых, куда вы попали, ненароком заплутав среди бела дня, куда изящным эстетическим финтом вовлек вас лукавый автор, сам не очень-то представляющий, где искать выход. Запрягайте свою птицу-тройку. Авось, вывезет. 265 ЧАСТЬ 6. А.П. ЧЕХОВ 6.1. А.П. ЧЕХОВ: ТРАГИКОМЕДИЯ БЫТИЯ 1 Давно замечено: чем более странным кажется явление, тем проще его объяснение. Чехов А.П. – странен. И странности в разговоре о Чехове начинаются уже с того, что очень непросто сформулировать, в чем же именно он странен, хотя странность его как-то сразу не вызывает сомнения. Это большая удача для исследователя. Странность предполагает наличие непримиримых противоположностей, сопротивляющихся совместимости, как магнитные полюса, но отлично функционирующих в ансамбле. Словом, это тот самый диалектический стиль мышления, представленный – и в этом все дело – в художественном варианте. Подобное же познается подобным. Художественное – изначально в той или иной мере диалектично: это условие существования художественности. Отсюда следует: адекватное познание внутренне противоречивого бессознательного художественного комплекса также должно опираться ( и уже сознательно) на диалектическую методологию. Чехов еще и сознательно насыщал свои стихийно диалектические модели преимущественно «смыслом», являющихся таковым только в случае обозначения противоположного смысла, также нежизнеспособного без «смысла» первого, условного. Два условных смысла дают некий безусловный. Это и есть Чехов. Это уже современный тип художественного мышления, требующий тонкого научного комментария. Пушкинская традиция проявилась в творчестве Чехова не на уровне стиля, типов конфликтов, не в наследовании смысловых или сюжетных мотивов, а – прежде всего и главным образом – в типе художественного мышления, типе художественного освоения действительности. При желании Чехова можно объявить умным или скучным, раздражающе интригующим или поверхностным, ложно глубокомысленным или мудрым. В общем, там, где противоположности сходятся, – тысячи смыслов живут и здравствуют, высекаясь при соприкосновении несовместимого. Задача не в том, чтобы их бережно зафиксировать: такой «собирательноописательный» подход даже менее научен, чем художественное познание писателем человека. Мы будем исходить из того, что чувство диалектической отцентрованности вело Чехова к некой «общей идее»; поместить же то, что у него получилось (результат творчества) в действительно научную систему координат – вот наша забота. 266 2 Как бы ни был уникален писатель, он всегда безнадежно банален именно тем, что он писатель. Художник всегда думает одно, говорит другое, а делает нечто противоречащее первому и второму. Его часто бывает столь же сложно понять, как старшего приказчика Ивана Васильича Початкина («Три года»), мастера примитивной метафорической вязи. Сказать-то он скажет, но что он имеет в виду? Вот Чехов думает и говорит: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце (здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсив – автора – А.А.). Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что, кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что, кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели. Если положительные типы, создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены. В этом отношении такие люди, как Пржевальский, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка. Всегда так было, что чем ближе человек стоит к истине, тем он проще и понятнее (тем менее странен? Здесь мы с Чеховым не согласимся – А.А.). (...) Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав». (Произведения цитируются по изданию: Чехов А.П. Собр.соч. в 8-ми томах, т. 4, 6, 7. – М., «Правда», 1970.) Все как бы предельно ясно, недвусмысленно, позиция программно отчеканена, и ее соблазнительно хочется применить как «ключ к творчеству писателя». Но настоящий ключ к творчеству писателя суть не его программные декларации, а понимание природы художественного творчества. Древний, как Библия, метод постижения произведения путем незамысловатой проекции на него личности писателя (метод, кстати сказать, неоправданно утративший научную популярность вследствие своего, якобы, марксистского происхождения, что является полнейшей нелепицей, как, впрочем, нелепо (мифологично) и само отождествление «марксистского» начала в литературоведении с «ненаучным») эффективен либо в случае высокой нормативности художественных творений, либо их низкого художественного 267 качества. Мы же имеем дело, повторим, с диалектикой художественного сознания высочайшей пробы. Сказанное Чеховым по-человечески понятно и так естественно воспринимается в качестве общественного идеала. Прекрасно сказано. Невозможно спорить. Кто будет возражать – у того нет сердца; но не возразить – значит расписаться в отсутствии ума. Обозначенный идеал вступает в сложные отношения с законами художественного мышления, и в свете творческой практики идеал так и остается идеалом. И тем не менее этот человеческий, духовный камертон содержит в себе тот методологический ключ, который способен помочь нам объяснить феномен культуры, имя которому творчество Чехова. Несколько рассказов, ставших безусловной классикой («Попрыгунья», «Старший садовник» и др.), исполнены того самого высокого, героического гуманизма, отчетливый пафос которого пронизывал этюд о типаже, явленном Пржевальским. С другой стороны, многие сатирические рассказы вполне объяснимы как изнанка героических тезисов о русском подвижнике (иногда, как в «Попрыгунье», героика и сатира естественно совмещаются, как разные стороны одной медали). Но вот попробуйте, не греша против истины и Чехова, состыковать «программу» с такими рассказами, как «Именины», «Жена», «Черный монах», «Скучная история», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Учитель словесности», «Три года» и т.д. Тут надо признать: мы имеем дело с качественно новым феноменом, с иной программой, не отвергающей старую, но мудро продляющей ее ... куда? В каком направлении? Кстати было бы вернуться к странному смыслу ясных слов о Пржевальском – о типе личности, блестяще воплотившей гражданские добродетели. Следует ли понимать Чехова в том смысле, что «подвижники», «люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели» могут быть таковыми только потому, что они не задают себе вопросов: «зачем? почему? какой тут смысл?», а если начинают задавать, то сразу же превращаются в своих антиподов, в «скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов»? Иначе говоря, не является ли платой за подвижничество отказ от сомнений, размышлений, от работы мысли, от философии? Человек действующий и человек рефлектирующий противопоставлены Чеховым как антагонисты, и предпочтение недвусмысленно отдано первому. Однако если люди думающие не стремятся быть подвижниками – все ли в порядке с «людьми иного порядка»? Не есть ли их жертвенный героизм прямое следствие если не глупости, то явно некоторого недомыслия, нежелания воспринимать мир в его противоречивой целостности – в конечном счете, следствие боязни себя же, выражение потребности укрыться от реальности? Не малодушие ли и леность мысли являются источниками героизма? 268 Пусть даже они правы, и пусть даже всякий скажет об этом – это еще не основание объявлять скептиков людьми второго сорта. Настоящая проблема не в противопоставлении умных, но ленивых и скучающих, – глупым, но потрясающе деятельным. Вопрос в том, умны ли «ведущие спор об оптимизме и пессимизме, пишущие от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающие во имя отрицания жизни и лгущие ради куска хлеба» – или высокие слова и мотивы всего лишь культурная фальшивка, предъявление которой позволяет с высоко поднятой головой дезертировать с рутинного поприща, где есть, тем не менее, место подвигам? Вот в чем вопрос. Если они действительно, по-онегински, умны – то их «лень, скука жизни и неверие» есть разновидность нешуточной хандры, подлинной трагедии и реальной болезни духа; но если они умничающие болтуны и развратники, то поведение их отдает фарсом и дешевым комедиантством, той самой пародией, следы которой так боялась обнаружить в Онегине бедная Татьяна. Онегины они или пародии на него? Умные и мужественные ли это герои и, вследствие этого, бездеятельные или попросту слабовольные бездельники, прикрывающие свою лень разговорами о нервном веке и лишних людях? Очевидно, что в чеховском контексте речь идет о пустых болтунах, достойных сарказма, и деятельных, скромных подвижниках. Однако проблема, поднятая Чеховым, оказалась глубже трактовки предложенной им же самим в некрологе о Пржевальском. И Чехов-художник принял вызов, брошенный самому себе публицистически. Он героически признал (в рассказах), что высший тип духовной деятельности – не за героями, а за людьми просто умными. Герои – это одна сторона медали; другой может быть как благородство, так и трусость. И действительно, в произведениях Чехова выведены просто россыпи колоритнейших умствующих ничтожеств (у нас, конечно, еще будет повод вернуться к этой теме). А вот подвижниками типа Пржевальского писатель, слава богу, почти не занимался. С нравственной и общественной точки зрения они, возможно, и бесценны, но вот как литературный характер – уже день вчерашний. Да это и не характеры вовсе, а типы, честные и благородные, но одномерные типы; их стихия – подвиг, а не сомнение, их враги – извне, а не внутри них самих. Характер же складывается из нескольких переплетающихся и сочетающихся типов, часто в принципе несовместимых. Русская литература обогатилась бы выдающимся моралистом, наподобие Солженицына, а мир так и не обрел бы феномена Чехова. К счастью, этого не случилось. Но для этого писатель вынужден был «де факто» модернизировать свою публицистическую программу, отступить от нее во имя высшей правды. Онегиных, как мы уже догадываемся, не бывает слишком много, и они появляются не «в наше больное время» как Герои и выразители этого Времени, 269 а потому, что, на горе себе, умны и порядочны до такой степени, что в любое время их не жаловали и не будут жаловать. Вот нам и предстоит выяснить, что же составляет духовно-эстетическую основу самых сложных характеров Чехова. Поднялся ли Чехов до взнесенной Пушкиным духовной планки, и вообще, насколько и каким образом пушкинская программа русского литературного развития сказалась на творчестве Чехова? А то, что пушкинская «программа» носит универсальный характер и не сказаться на творчестве любого выдающегося прозаика просто не могла и не может, специально обосновывать нет необходимости. 3 В странном несоответствии смыслу своей простой и убедительной декларации Чехов противопоставил вопросу о «положительно прекрасном человеке» трезвый художественный анализ природы человека. Уже в «Дуэли» (1891), которая словно бы родилась из духа декларации, много непоследовательного и противоречивого. Иван Андреич Лаевский – это та самая пародия на лишнего человека, которая сопровождает «лишних», словно тень. Другое дело, что сам фон Корен – пародия уже на Пржевальского как на идеал, выдвинутый Чеховым. Самовлюбленный и жестковатый фон Корен, сделавший культ из труда, а не из человека, и к жизни людей подходит с мерками лютого дарвинизма. «Гамлетианство» Лаевского, его вина «перед миром высоких идей, знаний и труда», отсутствие «идеалов и руководящей идеи в жизни», самообман по поводу того, что «из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник», – все это сгущено до степени карикатуры. Его идейный оппонент фон Корен, зоолог и естественник, готовивший себя в скором будущем к подвижнической экспедиции на русский Север («мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями» – по Пржевальскому), метко и безжалостно характеризует Лаевского: «Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами». На самом же деле, с точки зрения фон Корена, «Лаевский – довольно несложный организм». «Его нравственный остов», «тесная программа» укладываются в следующую язвительную формулу: «все сводится к вину, картам, туфлям и женщине». Лаевский для этого тяжелого моралиста и нудного рационалиста всего только «очень самолюбивое, низкое и гнусное животное», которое следует «обезвредить», «утопить, что ли..». «В интересах человечества и в своих собственных интересах», – резюмирует расчетливый фон Корен, – «такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно». С подобной поверхностной, «немецкой» логикой мы уже сталкивались в нашем 270 исследовании неоднократно («тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!» – нелепо, но гениально возражал добряк Самойленко). С одной стороны, «пустой, ничтожный, падший человек», покупавший жизнь «ценою лжи, праздности и малодушия» (автопортрет Лаевского), с другой – «деспот», мрачно хлопочущий «об улучшении человеческой породы» (проницательный Лаевский о фон Корене). Дуэль заочная и словесная закончилась дуэлью на пистолетах, где фон Корен едва не лишил жизни зловредный человеческий экземпляр. В сущности, дуэлянты стоят друг друга, с чем и поздравим писателя, который уже в этой, далеко не лучшей своей повести, нащупал принципиально новый способ разрешения программной дилеммы. «Оба хуже» – это верно. И еще: в повести обозначена духовная точка отсчета – повествователь, который посмеивается над Чеховым с его «пржевальщиной». Не кажется ли вам это странным? И тут важно даже не то, насколько велики расхождения между декларативной программой и выведенными типажами, сколько другая простая и ясная вещь: рассказы Чехова стали живым художественным исследованием с непреднамеренной тенденцией и неизвестным результатом, с открытым финалом. Непосредственное продление интересующей нас проблематики – «Скучная история», которая вместе с «Дуэлью» составляет некую условную ось, вокруг которой вращается творчество всего Чехова. «Скучная история» дарит нам удивительный характер: скрещение Лаевского с Пржевальским, странный симбиоз, в котором один тип отрицает другой – и этим живет. Странным представляется и то обстоятельство, что «Скучная история» (1889) была написана раньше «Дуэли», хотя по общему смыслу является продолжением последней. Рассказ имеет многозначительный подзаголовок: «Из записок старого человека». Не то важно, что перед нами «заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер», с «самым аристократическим знакомством»; «с моим именем», – честно и просто повествует рассказчик, – «тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый». Гораздо более важно другое: перед нами старый, поживший человек, а не просто заслуженный ученый. И вот перед нашим мысленным взором разворачивается удивительная притча о «несомненно полезном» человеке, который умудрился прожить бесполезную и бесцветную жизнь. Точка отсчета в этой странной истории – героический типаж, скопированный с доблестного Пржевальского. «Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе в 271 публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть». И далее: «Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо». Имя счастливо – а человек нет. В конце рассказа Николай Степанович с горькой иронией заметит: «грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло». В сущности, рассказ о том, как «Пржевальский», «Николай Степанович такой-то», превращается в нечто противоположное себе – и это подано повествователем как несомненный духовный прорыв, взлет и пик быстротекущей жизни. Главный экзамен в жизни заставила держать «заслуженного профессора» не наука и не Россия, а Катя, его приемная дочь и бывшая актриса, ленивая, праздная и «бесполезная» женщина. Точнее, те «новые» мысли, которые возникли у старого, умирающего человека не в последнюю очередь под воздействием Кати. «Новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты». Что это за новые мысли? В рассказе Чехова «Печенег» буднично просто, бегло отмечено (от лица главного героя): «Имеет человек в жизни зацепку – и хорошо ему». Такой зацепкой для Николая Степановича стала наука: «Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу». Не случайно до университета Николай Степанович учился в семинарии. От веры – к науке: таков путь к духовной зрелости. Блажен, кто верует… Есть вера – будут надежда и любовь. Вера, сдобренная аргументами и фактами (что дает, в результате, идеологию), позволяла игнорировать жизнь, не замечать реальность. Вот цена, которую пришлось заплатить за «счастливое имя» в науке. Новые мысли разрушили прежнюю веру. Оказалось, что за то время, пока он наслаждался верой, жена превратилась в «старую, очень полную неуклюжую женщину, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне»; сын и дочь оказались «не героями», нагло тянущими из знаменитого отца деньги и заставляющими тайного советника «мучительно краснеть оттого, что должен лакею». «Подобные мысли о детях отравляют меня». Оказалось, что коллеги и студенты – чаще всего ничтожества, и полезная деятельность в университете, которой по праву гордился скромный Николай Степанович, вовсе не так уж и полезна. «Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики?» – язвительно замечает Катя. «Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые 272 эксплоатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний». «Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений (веры – А.А,), то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен?» – рассуждает Николай Степанович совсем уже не как герой и подвижник, а как скептик и философ. «Просто у вас открылись глаза, вот и все,» – безжалостно резюмирует Катя. «Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать». Лишний – это подвижник по натуре, у которого открылись глаза. Честен подвижник до тех пор, пока глаза его закрыты, пока он слеп и равнодушен к истине, довольствуясь полезной деятельностью. А вот теперь извольте принять к сведению всю сложность и неоднозначность мира – принять иную веру, не отвергая прежних убеждений. Естественным результатом сшибки ценностных ориентиров становится та самая рефлексия, порождающая «отсутствие определенной цели в жизни». Если уж кому-то очень не нравятся «лишние», нехорошие люди, следует назвать вещи своими именами до конца: хороший человек, полезный человек – это слепой, верующий человек, не расположенный рассуждать. Лучшее лекарство от рефлексии – подвижничество, а от подвижничества – рефлексия. Смотрите, как просто на наших глазах именитый профессор превращается в несчастного человека, его великолепное житие – в скучную историю, полезное подвижничество – в никому не нужную рефлексию. «Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией (сделанной под идею долга – А.А.). Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал». Учитель, ученый, гражданин – общественное, внеличностное измерение персоны – портит финал сделанной жизни. Чем, спрашивается, портит финал Николай Степанович? А тем, что задумался, встал на скользкую стезю тех, кто спрашивает: зачем? почему? какой тут смысл? Тем, что из государственного мужа превращается просто в свободную, следовательно, лишнюю, с точки зрения общественных функций, личность. «Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно,» – никак не может смириться с утратой веры былой подвижник, обвиняя во всех своих бедах бедную, но очень умную Катю. Рассказ хорош именно тем, что предлагает взамен двух плоскостей «подвижник» – «лишний» (жизнь или финал) гораздо более тонко нюансированную систему координат, которая сказывается на общем смысле. 273 Злорадствовать по поводу испорченного финала жизни – это уже цинизм, умудриться не испортить финал – глупость, сожалеть о том, что это неизбежно, «нужно» – умный стоический скепсис; но подлинная мудрость с болью воспринимает неизбежность испорченного финала. Мудрость – это рефлексия по поводу того, что «подвижники нужны, как солнце» и одновременно по поводу того, что финал их жизни будет печален, испорчен. «Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение,» – роняет бесценное наблюдение, в сущности, credo, Николай Степанович в своей исповеди. Унылое чувство, боль и нравственный рост – это и есть итог размышлений, прямое следствие культуры. Жизнь – не интеллектуальный ребус и не композиция из кубиков, которую надо доделать в соответствии с неким заданным генеральным планом. Жизнетворчество предполагает познание себя, а не подгонку себя под всеми одобряемый героический аршин. В развитие темы «финала» совершенно оправдано появление в рассказе еще одного профессора, филолога Михаила Федоровича. «Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей»: «он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно». Это законченный скептик, резкий, желчный, «бранчливый» (что это, ненависть и отвращение как свидетельства не очень высокого нравственного роста?). Впрочем, и на этого мудреца довольно простоты: в глазах Михаила Федоровича, «очень наблюдательного» человека, когда он произносит свои остроумные и злые тирады, «нет ни ненависти, ни злости». Но вот когда он провожает Катю глазами, «то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое…» Ностальгия по вере гнездится в душе и этого изверившегося циника. И вот между Николаем Степановичем, перед смертью старающемся думать о себе, о дочери Лизе, ее сомнительном женихе Гнеккере, о студентах, вообще о людях хорошо, а на самом деле ловящего себя на мыслях о том, что «все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими», и Михаилом Федоровичем, видящем в коллегах «европейских дураков», «балбесов и патентованных тупиц», «печально» глядящего на молодое поколение, да и на жизнь вообще, – между двумя умными учеными поставлена Катя. В «скучной истории», которая называется жизнью, именно ей приходится выбирать между двумя правдами и верами. В детстве Катя была необыкновенно доверчивым и очень любопытным ребенком. На заре своей юности она поступила в труппу и уехала с театром в провинцию, «увезя с собою (…) тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело». Путь от веры в идеалы к осознанию их оторванности от жизни, затянувшийся у Николая Степановича на долгих тридцать лет его беспорочной службы, Катя прошла в четыре года, похоронив любовь, надежды 274 и ребенка. Первые письма ее содержали в себе «столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму», «каждая строчка дышала доверчивостью». Все предпосылки для того, чтобы посвятить себя подвижническому служению искусству, за исключением явно лишнего тут ума, были налицо. Прошло время, и у Кати «уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное (…). И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто уж все испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового». «Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуто претензиями…» – хладнокровно констатирует разочарованная Катя. И вот из рук этого чистого и честного по отношению к себе и другим существа, к тому же по-настоящему любящего Николая Степановича, профессору медицины и пришлось принять последний удар судьбы, окончательно испортить финал. Катя в соответствии с замыслом повествователя прекрасно знает цену Николаю Степановичу, переживающему подлинную трагедию, и насквозь видит мелкую натуру Михаила Федоровича, за душонкой у которого нет ничего, кроме злого языка. «–Опять этот Михаил Федорыч! – говорит Катя с досадой. – Уберите его от меня, пожалуйста! Надоел, выдохся… Ну его!» Николая Степановича она привечает иначе. «–Вы очень хороший человек, Николай Степанович, – говорит она. – Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую!» Отдадим должное тонкости суждений бывшей актрисы, которая, впрочем, беспощадна и к себе (качество мужского ума): «Таланта у меня нет! Таланта нет и… и много самолюбия!» Михаила Федорыча сыграть легко потому, что это тот самый тип, типаж, укор которому – судьба Пржевальского. Это Лаевский в пятьдесят лет, тот самый нытик и скептик. У Николая Степановича есть моральное право судить свою прежнюю веру, ибо крест свой он с честью и достоинством пронес до конца. Он слишком хорошо знает цену тому, что отрицает. Однако он не спешит осуждать других, а если и делает это, то без злобненького восторга самоутверждения, скорее от бессилия, с болью. Вместо двух «жаб», отравляющих воздух сплетнями и злословием, становится «целых три». Николай Степанович присоединяется к «такому невинному развлечению, как осуждение близких», разделяя компанию Михаила Федоровича и Кати. Он отдает себе отчет, что превращается в «жабу». И все же Николай Степанович не кощунствует и не глумится в отместку миру за свое несовершенство. В первую очередь его интересует конструктивное 275 осуждение, нацеленное на пользу. «Николай Степанович, ведь я отрицательное явление? Да?» – спрашивает Катя. «–Да, – отвечаю я. – Гм… Что же мне делать?» Посоветовать «поступить в герои» – глупо, поощрять злословие («тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва») – еще более глупо. Самое умное в этой ситуации поступить по совести, по душе, посочувствовать человеку, который не знает, как ему стать «положительным явлением». Николай Степанович так и поступает. Однако вскоре ситуация потребует от умирающего профессора активного нравственного действия или вмешательства. Дочь его Лиза накануне тайного венчания с Гнеккером оказалась перед тяжелым выбором, возможно, таким же, какой в свое время сделала Катя, которая, как мы помним, пробовала отравиться, была серьезно больна, похоронила ребенка. И вот дочь бросается на шею отцу: «, – Папа мой добрый… – рыдает она, – папа мой хороший… Крошечка мой, миленький… Я не знаю, что со мною… Тяжело!» «–Да помоги же ей, помоги! – умоляет жена. – Сделай что-нибудь! Что же я могу сделать? Ничего не могу». Этой же ночью, «страшной ночью с громом, молнией, дождем и ветром», к его окну подошла Катя. Еще до сцены с Лизой душу Николая Степановича угнетал «такой страшный ужас», как будто он «вдруг увидел громадное зловещее зарево». А Кате «вдруг почему-то стало невыносимо тяжело…», у нее было «какое-то предчувствие». Что случилось этой «воробьиной» ночью? Что за тайная связь обнаружилась между умирающим Николаем Степановичем и Катей? «Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни…» – загадочно обронил Николай Степанович. И вот – финал финала. Тайный советник тайно едет справиться о положении своего будущего зятя, у отца которого в Харькове, якобы, дом, а под Харьковом, будто бы, имение. Разумеется, в Харькове о Гнеккерах никто и слыхом не слыхивал. Да это уже стало и не важно, поскольку дочь тайно обвенчалась с проходимцем… Здесь не столько события интересны, сколько реакция на них Николая Степановича. Он «оравнодушел ко всему». Сначала он активно возражает Кате, потом злословит, «как жаба», а теперь вот – пришло равнодушие. «Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть». Вот что случилось той воробьиной ночью: паралич души. Равнодушие – это та грань, за которой человек может сколько угодно изощрять свой ум в скептицизме и цинизме, но он перестает уже совершенствоваться как человек. Ум в невозможном сочетании с совестью – подвижник, понимающий бессмысленность подвижничества, но стоически 276 превозмогающий бремя познания, не желающий превращаться в «жабу» – вот духовный предел той концепции личности, которая явлена нам в этом рассказе. Защита от подобного абсурда – ирония, что ж еще. А дальше – беспристрастный самоанализ, рефлексия, только не как оправдание бессилия своего и равнодушия, а как беспощадный диагноз: «И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего». «Нет чего-то главного», «чего-то общего», «целого», «общей идеи», «бога живого человека»… Обратим внимание: не «зацепка» отсутствует, а «общая идея». Николай Степанович не унизился до зацепки. «Я побежден,» – безо всякой иронии выносит он себе приговор. И вот последняя сцена, окончательно превращающая жизнь живого и очень умного человека, обладающего тонкой душевной организацией, в скучную историю. Катя: «Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать? – Что же я могу сказать?–недоумеваю я. – Ничего я не могу. – Говорите же, умоляю вас! – продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. – Клянусь вам что я не могу дольше так жить! Сил моих нет! Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась. – Помогите мне! Помогите! – умоляет она. – Не могу я дольше! Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страстн…». – Ничего я не могу сказать тебе, Катя, – говорю я. – Помогите! – рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. – Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать? – По совести, Катя: не знаю…» Это ответ не Кате, а читателям, потому что это ответ самому себе. Разброс мыслей и чувств, неумение сконцентрироваться на одном и главном, осознается 277 как слабость и поражение. Ум, образованность, опыт, даже опыт подвижничества, не спасают, если в душе нет веры. Это подвижник судит скептика; последний же, понимая, что прав, испытывает тем не менее пронзительное чувство вины перед подвижником за то, что лишил его смысла, а значит защиты перед жизнью. Типичный комплекс мудреца: истина убивает веру, если вера не становится истиной. Бедный Николай Степанович, он еще не знает, что общая идея утроит чувство правоты и усемерит – вины… Но пока нет подобного опыта, остается перспектива: «общая идея», нечто «главное», придающее отдельным мыслям общий смысл. Если человек честно признает, что он «побежден», не все еще потеряно. Остается надежда, как ни странно. И «общее направление» обозначено: «Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах». Не очень-то похоже на равнодушие, не правда ли? «Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!» «Прощай, мое сокровище!» Может, целых две воробьиных ночи было в личной жизни Николая Степановича? Нет, не испорчен финал, а до странности усложнен. Это достойное завершение жизни старого человека, не покривившего душой. Что имеется в виду? С одной стороны, нельзя жить без «общей идеи», и это нравственнофилософский приговор идеологии («зацепке») подвижничества; с другой стороны, Николай Степанович обрел «общую идею», но как-то не заметил этого. «В одно целое» собралось то, что он мог бы назвать «богом живого человека», а именно: стоическое утверждение созидательного начала в человеке, делающее его «положительным явлением», в сочетании с екклесиастическим пониманием суетности и самой идеологии стоицизма. Старый человек не мог поделиться своим смутным сокровенным знанием с молодой Катей: по совести не знал, что ей сказать. И все-таки ощущение, что не удается свести концы с концами не оставляет читателя. В очередной раз все списать на странность Чехова? Но это не та высокая странность, которая порождена диалектикой Еккклесиаста. Думается, отчасти ощущение объяснимо тем, что совершенство представленной (но как бы отсутствующей) «общей идеи» наложилось на несовершенство художественного воплощения. Дело в том ( и это первое), что Катя – не женский, а мужской образ по сути своей, по духовному архетипу. Это философ в юбке, претендующий едва ли не на высшую точку отсчета. Это очень умозрительно и отвлеченно. Отставная актриса с мужским складом ума несколько схематична, да и невнятна по функциям. Она путает карты, смазывает кульминацию своим странным, печоринским уходом (« – Куда?» « – В Крым… то есть на Кавказ». « – Так. Надолго?» « – Не знаю».), который с большой натяжкой вписывается в общую 278 концепцию и создает ощущение искусственности, конструктивизма, идейного излишества. Не хватает простоты и прозрачности, этих сторон глубины и отточенности. Странность как свойство глубины – это когда концы с концами сводятся воедино, в целостность. И второе: богу живого человека недостает витальности, силы жизнеутверждения, божественного легкомыслия, если хотите; бог человека оказался согбенным, пригнетенным чувством вины за всех и вся: за неустроенные судьбы, за то, что лучшие люди – жабы, за скучную историю. Бог живого человека превращается в комплекс вины, едва ли не в обычного боженьку. Иными словами, перед нами концепция человека трагического, так и не сумевшего преодолеть мрак и уныние почти ортодоксального трагизма и возвыситься до трагизма просветленного, оптимистического – преодоленного. Это новое искомое качество духовности можно было бы назвать идиллической гармонией (в отличие от гармонии героической). Именно с вершины «идиллии» смотрел на мир повествователь «Евгения Онегина». Вообще «Скучная история» – редкий для Чехова рассказ, где трагизм обнажен столь откровенно, и даже жалкая в своей беспомощности попытка иронии лишь подчеркивает неизбывность и полноту трагизма. Трагизм в себе, абсолютный трагизм тяготеет только к героике; если туда путь заказан – другого пути просто нет. Однако оценим и такой момент. Выход из трагического тупика возможен в сторону «общей идеи» (отчасти самоотверженно героической по ожидаемому пафосу), что означает: совершенство человека понимается как совершенство мышления. А такая посылка рано или поздно преодолеет героическую детерминацию. Вот этот вектор и хочется считать победой Николая Степановича. «Я побежден» – после финала звучит уже не так обреченно (до «я победил», конечно, еще далеко). Повествователь и здесь оказался выше рассказчика, выше всех иных персонажей. Несомненной духовной победой Николая Степановича является и то, что он отказался от поиска «зацепки», от разрешения трагизма в героику, всегда возвышающую душу, но унижающую мышление и в целом человека; это было бы шагом в сторону гармонии, конечно, но шагом назад. «Зацепка», безоглядный героизм по Пржевальскому для него – пройденный этап. Он не знает состава «общей идеи», но он уже понимает, что она выше зацепки и альтернатива ей. Общая идея каким-то образом должна вбирать в себя все мыслимые зацепки, интегрируя их в нечто качественно новое. «Общая идея» в самых общих контурах уже маячила в сознании Николая Степановича на уровне представлений. Но «состав» ее предполагался настолько странным, что старый профессор сложил руки и сдался: «Я побежден». В общую идею, помимо подвижничества и осознания глупости его, иронически включается и скрываемый от самого себя, но все же окрашенный в слегка эротические тона интерес к Кате, и крах семьи, и невозможность жить вне семьи, любовь к науке и понимание того, что ты раб этой любви, искалеченный 279 ею. Горькая трагическая ирония заменяет общую идею, и, собственно, становится ею. Вот из таких нюансов состоит «Скучная история» и странность Чехова. Все это, с одной стороны, запутано, а с другой – вполне объяснимо: перед нами живая, тотальная диалектика, тот самый взыскуемый бог живого человека. Жизнь человека под идею, под «зацепку» не задалась, и финал красиво расписанного сценария был испорчен. Однако, с точки зрения логики общей идеи, именно финал придал обыкновенному герою и подвижнику качества несчастного (в экзистенциальном смысле) человека. А это уже гораздо больше, чем герой. Героизм иронически превращается в «скучную историю», но последняя может иметь вовсе не ироническое продолжение… На уровне идей все более или менее ясно. Вы спросите: где же здесь коллизии психики и сознания, главной темы культуры? Противостояние героического (метафизического, недиалектического) и лишнего (потому как диалектически мыслящего) человека – налицо. Но где здесь коварство психики, борьба с разумом, приспособление и познание, натура и культура? У Чехова не иррациональное противостоит рациональному, а рациональное, но менее совершенное в духовном отношении, рациональному же, но гораздо более совершенному в духовном смысле. Идеи противопоставлены идеям, ум – уму. «Ум ума почитает», хотя и не соглашается с оппонентом. Разум как таковой не ставится под сомнение – вот принципиальное отличие Чехова от тех, кто озабочен был исключительно диалектикой души. Тема Чехова не диалектическое противостояние психики и сознания, а исследование разных типов сознания: идеологического и видящего ограниченность идеологии. Одни умные люди спорят с другими умными людьми, а выходит одна глупость. Все дело, однако, в том, что идеологическая «зацепка» и есть вариант самоутверждения психики, прорыв бессознательного на уровень сознания. Рациональная аранжировка – всего лишь способ культурно прописаться и «на равных» сражаться с сознанием как таковым. «Общая идея», то есть более широкий взгляд на вещи, – это уже мировидение «от сознания». Чехова не психология интересует, не столкновение сознательного и бессознательного в «чистом» виде. У него сплошь «культурные» диалоги, идейные споры, позиции, противостояния и «направления». Но за мировоззренческой полемикой скрываются доводы все тех же психики и сознания, души и разума, идеологии и «сверхидеологии» (философии). А ставка на разум, на «лишнего» – и это прекрасно понимал писатель – бесперспективна, ибо антиобщественна. Вот вам и чудо открытого финала, размытость позиций, неопределенность философии, смешение лжи и правды… Чехов погружал нас в эпицентр проблемы, которая, судя по всему, представлялась ему неразрешимой. За неопределенностью стоит вполне определенная логика, продуманная концепция человека. Статус неразрешимости проблемы – вот чем дорожил писатель. 280 А теперь зададимся вопросом: есть ли у Чехова произведения, где герой жил бы с «живым богом человека» в душе, не просто допускал эту возможность, но реализовал «общую идею» в полноту бытия? Есть ли у Чехова герои идиллического плана, или трагическая ирония так и осталась духовным пределом, «богом» его персонажей? Есть у Чехова гуманистические, и при этом неиспорченные финалы? 4 Поразительно близко к эталонному миропониманию – пониманию, за которым искусство находится на грани самоликвидации, – подошел Чехов. Он – типичный философ интуитивного, образного типа, каких немало дала миру русская культура. Тотально-диалектический подход к жизни стал осваиваться художниками слова совсем недавно, пожалуй, отсчет можно начать с Гете. В деле освоения человека как частицы универсума, который (человек) и рождается из него, и творит среду его творящую, русской литературе Х1Х века нет равных в мире. (Более ранние духовные этапы, связанные с противоречивой природой человека, были освоены Европой и ранее, например, Шекспиром. Но Шекспир потому и велик, потому и остался в литературе, потому и мистически современен, что он уже подметил в человеке единство противоположностей, точнее – их взаимообусловленность. А такой взгляд на человека – универсален, а потому всегда современен. Художественно устаревают только объективно неверные или неглубокие трактовки природы человека: здесь эстетика становится заложницей философии.) Русская литература Х1Х в. целостна в таком своем качестве. Кроме того, она эталонна для всей мировой литературы – в силу своего универсального, объективного взгляда на человека. И Чехов как звено, как элемент этой уникальной целостности, подаренной миру Россией, в свою очередь уникален тем, что он как никто сумел увидеть в человеке его недостатки, являющиеся продолжением достоинств. Лучшие произведения Чехова, в которых он обнаружил и смоделировал диалектически текучую природу человека и одновременно строго оценил ее с незыблемых нравственных позиций, были написаны им в 90-е годы. Духовная сторона эстетических творений Чехова (то есть то, что в литературоведении принято относить к методу) развивалась и углублялась писателем не сама по себе, а все в тех же художественных произведениях. Один и тот же найденный им главный принцип, «зерно жизни», последовательно был рассмотрен во множестве творческих вариантов. Чехов проанализировал разные способы преодоления реальности, но всегда с поразительной ясностью видел тщетность любых иллюзий. Он, что называется, был бы рад обманываться, однако трезвый, ясный, беспощадный анализ возвращал его на землю, в реальность. Не «радость» и «печаль» интересовали Чехова, а то, что они не живут друг без друга; их взаимообусловленность – вот подлинный предмет исследования 281 Чехова (в психологическом аспекте). Без кропотливой духовной работы, основы оригинальной поэтики, никакого стиля Чехова просто не существует. Мы уже говорили о «зацепке», этой творческой находке писателя. Не иметь «зацепку» человек не может: его швыряет по жизни, как судно без якоря. И вместе с тем всякая – именно: всякая! – зацепка при более пристальном рассмотрении оказывается эфемерной, не лучше и не хуже, чем все остальные зацепки, так сказать, не выдерживает критики. «У той – Америка и кольцо с надписью, думал я, а у этого – докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старом» («Моя жизнь»). Примеров подобного рода у Чехова не просто великое множество; они являются различными модификациями одной базисной, архетипической модели мироощущения. Дело даже не в количестве примеров, а в их сущностной направленности. Лучшие рассказы Чехова – это последовательное разоблачение всех гипотетически возможных «зацепок». Человек, духовно одаренный и душевно чувствительный, не может не видеть ограниченности зацепок, фанатичности и легкомысленности, в лучшем случае (в худшем – тупости и глупости), тех, кто зацепился за жизнь. Видящий слишком много наживает себе традиционную русскую болезнь: горе от ума (названий у нее, впрочем, много: «лишние» люди, обломовщина и др.). Душевно и интеллектуально чуткий герой попадает в почти трагическое поле: он не видит ни малейшего приемлемого выхода для духовно одаренных натур. Обреченность на созерцание – все, что остается интеллектуально и нравственно честному путнику по жизни. Активная преобразовательная деятельность фатально заказана созерцателям. Однако, по Чехову, данный «закон» нельзя принять как выход, как зацепку, потому что это не конструктивная позиция для всех: что же это за жизнь, если наиболее достойным людям не находится в ней места? Абсурд. Это не стратегия полнокровного счастливого существования, а стратегия выживания «лишних». Но ведь наиболее достойные должны быть востребованы обществом! Сам факт того, что Чехов не сумел предложить приемлемого варианта для всех и каждого, осознается им как поражение: в перспективе не просматривается гармонии между героическим и эгоистическим, личным и общественным. Достойное существование не только не приносит ни с чем не сравнимое духовное наслаждение, оно приносит, вопреки ожиданиям, тяжелые разочарования. Зацепиться же дано нищим духом. Единственный мостик, связывающий жаждущую добра личность с обществом, – это теория малых дел, «малой пользы» (таково прозвище Мисаила Полознева из «Моей жизни»). Но и эту позицию Чехов разоблачал как «зацепку»: реальная ее эффективность ничтожна, а духовная изнанка – чудовищна: уничтожение всего живого в себе и других («Жена», «Дом с мезонином»). Обратим внимание на следующие моменты. Предполагаемый гармоничный идеал Чехова зиждется на двух посылках: на том, что личность может 282 состояться только трудясь на пользу обществу, и что труд этот ни при каких обстоятельствах не должен нивелировать личность, растворить ее в среде и обстоятельствах. Все это, в свою очередь, возможно только при наличии сообщества нравственно и интеллектуально развитых людей. Но таких людей всегда – единицы (если стоять на почве реальности и не впадать в иллюзии относительно природы человека и общества). А единицы видят либо бесперспективность работы на общество (если им, единицам, удается сохранить высокие духовные мерки, то есть сохранить себя как личность), либо они распадаются, разрушаются как личности, принимая правила игры среды (или не в силах противостоять этим правилам). Такой вот трагико-иронический замкнутый круг получается. Чехов не тронул и не разоблачил лишь одну «зацепку»: веру в возможность того, что когданибудь в будущем выход, «бога живого человека» смогут найти… Иными словами, Чехов предложил высочайшую духовную программу и увидел ее полное несоответствие реальной жизни, ее нежизнеспособность. Замкнутый круг, прописанный Чеховым, искусство вряд ли способно разомкнуть (строго говоря, теоретическая возможность остается, однако практически такие задачи – не являются предметом искусства). Чехов переживал хождение по кругу с его светлыми и безнадежными сторонами. Говоря языком науки, он показывал несостоятельность всякой идеологии в решении сложнейших мировоззренческих проблем. Но а рамках искусства невозможно отвергнуть одну идеологию и тут же не заместить ее другой. Искусство идеологично по своей природе. Свято место пусто не бывает: нет бога живого человека – найдется какой-либо иной. Вот почему Чехов многолик и одновременно самотождествен: сатиричен, саркастичен, драматичен, ироничен, трагичен – в зависимости от точки круга (точек – бесчисленное множество, круг – один), которую он образно воплощает и исследует. Стать вне идеологии – стать вне искусства. Моделирование мироощущения, связанного с определенной мировоззренческой позицией, и рациональный анализ такой позиции – разные вещи. Чехов и Л. Толстой, как представляется, сумели в максимальной степени сблизить и сомкнуть эти «вещи», продемонстрировав возможности искусства близкие к предельным. Они стали художниками-философами. И все же Чехов – это искусство. Следовательно, анализ образной концепции личности, воплощенной в произведении, всегда способен вывести на «имплицитного» (подразумеваемого) автора (практически в нем очень много от автора реального, с поправкой на бессознательные алгоритмы мышления). «Итоговая» концепция личности, наличие или отсутствие в конкретном произведении конкретных ходов чувства и мысли – вот надежная гарантия от субъективно-произвольной интерпретации Чехова. Необходимо подтвердить сказанное разбором некоторых произведений. Продолжим погружение в 283 чеховский мир анализом «Дома с мезонином» (1896), рассказа особенно популярного, в котором с поразительной творческой мощью воплощены некоторые указанные нами закономерности. О них никогда не говорят, описывая рассказ (ибо настоящее, полномасштабное исследование Чехова, да и всей русской – как, впрочем, и мировой – классики, с позиций глубокой гуманитарной теории еще не предпринималось; хочется верить, что за таким исследованием будущее). Странно, не правда ли? 5 Рассказ «Скучная история», как мы помним, был написан от лица ученого, профессора медицины. «Дом с мезонином» – «рассказ художника». Вот, казалось бы, классическое разведение культурных позиций: точка зрения ученого, человека мыслящего, и артиста, господина пейзажиста, человека тонко чувствующего и эмоционального. Вот они, два типа освоения мира. Но Чехов, как мы убедимся, не делит культуру по линии «психика – сознание», по линии приспособления и познания. Мышление художника ничем не отличается от мышления научно-теоретического. Более того, быть культурным, по Чехову, и значит вырабатывать в себе гуманистическое мировоззрение, «общую идею», концепцию. Это верно, конечно, по отношению к культуре, однако неверно по отношению к мышлению художественному. И это означает, что Чехов был заворожен светом мысли, общей идеей, перспективой некой целесообразности. Повествователь в данном случае мало чем отличается от художникамыслителя. Симптоматично: Чехов всем – женщинам, художникам, ученым, инженерам – предъявляет мерки мысли. Оттого рассказы его глубоки по мысли, но не точны по «общей» концепции. Писатель демонстрирует наивный гуманизм: все могут и должны быть высококультурными. Пейзажист, «обреченный судьбой на постоянную праздность», «не делал решительно ничего». «По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал». Трудно назвать действиями вялое созерцание да прогулки, где глаз утомленного пейзажиста отмечает великолепные, высокопоэтические этюды с натуры – этюды, складывающиеся в некий прообраз того, что случилось в рассказе, в некое предчувствие судьбы. «Солнце пряталось», растягивая «вечерние тени»; «два ряда старых елей» стояли, «как две сплошные стены»; «было тихо, темно». Потом художник вывернул на «длинную липовую аллею». «И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени». Музыка аллитераций, «печального» синтаксиса, весь строй ритмико-интонационного образа и изысканно простых деталей материализуют ощущение обреченности. Здесь странно вот что: присутствует наслаждение обреченностью, запустение и тлен 284 непостижимым образом украшают реальность, поэтизируют и, следовательно, оживляют ее. И вдруг – непредсказуемый, чтобы не сказать странный, разворот пейзажа, похожий на зигзаг судьбы: «передо мной неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней (вместо тесных стен – А.А.), с толпой зеленых ив (вместо прошлогодней листвы – А.А.), с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце» (раньше солнце пряталось и было, по преимуществу, способом производства теней; лишь изредка, словно робкий провозвестник грядущих коллизий, как свет в конце тоннеля, «дрожал яркий золотой свет», да и то «переливал радугой в сетях паука»). Причудливые эстетические переклички, зеркальное дробление сюжета и мироощущения в соответствии с логикой какой-то капризной симметрии – это, конечно, поэтический сюжет в прозаическом. А если учесть, что и поэтический сюжет был тонко предвосхищен, стал отражением отражения (за всеми отражениями сквозит мысль: зеркальное дробление есть свидетельство бесконечности и одновременно целостности мира, одно отражается в другом), то некий эстетический сюжет и становится «событийным рядом» в жизни художника. Продолжим фразу, оборванную нами на полуслове: «Было тихо, темно, и только на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука». Сначала свет в сплошных стенах елей, потом – свобода и простор в пейзаже, наконец, – смысл в судьбе. Стоит ли говорить, что по типу личности «monsieur N». сильно напоминает пресловутых лишних, «обреченных» отсутствием «общей идеи» на «праздность», на созерцательное бездействие. И противостоит этому рефлектирующему эстету сама мисс активность, в имени и фамилии которой присутствует пугающее нагнетание «суровой» семантики: Лидия Волчанинова… Веет льдом, холодом и еще чем-то мифологически страшным, почерпнутым из русских сказок. Эта строгая красавица «с маленьким упрямым ртом» имела стальную деловую хватку, этакую «зацепку» в жизни, которая давала ей основание презрительно относиться к праздности пейзажистов. Кстати, повествователь тонко водит пером рассказчика, не давая повода их отождествить. Вот вполне нейтральные, как бы лишенные экспрессии сведения из жизни Лидии, собственно, факты малозначительной биографии. Петр Петрович Белокуров, тот самый помещик, в имении которого гостил затосковавший «monsieur» (оценим его портрет, набросанный художником: «молодой человек, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия»: тоже образчик деятеля, изумительно тонкая характеристика и Белокурова, и рассказчика, и повествователя), рассказывал, что Лидия с матерью и сестрой жила в имении, которое, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Лидия пусть не пропастью, но прудом отделена от народа, хотя не желает замечать этого. «Несмотря на хорошие средства», 285 Лидия работала учительницей в земской школе и тратила на себя только те деньги, что зарабатывала. Она считала себя вправе учить народ, от которого была отрезана. Нейтральная характеристика превращается в разоблачение «зацепки». Разумеется, художник влюбился в меньшую, ту, что звали Женей и не считали взрослой, а потому называли Мисюсь (Женя в детстве так величала свою гувернантку, мисс), «с большим ртом и большими глазами». Взрослая Лида, уже имеющая зацепку, говорила «много и громко», свято убежденная в своем призвании наставлять. Она растворялась в деятельности: «принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком». «А сестра ее, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я». Разумеется, конфликт в рассказе возник не между Лидией и художником, который не изволил изображать в своих пейзажах «народную нужду», а между «зацепкой» (Лидия «крепко верила» в свою теорию малых дел) и более высокой «общей идеей», согласно которой «зацепочная» деятельность не имела существенного смысла. Чем бы мисс ни тешилась… Беда только, что высота общей идеи никак не трансформировалась в «низкую», прикладную деятельность, что судьба «обрекала» на праздность. Выход был один: заполнить жизнь человека «личной» жизнью – любовью к Мисюсь, что и попытался сделать художник. Кстати, чувства к Жене пробудили у него охоту писать. Собственно, счастью его и Мисюсь ничего особенно не угрожало. Пустяковый спор между художником и Лидией интересен разве тем, что объясняет мировоззренческий кризис, постигший талантливого пейзажиста. «… человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным»; «при таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду…» А мы, в свою очередь, не будем придавать этому какой-то небывалый до Чехова смысл. Горе от ума, несовпадение культурных и природных интенций – достаточно банально. Праздность, стало быть, следует разуметь как форму протеста против бессмысленности жизни, против дефицита смысла. Прекрасное не делает людей лучше. «Аптечки и библиотечки» Лиды – тоже. Опять упираемся в отсутствие общей идеи, конструктивной и осчастливливающей, содержащей бога живого человека. Быть счастливым с Мисюсь – означало бы перехитрить судьбу, чудесно обойтись и без общей идеи. Так, по Чехову, не бывает. Общий план и личный план связаны как сообщающиеся сосуды, и вакуум в одном месте не может обернуться изобилием в другом. Согласно не дающемуся в руки закону жизни, эфемерному и вместе неумолимому, Мисюсь «отобрали» у художника, которому «страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о 286 своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным». Получишь Мисюсь – и перестанешь чувствовать себя одиноким и ненужным. Эдак ведь можно договориться и до того, что и общая идея не нужна. Повествователь начеку: сопряжение общего и частного – вот источник и условие счастья или несчастья. «Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все», – говорит Женя, которая «мыслила иначе», нежели Лида, и у которой рассказчик подозревал «недюжинный ум». Если бы… «Но этого никогда не будет (…)», – понимает художник-философ. Духовная деятельность невозможна в качестве главной человеческой деятельности; вокруг – один суррогат, пышно выдаваемый за культурную активность. «Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем», – пафосно заявляет строгая Лида. Вот и послужила, как умела: уберегла сестру от монстра. Такой пустячок, как мнение самой Мисюськи, Лидия, с ее «адмиральской» убежденностью в святости своего «дела», в расчет не принимала. Это было несерьезно. А она хотела как лучше. Возможно ли было повествователю оставить Мисюсь этому малахольному мсье, этому «странному человеку» («моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек»), лишнему человеку? Это было бы нарушением правды жизни. Счастливый лишний – это уже духовная революция, востребованность странной ментальности, торжество общей идеи. Короче говоря, это зацепка. «Мисюсь, где ты?» – это самый оптимистический финал для бесполезного, хотя и душевно отзывчивого существа. «Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится», – говорит человек, который не понимает, что ему плохо именно оттого, что он прав, пророчески прав. Если бы Чехов увидел и иную возможность: лишний тоже может быть по-своему счастлив… Впрочем, тогда не было бы феномена Чехова. Обратим внимание: история, рассказанная нам художником, случилась «шесть-семь лет тому назад», и в жизни художника с тех пор, как он покинул Шелковку, ничего или почти ничего не изменилось. «(…) лишь изредка, когда пишу или читаю», замечает он, вспоминаются мгновения счастья. В остальном же – «по-прежнему стало скучно жить», по-прежнему «томит одиночество и мне грустно…» До того, как зародилась любовь к Жене, его «томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым». Вороне где-то бог послал кусочек сыру – вот и все, что было… 287 6 Чехов, единожды поняв, никогда не уклонялся от ностальгии по общей идее, и все зацепки, которые в той или иной степени воплощали идею генеральную, искомую, высмеивал беспощадно: от мягкой иронии до вполне ядовитого сарказма (см. ту же «Душечку») – вот воинственный арсенал комической палитры. Такое впечатление, что у него были личные счеты с узколобостью идеологии. Да иначе и быть не могло: это даже не путь Чехова, это универсальный путь духовного становления и мужания любой личности. Чехов интересен как раз тем, что во множестве вариантов представил коренной духовный архетип. Все его рассказы об одном и том же: о несовершенстве и скудности жизни, о торжестве пошлости, о самовлюбленности зацепившихся, о разочаровании прозревших. Вариантов – много, стержень – один. Поскольку это так, было бы нелепо располагать рассказы в некой линейной идейной последовательности. Может быть, всего вернее было бы сохранить живой принцип хронологической последовательности при рассмотрении рассказов Чехова. Мы же позволим себе проиллюстрировать ностальгию по «правде» («до правды еще далеко», по словам художника, главного героя «Дома с мезонином») рассказами самыми разными, намеренно взятыми из разных периодов творчества и как бы не состоящими в очевидной духовно-эстетической связи. Нам важно увидеть: все они об одном и том же. С писателями по-другому не бывает. В этом смысле было бы логично (а с точки зрения «тематики и проблематики» – нелогично, что нас вполне устраивает) обратиться к интересному рассказу «Именины» (1888). В письме к А.Н. Плещееву от 9 октября 1888г. Чехов разъясняет (отвечая на замечание, что в «Именинах» не видно «никакого направления», что в нем нет «симпатий и антипатий»): «Но ведь я уравновешиваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой». Не в бровь, а в глаз. Не идеологии интересуют Чехова, а некая гуманитарная сфера и стезя, где перестают срабатывать зацепки идеологий – но где «до правды еще далеко». Общий тон грусти и печали, порой с драматическим накалом, порой сдвигающийся к безнадеге трагической иронии, – вот пафос Чехова. Если без метафор, то тоска по идиллическим и героическим идеалам принимает форму драматического и, соответственно, трагического конфликтов. А ведь идиллическая гармония – и есть «бог живого человека». До нее – как до звезд: контакт есть, а не дотянешься, видит око разума, да зуб души неймет. Но чеховская грусть – высокая и очищающая, брезгливая по отношению к пошлости и аристократически отстраненная от дурного, ломового напора с героическим придыханием. Ни бравых героических нотаций, ни кислых екклесиастических вздохов. Сдержанная или фривольная, а то и мрачная 288 скорбь, результат феноменально развитого чувства меры. Вот это «уравновешивание» правды и лжи, с отчетливо приданным пронзительным гуманистическим вектором, и есть неотчетливое «направление» Чехова. Он, по сути, не знает, что надо, однако точно знает, чего не надо: не надо всего того, что есть. Выпадаешь в лишние. Но и лишний тоже ложь… Главным камертоном правды, чутким инструментом или органом, болезненно реагирующим на малейшую ложь и фальшь в малом и великом, выступает жена именинника Ольга Михайловна. Она беременна, иными словами, готовится дать жизнь «маленькому человечку», которому предстоит жить среди лжи. Для нее это, конечно, не «именины сердца», не рутинное мероприятие, а попытка в очередной раз совместить жизнь с высоким смыслом. Рассказ психологичен, что не очень характерно для Чехова. Тем более интересно. С самого начала ложь неотделима от культуры, от воспитания, повенчана с тем, что составляет суть интеллигентного человека. Вот речевое, идейное и психологическое содержание обеда: «муж по обыкновению спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное – чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил; дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедающим, что он, дядя, несмотря на свои пятьдесят девять лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы, – не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гостей утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования…» Разумеется, альтернативой лживой культурной природе человека выступает натура. Ольга Михайловна сбежала от гостей в сад, подальше от условностей культуры, на лоно природы. «Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый, приторный запах. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы…» (Сама природа, как видим, «хмурилась», печалилась, не баловала благовониями – не очень благоволила блудным своим чадам.) Тут Ольга Михайловна нечаянно застала своего мужа, Петра Дмитрича, с хорошенькой Любочкой Шеллер, романтичной, шиллеровски настроенной девочкой семнадцати лет. Строго говоря, ничего «такого», «ничего особенного» не было. Но была ложь, невинная, впрочем, даже естественная. Петр Дмитрич с «небрежной иронией» говорил о том деле, которое его сильно беспокоило. Ольга Михайловна знала, что небрежный тон – лживая поза. Но Петр Дмитрич не знал, что их с Любочкой подслушивают. А вот о «Хохландии», куда он ездил «подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, 289 длинных обедов (подальше от культуры – А.А.)», он не лгал, но говорил об этом не ей, жене, а хорошенькой Любочке. Следовательно, все же лгал. Ольга Михайловна, «испорченная курсами», тонкая умная и либеральная, наделена, опять же, мужским, беспощадным складом ума. С беременной Ольгой Михайловной, немножко самой природой, солидарна природа не рассуждающая, но не прощающая фальши. «Кроткое жужжание пчел» сменилось отчего-то агрессией, и идиллическое сидение возле шалаша с Любочкой было нарушено: «Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками. – Ах, пчела, пчела! – взвизгнула она. – Укусит!» Кстати сказать, мотив противопоставления культуре детства, юности, неиспорченности «умственной жизнью», здорового физического труда – стал лейтмотивом рассказа. «Не ложь» связана с простотой, искренностью, близостью к натуре. И Ольга Михайловна решает безотлагательно высказать мужу все, что она думает о его лживом поведении: «гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной; несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лганье: он постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему непонятно, что если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему непонятно, что этим самым он ставит ни в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и видит?» Чувствуется, что Ольга Михайловна сильно испорчена курсами: все правильно, но далеко от жизни. И этот мужской склад ума у беременной женщины… Не хочется называть подобный симбиоз художественной ложью, и все-таки в этом есть что-то глубоко неестественное. Однако самое интересное в том, что и она лжет, ибо не ложь Петра Дмитрича ее волновала всерьез, а ревность. «Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям». Ольгу Михайловну легко понять и еще легче простить, но она, увы, опять лжет. Потом она вновь солгала, когда «приветливо улыбнулась судебному следователю и погрозила ему пальцем», и вновь, когда «заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл»; и вновь, и вновь… Но вот муж найден. Это был уже другой человек – «утомленный, виноватый и недовольный собой, которого знает одна только жена». 290 Разумеется, «Ольге Михайловне стало жаль его». Последовал искренний порыв примирения, сопровождаемый, впрочем, рефлексией, уже привычно неожиданной для беременной, пусть и развитой, женщины. Однако муж все испортил своей реакцией: «Встретясь глазами с женой, Петр Дмитрич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду, – равнодушное и слегка насмешливое, зевнул и поднялся с места». «И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной». Если бы дело ограничилось только неискренностью Петра Дмитрича, его двуличием, его лицемерным преображением из нормального человека в хамящего председателя, его нежеланием снимать маску перед гостями и перед женой – то это был бы не Чехов. У Чехова за каплей ощутим океан, за отношением мужа и жены – модель всеобщих отношений, модель культурного общения как такового. Ложь космически расширяется. В тот момент, когда Ольга Михайловна в одной лодке с гостями плыла на остров «Доброй Надежды», на нее обрушилось бремя прозрения. «Все это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. «Вот, – думала она, – работает веслом молодой шатен в золотых очках и с красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уж говорит про себя: «Мы земские деятели». Но пройдет год, и он, как многие другие, соскучится, уедет в Петербург и, чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он «земский деятель», как через год поверит тому, что земство никуда не годится. А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе с широкою лентой и с дорогою сигарой в зубах. Этот любит говорить: «Пора нам бросить фантазии и приняться за дело!» У него йоркширские свиньи, бутлеровские ульи, рапс, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот дядюшка Николай Николаич, который сердит на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уезжает домой!» Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки, и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, о котором могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны, все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее; ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мне надоели!» и потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу». 291 Праздник на глазах превратился во всеобщее кривлянье и ломанье, в пошлый балаган. Чего стоит Петр Дмитрич на своей Пендераклии (остроносом челноке), картинно гребущий к острову Доброй Надежды (кстати, тоже ложь: такое название носит мыс, а не остров; с другой стороны, все, связанное с «доброй надеждой», утопией, может быть только островком, отделенным от материка пошлой жизни). Пикник на острове – карнавал наоборот: не истинное прорывается сквозь условности культуры, а условное подавляет росточки искренности. Лицо хозяйки устало от улыбки. « – Господи, боже мой, – шептала она, – к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!» Далее следует лицемерная сцена разъезда гостей, сопровождаемая фальшиво-трогательным прощанием. «В прошлые разы обыкновенно, проводив гостей, Петр Дмитрич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед другом, хлопать в ладоши и петь: «Уехали! уехали! уехали!» В прошлые разы супруги ценили еще искренность, а в этот раз все было иначе. Ложь, притворство, нежелание прояснить и упростить отношения завели слишком далеко. Петр Дмитрич уже не был для Ольги Михайловны Островом Доброй Надежды. Вроде бы бытовые пустячки, подчиняясь какому-то гибельному раскладу, неумолимо мостили дорогу в ад, нити разногласий стягивались в петлю, нематериальные, духовные отношения – в телесную, болезненную проблему роженицы. Ложь убивала жизнь, «маленького человечка». Так «из ничего» вырастают большие «чеховские» проблемы. Чтобы отомстить мужу за его невнимание и эгоизм, за ложь свою и чужую, Ольга Михайловна, следуя «бабьей логике», тяжко оскорбляет мужа, прекрасно осознавая, что это продолжение лжи, и делать это не стоило. (Женщины у Чехова часто выше «бабьей логики». Странно. Очень похоже на отчаяние: ктото должен быть чище, выше, умнее мужчины, ибо несовершенства пола сильного и грубого слишком были известны Чехову. Похоже женщина – это вариант поэтизации лишнего.) « – Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне! («Бабья логика!» – опять мелькнуло в ее мыслях.) Сейчас, я знаю, ты смеешься надо мной… Я даже уверена, что ты и женился на мне только затем, чтобы иметь ценз и этих подлых лошадей… О, я несчастная!» Какая реакция в этой ситуации со стороны именинника была бы не лживой? На что реагировать: на оскорбление или на бабью истерику? Кто перед тобой: мегера, испорченная курсами, или любящая, а потому ревнующая жена? Сильным быть в этой ситуации (и разделить вину) или слабым, обманчиво беззащитным и взвалить вину на издерганную женщину? Где правда, где ложь? А в том-то и дело, что правда в одном отношении оборачивается ложью в другом. Не лгать нельзя, но и делать из мелкой, собственно, невинной лжи преступление – тоже явный перебор. В общем, достаточно банальный 292 диалектический ребус. Тут нет правых и виноватых, а неоспоримая правда в том, что любящие супруги потеряли ребенка. Но ведь кто-то виноват в том, что так случилось? Ольга Михайловна? Петр Дмитрич? Это не вопрос персоналий. Не в первый раз в мировой литературе под судом оказывается судья. Это вопрос модели отношений с миром, с собой и другими. Повествователь решет этот вопрос в общей плоскости. Его коробит уже то, что человек лжив по определению, не может быть не лжив. А ведь это, в сущности, некий абстрактный гуманизм, в высшей степени лживый и лицемерный по отношению к реальному человеку. И рассказ получился назидательным и поучительным, с привкусом абсолюта, к которому тяготеют схемы. Во всей своей неприглядной красе разворачивается месть природы двум вполне нравственным и симпатичным существам, наказанным именно за то, что они обрели бога живого человека. « – Я понимаю… Ну, ну, будет! Я понимаю… – говорил Петр Дмитрич нежно, садясь на ее постель. – То сказала ты сгоряча, понятно… Клянусь богом, я люблю тебя больше всего на свете и, когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил – и только… Уверяю тебя. Никогда я не нуждался и не знал цены деньгам, а потому не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я в мелочах фальшивил, то это… конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена так несерьезно, что как-то нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Оставим этот разговор, бога ради!.». Это еще до потери ребенка. А вот уже после: « – Оля! – сказал он, ломая руки, и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы. – Оля! Не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов (он всхлипнул)… ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого… ничего мне не нужно! Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что говорить!» Бог живого человека подозрительно начинает напоминать некие абсолютные императивы, хотя живой человек жив именно противоречием. Вот и идеал, этот пресловутый бог, тоже должен быть противоречивым, весьма и весьма несовершенным с точки зрения совершенной линейной логики. У Чехова же «бог» излучает мертвящий свет абсолюта. Диалектичность писателя заканчивается где-то на подступах к идеалу. Для него идеал есть не что-то, органически вырастающее из грязной жизни (как, например, в «Евгении Онегине»), а нечто противостоящее жизни, то, что должно, соединившись с плотью жизни, оплодотворить ее и дать какое-то небывалое, чудное, неземное качество. В сущности, торчат уши полурелигиозного архетипа, смысл которого приблизительно таков: верю, что человек станет лучше, но пока он унылый нытик или деятельный дурак; другого не вижу. Пока. Но верю. Вот почему все заканчивается выкидышем, отчаянием Петра Дмитриевича и «тупым равнодушием к жизни» Ольги Михайловны. 293 Еще и еще раз: диалектика художественного сознания такова, что как только она, эта самая диалектика, становится предметом исследования, аналитик будет вынужден писать уже не рассказ, а статью, трактат, на худой конец, эссе. В рассказе можно сколь угодно диалектически переживать совершенство или удручающую примитивность человека, нельзя только объяснить его природу. Сравним объяснения Чехова, данные им в письме к А.Н. Плещееву, и сам рассказ. Протест против лжи – это прекрасно и благородно, кто будет спорить. Однако протест против лжи есть одновременно протест против жизни. А так ли невинна угроза жизни – это уже спорный вопрос. Рассказ не идет так глубоко именно потому, что Чехов в очень незначительном объеме затронул главный нерв культуры: пересечение психики и сознания. Его модель оказалась тенденциозна, моралистична и малопригодна в качестве универсальной (все истинно великое – универсально). Никому не позволительно пренебрегать живой диалектикой. Отсюда рукой подать до того типа героев, у которых смешение лжи с правдой приводит к мировоззренческому шоку и страху жизни. Петр Михайлыч Ивашин («Соседи») делится сокровенным: «…я говорю и делаю не то, что думаю; да и не знаю наверное, что собственно я думаю…» Повествователь бессилен справиться с «задумавшимся» персонажем и обреченно, в унисон, комментирует: «…вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, как эта вода, в которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить». Самодостаточный и гениальный образ темного сознания и вечных сумерек души. Вся ситуация, которую переживает Ивашин и с которой он не может справиться умом, «показалась ему невероятным абсурдом». Иначе говоря, разум не в силах помочь разобраться в темных смыслах. Кто прав, кто виноват, где точка отсчета? Точка отсчета, вокруг можно было бы сомкнуть и обобщить идеи, – упорно не выкристаллизовывается. Еще более остро состояние умственного бессилия передано в рассказе «Страх», где герой заболел «боязнью жизни». «Я, голубчик, не понимаю людей и боюсь их», – бесстрашно заявляет Дмитрий Петрович, который пытается лечиться от своего страха общественно полезной деятельностью, чем же еще. Страх этот, как эпидемия, заразил и его друга, от имени которого и ведется рассказ (имеющий многозначительный подзаголовок: Рассказ моего приятеля. Что может противопоставить приятель приятеля, повествователь, страху жизни, нам осталось неизвестно. Возможно, и ничего не может.): «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал». А случилось то, что он соблазнил жену своего друга, которая, впрочем, уже давно ожидала подобной развязки. « – Зачем я это сделал? – спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. – Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она 294 любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? При чем тут фуражка?» Фуражка, действительно, не при чем. Дело не в фуражке. Дело в том, что умствующие герои Чехова с университетским образованием не могут найти смысл, потому что его нет, а им кажется, что они должны это сделать. Смысл в том, что смысла нет, а жить надо без страха и упрека. А просто, то есть бессмысленно, жить они уже разучились или еще не научились. Вот таким героям (мы опять о своем) – альтернатива Пржевальский. А тем, кому жизнь не мешает думать, – Пржевальский не указ. 7 Попытки художественно проинтерпретировать взаимоотношения психики и сознания с разной степенью успеха были реализованы в «Жене» (1892) и «Три года» (1985). В первом из рассказов перед нами тот достаточно типичный для Чехова случай, когда герой радикально меняет свои взгляды на жизнь, чтобы тут же убедиться: оттого, что он стал лучше, ему стало только хуже. Вновь в центре внимания – сама невозможность адекватности божественному состоянию счастливой гармонии, все время какие-то переборы, перегибы и дисбаланс. Кажется, еще чуть-чуть, мелочи какой-то недостает, чтобы общие смыслы заиграли живым светом. Для счастья всегда не хватает какого-нибудь экзистенциального пустячка. Все это не может не наводить на мысль, что счастье – из категории миражей, оно состава эфемерно-летучего, неверного, обманчивого. Пусть так, в этом нет ничего необычного, об этом говорили и до Чехова не одну тысячу раз. Назвать это фокусами психики – и дело с концом. Но в том-то и суть, что счастье у Чехова категория «идейная», неверное счастье надо заслужить верной службой. Чувства здесь вторичны и второстепенны. И крах счастья – это всегда крах идей, всегда разочарование в идеях, идеалах, в унизительно легковесной зацепке. Рассказ «Жена» сделан от первого лица (также излюбленный чеховский прием). Инженер путей сообщения, всю жизнь строивший каменные и железные мосты, Павел Андреич Асорин, честно и непредвзято ставит своей исповедью читателей в тупик. Все та же дьявольская трансформация правды в неправду, все те же необыкновенные душевная и интеллектуальная чуткость – и все то же желание просто сказать: умная голова, да дураку досталась (или в варианте Ярцева («Три года»): «дурень думкой богатеет. Га-га-га!») Разоблачение «зацепки» ведет к утрате идеалов, смысла жизни, воли к жизни, бездействию и пессимизму. Деятельность же, отсутствием которой укоряют героя, мелкая, нудная, рутинная (те самые малые дела, приносящие хоть малую, но пользу), настолько несовместима с широтой и глубиной умственных запросов, что просто не может быть достойным ответом на серьезные духовные 295 вопрошания. Это деятельность бездуховная, то есть тот случай, когда лучше ничего не делать, чем делать ничего, когда малое дело хуже большого безделья. И Асорин честно и обреченно идет по замкнутому кругу (семантическую конструкцию фамилии можно «разобрать» следующим образом: отрицание сора, мусора, пустяков жизни). Деятельность и рефлексия вновь исключают друг друга. Или то – или другое. Бессмысленная деятельность тогда только обретает смысл, когда о нем не думаешь; а если начинаешь думать – перестаешь делать. Честным можно быть в двух случаях: или быть беспросветно глупым (по крайней мере – не рассуждать), или оказаться «обреченным на праздность». Вот это и есть чеховский вариант вечной коллизии психики и сознания: развитое сознание парализует, убивает, делает лишним. Однако в отличие от Л. Толстого и Достоевского, Чехов не спешит объявлять сознание врагом номер один для всякого культурного человека. Антон Павлович с грустью констатирует, что есть надежда только на сознание; а оно не оправдывает надежд. И это меняет все. Чехов даже не считает нужным обсуждать культурные и мессианские возможности и прерогативы психоидеологии. Он не радуется тому, что разум бессилен. Для него это не означает всесилие психики. Для него это означает: пока, увы, бессилен… По большому счету – в высшей степени гуманистическая позиция, позиция трезвая и мужественная. Вот почему Чехов очищает, возвышает и облагораживает. Подспудная, неартикулированная, обреченная надежда на разум куда гуманнее самой лютой веры в никчемность разума. Певец интеллигенции (а на самом деле ее жесточайший критик: кого люблю, того и бью) вплотную подошел к вожделенной черте, за которой лишние становятся лучшими, но так и не переступил ее. По Чехову очень умным быть как-то неловко, словно ты выскочка или голый король. Как-то уж дерзко и вызывающе. Не скромно. Вообще-то это типичный комплекс интеллигентской неполноценности. Для того, чтобы лишний стал полноценным, не хватило свободы мысли и чувства меры. Интеллигентская неполноценность – это измена чувству меры, ложная скромность, боязнь ответственности. Ведь нормальность лишнего означала бы и нормальность бесполезной деятельности, и полезное ничегонеделание, и окончательную оторванность от народа (во имя личности). А ведь впереди были революция и гражданская война. Чехова можно понять. Но надо понять и лишних. Рациональность инженера, вкупе с его практическим (ужасно нерусским) складом ума, приобрели ему тяжелый характер, который мешал сходиться с людьми. Но он сам еще не вполне это понимал. Странную жизнь устроил себе Асорин. Он оставил службу и осуществил свою «заветную мечту»: приехал в деревню, «чтобы жить в покое и заниматься литературой по общественным вопросам». Собственно, он пишет «Историю железных дорог». Деятельность, достойная академика Пржевальского Николая Михайловича, на худой конец – профессора Николая Степановича. 296 Однако было одно обстоятельство, один пустячок, который мешал сосредоточиться на работе. У Павла Андреича была жена, Наталья Гавриловна, которая занимала нижний этаж дома Асорина. Жена-то была, а вот семьи не было, да и любви как будто бы не было. Впрочем: «Я уверял себя, что любовь давно уже погасла во мне и что работа слишком глубоко захватила меня, чтобы я мог серьезно думать о своих отношениях к жене. Но, увы! – я только думал так». На самом деле в душе происходило «что-то неладное», что-то похожее на любовь к жене, смешанное с чувством вины и запоздалого раскаяния. В деревне Пестрово, рядом с которой расположен был особняк Асорина, было «тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!» Отношения с женой были «холодны, бессодержательны и скучны»; в отсутствие жены «было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то, и хотелось, чтобы вопрос, который я и жена не сумели решить, потому что не сошлись характерами, поскорее бы решился сам собою, естественным порядком, то есть поскорее бы эта красивая двадцатисемилетняя женщина состарилась и поскорее бы моя голова стала седой и лысой». А надобно сказать, что Асорину было сорок шесть лет. Жизнь не удалась, потому что вопрос был не решен. В очередной раз мы застаем героя Чехова в тот момент, когда он находится на переходном этапе: на переходе от «зацепки», худо-бедно наделяющей смыслом скучную жизнь, к беспощадной трезвости, отметающей всякие зацепки. Собственно, эти моменты в судьбе героев и есть духовные пики, выше которых нет ничего. Дальше – только еще большая печаль, разочарование, скука… Что же помешало почтенному и интересному человеку с наружностью и осанкой «как у французского президента Карно» счастливо жить с красавицей женой? Вот мнение на этот счет самой Натальи Гавриловны: « – Вы прекрасно образованны и воспитанны, очень честны, справедливы, с правилами, но все это выходит у вас так, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унизительное. У вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир. Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражения неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов (…). Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли двадцать кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожаловались в Петербург. (…). На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. (…) за всю свою жизнь вы не сделали ни 297 одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре (…). У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно. Нет сил. В первые годы мне с вами было страшно, а теперь мне стыдно… Так и пропали лучшие годы. Пока воевала с вами, я испортила себе характер, стала резкой, грубой, пугливой, недоверчивой…» « – Вы образованны и воспитанны, но в сущности какой вы еще… скиф! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни с кем не видитесь и не читаете ничего, кроме ваших инженерных книг. А ведь есть хорошие люди, хорошие книги!» « – А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь! – тихо сказала она, глядя в раздумье на огонь. – Какая жизнь! Не вернешь теперь». А может вернешь? Павел Андреич решил перехватить инициативу у Натальи Гавриловны (под предлогом помощи) и самолично организовать «правильную и серьезную помощь голодающим», тому самому народу, который он ненавидел. Разность подходов к этому «общественному вопросу» едва ли не окончательно рассорила его с женой. И вдруг Асорин догадывается, что: «весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно». «Тяжелый человек, эгоист, ненавистник», по словам жены, «гадина», по собственному подозрению. Даже любовь к жене – эгоистична и разрушительна: «несмотря на ее ненависть ко мне, я скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне, и чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде, – и поэтому мне хочется подойти к ней, покрепче наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться». (Нечастый для Чехова образец явного, открытого психологизма. Дело в том, что герои сами в состоянии разобраться с собой, и успешно разбираются, поэтому психоаналитики со стороны чаще всего не нужны. Проблемы героев, повторим, – идейного, а не психологического порядка.) Доброжелательно настроенный старик Брагин вполне разделяет его самокритичный порыв: « – Павел Андреич, скажу я вам по-дружески: перемените ваш характер! Тяжело с вами! Голубчик, тяжело!» Слышать такое от добряка Ивана Иваныча, давнего друга семьи (правда, доживающего свой век «без направления и выражения») было испытанием. « –Люблю вас крепко, но не уважаю,» – продолжал простодушный Брагин. – (…) голубчик, у вас душа не настоящая… Силы в ней нет… Да…» И «правильный скиф» Асорин, согласившийся с тем, что он «дурной человек», решил стать другим человеком, уехать в Петербург и освободить свою многострадальную супругу от своего тягостного присутствия. (« – Natalie, вы хорошая, идейная женщина, – сказал я, восторженно глядя на жену, – и все, что вы делаете и говорите, прекрасно и умно».) А что значит инженеру и рационалисту стать другим человеком? Это значит сойти с ума, поступать не по уму, а по чувству. Начать «сорить». Он поехал в Петербург, а завернул к Брагину. « – Целый ряд 298 непоследовательных поступков… – думал я, пряча лицо от снега. – Это я сошел с ума. Ну, пускай…» « – Я сошел с ума, кучер пьян…– думал я. – Хорошо!» А еще Павел Андреич думал вот о чем: « Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого, дурного человека. Я помеха, частица народного бедствия, меня победили, выбросили, и я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге, в отеле на Большой Морской». Он ощущал себя лишним и был таковым. Но остаться одному было невыносимо, и он поехал к Брагину, в люди. Там ему в голову пришли другие мысли. Сравнивая свою честную работу с мастерством столяра-самоучки Глеба Бутыги, Асорин думал, что письменный стол и «шкапчик из красного дерева», «замечательный по красоте и дешевизне комод из палисандрового дерева» были сделаны человеком, который «имел в виду бессмертного человека», и потому кажется, что его мебель гораздо прочнее и долговечнее железных мостов Асорина, который «не любил ни людей, ни жизни». У Бутыги была зацепка, а у Асорина она рассыпается в прах и развеивается на глазах. Правильная жизнь сформировала тяжелый характер, гуманные, но жесткие требования отпугнули и отдалили людей, на «почве законности» выросли разве что муки совести… Каменные мосты, связывающие настоящее с будущим, возводились человеком, которому «не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности», – человеком сомневающимся. Между прочим, жена, подобно Бутыге, строит свои мосты, то есть занимается благотворительностью, с завидным для Асорина энтузиазмом: « – Называйте это, – она указала на свои бумаги, – самообманом, бабьей логикой, ошибкой, как хотите, но не мешайте мне. Это все, что осталось у меня в жизни. (…) Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала с вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива… Мне кажется, в этом я нашла способ, как оправдать свою жизнь». Нашла «зацепку». Вот и Асорину предстояло «найти оправдание своей жизни». Казалось бы, железный инженер вполне в этом преуспел. У Ивана Иваныча он встретился с тем самым доктором Соболем, который крутился около Натальи Гавриловны, помогая ей в благотворительных делах, и которого в припадке злобной ехидности, а может, и ревности, Асорин назвал «мосье Енотом». Доктор, хоть и имел «звериную фамилию», оказался «бабой, тряпкой, кисляй кисляичем», по его же собственным словам. А вообще-то «мосье Енот» оказался не так прост. Послушаем, что говорит подвыпивший «лейб-медик» (намек на то, что он состоит при королевской особе, «первой персоне во всем уезде» (а это уже бесхитростный комплимент Ивана Иваныча) – Наталье Гавриловне), обращаясь к Павлу Андреичу: « – Целый день то в больнице, то в разъездах, – рассказывал он, – и, клянусь вам, экчеленца, не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда. Десять лет ничего не читал! Десять 299 лет, экчеленца! Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить и Ивана Ивановича: табаку купить иной раз не на что. – Зато у вас нравственное удовлетворение, сказал я. – Чего-с? – спросил он и прищурил один глаз. – Нет, давайте уж лучше выпьем». Потом Соболь разошелся, на глазах превращаясь в обычного «лишнего», несмотря на занятость «делом с утра до ночи»: « – Экчеленца, – сказал торжествующий Соболь, – (…) деревня такая же, какая еще при Рюрике была, нисколько не изменилась, те же печенеги и половцы (быть с ними «скифом» – быть адекватным – А.А.). Только и знаем, что горим, голодаем, и на все лады с природой воюем. (…) это не жизнь, а пожар в театре! Тут кто падает или кричит от страха и мечется, тот первый враг порядка. (…) Коли имеешь дело со стихией, то и выставляй против нее стихию, – будь тверд и неподатлив, как камень (что и делал до сих пор Асорин – А.А.)». И потом уже, в трактире, неглупый «лейб-медик» развивал свои мысли перед благодарной аудиторией (то бишь перед Асориным): « – Трудно что-нибудь сделать, – говорил Соболь. – Ваша супруга верит, я преклоняюсь перед ней и уважаю, но сам глубоко не верю. Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности, как в детских приютах или инвалидных домах, до тех пор мы будем только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете, знании и справедливости.(…) Ах, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, рассуждали да совестливо относились к своим обязательствам! Сколько среди нас таких гуманных, чувствительных людей, которые искренно бегают по дворам с подписными листами, но не платят своим портным и кухаркам. Логики в нашей жизни нет, вот что! Логики!» Иными словами, русской жизни не хватает именно того, что предлагает в своем альтернативном благотворительном «проекте», да и всем стилем и образом своего существования «экчеленца». Асорин, вооруженный логикой, потому и не вписывается в жизнь, что в ней нет логики. Он действительно «экчеленца», какой-то экзотический фрукт в Пестрово, населенной извечными печенегами. А вот Соболя, «внешне беспорядочного и несчастного человека», трудно было подогнать под определенную логику, под общий аршин, хотя он и был, всего-навсего, типичным русским, созерцающим там, где необходимо действовать, и действующим там, где не худо бы сначала подумать: «Я слушал доктора и по своей всегдашней привычке (привычке к логическому, аналитическому раскладу – А.А.) подводил к нему свои обычные мерки, – материалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и т.п., но ни одна мерка не подходила даже приблизительно; и странное дело, пока я только слушал и глядел на него, то он, как человек, был для меня совершенно ясен, но как только я начинал подводить к нему свои мерки, то при всей своей откровенности и простоте он становился 300 необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой». Все мерки и зацепки Асорина трещат по швам, и ему уже стало казаться, что он «в самом деле с ума сошел или же стал другим человеком. Как будто тот, кем я был до сегодняшнего дня, мне уже чужд». Чтобы тебя «зауважали», надо стать немного «тряпкой и кисляй кисляичем», то есть обычным человеком, как все, с очевидными слабостями, хотя тот же Соболь декларирует идейную приверженность «каменной твердости» (что обнаруживает мягкость, тряпичность его характера, неспособность деятельно противостоять разрушительной стихии). Не об этой ли «силе души», умении чувствовать и понимать слабость, говорил добрейший Брагин? От Natalie уехал экчеленца, твердыня, «дурной» человек, а вернулся «новый человек», в смысле хороший человек. « – Natalie, я не уехал, – сказал я, – но это не обман. Я с ума сошел, постарел, болен, стал другим человеком – как хотите думайте… От прежнего самого себя я отшатнулся с ужасом, презираю и стыжусь его, а тот новый человек, который во мне со вчерашнего дня, не пускает меня уехать. Не гоните меня, Natalie! (…) сделайте меня вашим слугой, возьмите все мое состояние и раздайте его, кому хотите. Я покоен, Natalie, я доволен… Я покоен…» Впору опять испугаться жизни и в недоумении развести руками. А вот Natalie не пришлось долго упрашивать, она все сделала так, как просил ее растерявший твердость муж. Один гибельный путь был заменен на другой. И закипела работа, которую хитро-умный Соболь называет «благотворительною оргией». Этот доктор прекрасно отдает себе отчет, что это видимость гуманности, что это «обман себя и больше ничего». Зато совесть перестала грызть инженера Асорина, исчезло томительное чувство беспокойства, наступил странный покой. С Асориным стало «легко». Жена уже изволит подниматься в смежный этаж, на половину «покойного» мужа, – «и я вижу, что благодаря ей скоро от нашего состояния не останется ничего и мы будем бедны, но это не волнует меня, и я улыбаюсь ей. Что будет дальше, не знаю». Павел Андреич – не знает. Но мы-то знаем: малые дела ведут, помимо разорения, к большим идейным проблемам. Собственно, ведут в тупик. Поставлен своего рода художественный эксперимент, где торжествует принцип диалектического идиотизма. Бесчеловечная твердость принципов обернулась беспринципной человечностью. В диалектической грамоте – это уровень гоголевского Петрушки: полюса мерцают противоположностями, вкрапленными друг в друга, правда становится неотличима от неправды – но развития нет. Это все равно, что читать по складам, не заботясь о смысле. Вишь, мол, как выходит: то правда, а то, приглядишься, будто бы и нет, «лжа» одна. Диалектика в таком варианте – не способ существования правды (до правды, как мы помним, далеко), а обескураживающее исчезновение правды, чудодейственная подмена неправдой. Вишь ты, как устроен мир… 301 Как бы то ни было в рассказе побеждает «разумная» точка зрения, на которой твердо стоит повествователь. Рассказчик Асорин, может, и превращается в тряпку – но логика жизни никуда не исчезает. В сущности, робкая вера в разум, в человека выступает формой той самой любви к жизни, о которой обязано заботиться искусство (по Л. Толстому). Кстати, несколько извращенной формой любви к жизни выступает у Чехова страх жизни, наступающий вследствие гносеологического вакуума. Страх жизни – симптом жизни. Это стыдливый вердикт уму-разуму за то, что и сам не живет, и душе жить мешает. Чехов осторожно попенял уму, воспользовавшись самой возможностью предъявить разуму модные претензии, но дальше этого не пошел. Итак, помимо разума – нет никакой другой подразумеваемой инстанции. Таков духовный космос Чехова. 8 Рассказ «Три года» начинается со знакомой ноты и знакомого приема: «Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы изза казармы стала подниматься бледная луна». Столько символов и знаков безысходности в одной неэнергичной фразе, сопровождаемых унылым ассонансом. Еще ничего не случилось, но мы уже настроены на самое худшее. Это ж надо, чтобы утро было таким мрачным. Неверный свет огней не вводит нас в заблуждение, мы ему «не верим». И вот в такое утро некто Лаптев Алексей Федорович, сын купца, получивший университетское образование, ждет со всенощной Юлию Сергеевну, в которую он глупо, как ему кажется, и безответно влюблен. Конечно же, он был просвещен, что «страстная любовь есть психоз», «и все в таком роде», но если бы его сейчас спросили, что такое любовь, «то он не нашелся бы что ответить». Любовь была, однако она не приносила радости. «Прошло больше года». Юлия Сергеевна была уже женой Алексея Федоровича, но по-прежнему не любила его. «Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет, но это не любовь». «Так, привычка, должно быть». Между тем чувство Лаптева к жене «было уже совсем не то, что раньше». Проще говоря, любил он ее гораздо меньше. Прошло три года. Юлия Сергеевна из «тонкой, хрупкой, бледнолицей девушки» превратившаяся в «зрелую, красивую сильную женщину», уже любит своего мужа по-настоящему, и объясняется ему в любви, как когда-то, три года тому назад, объяснялся ей жалкий Лаптев. «Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему завтракать». Лаптеву было скучно. Перед нами вновь метаморфозы, которые ставят в тупик мыслящую личность, диалектические перевертыши. «Зацепки» вновь разоблачены, «общая 302 идея», присутствие или растворенность которой в составе жизни дразняще ощутима, почти реальна, – вновь ускользнула, словно жар-птица. В конце рассказа Лаптев, обладатель миллионов, прибыльного, перспективного дела и красавицы жены – «вышел на середину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь…» Знакомо, не правда ли? «Общая идея» и должна перекинуть мостик от этой обывательской, непоэтической, рутинной жизни к жизни «прекрасной, завидной», «чудной», «даже святой». И реальная жизнь в лучшем случае становится ностальгией по чудо-жизни. Под эту «общую идею» рассказов Чехова выстроена вся поэтика: лишние, потому как тонко рефлектирующие, герои, заурядные, бытовые конфликты (которые и на конфликты-то, понимаемые как столкновение интересов, вовсе не похожи); завораживающий синтаксис, скрытый, «неторопливый» ритм, «поддержанные» неброской звукописью, призванные источать затаенную, «стыдливую» поэзию; отсутствие открытого психологизма, поскольку акцент сделан на «диалектике идей»; виртуозное владение деталью, которая информационно предельно нагружена (двойные, тройные функции – обычное дело). Наконец, сам рассказ (малый жанр) как жанровый адекват или жанровая реакция на отсутствие общей идеи – вполне естествен. Общая идея числится по ведомству романа. Ведь роман как таковой вырастает из «общей идеи», скрепляется ею (вопрос, касающийся объективной истинности этой генеральной, сквозной установки, – это уже особый вопрос), ею кормится, живет и одухотворяется. Роман есть многоплановое разворачивание идеи (потому и многоплановое, что идея общая, многоуровневая, «матрешечная» по структуре). Чехову же нечего разворачивать. Или, если угодно, разворачивать отсутствие идеи – малоконструктивная романная возможность. Космос Чехова мозаичен по природе. Он в бесконечном количестве вариантов демонстрирует ложь зацепок и готовность принять универсальную идею, которую, увы, не находит. Осколки тяготеют к моноцентру, но не более того. Они не складываются в определенную идеологию или «направление», ибо яркая идеология всегда примитивна, мало насыщена противоречиями. Строго говоря, это позиция, близкая к скептицизму, сплавленному со стоицизмом. Негромкой силой духа веет от рассказов Чехова. Никакого богоборчества, мессианства, стального, героического пафоса. Какая-то абсолютная честность, не позволяющая ничего идеализировать, во всем видеть оборотную сторону и вместе с тем не унижаться до духовного хамства, до отрицания гуманистически ценного, несмотря на то, что гуманность может существовать исключительно в форме идеологических зацепок. 303 Вот и получается: верю в добро – изо всех сил хочу верить, но не верю в человека. Это и есть идеологический ключ к Чехову. Позиция, очень реалистическая, нелицемерная, не фанатическая, снискала русскому писателю всемирный авторитет. Позиция эта, повторим, выражена с немалым изяществом, без жалкого надрыва, без бьющего на жалость скулежа. Трагизм, переносимый с достоинством, – это уже, отчасти, преодоленный трагизм. Исключительное же пристрастие к духовной стороне жизни, к духовному потенциалу личности делает Чехова мыслителем, не уступающим лучшим русским писателям: Пушкину, Тургеневу, Гончарову, Л. Толстому, Достоевскому. Разговор о Чехове в силу мозаичности писателя можно начинать с любого рассказа и прекращать на любом, ибо каждый из них – фрагмент целостности. Мы не ставим себе целью охватить всю целостность; у нас другая цель: подобрать ключ к целостности. Нам необходимо вернуться к Лаптеву, чтобы еще раз уточнить, какая разновидность лишних людей интересует писателя (и вообще, и в данном случае в частности). Ведь «тип лишнего» – это абстракция, тип складывается из конкретных модификаций. Но вернемся мы к Алексею Федоровичу не непосредственно, а через его окружение. Другие персонажи оттеняют его неброский, вялый силуэт. Вот «звуковой» портрет друга Лаптева: «–Га-га-га! – послышался смех Ярцева, и вошел он сам, здоровый, бодрый, краснощекий, в новеньком фраке со светлыми пуговицами. – Га-га-га!» А вот антипод Ярцева, доктор Сергей Борисыч, отец Юлии Сергеевны: «полный, красный, в длинном, ниже колен, сюртуке и, как казалось, коротконогий, он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы, и напевал вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Седые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, как будто он только что встал с постели. И кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с больным грязным пуделем под столом производил такое же растрепанное, шершавое впечатление, как он сам». Унылое «ру-ру-ру» и бодрое «га-га-га»: вот два типа отношения к жизни, определяемые не мировоззрением даже (хотя Чехов все стремится оформить в мировоззренческом формате, если герой из думающих), а просто натурой. « – Вы любите жизнь, Гаврилыч?» – обращается Лаптев к Ярцеву. « –Да, люблю». «–А я вот никак не могу понять себя в этом отношении. У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, неуверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Иной говорит глупости или плутует, и так жизнерадостно, я же, случается, сознательно делаю добро и испытываю при этом только беспокойство или полнейшее равнодушие. Все это, Гаврилыч, объясняю я тем, что я раб, внук крепостного. Прежде чем мы, чумазые, выбьемся на настоящую дорогу, много нашего брата ляжет костьми!» Какие тонкие наблюдения, какая глубокая рефлексия! Это ведь целая философия человека. Даже одно подобное замечание 304 придает рассказу колоссальный интеллектуальный вес. А у Чехова – россыпи роскошных, небанальных открытий. « – А я, а я?» – продолжает излагать Лаптев (уже брату Федору), «сдерживая раздражение». « – Посмотри на меня… Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городовых, жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!» А теперь вернемся к диалогу Лаптева с Гаврилычем: «Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное, мыслить как-нибудь особенно, не по-земному». Если просто мыслить, поземному, то получается вариант Лаптева. Он обыденно просто излагает Юлии сокровенное: « – У меня такое чувство, как будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для нас серая полужизнь. (…) Как бы то ни было, приходится проститься с мыслями о счастье. (…) Его нет. Его не было никогда у меня, и, должно быть, его не бывает вовсе. Впрочем, раз в жизни я был счастлив, когда сидел ночью под твоим зонтиком. Помнишь, как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик? (…) Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние». В сущности, это типичное «ру-ру-ру», только очень интеллектуальное. У всех рефлектирующих героев Чехова в будущем «серая полужизнь», а в прошлом – иллюзии зацепок. Странно: если не хватает того самого «га-га-га», нерассуждающей витальной радости, инстинкта жизни, психического, бессознательного порыва, – то все самые умные рассуждения героев оборачиваются глупым занудством. Нытики, пессимисты и проч. – это не те, кто рассуждает, а те, кто рассуждает там, где надо плакать или смеяться. Нашли диво дивное: рефлексия губит жизнь. Так не губи ее, рефлексируй в меру. Герои Чехова как-то странно «не замечают слона», проходят мимо этой жизнеутверждающей возможности. Очевидно, натуры такие. А если дело в натуре, при чем здесь мировоззренческий тупик? При чем здесь отсутствие «общей идеи»? Значит, все-таки не в натуре дело, как представляется запутавшемуся Лаптеву. (У него и фамилия, кстати сказать, простоватая, что обязывает героя. Иное дело Панауров или Жозефина Иосифовна Милан, вторая жена Панаурова. (Первая жена – та самая Нина, сестра Лаптева.) Живет себе Панауров жизнерадостно на две семьи, с аристократическими запросами, но без денег, и в ус не дует, все как-то само собой образуется.) Дело не в счастливо доставшемся легком характере, не в случае, не в фортуне. Проблема заключается именно в 305 общей идее, точнее говоря, в отсутствии оной. А общей идее всего-то не хватает безыдейного «га-га-га». Это понял Евгений Онегин, «Война и мир» вырастает из «идеи жизни» (из принципиального преобладания начала иррационального над рациональноаналитическим). Гармония духа держится на двух опорах: взаимном учете интересов психики и сознании. Чехова не интересует психика и психология как бессодержательная, глупая, растительная жизнь, где нет пищи для ума. И напрасно. Нет самоценной психической жизни – ум начинает самоедствовать и тосковать по «неземному» образу мыслей, по счастью. Получается скучное «руру-ру». Вновь какого-то «чуть-чуть» не хватает миллионеру Лаптеву, чтобы красиво, умно, с толком распорядиться своей жизнью. «Лаптев (…) думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет… И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем? И думал: «Поживем – увидим». 9 Три года – это еще слишком большой срок, чтобы развеялись иллюзии героя. Достаточно и года, чтобы блаженство обернулось мертвящей скукой. Отныне – и навсегда. Вот прелюбопытная модель такого рода отношений с миром – «Учитель словесности» (1894). Маша Шелестова, Мария Годфруа, Манюся (чем не Мисюсь?) любит гимназического учителя словесности Сергея Васильевича Никитина. И он ее любит, нежно и поэтично, как Лаптев свою Юлию. Редкий случай полной взаимности, полного отсутствия помех для «земного» счастья – «и будущее кажется прекрасным». Для чистоты эксперимента созданы все надлежащие условия. Была, правда, сестра Манюси, Варя, некий аналог Лиды Волчаниновой, девушка ворчливая и, разумеется, «умная и образованная». Но и она не стала препятствием для блаженства. Посмотрим на баловней судьбы в начале их пути к прекрасному будущему. Молодые, здоровые и красивые люди едут на «превосходных и дорогих лошадях». «Был седьмой час вечера – время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. (…) А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, – тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!» Перед нами райский вечер – и какой разительный контраст с мрачным утром, которым начинается «Три года». Восторг и упоение жизнью захлестнули 306 Никитина настолько, что он не замечал нормальную пошлость, мирно соседствовавшую с высоким и одухотворенным строем чувств. «Ну, дом! – думал Никитин, переходя через улицу. – Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!» А между тем пошлости было хоть отбавляй, пошлость выпирала и красовалась. Собственно, пошлым было все то, что так нравилось Никитину или окружало его – однако он был влюблен в Маню, а любовь слепа. Любви нет дела до пошлости. Пошлое общество, пошлые споры, глупая манера поведения Вари, мещанское изобилие псов и кошек в «доме», пошлая занудливость старика Шелестова, символ мертвящей скуки и пошлости бессмертный Ипполит Ипполитыч, дурак Полянский, «мумия» Шебалдин, бригадный генерал со своим пошлым «розаном»… Но воплощением и олицетворением пошлости была Манюся, женившись на которой Никитин утонул в «полном, разнообразном счастье». «Разумная и положительная» Маня с энтузиазмом завела «настоящее молочное хозяйство», обнаружила сверхрачительность, и даже мелочность, столь необходимые хозяйке. «То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно». «–Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. (…) Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность – все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью…» «–Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, – говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу». Счастье Никитина, «личное счастье» – тоже было пошлым, и оно все увеличивалось. «Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в вист». А зима, заметим, «была вялая», «во весь учебный сезон не было никаких особенных событий». Что же разрушило эту молочно-кисельную образцовую идиллию? Что заставило Никитина схватиться за голову («когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол»)? Объяснение очень простое. Началось все с невесть откуда взявшихся рассуждений о том, что счастье «досталось ему даром, понапрасну», оно было излишней «роскошью» и «имело какое-то странное, неопределенное значение». Учитель словесности отлично понимал, что «эти рассуждения сами по себе уже дурной знак». И уже дома, куда, кстати, ему впервые не хотелось идти, ему как-то сразу, вдруг открылась пошлая природа Манюси. Пелена спала с глаз, и он в новом свете увидел не только жену, но и себя вместе со своим счастьем. «Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко 307 живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир… И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать… Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны». Никитину не хватало дела и деятельности. Сам себе он казался уже не «творцом своего счастья», не педагогом и учителем словесности, а «чиновником», «бездарным и безличным»; «никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно и, быть может, даже он учил тому, что не нужно». Так что же произошло? Произошла обыкновенная трагедия: у господина Никитина проснулось сознание. Он задумался – а счастье не терпит критики или анализа. «Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем». Получается: когда есть «иллюзии» (зацепки), когда не замечаешь пошлой реальности – тогда и сам пошло счастлив; но как только начинается «сознательная жизнь» – тут уж прощай, счастье. Вот почему счастье у Чехова бывает только пошлым; нечто достойное человека, мыслящего существа, перестает быть счастьем, превращаясь в какую-то «нервную» долю, судьбу, которую можно разве что влачить. «Начиналась весна, такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости…» Однако Никитин понимал, что «покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно». «В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» Это, конечно, романтическая стадия горя от ума. Начинающий лишний, Никитин еще не понимает, что альтернатива «страшной», но такой жизнеутверждающей пошлости и счастью – путь к смерти. Чехов очень дорожит этой романтической стадией, останавливая героев у последней черты, обрывая их судьбы на самом интересном месте, не лишая их последней призрачной надежды. «Поживем – увидим». Эта стадия позволяет поэтизировать возвышенный строй мыслей – отсюда знаменитый чеховский лиризм. Герои уже выше пошлости, но еще не обрели неземного образа мыслей. Еще чуть-чуть – и… 308 Откуда такая уверенность, что они отыщут философский камень – неземную общую идею? Это не уверенность, это последняя зацепка, надежда, что и от пошлости можно уйти, и смерти как-то избежать. В сущности, формулируется проблема: как бы это жить «сознательной жизнью» и ощущение «полного и разнообразного счастья сохранить». Но это и есть проблема психики и сознания. Никитин за голову хватается при виде пошлости, собирается бежать от нее, не понимая, что жизнь торжествует только через пошлость. Учитель словесности нарушает первую заповедь лишнего: не искажай реальность, принимай ее такой, какая она есть, без сожалений оставь зацепки. А бежать от себя – это, конечно, зацепка. Чехова давно уже объявили борцом с пошлостью, в которой, словно в тине, тонут многие его герои. Самый одиозный из них – Ионыч. Странно, что никому не пришло в голову: бороться с пошлостью – бороться с жизнью. Не потому ли герои Чехова испытывают чувство вины перед жизнью – и отсюда вся их рефлексия с гнильцой? Они безотчетно «понимают», что не только жизнь «не такая», полужизнь, но и они «не такие». Вот это и есть тот самый экзистенциальный пустячок, который не позволяет героям Чехова осмелиться стать счастливыми, открыть калитку и просто выйти из логически-магического круга, который у них в голове, а не в реальной жизни. « – Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как? (Это уже Дмитрий Дмитрич Гуров из «Дамы с собачкой» – А.А.) И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается». Потрясающее диалектическое чутье демонстрирует Чехов, чутье человека умного и порядочного, к тому же анафемски, по-русски, талантливого. 10 Все проблемные поля творчества Чехова сведены воедино в «Вишневом саде» (1903), чем и привлекла в данном случае наше внимание выдающаяся и странная комедия. Чехов настаивал на том, что это именно комедия, а не трагедия или драма. Что же собственно комического происходит вокруг полуделовой возни с имением Раневской, и какова природа этого скрытого, имплицитного, странного комизма? Как такового конфликта, на котором могло бы держаться действие, в пьесе нет. Нет конфликта – нет и сюжета, «обслуживающего» конфликт. Подспудный, тлеющий конфликт – уже знакомое нам противостояние двух позиций, двух типов отношений, двух систем ценностей, по-разному претендующих на статус высокогуманных. «Вся Россия наш сад», – пышно заявит безликий персонаж с безликими именем-фамилией, некто Петя Трофимов. Уже не абстрактная 309 позиция, не пустые слова стоят за словами героев – а их судьба и судьба России. Точнее было сказать: вся Земля наш сад. По смыслу именно так и получается. Ведь не Россия интересует повествователя и героев, а способ гуманистического возделывания «сада», великолепной среды обитания. Комизм пьесы связан не с комическими персонажами (СимеоновымПищиком, Шарлоттой Ивановной, Епиходовым, Яшей с Дуняшей) – а с тем, что любая позиция по отношению к «саду» обрекает последний на уничтожение. Перед нами классическая трагикомедия, замешанная на трагической иронии, а «внешний» комизм только оттеняет абсурдность и безвыходность идейной «ситуации». Животики надорвешь и лопнешь со смеху. Полярные позиции персонифицированы в образах Лопахина и Раневской. Лопахин Ермолай Алексеевич, бывший крепостной, а ныне преуспевающий купец, «размахивающий руками» («размахивать руками» – значит, по Трофимову, самоуверенно делать ставку на расчет и прагматизм), предлагает свой проект спасения сада: вырубить его и сдать освободившиеся клочки земли в аренду дачникам, что принесет пользу, выгоду, прибыль. Строго говоря, иного выхода-то ведь и нет. Город наступает, прокладывается железная дорога – и «сад» в этом контексте прогресса осознается уже не как родовое гнездо, не как поэтическая ткань души, а как земелька на продажу. И дело вовсе не в том, что Ермолай Лопахин, мужик от лопаты, от сохи, чего-то не понимает. Он честно играет по правилам, которые не он выдумал. Он действует, вырывая сад из лап Дериганова. Лопахин – тот самый «действующий» человек в противовес человеку «чувствующему» и «рассуждающему». «Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую». Зацепка – вот награда за тяжкий труд, избавляющий от еще более тяжкого труда мысли. Сказать, что ранимой Раневской, да еще по имени Любовь, непонятна логика Лопахина или что она ее презирает – значит лишить пьесу глубины, того самого источника, откуда бьют ключи черной иронии. Любовь Андреевна прекрасно отдает себе отчет в том, что надо жить не так, что это она довела драгоценный сад до нынешнего состояния, когда при ней, вчерашней хозяйке, застучали топоры. Это она бросила сад на растерзание; иное дело, что исполнять это будет не Дериганов, так Лопахин. Но не она. Для нее это место – священно: «Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом…(Обнимает Трофимова, целует его в лоб.) (Словно оберегает, чтобы не ранить следующими словами – А.А.) Ведь мой сын утонул здесь… (Плачет.) Пожалейте меня, хороший, добрый человек». Она возвращается в Париж к другому доброму человеку, который обобрал ее, но «он болен, он одинок, несчастлив (…) Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу». Смешно, не 310 правда ли? По крайней мере странно. «Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя (обращается к своей дочери Ане – А.А.) ярославская бабушка на покупку имения – да здравствует бабушка! – а денег этих хватит ненадолго». Можно лопнуть со смеху. Любовь Андреевна могла бы, да и должна была, оказаться на месте умеренно лютого предпринимателя Лопахина – и она выжила бы. А пьесы бы не получилось. У Раневской много великодушия, врожденного такта (она даже говорит «рассердившись, но сдержанно») и здравого смысла, но какого-то чересчур замысловатого здравого смысла, который не может «смело решать все важные вопросы». Однако отдай сад в ее руки – от него и следа не останется. С другой стороны, Лопахин затем и приобретал его, чтобы извести под корень. Ну разве не комедия? Животы надорвешь, наблюдая логику нелепого мироустройства. Есть, правда, еще один, третий путь, – путь веры в будущее «сада», которое как-то чудесно обустроится само собой. Медитации на тему счастья в исполнении Пети, вдохновленного присутствием Ани («вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги»), к несчастью, прерываются самым прозаическим образом – голосом Вари: «Аня! Где ты?» Петя спутал поступь Вари с шагами счастья. В другой раз Петю, этого «облезлого барина», который «выше любви», повествователь опускает на землю еще более комическим образом: « с грохотом» роняет его с лестницы в самый пафосный момент. Так сказать, затыкает рот, чтобы не опошлить тему. Какой уж тут третий путь! Философская болтовня Пети трогательно дублируется Аней («Начинается новая жизнь, мама!», «В дорогу! (радостно)», но с веры начинали и Раневская, и Лопахин. Гипотетический третий путь – это не синтез первых двух, а грустное отчаяние от невозможности их соединения и робкая вера, что когда-нибудь, в «новой жизни», все будет иначе. Между прочим, благие намерения Раневской завершаются, как и положено в трагикомедии, смехом сквозь «сдержанные рыдания»: преданный слуга Фирс предан и забыт, Варя унижена и покинута. А хотели, разумеется, как лучше… К злосчастной судьбе Вари самым непосредственным образом приложил руку «новый помещик, владелец вишневого сада» Ермолай Лопахин, который только собравшись сделать давно откладываемое почему-то предложение, вдруг осознал, что ему и предлагать-то нечего, он не испытывает нежных чувств к Варе; он вообще испытывает какие-то примитивные чемпионские эмоции, «размахивает руками», а человеческого, идущего от сердца – осталось на донышке. Разве не смешно? В сущности, Чехов начал свое творчество с дилеммы и драматургически оформил ее как завещание. Дилемма Чехова проста: кто трудится – тот не думает, и потому более-менее доволен жизнью, «счастлив»; кто думает – тот не может быть доволен жизнью и не видит смысла в деятельности. Труд как бы 311 перестает быть мерилом достоинства человека, но достойный человек рвется к осмысленному труду. Можно до бесконечности крутить эту дилемму на разные лады, но ничего, кроме «комедии», вы не получите. Опять же весьма кстати пришелся чеховский «лиризм», – форма ностальгического подтекста, изнанка комизма, производное от нежелания мириться с дурацкой логикой жизни, способ противостоять пошлости. Где вы, новая жизнь, бог живого человека, Мисюсь, небо в алмазах и зайки на воздушных шариках? Утопичность проекта Чехова в том, что он полагает, будто уровень поднятых им духовных проблем доступен всем и каждому. А это уже псевдодемократизм, заигрывание с народом и недооценка себя. Архиерея («Архиерей», 1902) поймут посвященные, но даже родной «маменьке» не переступить духовной границы. Остальные просто не поверят, что крест преосвященного Петра – скучная история, история просыпающегося разума, который делает человека лишним. «(…) прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей». Опять испорчен финал. Архиерея волнуют те же проблемы, что и профессора, инженера и художника. Круг замкнулся. И ничего странного в этом нет. Было бы странно, если бы при такой постановке вопроса круг не замкнулся. Надо иначе ставить вопрос. Но «иначе» – это уже иное качество мышления. Творчество великих русских писателей, в том числе А.П. Чехова, интересует нас не в локальном контексте истории литературы или художественных достижений эпохи классического реализма; оно интересует нас в контексте духовного становления человечества. Диалектика художественного сознания, тип мышления, возможности данного, образно-моделирующего, языка культуры в контексте высших культурных ценностей – вот предмет нашего исследования. Умная литература требует еще более умного литературоведения, иначе литература так и не поймет, что же она «сказала». В каждом великом писателе, в каждом фрагменте их великих текстов противоборствуют два языка культуры, которые сражаются насмерть за право познавать жизнь – даже тогда (и прежде всего тогда), когда Чехову (или Пушкину, Л. Толстому, Достоевскому и др.) кажется, что он говорит простые и ясные вещи. Диалектика художественного сознания такова, что «простые» мысли гениальных художников никогда не равны себе, они трижды в десятой степени противоречат себе и часто содержат 312 совсем не то, что имел в виду писатель. Но содержательность их всегда глубока, многопланова, неслучайна. Именно об этом предлагаемая книга. 313 ЧАСТЬ 7. И.С. ТУРГЕНЕВ 7.1. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА РАЦИОНАЛИСТА: БАЗАРОВ И ДРУГИЕ 1 Базаров имеет непосредственное отношение к великой теме лишнего человека, всесторонне разработанной великой русской литературой. Однако Базаров – это бедноватый ответ на исключительно богатый вопрос. Именно в таком контексте плюсы и минусы «неоднозначной» фигуры Базарова выявляют свое истинное величие. Несомненная, подчеркнем, заслуга И.С. Тургенева состоит в том, что его герой времени занимает особое положение среди лишней братии. Базаров – фигура не только конкретноисторическая, продукт времени, но и вневременная, типологическая; это не только тип, но и архетип. Последний (вертикальный) масштаб приложим далеко не к каждому живущему на Земле… Суть Базарова проста, хотя экзистенциальная проблема, которую он иллюстрирует своим бытием, чрезвычайно замысловата. Вот девиз, который «промолвил» Базаров любопытствующему Павлу Петровичу: «В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем. – Все? – Все. – Как? не только искусство, поэзию… но и… страшно вымолвить… – Все, – с невыразимым спокойствием повторил Базаров». (с. 356) (Роман цитируется по изданию: Тургенев И.С. Собр. соч. в шести томах. Т. 2 – Москва, изд. «Правда», 1968. Жирным шрифтом выделено мной, курсив автора – А.А.) Что значит все отрицать? Это значит отрицать не факты, но основы бытия, которые (основы) Базаров усматривает в типе отношений с миром, в типе сознания. Собственно, все отрицать – значит иметь претензию к одномуединственному пункту: типу освоения мира. Базаров отрицает чувственнопсихологическую, лирическо-поэтическую (что так возмутило Павла Петровича), женскую (что Павла Петровича немало бы изумило) модель бытия. Утверждает же он начало рациональное, мужское, деловое, конструктивнопрагматическое, столь дефицитное в мире вообще, а в России тем более. Вроде бы не так уж мало и не так уж плохо. В чем же «бедность» позиции Базарова? А в том, что психике и лирике легкомысленно и запальчиво (в том самом лирическом ключе!) отказано в праве на существование. Это не диалектическое, не конструктивное, а дурное, наивное, некультурное отрицание, которое не обременено, в свою очередь, отрицанием, дающим начало созиданию. Базаров точно революционер, но революционер духовный, философский, а не политический, ибо главная его мишень – система ценностей мира отцов, и 314 даже – чего там церемониться! – предков. «Новое слово» Базарова – не курс на политическое преобразование общества, а утверждение отношений нового типа. А уж политические и всякие иные реформы или революции (безусловно, необходимые для реализации нового отношения к миру и человеку) – это при любом раскладе следствия, но не первопричина. Существует, однако, пунктик, который активно противоречит причислению Базарова к лишним. Деятельностная активность, пусть и разрушительная, credo Базарова – и пассивная созерцательность, болезнь лишних: согласимся, тут есть нюансы. Это, мягко говоря, не одно и то же. Собственно, практическое начало и позволяет (заставляет!) трактовать «нигилизм» Базарова как род деятельности в противовес безысходной и бесплодной рефлексии «отцов». «Лихорадка работы» или горячка деятельности – это знак и симптом востребованности, нужности и необходимости. «Чем-чем, а болтовней не грешны», – заявляет Базаров. Нигилизм его непосредственно затрагивает сферу социальной практики, хочется думать – политики. Политически активный лишний – это что-то новенькое в типажах отечественной словесности. Скорее уж Павел Петрович на таком фоне выглядит лишним. Однако (и это во-первых) при ближайшем рассмотрении активность Базарова оказывается познавательного, то есть все того же рефлектирующего, пусть и несколько идеологизированного толка. А вовторых, как только Базаров поумнел до критической черты, от активности его и следа не осталось. Так что не будем путать, скажем, одномерного (хотя и активного) Штольца и многомерную фигуру нигилиста. Активность и нацеленность на дело – это форма, но не суть созерцательного отношения. Бывает. Если это не так, придется ставить в вину Печорину его авантюрноприключенческую активность, Онегину – философскую и т.д. Активность активности рознь. Реально востребуемая обществом активность – вот чего не достает Базарову и чем в избытке наделены все Кирсановы. Активность же Базарова – это протест против бессмысленной, с его точки зрения, но актуальной и поощряемой активности «отцов». Базаров, как известно, вынужден был отвечать за свои слова и экстравагантные декларации. Мы также готовы подтвердить сказанное разбором романа. 2 Базаров входит в конфликт плавно и органически, совершенно естественным образом. Дело в том, что сама почва конфликта, его, так сказать, состав и интрига к тому времени, когда писался роман («Отцы и дети», напомним, впервые был напечатан в 1862 году), была основательно разрыхлена и удобрена. И персонально, и сложившейся к тому времени традицией, и запросами общественной практики Тургенев был подготовлен к тому, чтобы увидеть главную движущую силу развития личности и общества в таком пустяке, как 315 образ мыслей, менталитет, противоречия ума и души. «Отцы и дети» – это эвфемизм, иное, отвлеченное обозначение конфликта отнюдь не возрастного и не социального по корням своим; это конфликт духовный, сруктурообразующий по отношению к личности и обществу. Здесь характерно вот что: начало новое, прогрессивное, так или иначе идущее на смену требующим основательной корректировки «принсипам» отцов, было однозначно увязано Тургеневым с разумом. Здесь писатель угадал – и предостерег. Но не станем забегать вперед. Базаров предстает перед читателем прежде всего как носитель нового образа мыслей. И дело вовсе не в том, что он демократ и разночинец, и даже не в его пресловутом «матерьялизме» (это все «горизонтальный», социальноисторически обусловленный аспект его личности). Дело в ином. Базаров с пронзительной ясностью увидел, что он живет в мире, который создан исключительно воображением: чувствами, желаниями, хотениями – словом, капризами психики. Реальность же была несколько иной. В мире культурных людей, окружающих Базарова, жить – значило жить чувствами. В этом и заключался главный «принсип» Павла Петровича, которому тот по своей глупости и спеси придавал аристократический (то есть возвышенный, культурно-утонченный) статус. А что значит в обычной, обыденной жизни следовать генеральному «принсипу» братцев Кирсановых? Читателю гадать нет необходимости, в романе все изложено, подробно и своевременно. Базаров еще не появился, а мы уже в курсе, как ожидающий его барин, Николай Петрович Кирсанов, он же хозяин имения Марьино, отец Аркадия и брат Павла Петровича, докатился до такой жизни, прелести которой до столбняка изумили Базарова: «Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия. – Это что? – произнес с изумлением Базаров. – Это отец. – Твой отец играет на виолончели? – Да. – Да сколько твоему отцу лет? – Сорок четыре. Базаров вдруг расхохотался. – Чему же ты смеешься? – Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias, в …м уезде – играет на виолончели!»(с. 350) Читатель может сам заглянуть в роман и найдет там все самое главное о Николае Петровиче на первых же трех страницах, поэтому мы подведем итог: главным содержанием жизни сына «полуграмотного», «грубого» «боевого генерала 1812г». была любовь, были чувства или, иначе, психологическая привязка к жизни. Без них и вне них Николая Петровича 316 просто нет. Иных дел в жизни у него, собственно, и не было. Сначала он «блаженствовал со своею Машей», дочкой чиновника Преполовенского («Пиотр Кирсанов, генерал-майор», и супруга его Агафоклея Кузьминишна были «немало огорчены» сим обстоятельством: сын их влюбился в дочку хозяина квартиры, дело клонилось к неравному браку; чуткий Николай Петрович, однако, женился на Маше после смерти родителей): «Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос – тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон». (с. 315) Никакого поприща, никаких великих дел, никакого нигилизма, Боже упаси. Жили душа в душу. Теперь же, ко времени приезда сына, Николай Петрович блаженствовал в Марьино (названному так, очевидно, в честь своей Маши) со своею Фенечкой, девицей крестьянского звания. Главный «принсип», по которому Николай Петрович избирал себе подруг жизни, был сердечная склонность, сиречь любовь. Прагматизм, польза, расчет – все это, судя по всему, были для Николая Петровича «пустяками». Ведь это не что иное, как Базаров наоборот. Что касается Павла Петровича Кирсанова, то здесь история жизни была еще более романтическая. Можно даже сказать, что карьера и положение в свете подававшего блестящие надежды офицера были принесены в жертву любви. В погоне за капризной светской красавицей-кокеткой княгиней Р. или, попросту, Нелли Павел Петрович провел лучшие годы жизни. «Что гнездилось в этой душе – бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей (…)». (с. 337) Павел Петрович, прочитавший «всего пять, шесть французских книг», которых вполне хватило, чтобы «славиться смелостию и ловкостию», подарил своей взбалмошной и роковой избраннице «кольцо с вырезанным на камне сфинксом». (с. 336-337) Через десять лет, которые промелькнули для Павла Петровича «бесцветно, бесплодно и быстро», княгиня скончалась «в состоянии близком к помешательству», а Кирсанов «получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка». (с.338-339) Где загадка, где разгадка? Что гнездилось в его душе? Известно лишь, что за десять бесплодных лет в ней прочно поселились «принсипы». И тут появляется Базаров, «сей волосатый», и ненароком, между прочим сообщает «уездным аристократишкам», что мужчина должен быть свиреп, любви нет, а то, что джентльменам угодно называть любовью, есть «гниль», в лучшем случае – «художество». Причем все эти декларации при всей своей дерзости являлись следствием одного только капитальнейшего пункта, а именно: убежденности в том, что 317 отношения с миром можно выстраивать и на разумной основе, в обход «тайных» и «неведомых» сил. Базаров не чудак, а если и чудак, то не более, нежели княгиня Р. или Павел Петрович. Но чудак чудаку рознь. Одно дело прикидываться сфинксом, и совсем иное – просто следовать голосу рассудка, как делали это Болконский с Раскольниковым. Взору Евгения Васильевича открылась простая и, между прочим, глубокая истина: люди в абсолютном большинстве своем живут бессознательной жизнью, живут так, словно существующее сознание не в состоянии управлять их жизнью, будто это не дело сознания. А почему, собственно, надо прикидываться сфинксом? Нигилизм Базарова, строго говоря, это попытка привнести в бессознательную жизнь критерии целесообразности. Точкой отсчета Базаров избрал не душу и сердце (где гнездились поэзия, любовь и прочая «гниль»), а разум, мысль (отсюда – деловой подход к душевной «чепухе»). Логику и доказательства вместо крестов по сфинксу. (Парадоксально, что в сфере духа является нормой: ведь широкомасштабное, огульное, и даже тотальное отрицание всего и вся на том основании, что мир творился не по-разумному расчету, имеет своим исходным пунктом именно нечто иррациональное. Сначала ненависть к уродливому миру – а уж потом нигилистическая теория в качестве концептуального, то есть культурного обоснования. И все же степень сознательного отношения, доля участия рационального начала в мировоззренческом «проекте» принципиально не та, что у Павла Петровича Кирсанова. Поэтому у нас нет оснований отождествлять Базарова с Кирсановым, культурпродукт («сам себя воспитал», «самоломанный») с натурпродуктом, который выдает себя за культурпродукт, за джентльмена, человека «с принсипами». В делах «психо-сознательных» степень участия той или иной стороны, их реальные, а не мнимые функции решают многое, если не все. Запутаться – можно, и легко, но иного пути распутывания клубка умственнодушевных отношений, кроме парадоксально-аналитического, сиречь диалектического, просто не существует.) Самое интересное, что Базаров (а вместе с ним и повествователь) формально прав. Кирсановы живут ведь неразумной жизнью. Их хваленые «принсипы» – это иррациональные установки предписывающего толка, моралистические доктрины, своего рода табу. Вся их серьезность в корне несерьезна. Когда Павел Петрович пытается возражать Базарову, выясняется, что аристократу, в сущности, и крыть нечем. Все самоуважение Кирсанова держалось исключительно на том, что он жил «как все», что он был человек общества. Он даже чудил так, как это принято в кругу джентльменов. Comme il faut. Базаров же делает заявления аморальные, и главное – находит для этого основания. Он видит то, что странным образом не замечает никто. Однако Базаров отрицает очевидное: силу чувств в человеке. Вот почему «базаровский» вариант защиты разума превращается в карикатуру (сильный, хотя и традиционный ход писателя: других аргументов у тех, кто побаивается разума, просто нет). 318 Конечно же, идейный конфликт – это оболочка иного, более глубокого, уже онтологического, и в то же время экзистенциального конфликта: между психикой и сознанием, между разными точками отсчета и системами координат в культуре. Вот об этом роман Тургенева, в этом его подлинная глубина. Однако Тургенев и сам относился к тем «отцам», которые видели в разуме, при всем уважительном к нему отношении, все-таки монстра, дурную силу, убивающую в человеке человеческое. Разум выведен так, словно его место в клетке, словно это всесильный джин, которого лучше держать в плотно закупоренной бутылке, не то беды не оберешься. Так задуман конфликт, так задуман Базаров, так, в общем, все и воплощено. Как всегда с маленькой поправкой: в гениальных творениях хвост виляет собакой, подсознание – сознанием, перо – писателем. Есть точка зрения Тургенева на проблему – а есть глубина самой проблемы. Совместим эти позиции – и увидим странный результат: бедный ответ на богатый вопрос. 3 Социальная оболочка конфликта – это дань уважения куцым мозгам отставного офицера, на двадцать восьмом году от роду уже капитана, Павла Петровича Кирсанова. Собственно, социальный акцент – это его единственный козырь. Пресловутая же народность Базарова – штука очень сомнительная, чтобы не сказать провокационная. « – Мой дед землю пахал, – с надменною гордостию отвечал Базаров». Конечно, пахал, кто спорит. Сын полкового «лекаришки» – и это так. (В каком смысле это повод для гордости? С этой «гордостию» далеко не все ясно.) Однако покойная матушка братьев Кирсановых, бабушка Аркадия, Агафоклея Кузьминишна, та, что «не могла привыкнуть к глухой столичной жизни», да и сам «Пиотр Кирсаноф», недалеко ушли от Василия Иваныча и Арины Власьевны Базаровых. Евгению «Васильеву» Базарову хочется быть к народу гораздо ближе, чем претендующему на русскость Павлу Петровичу с его «библиотекой renaissance из старого черного дуба» – и у внука пахаря есть на то свои причины. Но не будем забывать, что именно от тела народного, проще сказать, от трупа мужика принимает смертельную болезнь Базаров, а вот Павел Петрович Кирсаноф, напротив, тайно и безнадежно влюблен в крестьянку-барышню Фенечку, «это пустое существо», «особенно в верхней части лица» которой было «что-то общее» с Нелли, княгинею Р. ( с. 462) Тут повествователь угадал. Неизвестно, что он хотел сказать этими штрихами, но они дают основание, в частности, и такому повороту темы. Всем своим «ходом мысли» Базаров вызывающе противостоит духу народности. Вот фрагмент одного из долгих словесных поединков между Базаровым и Павлом Кирсановым: « – Нет, нет! – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, – я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы 319 представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он – патриархальный, он не может жить без веры…(…) – И все-таки это ничего не доказывает. (…) – Как ничего не доказывает? – пробормотал изумленный Павел Петрович. – Стало быть, вы идете против своего народа? – А хоть бы и так? – воскликнул Базаров. – Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом – он русский, а разве я сам не русский? – Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу. (…) А вы говорите с ним (с народом – А.А.) и презираете его в то же время. – Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?» (с. 358) Сказано почти все, однако требуется комментарий. «Направление» Базарова действительно вызвано «тем самым народным духом» (здесь ученый внук дремучего пахаря прав), однако направлено оно против «того самого народа» (и здесь прав Кирсанов). В этой далеко не сермяжной логике надо разобраться. Базаров, разумеется, ближе к народу, однако само по себе данное обстоятельство «ничего не доказывает». Павел Петрович вовсе не случайно так вцепился в народную тему. «Предания», «патриархальность», «вера» – это ведь те самые бессознательные (аристократические, по терминологии Павла Петровича) «принсипы», которые свято чтит и сам Павел Петрович. Он смутно чувствует, что по духовному составу – он одной крови с народом. Кирсанов вполне понародному приспосабливается к обществу, к «миру» и не выделяется из него. Bien public – вот его «личный эгоизм» и предел мечтаний. (Характерна нигилистическая реплика будущего правоверного «отца» Аркадия Николаевича, у которого родится сын, традиционно, и даже патриархально названный в честь деда Николаем (отнюдь не в честь Евгения «Васильева», склонного «ломать» традицию): «Современное состояние народа этого требует (под «этим» имеется в виду «место расчистить», ломать, «отрицать» – А.А.), – с важностью прибавил Аркадий, – мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма».) Базаров именно «оскорбляет народ, именно «презирает» его, как изволил выразиться аристократ Кирсанов, также оскорбленный в лучших, то есть народных чувствах. Формально Базаров излагает что-то народное («вы порицаете мое направление» и т.д.). Однако объективно «направление» Базарова служит изничтожению духа коллективизма и народности. Вот нигилист утверждает: «Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным». (с. 356) С точки зрения народа самым полезным всегда было и 320 будет поощрять те принципы, которые сплачивают, будь то предания или суеверия. Базаров же в высшей степени критически относился именно к духу, то есть психологии сплочения, противопоставляя этому духу не какие-то определенные действия в определенной последовательности, а иной дух – дух разумного отношения, дух нигилизма. В романе есть любопытная сценка, служащая отличной иллюстрацией базаровским тезисам. Евгений со своим другом Аркадием подъезжают к деревушке, где живут родители Базарова. «У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья, – говорил один другому, – а хуже малого поросенка». – «А твоя жена – колдунья», – возражал другой. – По непринужденности обращения, – заметил Аркадию Базаров, – и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены». (с. 416) «Колдунья», судя по всему, «оборот» куда более оскорбительный, нежели «свинья». Базаров отрицал одну систему ценностей и культивировал другую. Он отделился от народа, и его разумный эгоизм стал «личным эгоизмом». Жизнь народа, толпы, даже скопища аристократов – словом, тех, кто ориентирован на культуру bien public и мыслит свое существование только в формате клеточки народного тела, – может продолжаться только как жизнь бессознательно-роевая, не- и вне-разумная. Народ (плебс) всегда найдет с аристократами (духовной чернью) общий язык, но говорящий на языке разума будет для народа лишним. «Надменная гордость» Базарова относилась не столько к тому, что его незаслуженно отлучали от народа, сколько к тому, что он, выйдя из народа, прекрасно знает ему цену. Он из народа – и вследствие этого против народа. Гордость его амбивалентна. Павел же Петрович идеализирует народ, ибо отождествляет себя с ним: комплименты народу – это славословия в свой адрес. Вот почему Базаров обречен был задолго до роковой встречи с очаровательной Одинцовой; не фатальная хирургическая практика его погубила, а «направление». Он был «лишним» в силу того, что саму категорию пользы выводит из разума, а не из интересов bien public. Ничего удивительного нет также в том, что «ферма» Николая Петровича уже в конце романа стала приносить «довольно значительный доход», Аркадий «сделался рьяным хозяином», то есть нашел общий язык с народом. В этом смысле Тургенев не погрешил против истины: такой итог и результат был не случайным, а вполне закономерным. Не случайная ранка и отсутствие адского камня (безалаберность, прижившаяся в народе) двигали сюжет романа, а внутренняя логика становления сознания. В чем Тургенев был не прав и за что пришлось расплачиваться его герою, превращенному в карикатуру, – так это в том, что он наивно не включил в жизнь духа жизнь сердца и души, активно исключил из сферы человека мыслящего чувства и взросшую на их почве художественную продукцию, «художества». 321 Вот это действительно случайный, факультативный признак, превративший трагедию лишнего в «базаровщину». Вовсе не обязательно нигилисту отвергать любовь; более того, именно наличие в мире такого демократического чувства, как любовь, объединяющего и крестьян, и аристократов, придает жизни лишнего целую гамму противоречивых оттенков. Любовь делает его таким, «как все», в известном смысле уравнивает, возвращает в народ – тем самым любовь помогает держаться на плаву, а не топит. Разум же, единственный признак аристократический духовной породы, заставляет презирать всех (в том числе себя) и, так сказать, рубить сук, на котором сидишь. Мы говорим о потенциальной возможности любовной коллизии для лишнего, блестяще реализованной в «Евгении Онегине». Коллизия Евгения Базарова – схематична, не очень выразительна, в ней не пульсирует стихия жизни. Любовь как-то странно убивает Базарова, хотя это его единственная привязка к жизни. Иных вариантов «хождения в народ» и не предвиделось. Любовь – это та самая духовная тропа, где пересекаются психика и сознание, культура и натура, где они, словно травоядные и хищники в засушливой саванне на водопое, мирно делят живительную влагу ко взаимной выгоде и удовлетворению. 4 Базаров и пошел в народ – к Фенечке, где и пересеклись его пути с Павлом Петровичем. Фенечка стала поводом к дуэли, ко взаимному истреблению. Если держать в уме, какие культурные полюса олицетворяют собой Базаров и Кирсанов, дуэль приобретет метафорический и символический смысл. Павел Петрович безупречно вел свою партию «a perfect gentlman». Любовь только и могла придать смысл его незадавшейся жизни. Любовь становилась «принсипом» и философским стержнем. Совершенно иная роль здесь у Базарова. Он честно, как хищник («с зеленоватыми глазами» и «книзу заостренным носом», «хищным», опять же) или как ученый, отреагировал на добычу, то есть на появление Анны Сергеевны Одинцовой: «Этакое богатое тело», «хоть сейчас в анатомический театр». Черный юмор Базарова здесь с двойным дном. В здоровом теле – здоровый дух, что для господина доктора означало: есть тело, а есть дух, то есть мысль. Тело и дух в здоровом варианте переходят друг в друга, сообщаются через душу, психику, сферу чувств. Базаров же, как известно, и мысли не допускал о существовании души, а потому предполагал абсолютно автономное существование двух измерений человека. От тела – к телу, от мысли – к мысли. Любовь как духовная проблема просто не могла существовать при таком «научном» раскладе личностной структуры. « – Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах?» – любопытствовал Аркадий. Евгений отвечал: « – Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды». (с.380-381) 322 Мысль (нигилизм) и тело – это разные вещи, а потому умная женщина («спокойно и умно» «глядели светлые глаза из-под нависшего белого лба» у Одинцовой) не становится привлекательнее именно как женщина, как «млекопитающее». « – Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа», – комментировал свой интерес Базаров. « – Чует мой нос, что тут что-то не ладно», в смысле «ладно», «пожива есть, значит». (с. 381) С этой точки зрения, что Одинцова, что Фенечка, что Авдотья (или Евдоксия, Eudoxie) Кукшина – все едино, главное, чтобы тело было «богатым». В теории все ладно да складно. На практике же что-то шевельнулось в душе Базарова, собственно, душа дала о себе знать. Он «сконфузился», «бабы испугался». Наличие души – это уже не просто новое представление о структуре духовности. Для Базарова это означало новое представление о человеке, следовательно, о его системе ценностей – означало появление духовной проблемы. Одно дело «от тела к телу», и совсем другое – непонятного происхождения конфуз, самопроизвольное зарождение трепетного интереса, обнаружение внутри себя инородного «тела», живущего по своей логике. Переоценка ценностей и пересмотр функций разума происходит ведь не в форме академических словопрений или ни к чему не обязывающих словесных баталий. Поговорили – и забыли. Это вообще проблема не академическая, а жизненно важная. Появляется реальная угроза всесильному и безграничному владычеству разума, угроза взлелеянному разумом нигилизму, угроза разумному отношению как таковому. С этим «конфузом» надо было что-то делать, следовало решительно предпринять действия по восстановлению «порядка». Вот почему Базаров реагирует исключительно в рациональном ключе. Ему надо было доказать (и прежде всего самому себе), что его представления о человеке, о народе, об аристократах и «бабах» – это не выдумки и фантазии, и при этом как-нибудь обойтись без «художеств». Автору же надо было доказать, что «сухая теория» Базарова не имеет ничего общего с реальной сложностью «древа жизни» под названием человек. Нам же надо доказать, что и автор, и Базаров запутались в проблеме. Роман устроен таким образом, что Базаров в первой половине не видит себе равных, он фактически господствует. Его концептуальная слабость пока что выступает как идеологическая сила. « – Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с расстановкой, – тогда я изменю свое мнение о самом себе». (с. 432) «Высокое мнение» о самом себе, добавим мы. И еще добавим, забегая вперед: Базаров встретит человека, который не спасует пред ним, и этим человеком окажется он сам. Кстати, Фенечка также подтверждает, что «самомнение» Базарова небеспочвенно: « – Я и не знаю, о чем у вас спор идет (с Павлом Петровичем – А.А.); а вижу, что вы его и так вертите, и так… 323 Фенечка показала руками как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича. Базаров улыбнулся. – А если б он меня побеждать стал, – спросил он, – вы бы за меня заступились? – Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь». (с. 451) Его позиция, позиция человека без души и при холодном, здравом уме – неуязвима и победительна. Первый свой круг по маршруту Марьино – Никольское (имение Одинцовой) – «небольшая деревушка» родителей Базаров совершает триумфатором, и если бы в нем так и не встрепенулась душа, то этим бы все и кончилось. Но если бы не обнаружилась душа, то и роман писать бы не стоило, ибо писать роман можно только о душе, о чем же еще? Второй круг по тому же маршруту, однако с совершенно иными последствиями для обескураженного нигилиста, доказывает наличие некой спирали вверх, лестницы в небо. «Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть», – надменно заявлял Евгений Васильевич. Народ оказался прав: над чем посмеешься – тому и послужишь. Базаров изо всех сил цепляется за разум. В сущности конфликт из внешнего противостояния «аристократа – разночинца» переносится вовнутрь и субъектом противоборства оказываются все те же ум и душа. Базарову важно доказать (самому себе), что душу можно сломить, извести на корню всю эту поэтическую кислятину, которой кормили человечество на протяжении тысячелетий всякие Пушкины и Шуберты. Борьба начала поэтического и идейно-концептуального проходит весьма бурно. Через некоторое время после того, как Базаров вынужден был ретироваться из Никольского несолоно хлебавши, – от тех самых плеч, каких он «не видывал давно», – он уже внушает Аркадию, лежа «в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы»: «Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих пор! – а есть ощущения. Все от них зависит». (с. 432) (Кстати сказать: «Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка». (с.429) Конечно, это не Базаровым выписан пейзаж; но он явно поддался ощущениям. Это особенно впечатляет, если вспомнить разобранные на цитаты свидетельства отнюдь не поэтического отношения к природе Евгения: «Природа не храм, а мастерская», «порядочный химик в двадцать раз полезнее поэта» и проч.) Принципы являются всего лишь аранжировкой ощущений: это можно было бы считать неплохим определением идеологии, если бы сам Базаров не шарахался из крайности в крайность, абсолютизируя компоненты идеологии и тем самым опровергая свое «открытие». Раньше он не придавал никакого 324 значения ощущениям, а теперь вот – «принципов вообще нет». «Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу». Это означает: Базаров не лучше любого из Кирсановых, ибо одно ощущение не лучше любого другого. «Это все едино». Отсюда следует, во-первых, то, что Базаров был глубоко уязвлен любовью и ничего не мог с этим поделать; и во-вторых: «Какую клевету ни взведи на человека, он в сущности заслуживает в двадцать раз хуже того». (с. 433) Отчего? Да оттого, что человеку не под силу придерживаться даже идеологических (то есть в преобладающей степени иррациональных) принципов, не говоря уже о продуманной, научно выверенной стратегии поведения. Базарову унизительно было ощущать себя жалким дитем природы, наподобие ястребка или Павла Петровича, ощущать унизительное бессилие культуры, на которую он сделал ставку как на силу преобразующую. Любовь, душою рожденное чувство, превратило Базарова в подобие Павла Петровича, «идиота». 5 Конечно, это было нестерпимо. Базаров прекрасно видит «логику вещей», толкающую его «мироощущение» к полной капитуляции, и упорно стоит на своем: «О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров, – об одном прошу тебя: не говори красиво». (с. 433) Красота, любовь, поэзия стали главными противниками Базарова, несмотря на то, что он время от времени совершал глупости. Выбор у Базарова был, собственно, небольшой: ум всегда сокращает выбор до минимума. «Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами – кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я… (…) Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит… а я… чувствую только скуку да злость». (с. 430) Или становиться как все, переключаться в режим бессознательной жизни, «занять» ум хоть чемнибудь – словом, кутить или «беспокоиться о собственном ничтожестве». Разумеется, Евгений избрал последнее – уже потому, что осознающий смысл дилеммы лишает себя выбора. Выбирать можно было разве что форму «беспокойства». «Идиот» Павел Петрович идеализирует народ, отец – великодушничает и «кутит», «самоломанному» Евгению оставалась только «лихорадка работы» как форма активного сопротивления утрате мировоззренческой доминанты, как способ занять себя и унять беспокойство. Он работал «упорно и угрюмо». «Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь!» Любовь Базаров воспринимал как власть женщины над 325 мужчиной, природы над культурой – слабого над сильным. «А нас с вами прибили…» – сообщил он Аркадию. Вот в каком состоянии пребывал Базаров в тот момент, когда он решил приударить за смазливой «бабенкой» с «хорошенькими глазками» Фенечкой, Федосьей Николаевной. Это было не «формальное поступление в селадоны», конечно, как он иронически поздравил самого себя. Его не столько Фенечка интересовала, сколько природа любви. Он продолжал ломать себя и сопротивляться. Евгений в очередной раз изволил «чихнуть в небо», на все выдуманные ничтожными людьми высокие чувства – и заслужил упрек тонко чувствующей, одухотворенной женщины, которая и не помышляла ни о чем «таком» с доктором, беззаветно и бесхитростно любя своего Николая Петровича: «Грешно вам, Евгений Васильич», – шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте». (с. 452) Любовь правит миром, и Базарову не удалось отменить этот «отцовский» закон. «И совестно ему стало, и презрительно досадно». Наличие поэзии и любви по существу компрометирует разум и матерьялизм: вот позиция повествователя. Позиция эта, повторим, бедна по сравнению с действительной сложностью проблемы. Автору, загнавшего Базарова, а тем самым и себя в тупик, можно посочувствовать. Вновь и вновь мы возвращаемся к вопросу: какой ум выставил повествователь в качестве глупой мишени? Ответ прежний: тот ум, что точнее всего следует назвать интеллектом, который не чуток к запросам души, который игнорирует душу и тем самым обедняет человека. Повествователь не оригинален: с больной головы он банально валит на здоровую. Но этим психологическим трюком разум не посрамишь, разве что в очередной раз докажешь, что разумных аргументов в споре против разума у души нет и быть не может. А между тем еще один бдительный влюбленный «решился драться» с Базаровым на дуэли. Собственно, дуэль Павла Петровича с Евгением Васильичем никогда и не прекращалась, однако теперь уже речь шла о форменном физическом истреблении друг друга. Стадия «впрочем, мы друг друга понять не можем; я по крайней мере не имею чести вас понимать» сменилась стадией «мы друг друга терпеть не можем». Вначале на предложение «подраться» Базаров «вытаращил глаза»: « – Я бы мог объяснить вам причину, – начал Павел Петрович. – Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно…» (с. 453) И причина, разумеется, отнюдь не Фенечка. Она, точнее, украденный у нее Базаровым поцелуй, послужила великолепным зажигательным поводом, явилась последней каплей, выражаясь поэтически, переполнившей чашу терпения. Но истинной причиной, конечно, был тот ненавистный для мнившего себя аристократом тип отношения к жизни, который превратил Павла Петровича в аутсайдера и «лишнего», а настоящему 326 лишнему позволил по-хозяйски распоряжаться «благами» жизни – хорошенькими глазками и роскошными плечами. Пикантность ситуации даже не в том, что Павел Петрович, джентльмен, не имеет возможности открыто вступиться за честь оскорбленной дамы и полагает тайную любовь свою к Фенечке причиной дуэли. Пикантность ситуации в том, что Базаров и Кирсанов оказались, по сути, в одинаково «глупом» положении: оба были влюблены и отвергнуты. Только один из них из «принсипа» скрывал свои чувства, хотя и сделал их содержанием своей жизни, а другой – из «прынцыпа» ломал себя и презирал свою слабость, а заодно и всех «баб». Вот этот скрытый уровень дуэли и был главным: Базаров оскорбил не Фенечку, а любовь. Павел Петрович, оскорбленный в лучших чувствах, защищал культуру от «хама». Пострадавшим, как известно, оказался Павел Петрович, а побежденным – Базаров, которому пришлось покинуть гостеприимный кров имения Кирсановых и «ломать» себя уже вдали от Фенечки и Анны Сергеевны. Базаров терпит поражение за поражением. Вслед за историями с вышеупомянутыми двумя дамами он, «сам того не подозревая», выступил в роли комической в отношении Дуняши, служанки Федосьи Николаевны: он «сделался жестоким тираном ее души». (с. 447) Далее события развиваются таким образом, что у читателя не остается сомнений ни в том, что мачо Базаров оказался достаточно свиреп, ни в наличии у него действенной воли, ни в его полной капитуляции перед нежнейшим из чувств. Что ж, и овцы страсти живы, и волки разума удовлетворены? Как бы не так. Признание всесилия любви приводит не к союзу с разумом, а к посрамлению последнего. Повествователь ставит вопрос жестко, в базаровском духе: либо Евгений Васильевич превращается в «идиота» Павла Петровича, либо остается невменяемым нигилистом Базаровым, который в свое время не оставил почвы для компромисса. Вспомним броские, но поверхностные декларации «физиолога», за которые повествователь привлек его к ответу, нет, припечатал к позорному столбу безжалостно, око за око: «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество». (с. 341) Оказывается, есть таинственные отношения, оказывается, существует загадочный взгляд, оказывается, романтизм – это не чепуха. Однако Базаров каким-то непостижимым образом не стал богаче и сложнее. Союз души и ума не обогатил человека (не потому ли, что союз этот не состоялся?): здесь автор не увидел конструктивной возможности – и тем самым обеднил человека, обеднив «вопрос». За подобную постановку «вопроса» отвечает, конечно, не Базаров, а Тургенев. Иван Сергеевич не первый и не последний, кто ставит «романтизм» 327 души и «реализм» ума к барьеру и устраивает между ними дуэль. Или – или. Художественные мыслители странным образом останавливаются у роковой черты: они отчего-то убеждены, что разум никогда не примирится с глупостями, которые склонна творить загадочная душа. Разум, с их точки зрения, это некая бездушная машинка, которая непременно даст сбой, если столкнется с сумасшедшей логикой души. Вот поступки Базарова в отношении «бабенки» Одинцовой – глупость? Глупость. Следовательно, его могучий ум должен возмущаться, душить прекрасные порывы и выхолащивать, монстризировать человека. По-иному, якобы, разум не умеет. Что за миф, с чего вы взяли, господа? Где вы видели, чтобы человеком заправлял условный линейно-одномерный умишко, безжалостный и бескомпромиссный по отношению к своему несчастному обладателю, человеку? Такая постановка вопроса вольно или невольно оказывается антиразумной, направленной против разума. Художник вновь и вновь весь свой скромный разумный потенциал мобилизует на защиту души. Художественное мышление – это душевные порывы, облеченные в формулы и «законы». Такая забота о душе, которая превращается в умственный, то есть культурный труд, по видимости очень похожа на заботу разума, а по сути есть выражение страха и беспомощности. Все смешалось в художественной культуре, благодаря гениальному бессознательному мышлению творцов. Почему, скажите на милость, разум Базарова должен был непременно возмущаться против того, что бабенка с гладкими плечами завладела его сердцем? Что за логика такая гейдельбергская? Почему «лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца»? Это комплекс неполноценности, а не разум. Душа смотрит на мир со своей колокольни, разум потешается, любуясь колоритом добытых душой ощущений. Каждому свое. Почему наличие души является приговором разуму? Все было бы замечательно, но для этого надо уметь примирить душу и разум, психику и сознание, увидеть одну как предпосылку другого, разглядеть за логичнейшими декларациями (декорациями!) разума коварные комбинации иррациональных функций, а за пылко-нежными движениями сердца – жестокий глас и логику потребностей… Здесь уже начинается духовная глубина иного порядка. По Тургеневу же получается, что душа обзавелась своим умом, ручным и карманным, и этот сговорчивый душевный умок уже приходит в противоречие с умом генеральным, который гнездится черт ведает где, только не при душе. Душевный умишко не подчиняется генеральному умищу, оберегает человека от вмешательства этой зверской объективной логики, с которой человеку сладить невозможно, и все симпатии по-человечески мыслящих неизменно оказываются на стороне души. Вот и получается, что ум, которым руководствуется Базаров, фатально враждебен человеку. Это все равно что, скажем, монголам управлять Русью – и не считаться при этом с порядками 328 иного организма. Если базаровским умом обустраивать Россию, населенную бабами да кирсановыми (тоже «бабами», по меркам культурным), получишь концлагерь вместо милого дурдома. Разум отделен от человека, не человеком произведен и «запущен», а потому не считается со слабостями человека, порабощает человека, словно чужеземец или инородец, – вот что вы получаете в пакете с «матерьялизмом». Чувствуете, к чему дело клонится? Ум необходим человеку в той мере, в какой он оплодотворяет душу, держится при ней и не позорит, не компрометирует свою приемную маму (а лучше папу, если вспомнить, что роман называется «Отцы и дети»; ум – это ребенок). Излишек ума разрушителен и деконструктивен, для такого ума даже любовь – зло. Ergo: ум, отделенный от души, есть зло, ибо он «вертит» человеком в совершенно конкретных интересах абстрактной (то есть нечеловеческой) логики, а не грешного человека. И это так, sic, только так! Но: с чего вы взяли, что ум существует в человеке только как субстанция, отделенная от души? Ах, у вас ощущение такое? Так вот на этом милом и совершенно безобидно основании, на основании ощущения, выстраивается один из величайших в мировой литературе романов, где разум de facto изымается из сферы гуманистических ценностей и объявляется своего рода интеллектуальным идиотизмом. У логики души, господа, нет иной логики, кроме той, что определяется разумом. Все романы амбивалентны: из гуманных побуждений выстраиваются антигуманные соображения. Но это претензия уже не к Тургеневу, а к логике художественного сознания. 6 О Базарове так и хочется сказать: умная голова, да дураку досталась. Зачем себя ломать, зачем ломать сук, на котором сидишь? Люби себе на здоровье свою Одинцову или даже Дуняшу, живи себе как Аркадий Николаич с Екатериной Сергеевной, да понимай, что такая «отцовская», то есть «глухая», полурастительная жизнь (вегететативное существование, на языке физиологов) недостойна человека мыслящего, хотя и необходима для тела и души. «Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними». (с. 431) Золотые слова! Здесь в нигилисте просыпается на мгновение «гегелист», и его «прынцыпы» засветились живой диалектикой. Но этот тезис для Базарова проходной, он так и не стал магистральным. Искренне жаль. Так ругай – да возись. Проблема в том, что людей «подобных» Евгению, по словам отца его, отставного штаб-лекаря, «не приходится мерить обыкновенным аршином». И «это все в натуре вещей». Мнение это, судя по всему, разделяет и сам повествователь, и считает его едва ли не самым лестным, сказанным в романе о Базарове (за исключением разве что автохарактеристики: 329 «Ведь я гигант!»). Но чтобы просто «глухо» жить, не умирать, «с людьми возиться», надо соответствовать их «обыкновенному аршину», аршину души. А чтобы ругать их – прилагай к себе иной, необыкновенный аршин, аршин разума. Ругай, да возись – живи в двух измерениях сразу. Повествователь, опять же, к сожалению, просто напрочь исключил такую возможность. Гиганта мерить общим аршином: это ведь унижение какое! А то, что только так и можно выжить, – это как-то неромантично. Гиганты не мелочатся: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Вот и приходится гиганту в оправдание подобного «романтизма» «необыкновенно» умирать. «И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану». (с. 499) К этому мастерски сделанному эпизоду мы еще вернемся, а пока оценим такой момент. В XIX веке в России стали появляться гиганты – то есть умные люди, обладающие сильным характером. Сама подобная порода была настолько в диковинку, что к ним применили мифическо-циклопический масштаб. Обратим внимание: масштаб личности измеряли прежде всего аршином ума. И еще: культурная элита не сомневалась, что ум – главное достоинство человека. Век ХХ пошел куда дальше: если ты такой умный, почему такой бедный? Бедный Базаров! Он и не подозревал, с кем он вышел на дуэль, каким аршином будут мерить его, Евгения, «богатые» потомки. И по сравнению с таким народом Базаров действительно гигант, и у него были все основания прозорливо заявить: «Да вот, например, ты (Аркадий – А.А.) сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать… А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» (с. 432) К сцене смерти Базарова имеет смысл обратиться в разных отношениях и аспектах: как в любом высокохудожественном произведении, финальная сцена сводит концы с концами, блистает многомерностью, которой так не хватало при изображении типа лишнего, к которому принадлежал Базаров. Послушаем предсмертные речи главного героя «Отцов и детей» (это предпоследние его слова; последние, естественно, будут поэтическими): «Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет… Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось… вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать… Я нужен России… Нет, видно не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо продает… мясник… постойте, я путаюсь… Тут есть лес». (с. 499) 330 «Лес», «береза», «за деревьями видеть лес» – это особая тема. В контексте базаровских размышлений слова его можно истолковать следующим образом: тут, в жизни, есть место уникальному среди царства всеобщего (леса). И самое главное: кто нужен России, да и вообще любому социуму, «лесу»? Сапожник, портной, мясник – люди массовых и одновременно конкретных профессий, к которым можно приложить только обыкновенный аршин. А вот гигант – «нет, видно не нужен». Гигант – это ведь не политическая или философско-прикладная (идеологическая) проекция, метафора «большой пользы», которую могут принести обществу люди наподобие Базарова. До Евгения почти дошло (состояние его было полубредовым), что он духовный гигант, а для общества такие богатыри – обыкновенные лишние. Чтобы оценить масштаб и величие Базарова (за масштаб и величие – отдай жизнь!), нам предлагается в качестве неоднозначного фона классическая идиллия Аркадия. И жизнь, и слезы, и любовь, причем, взаимная. Приятная традиция отцов была с успехом продолжена, что, кстати сказать, вызвало у Базарова «злорадное чувство, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди». (с. 483) Ты сердишься, Евгений? Может, потому, что сам от себя скрываешь, насколько завидуешь возможности просто жить? Евгений на прощание наговорил своему другу много пылких слов, переходящих в туманные декларации: «для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. (Между прочим, Марьино «по крестьянскому наименованию» было известно как «Бобылий хутор». Был Бобылий хутор, стала цитадель любви… Жизнь развивается по своим законам. – А.А.) В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится»; «а мы драться хотим», «нам других ломать надо» etc. (с. 485) Что за «наша жизнь», что за «наше дело»? При чем здесь драки и заламывания других? Не будем делать вид, что Базаров не произносил этих слов и что в них не сквозят политические по преимуществу аллюзии. Произносил, сквозят. Собственно, если перевести их на язык бреда, они означают: я нужен России, а ты, Аркадий Николаич, не нужен. Разумеется, дело обстоит прямо противоположным образом. Аркадий, рьяный хозяин, необходим России (да и Аргентине, между прочим, не помешал бы), равно как и мясник с портным. А вот романы, тем не менее, будут писать о никому не нужных Базаровых… Тут есть мысль. К ней мы еще возвратимся, а сейчас отметим: Базаров в сцене последнего прощания с Аркадием оказался недостоин сам себя. Точнее, этот упрек стоило бы переадресовать повествователю, но поскольку слова вложены в уста Базарова, пусть он за них и отвечает. «Другие слова» у Базарова, несомненно, нашлись бы, однако они шли под рубрикой «романтизм» и «рассыропиться» (с. 485), а потому Базаров их не произнес, что означало: бой с «романтизмом», с логикой души продолжается и нигилизм не сдается. И все же Базаров произнес 331 «другие слова», золотые слова, уже почти «романтические». «Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было». (с. 484) Пустота – это, понятно, предстоящая семейная жизнь Аркадия по древнему сценарию отцов, а «сено», ясное дело, – Катерина Сергеевна. Если убрать полемический задор и губительную иронию, получается мудрый рецепт. Врач, исцелись сам: «жизненный чемодан» надо было набивать, и не лихорадкой работы или пустой дракой с «романтизмом», а, к примеру, тем же браком, ибо «наше дело» – это и была поза и самый что ни на есть «романтизм». Переделать мир на разумных основаниях, под разумную жизнь – куда хватил Евгений Васильевич! Чемодан вместо него набил повествователь, заставив-таки «рассыропиться» свирепого мечтателя, от самого себя скрывающего тоску по небу. Но это будет, как известно, в финале, когда к умирающему Базарову придет «великодушная» Анна Сергеевна. 7 Однако еще до того, как народ физически передаст доктору Базарову смертельную дозу холеры, которая и «выдернет» его из рядов живущих, народ на уровне идейном отсечет от себя умника Евгения «Васильева». Вообще внутренний сюжет развивается многопланово и без пауз, что говорит о сосредоточенности повествователя именно на магистральном смысле. «Самоломанный» Базаров, вернувшись к родителям, ибо больше податься было некуда, прибегнул к испытанному средству: лихорадке работы, заболеванию работой, трудоголизму, как сказали бы сейчас. Клин клином вышибал, одной заботой – другую. Однако «лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества (…)». (с. 487) Подобно английскому сплину? Русская хандра? Во всяком случае «искать общества» – это хороший симптом для лишнего, обнадеживающий признак. «Общество» требует душевного общения, а лишнему, дабы не пропасть, и надо развивать душевные склонности. Кончилось тем, что Базаров в прямом смысле пошел в народ, и хождение получилось весьма поучительным. Между прочим, вся предпоследняя, XXVII глава, где от повествователя требовалась солидарность с Евгением в форме трагииронии, сделана с подлинным блеском. Позволим себе пространную цитату, чрезвычайно колоритную и необходимую нам в контексте наших размышлений. Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он («бедный Василий Иванович» – А.А.) надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, 332 здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: Время верное приходит, сердце чувствует любовь… Вот тебе и прогресс». Явная корреляция с собственным внутренним состоянием… «Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, – говорил он ему, – излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории, – вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим… тоже, потому, значит… какой положон у нас, примерно, придел». – «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? – перебивал его Базаров, – и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?» – Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, – успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью, объяснял мужик, – а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику». Это в продолжение темы «Базаров и народ». Кто кого не понимает? Чтобы закрыть тему, продолжим цитату: «Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси. – О чем толковал? – спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. – О недоимке, что ль? – Какое о недоимке, братец ты мой! – отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было и следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какаято небрежная суровость, – так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает? – Где понять! – отвечал другой мужик и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового…» (с. 488) Странно, что эти диалоги трактуют часто в пользу народа, обнаруживая за косноязычными репликами живой и бойкий народный ум. Народ суров – но справедлив. Базаров не обнаружил в народе ничего, кроме непроходимой тупости, да звероватой хитрости. Собственно, ничего иного там обнаружить было невозможно, разве что смекалку на бытовом уровне, но это не относится к «воззрениям на жизнь». Повествователь решил примерить к Базарову народный аршин: «шут гороховый». Но эта глупая примерка более характеризует повествователя, да и сам народ, нежели «презрительно пожимавшего плечом» Базарова. Вопрос: зачем «ломать» себя с целью излечения от любви, если ясно, что России, то бишь народу, ты и твой носящий общественный характер нигилизм не нужны? Очевидно, процесс «ломки» приобретал все более и более 333 личностно-духовный характер, Базаров все более становился лишним именно вследствие своего «всероссийского», и даже всемирного («что такое ваш мир»? мир обычного, не рассуждающего человека, точнее, гораздого «рассуждать» только «о своих делах и нуждах») нигилизма. «Впрочем, он (Базаров – А.А.) нашел, наконец, себе занятие». (с. 488) Смысл достаточно бессмысленного занятия состоял в том, что Евгений стал «участвовать в практике» отца, «не переставая в то же время посмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его». (с. 489) «Дело» сменилось «занятием», но и это вызвало восторг простодушнейшего Василия Ивановича: «Слава богу! перестал хандрить! – шептал он своей супруге (…)». (с. 489) На самом деле Евгений только начинал хандрить, что означало: эксперимент по внедрению лишнего в тело народное успешно провалился. Результат подтвердил: лишний как тело инородное отторгается и не приживается. Бесполезно делать из Базарова Героя (в смысле Гиганта на сцене общественной). Он не герой по сути своей. Он антигерой ( и в этом смысле гигант). Он вырулил-таки на стезю классического и полноценного лишнего, а уж что делать в финале с лишними – хорошо известно. Смерть нужна затем, чтобы подтвердить нежизнеспособность их жизненного credo и уберечь нормальных «детей» от духовного разложения. Особенно трогательно и эффектно запоздалое прозрение: оно всегда служит аргументом в пользу того, что «с ними что-то не так». Что, конечно, не может не радовать обыкновенного морально устойчивого читателя «с принципами». Начать с того, что заразившийся Базаров посоветовал отцу «воспользоваться тем, что в вас (вместе с матерью – А.А.) религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу». Евгений в любой ситуации мыслит категориями мировоззренческими («воззрениями на жизнь»). «Матерьялизм» и здравый смысл Базарова при нем – следовательно, не о деградации и сочувствии по этому поводу идет речь; речь идет о гигантской силе духа. Далее обреченный сын заявил обезумевшему от горя отцу: «Ты мне сказал, ты послал за доктором… Этим ты себя потешил… потешь и меня: пошли ты нарочного…» (с. 493) Читатель уже знает: к Одинцовой (одна такая, неповторимая) Анне Сергеевне. Потешить себя – это ведь и означает набить жизненный чемодан, лишь бы пустоты не было. Значит, все-таки есть чем набивать, есть чем потешить душу… Это не такой уж пустяк, не всякий лишний должным образом относится к «пустоте». А теперь послушаем Базарова, обращающегося к «ангелу с неба» и «благодетельнице» (это уж восторженная истерика Василия Ивановича, с. 497). « Ну, что ж мне вам сказать… я любил вас! (…) Скажу я лучше, что – какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая… (…) Великодушная! – шепнул он. – Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая… (…) Прощайте, 334 – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. – Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет… (…) И довольно! (…) Теперь… темнота…» (с. 499-500) Кто это, чьи это исполненные поэзии речи: Пушкина, Шуберта или обновленного Базарова? В жизни есть место поэзии и любви, теперь мы это знаем; есть место и разуму. Должно быть место и лишнему – но пока что нет такого уголка. Зато «есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России…» Кто не знаком с этим строгим печальным реквиемом, венчающем поэму о Базарове? Странно: все эти повествования о странных людях сбиваются либо на романы в стихах, либо на стихотворения в прозе. Социальный роман переводит свое смысловое течение в план вечный и бесконечный: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» (с. 505) О Базарове и следует говорить в таком ключе и контексте. А теперь попробуйте что-либо подобное сказать о грансеньоре der Herr Baron von Kirsanoff, о Павле Петровиче, разумеется. «Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья» – ну, и дай Бог ему здоровья. Тело подлечит, а с духом у него никогда проблем не было. Кирсанов не годится в герои романа, героями их делают базаровы. Вот почему спустя шесть месяцев после отхода Базарова в мир иной, на Земле, в частности, в Марьино, «стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледноизумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок». (с. 500-501) Природа не мастерская, а храм – но это уже не в упрек Базарову, а в память о нем. Нет Базарова, который, вроде бы, всем мешал, – и всем становится холодно. Неуютно. А тем, кто знает цену Базарову, – просто плохо. Тургенев многое угадал в природе человека. И все же Ивану Сергеевичу, если вести разговор на уровне им же и заданным, не избежать упреков по двум позициям. Первое. Объективно, что как бы следует из «натуры вещей», разум противостоит душе, и посему выставлен безрассудной и опасной силой. Поскольку не было произведено дифференциации между разумом и одной из его функций, интеллектом (куцым, неполноценным разумом), все претензии к последнему в полной мере предъявляются и к первому. И получается: главное культурное достижение – избежать варварского влияния разума. Остается «красоте» спасать мир и думать об этом приходится душе, кому ж еще? 335 Второе. Претензии к личности, словно и это не подлежит обсуждению, предъявляются от имени интересов социума. Тургенев «по умолчанию» делает социум абсолютной и безоговорочной точкой отсчета. А здесь всегда картина неизменна: личность плоха уж тем, что она личность; чем крупнее личность – тем сложнее применить ее в качестве универсального социального критерия, того самого общего и обыкновенного аршина. Личность – это всегда в той или иной мере диверсия против социума. Судить по социально выверенным и значимым критериям о качестве личности – все равно, что по длине хвостового оперения определять стати матерого волка. Аршины не совпадают. Личность – величина многовекторная и многоаршинная. Вот почему угрюмый глас народа, сливающийся с аристократическим ворчанием, едва ли стоит всерьез воспринимать как приговор Базарову. Собственно, мы говорим об «ошибках» Тургенева в отношении лишних не потому, что это его личные промахи. Напротив, это именно типичные заблуждения, которые Тургенев талантливо усвоил и присвоил. Как типичен лишний, так типичны и мифы, роящиеся вокруг него; некоторые из них воспроизводятся в «Отцах и детях», романе типично европейско-аналитическом с исключительно русским вниманием к проблемам души. Сам характер «претензий» к Ивану Сергеевичу Тургеневу говорит о том, что перед нами художник экстра-класса. Мировой уровень поднятой им проблемы не вызывает сомнения. Художественное качество сотворенной им модели позволяет русской литературе гордиться гением всемирного масштаба. Тургеневу, собственно, удалось стать одним из тех, кто задает и определяет всемирный уровень Не так уж плохо для писателя, затронувшего тему, в пучине которой угадываются остовы затонувших титанов. 336 ЧАСТЬ 8. И.А. ГОНЧАРОВ 8.1. АНДРЕЙ ОБЛОМОВ: ПОДСТУПЫ К ИДЕАЛУ 1 Илья Ильич Обломов – образ многоплановый, противоречивый, выявляющий свою подлинную глубину не сам по себе, а в системе образов романа, устроенного весьма диалектически. Скажем больше: не только (и не столько) в системе образов романа, но и в контексте разрабатываемой русской литературой типа лишнего. Парадокс Ивана Александровича Гончарова, этого мсье де-Леня русской словесности, состоит в том, что один из самых русских романов сотворен очень даже на европейский манер. Что само по себе наводит на размышления. Иными словами, в романе выведен «русский как культурный тип», увиденный глазами европейца, а не, скажем, китайца. Это обстоятельство воспринимается как само собой разумеющееся, а между тем европейская система координат в романе «Обломов» сама ставится под сомнение. По крайней мере весьма существенные и значимые европейские ценности подвергнуты писателем по-европейски дотошному анализу. Уже эти предварительные замечания, если они верны, свидетельствуют о том, что перед нами художественное полотно, не лишенное подлинной глубины и замешанное на концепции не выдуманной, не высосанной из пальца, а предложенной самой жизнью. Это-то нам и нужно. И.А. Гончаров – мастер концептуального романа, а это уже европейская традиция, предполагающая высокий культурный уровень. Русские же сами по себе стали культурной загадкой для просвещенной Европы, и даже в определенном смысле конструктивной альтернативой по отношению к старой доброй, закосневшей в рационализме и прагматизме Европе. Илья Ильич Обломов в данном контексте – базовый тип в жизни и литературе, детище культуры, не оторвавшейся от натуры. Роман «Обломов» будет интересовать нас как своего рода пересечение культурных трасс: с одной стороны, как противопоставление пылкого русского ума суровому и сухому германскому (читай – европейскому), а с другой – как своеобразная ниша в уникальной саге о «лишних», которую творила русская литература на протяжении XIX века. Удивительное дело: Илью Обломова, обладателя «золотого сердца», мечтателя и рыцаря любви, горячего поклонника красоты и поэзии, достаточно часто причисляют к тем же лишним, в редкую толпу которых угодил и Евгений Базаров, называвший красоту, поэзию и любовь не иначе, как «гниль», «художество», «чепуха». На первый взгляд у добрейшего Ильи Ильича куда больше общего с тем же грансеньором и сибаритом Павлом Петровичем Кирсановым, нежели со свирепым мачо Базаровым. И тем не менее по какому- 337 то главному, решающему признаку Обломов и Базаров попадают в лишние. С самого начала стоит разобраться: или признак не тот, или Обломов не имеет к лишним никакого отношения, или Базаров оказывается лишним в компании Онегина, Печорина и Обломова. «Лишний», конечно же, в почетной духовной номинации – это тот, кто не знает, что ему делать, это понимание минус практика (трактуемая как механизм сцепки с социумом). Остается голое понимание, понимание в себе, понимание ради понимания. Понимание странным образом обрекает на бездействие, хотя лишний отдает себе отчет в гибельности подобного расклада. Один в поле, не воин. Короче говоря, фатальная невозможность конструктивной деятельности на благо общества при наличии благих намерений – вот что такое лишний. И рад бы делать-действовать, да вижу бесплодность, бесполезность дел. Полезнее, если на то пошло, ничего не делать. Обломов, как мы вскоре убедимся, идеально соответствует этой сомнительной номинации. Однако Базаров, кипучий и могучий, дающий фору даже Штольцу, он-то как влип в лишние? Как бы нам не запутаться. А мы и не запутываемся. Да, существует пунктик, который активно противоречит причислению Базарова к лишним. Деятельностная активность, пусть и разрушительная, credo Базарова – и пассивная созерцательность, болезнь лишних: согласимся, тут есть нюансы. Это, мягко говоря, не одно и то же. Собственно, практическое начало и позволяет (заставляет!) трактовать «нигилизм» Базарова как род деятельности в противовес безысходной и бесплодной рефлексии «отцов». «Лихорадка работы» или горячка деятельности – это знак и симптом востребованности, нужности и необходимости. «Чем-чем, а болтовней не грешны», – заявляет Базаров. Нигилизм его непосредственно затрагивает сферу социальной практики, хочется думать – политики. Политически активный лишний – это что-то новенькое в типажах отечественной словесности. Скорее уж Павел Петрович на таком фоне выглядит лишним. Однако (и это во-первых) при ближайшем рассмотрении активность Базарова оказывается познавательного, то есть все того же рефлектирующего, пусть и несколько идеологизированного толка. А вовторых, как только Базаров поумнел до критической черты, от активности его и следа не осталось. Так что не будем путать, скажем, одномерного (хотя и активного) Штольца и многомерную фигуру нигилиста. Активность и нацеленность на дело – это форма, но не суть созерцательного отношения. Бывает. Если это не так, придется ставить в вину Печорину его авантюрноприключенческую активность, Онегину – философскую и т.д. Активность активности рознь. Реально востребуемая обществом активность – вот чего не достает Базарову и чем в избытке наделены все Кирсановы. Активность же Базарова – это протест против бессмысленной, с его точки зрения, но актуальной и поощряемой активности «отцов». 338 Послушаем Базарова: « – Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем. (…) – Однако позвольте, заговорил Николай Петрович. – Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить. – Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить». (Роман цитируется по изданию: Тургенев И.С. Собр. Соч. в 6-ти томах. – Т. 2, с. 356357. – М., «Правда», 1968) Звучит страшновато. Ломать не строить, беды не оберешься. Но что значит ломать, отрицать, разрушать, «творить» нечто противоположное созиданию? Это значит критиковать и анализировать. «Революция», которой, якобы так несет от Базарова, требует кропотливой созидательной оргработы, черновой рутинной «пахоты» с людьми. Базаров же – типичный идеолог, харизматический лидер без склонности к вождизму. Не демагог – это да, но и не подпольщик. Таким образом, Базарова и Обломова объединяет критическо-аналитический подход, они крепки разрушительным умом – и теряются перед задачей и перспективой создать что-либо достойное внимания. Неужели и вальяжный, не способный муху обидеть Обломов отчасти «нигилист»? «Золотое сердце» – и жуткий нигилизм? Увы, лучшим основанием для бескомпромиссного нигилизма во все времена были именно славное сердце, добрая душа и благие намерения. Обломов в каком-то смысле покруче, порадикальнее рыкающего Базарова будет. Давайте заглянем в роман. Чему посвящена вся «часть первая» лучшего творения И.А. Гончарова? Лени Обломова? Это какой же ленью мысли надо обладать, чтобы увидеть в специфической жизнедеятельности Обломова одну только лень, пусть и социальную, помещичью по своему происхождению. «Обломовщина» – это лень протухшего помещика, Оболта-Оболдуева? И все? И стоило ради такого героя роман писать? Поставим вопрос более профессионально: создашь ли на таком герое (антигерое, сатирическом герое) роман? Нет, не создашь, даже если очень захочешь. Ни конфликта, ни сюжета не выжмешь из плоского и ленивого мировидения. А в романе есть конфликт, есть верно схваченная культурная ситуация, которой дано обманчиво пренебрежительное название «обломовщина». В конце романа обломовщина названа будет болезнью, точнее, «причиной», по которой «погиб, пропал ни за что» «товарищ и друг» Штольца Обломов. «, – А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и – пропал!» Уточним: это мнение Штольца. (Роман цитируется по изданию: Гончаров И.А. Обломов. – Л., «Наука», 1987. – С. 382. Жирным шрифтом в цитатах выделено мной, курсив – автора. – А.А.) Но Обломов как духовная 339 болезнь – это одно, а как свойство характера или, лучше сказать, социальный типаж – нечто совсем иное. 2 Итак, часть первая. «В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов». (с. 7) К Обломову, лежащему на знаменитом диване и «завернутому» в знаменитый «халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный», держащему рядом с постелью еще более знаменитые туфли, «длинные, мягкие и широкие», – к знаменитому Илье Ильичу, которого «приливы замучили», вошел «блещущий здоровьем» некто Волков. «Блещущий» господин был от портного, в рейт-фраке (для верховой езды). На вопрос хозяина «а вы как поживаете?» ответ был вполне определенным: « – Я? Ничего: здорово и весело, – очень весело! – с чувством прибавил молодой человек». (с. 17) Илья Ильич, как известно, не просто лежал, а все составлял в уме некий план. Так вот визит Волкова был соблазном и искусом мира светского, так сказать, контрпланом. Мсье Волков искренне предлагал Обломову вариант жизни «очень веселой», где развлечения и становятся смыслом существования. Ни на что другое просто не остается времени и сил. Это особый образ жизни, предполагающий порхание из гостиной в гостиную. Светские утехи требуют энергии и энтузиазма. « – Вы будете бывать?» – вопрошает веселый Волков. « – Нет, я думаю, не буду», – отвечает самоуглубленный и критически настроенный Обломов. « – И вам не лень мыкаться изо дня в день (бывать, слоняться по гостиным – А.А.)?» – интересуется любезный хозяин. « – Вот, лень! Что за лень? Превесело! – беспечно говорил он (Волков – А.А.). – Утро почитаешь, надо быть au courant (в курсе – франц.) всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитом, где давно не был; ну, а там… новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен… Начинается лето; Мише (приятелю – А.А.) обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champetres (сельские балы – франц.). С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы… Ах!.. – и он перевернулся от радости. – Однако пора… Прощайте, – говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало». (с. 19) «И он исчез. «В десять мест в один день – несчастный! – И это жизнь! – Он (Обломов – А.А.) сильно пожал плечами. – Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть в театр, и влюбиться в какую-нибудь 340 Лидию… она миленькая! В деревне с ней цветы рвать и кататься – хорошо; да в десять мест в один день – несчастный!» – заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой». (с. 20) Не кажется ли вам, читатель, что лежанье Ильи Ильича отдает тем, что может быть названо осмысленным протестом против суетного галопа по жизни, против «суеты сует»? Уже в другом месте, в разговоре со Штольцем, Илья Ильич тонко заметит: «Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно – не занимает это их; сквозь эти крики виден непробудный сон!» Сон чего? Ума и души. Крики и суета – это форма непробудного сна, а сон Обломова – это своего рода созерцательная активность, жизнь ума. «Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему!» – продолжает рассуждать Обломов. Скука, сон и пустота – вот содержание внешней активности «блещущего» Волкова. Впрочем, не будем забегать вперед. У нас еще будет время над этим задуматься. Волков был не первым и не последним соблазном судьбы. «Вошел новый гость». «Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, (..) с утруженным, но спокойно-сознательным выражением в глазах» – это был старый сослуживец Судьбинский, уверенно оперяющийся социальный лидер, недавно, «к Святой», назначенный начальником отделения. « – Гм! Начальник отделения – вот как! сказал Обломов. – Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь. – Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал за отличие представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду… – Приходи обедать, выпьем за повышение! – сказал Обломов. – Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад – адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем. (…) – Ну, что нового у вас? – спросил Обломов. – Да много кое-чего: в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»; формулярных списков по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений. Нашу комиссию закрыли… Много!» (с. 21) «Утруженный» Судьбинский не вызвал в душе Ильи Ильича чувства большой зависти. «Увяз, любезный друг, по уши увяз, – думал Обломов, провожая его глазами. – И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает… У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства – зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, 341 многое… А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома – несчастный!» Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению». (с. 23) Обломов весьма избирателен в вопросах карьеры, времяпровождения, собственно, жизнепровождения, соотнося их с потребностями ума, воли, чувства. Ай да Илья Ильич! Браво, ленивец Обломов! Это ведь уже на философию тянет: человеку необходима цель, для реализации которой должен быть востребован весь потенциал духовности. Вот почему мы лежим и пребываем в восточной неге: цель не та-с. Нет цели, нет точки приложения сил – и силы хиреют: ум кипит в бездействии пустом, воля атрофируется, чувства блекнут. Так и хочется после этого Илью Ильича сделать предводителем «лишних». Но что-то здесь не так – и мы даже укажем, что именно. Для лишнего отсутствие цели, своей «звезды» – источник трагизма, пункт, с которого начинается разрушение личности, деградация, черта, за которой приходит ощущение «лишности», ненужности, бессмысленности. Обломов же «испытал чувство мирной радости». Отчего же Онегин с Печориным тяготятся бездельем от «бесцелья», от жизни «без цели и трудов», а Обломов испытывает чувства «радости» и «гордости»? Оттого, очевидно, что у Ильи Ильича цель все же есть, и она никак не связана с необходимостью деятельности, служения на пользу общества. Обломов – это редкий для русской литературы XIX века вариант преодоления комплекса лишнего, преодоление способом преоригинальным. Но всему свое время. К способу этому надо подойти, к нему очень тонко подводит «литератор» (повествователь), рассказывающий историю «обломовщины» со слов Штольца. Не будем торопиться, тем более, что Судьбинского сменил «худощавый, черненький господин», одетый «с умышленной небрежностью». Это был литератор Пенкин. «У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать!» Вот очередное поприще, открытое судьбой. Не хочешь веселиться, не желаешь корпеть над бумагами, делая карьеру, – пиши. Тут и ум, и чувства, и воля пригодятся. Правда, необходим еще такой пустячок, как талант. Но нам сейчас важны требования, которые предъявляет «тактичный» Обломов к искусству. Пенкин считает, что сверхзадача литературы – «обнаружить весь механизм нашего общего движения», интересоваться «одной голой физиологией общества», «карать, извергнуть из гражданской среды» порок; «не до песен нам теперь..». Литература превращается в инструмент исправления нравов, в кнут, в санитара общества с функциями оперативными, насущными и далекими от «прекрасного». Обломова же интересует «гуманитет». (с. 25) « – Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите 342 писать! – почти шипел Обломов. – Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, – тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову… (…) Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию. (…) Человека, человека давайте мне! – говорил Обломов, – любите его… (…) Извергнуть из гражданской среды! – вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. – Это значит, забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? – почти крикнул он с пылавшими глазами». (с. 25-26) Природа человека интересует философа и трибуна Обломова, «высшее начало», и в соответствии с пониманием природы человека (весьма глубоким, заметим: диалектический синтез «головы», «сердца» и «поэзии», то есть, «истины, добра и красоты» – это высший уровень) он формулирует цель. Это будет чуть позднее, когда его посетит Штольц. А пока что Илья Ильич так отреагировал уже традиционным внутренним монологом на уход литератора: «Ночью писать, – думал Обломов, – когда же спать-то? А поди, тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться… И все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра; праздник придет, лето настанет – а он все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!» Резюме, как видим, тоже традиционное и неслучайное, хочется сказать, глубоко выстраданное, но это никак не вяжется с обликом «беззаботного, как новорожденный младенец» Обломова: посетители демонстрируют разные лики человека «несчастного», ибо бездуховного, «тратящего» ум, воображение, натуру, наконец, на нечто суетное, недостойное собственной божественной природы. Эпицентром, связывающим разные модели культурного бытия, величественно выступает скромная фигура лежащего на диване Ильи Ильича. 3 Прежде чем Штольц заставит сформулировать своего друга цель и программу жизни, «литератор» (повествователь) с умыслом сообщает нам кое-какие сведения из жизни «дворянина родом, коллежского секретаря чином, безвыездно живущего двенадцатый год в Петербурге» (следовательно, отчасти роковые события романа будут приходиться на тринадцатый, «несчастный» год 343 пребывания в Петербурге) Ильи Ильича Обломова. Сведения касались главным образом духовной биографии, истории становления души и мировоззрения. Чувствуется, что литератор – не чета Пенкину, он тоже озабочен «гуманитетом», поэтому, очевидно, и загорелся образом Обломова и образом его мыслей. Итак, мы узнаем, что Обломов «по смерти отца и матери» «стал единственным обладателем трехсот пятидесяти душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии». «Тогда еще он был молод, и если не сказать, чтоб он был жив, то по крайней мере живее, чем теперь; еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал много и от судьбы, и от самого себя; все готовился к поприщу, к роли – прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе; наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастие». (с. 46) «Поприще в службе» («служить бы рад!»), «роль в обществе», «семейное счастие» – это несколько иная «цель», нежели халат, диван, туфли, не правда ли? Что же случилось с Ильей Ильичом? Ничего особенного, если не сказать просто ничего. «Но дни шли за днями, года сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло тридцать лет, а он ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад». с. 46-47) Лучи сменились тусклыми точками – и ничего не случилось? Литератор лукавит или не понимает, что ежели меркнет свет идеалов, значит ты уже не стоишь «у порога своей арены»; это значит, что арена тебе уже не нужна. Значит, случилось духовное событие, называемое переоценкой ценностей. Способ такой переоценки чаще всего – разочарование, цена – утрата иллюзий, результат – духовное взросление. Или Обломов пошел иным путем? Нет, конечно, он пошел тем самым путем. Мы же только что читали внимательно первую главу (и продолжаем читать). Поприще не состоялось. Но «судьба» (объективные обстоятельства, не зависящие от желания и воли субъекта) тут виновата или «сам» Илья Ильич? На самом деле это вопрос вопросов… «Жизнь в его (Обломова – А.А.) глазах разделялась на две половины: одна состояла из труда и скуки – это у него были синонимы; другая – из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще – служба на первых порах озадачила его самым неприятным образом». А именно: «воспитанный в недрах провинции», Обломов полагал, что служба должна быть проникнута приятным и мирным «семейным началом». А в глазах его «замелькали» «пакеты с надписью нужное и весьма нужное», его заставляли «писать тетради в два пальца толщиной, которые, точно на смех, называли записками». Короче, «все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить? жить?» – твердил он в тоске». (с. 47 344 Если бы Илья Ильич запротестовал, запрезирал поприще и светскую толпу (общество), он стал бы реальным кандидатом в лишние. Однако он избавился от службы способом комичным, хотя, надо признать, и радикальным: не в силах вынести ожидания кары со стороны начальства (чиновник Обломов отправил «нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск»), он прислал медицинское свидетельство, в котором сказано было, что «коллежский секретарь Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка оного (…), а равно хроническою болью в печени (…), угрожающею опасным развитием здоровью и жизни больного, каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность. Посему, в предотвращение повторения и усиления болезненных припадков», нижеподписавшийся доктор постановил: «я считаю за нужное прекратить на время г. Обломову хождение на службу и вообще предписываю воздержание от умственного занятия и всякой деятельности». (с. 48) Уж больно смахивает на исполнение желаний: доктор словно читал в душе больного или писал под его диктовку. И Обломов подал в отставку. Способ избавления от службы становится бегством не от общества, а от себя, от ощущения собственной неправоты. «Роль в обществе удалась было ему лучше. В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние, молодые годы», когда «глаза подолгу сияли огнем жизни, из них лились лучи света, надежды, силы», – «в эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц, пропасть многообещающих улыбок (…)». «Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты». (с. 49) «Так разыгралась роль его в обществе. Лениво махнул он рукой на все юношеские обманувшие его или обманутые им надежды, все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость бьется сердце». (с. 51) Методом простого исключения легко «вычислить», что Илье Ильичу могло улыбнуться разве что «семейное счастие». Так, собственно, и был поставлен вопрос. «Изменив службе и обществу, он начал иначе решать задачу своего существования, вдумывался в свое назначение и, наконец, открыл, что горизонт его деятельности и житья-бытья кроется в нем самом. Он понял, что ему досталось в удел семейное счастье и заботы об имении». (с. 53) Таким представлялся ему «узор жизни». И он, не щадя воображения своего, днями напролет пролеживал на диване, живя «в созданном им мире». Мечтал. «О способностях его, об этой внутренней волканической работе пылкой головы, гуманного сердца знал подробно и мог бы свидетельствовать Штольц, но Штольца почти никогда не было в Петербурге». (с. 56) Далее идет знаменитый «Сон Обломова» (глава IX), окунающий нас в пучину архетипов. Не станем разбирать эту жизнь, похожую на сон, нам это ни к чему; скажем только, что трудно согласиться с теми «социологически 345 ориентированными» толкователями сна сего, которые видят в той безмятежной селянско-помещичьей идиллии исключительно «социальные», по своему происхождению, корни обломовской лени. Такая прикладная, узкоспециальная трактовка не то чтобы губит, скорее, игнорирует роман. (Хотя неверным мнением загубить роман в свободолюбивое сегодня так же почетно, как и коммунистическое вчера. Люди не меняются, что ли? С другой стороны, оно и неплохо: если люди в принципе не меняются, Обломов и Штольц еще долго будут актуальны, а может, даже вечно, если будет кому читать подобные романы.) Лень Обломова – категория мировоззренческая, и у нее много источников и составных частей. Человек – дитя природы. При чем здесь мурло помещика и благословенно-золотые времена крепостного права? Человек – и природа: тема взята пошире, в руссоистском ключе (вот вам колоссальный культурный архетип). Жить нормально, даже в Петербурге, невозможно, если не принять к сведению, что ты дитя природы. Илюша впитал в себя эту истину сызмальства и не через сознание, а через душу, бессознательно. Природа пестовала и лелеяла его женскими руками мамок и нянек, матушки и т.д. Природа оформила свой незыблемый диктат в форме традиций, традиционного уклада жизни. Что сберегает народ-богоносец в виде традиций? Свою приверженность бездумной, то есть некультурной жизни. Народная культура – это бессознательная культура, ее можно только впитать, но научиться ей, рационально перенять как сложный культурный навык – невозможно. Илюша и впитывал. Обломову снится: «он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его, ни с того ни с сего, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Милитрисе Кирбитьевне. Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ. (…) Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искрення, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка. Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда 346 остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы». (с. 92-93) «А как жили взрослые в Обломовке? Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак: это казалось им очень просто и ясно. (…) Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в Обломовке. О чем же было им задумываться и чем волноваться, что узнавать, каких целей добиваться?» (с. 96-97) «Они с бьющимся от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай – именины, свадьба и т.д. (…) … и так жизнь по этой программе тянется беспрерывной однообразною тканью, незаметно обрываясь у самой могилы». (с. 98) Какого рода труд и практика поощрялись в такой традиции? Пожрать и поспать – подальше от сознания, поближе к природе. Растительная, бездуховная жизнь, но зато очень душевная. «Вблизи была Обломовка: там вечный праздник! Там сбывают с плеч работу, как иго (…)». (с. 124) Такова культурная почва, на которой произрастала обломовщина. 4 Наконец, в самом финале части первой в гости к Илье Ильичу пожаловал Штольц. После знаменательной встречи друзей начнется новый этап в жизни Обломова, этап реализации долго вынашиваемой им цели. Кстати, а кто такой Штольц? А Штольц олицетворяет собой начало противоположное Обломову и обломовщине, начало деятельностное, практическое (вот так нехитро, порусски, по-обломовски окрестил работягу Гончаров полунемцем, Андреем Штольцем: даже отрывистым звуковым залпом намечается оппозиция бесконечно льющейся мелодии из сонорных: Илья Ильич Обломов…). Осмысленная созерцательность для Штольца такой же порок, как для Ильи Ильича бессмысленная деятельность. Воспитанием Андрюши занимались отец, Иван Богданыч, и мать. Смысл воспитательных мероприятий отца был крайне прост: он приучал сына к труду, к делу. В доме Штольцев немецкий культ труда почитали даже больше, нежели культ ничегонеделания в доме «благородных», то есть дворян Обломовых. Матери «не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание», которое, словно неразменный капитал, передавалось 347 по наследству от поколения к поколению: Иван Богданыч «взял колею от своего деда и продолжил ее, как по линейке, до будущего своего внука, и был покоен (…)». Мать же «бросалась стричь Андрею ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала в городе курточки; учила его прислушиваться к задумчивым звукам Герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании то воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю…» (с. 123) А теперь продолжим предыдущую цитату: «(…) и был покоен, не подозревая, что варьяции Герца, мечты и рассказы матери (…) обратят узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому». (с. 125) «Утешься, добрая мать,» – восклицает прозорливый «литератор», – «твой сын вырос на русской почве – не в будничной толпе, с бюргерскими коровьими рогами, с руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка: там вечный праздник! Там сбывают с плеч работу, как иго; там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колес и пружин». (с. 124) Немец, выросший на русской почве, «два в одном»: вот синтетическая культурная формула Штольца, его духовный состав. Странное дело: «высокая роль» и «низкий труд», после которого возвращаешься домой «в сале, в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками», – понятия плохо стыкующиеся. Как дошла до этой «высокой» мысли мать Андрюши, бывшая когда-то гувернанткой в богатом доме? Женское, интуитивное начало в этом мужском романе чаще оказывается ближе к истине, нежели мышление плоское, тупое, элементарно обслуживающее подсознание, которое, в свою очередь, обслуживает потребности брюха. «Высокая роль» и «широкая дорога» – результат умственно-душевного труда, реально облагораживающего человека, вытаскивающего его «из навоза», делающего его потребности все тоньше и «нематериальнее». Труд труду рознь, и функции труда различны. Любовь к труду или, с некрасовским перебором, «привычка к труду благородная» как народное достояние – палка о двух концах. Труд может возвышать – и тогда он становится способом преодоления натуры, становится культурной ценностью; но тот же самый труд (совокупность приложенных усилий для достижения определенного навыка) может и, так сказать, втаптывать в навоз – и в этом случае становится способом закабаления человека в натуре, в узкой колее. Такой труд, в сущности, в культурном отношении мало чем отличается от обломовской любви к праздности, ибо не дает возможности оторвать глаза от земли и посмотреть в небо. Крайности сходятся. Труд возвышающий – это труд мысли, кто живет и мыслит – рано или поздно начинает «презирать людей», тех, кто по народному живет жизнью бессознательной. Мыслишь, следовательно, становишься лишним… «Добрая мать», конечно, не заглядывала так далеко, она желала добра сыну, а потому не 348 могла желать горя от ума. Она верила в высокое предназначение ума: больше ума – больше пользы, просторнее «поприще», «шире» дорога. «В сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки, из черного тела, от отца бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным, бойким взглядом, такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границею, конечно не у немцев». (с. 123) Не так уж плохо для гувернантки. Как бы то ни было именно на труд сделал ставку Штольц младший. Иван Богданыч внушал сыну: « – Образован ты хорошо: перед тобой все карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй, – не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты… – Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем, – сказал Андрей. Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего. – Ну, а если не станет уменья, не сумеешь сам отыскать вдруг свою дорогу, понадобится посоветоваться, спросить – зайди к Рейнгольду: он научит. О! – прибавил он, подняв пальцы вверх и тряся головой. – Это… это (он хотел похвалить и не нашел слова)… Мы вместе из Саксонии пришли. У него четырехэтажный дом. Я тебе адрес скажу… – Не надо, не говори, – возразил Андрей, – я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом, а теперь обойдусь без него… Опять трепанье по плечу». (с. 126) Что ж тут непонятного? Ум – это то, что приносит обладание многоэтажными домами; чем больше этажей – тем больше ума. Ум имеет непосредственное отношение к пользе. О! Рейнгольд с большой пользой распорядился узкой немецкой колеей. Вот вам цель, перспектива и поприще. И труд сделал из Андрея человека – в том отношении, что вытащил его из навоза. «Штольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу. Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента – посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу – выбирают его. Между тем он ездит и в свет, и читает: когда он успевает – бог весть». (с. 128) Какой-то гибрид Судьбинского, Волкова и Ивана Богданыча, сдобренный, однако, началом высшим: потребностью в мировоззрении, соотносимом с ценностями высшего порядка. «Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – вот что было его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность ее и внутренно был горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг. 349 «Мудрено и трудно жить просто!» – говорил он часто себе и торопливыми взглядами смотрел, где криво, где косо, где нить шнурка жизни начинает завертываться в неправильный, сложный узел». (с. 128) Что значит «криво», «косо» и «сложный узел»? Это метафорическая характеристика диалектики; божественная простота же («нить шнурка жизни», как по линейке), к которой так тяготел сын саксонца, это желание избежать глубокого осмысления, нежелание превращать «нить» и «колею» в «широкую дорогу», в океан без берегов. Немец в Штольце превалировал над русским, узкий ум в нем не давал развернуться широкой душе. Ясно, что Обломов был человеком, «в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца». (с. 130) Что для русского благо – немцу смерть. «Больше всего он (Штольц – А.А.) боялся воображения», «он боялся всякой мечты» (мечта, заметим, есть инструмент реализации «блестящего призвания» и «высокой роли»), «а все хотел видеть идеал бытия и стремлений человека в строгом понимании и отправлении жизни». (с. 128-129) Разумеется, «выше всего он ставил настойчивость в достижении целей: это было признаком характера в его глазах, и людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были не важны их цели». (с. 130) Вынуждены сказать, что Штольц как образ состоит из заметок, наблюдений, обобщений и тонких характеристик; их довольно много, могло бы быть еще больше или меньше – это неважно, поскольку Штольца характеризуют не его собственные слова, действия и поступки, а слова другого. Вот типичный пример: «Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте и, скача на коньке чувства, не проскакать тонкой черты, отделяющей мир чувства от мира лжи и сентиментальности, мир истины от мира смешного, или, скача, обратно, не заскакать на песчаную, сухую почву жесткости, умничанья, недоверия, мелочи, оскопления сердца». (с. 129) Пример этот больше характеризует повествователя, нежели Штольца: «литератору», обнаружившему вкус к диалектической игре ума и чувства, начинаешь доверять, его впечатления обретают вес и авторитетность. Тем не менее: одно дело подробная картина лежанья на диване и внимание к фактуре мельчайших, но конкретных переживаний, и совсем иное – остроумные обобщения «литератора». Уже одно это делает Штольца маложизненным, он проигрывает Обломову как муляж в сравнении с полнокровным живым объектом. Неизвестно, насколько осознанно пользовался литератор этим приемом, превращающим Штольца фактически в персонаж второго ряда, но эффекта он добился именно такого: Обломов – симпатично-порочное, живое существо, которому невольно сопереживаешь; Штольц же – бледная тень добродетели, его проще понять, чем почувствовать, что для литературы является парадоксом или недоработкой. Но ранжирует Обломова и Штольца не прием как таковой, а – масштабы исповедуемых идеалов, глубина понимания жизни и природы человека. Одно дело 350 балансировать на «шнурке жизни» и совсем другое – ориентироваться на многотрудное и сложное «поприще». Вот какой человек, уверенно шагавший по проторенной малокультурной колее, пришел к Обломову как друг и строго вопросил в ответ на нигилистическую реплику Ильи Ильича «нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку…»: «Какой же это идеал, норма жизни?» (с. 138) Илья Обломов пространно разворачивает уже не критическую, а позитивную сторону своей программы, которую он, оказывается, давно уж «начертал» в своем воображении. Прежде всего, как «указывает природа», «уехал бы в деревню» из Петербурга (тут вспоминается Агафоклея Кузьминишна, мать Аркадия Кирсанова, которая тоже «не выдержала тоски столичного существования»). Послушаем Илью Ильича, здесь, право же, есть пища уму. « – Ну вот, встал бы утром, – начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне (а здесь вспоминается: «сказка смешалась с жизнью», мечта с реальностью – А.А.). – Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка, – говорил он, – одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая – к деревне (какая предусмотрительность, плод неустанного и многолетнего труда! – А.А.). В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями (утренние испарения, по убеждению Обломова, полезны для здоровья, в отличие от вечерних – А.А.); там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или реку купаться, возвращаюсь – балкон уже отворен; жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди слетит с головы… Она ждет меня. «Чай готов», – говорит она. Какой поцелуй! Какой чай! Какое покойное кресло! Сажусь около стола; на нем сухари, сливки, свежее масло…» (с. 140) Как видим, все продумано до мельчайших подробностей, все уж решено, и даже в определенном смысле пережито. За малым стало дело: пережить эту идиллию в реальности. «Потом (…), обняв жену за талью, углубиться с ней в бесконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса; слушать, как сердце бьется и замирает; искать в природе сочувствия… и незаметно выйти к речке, к полю… Река чуть плещет; колосья волнуются от ветерка, жара… сесть в лодку, жена правит, едва поднимая весла… – Да ты поэт, Илья! – перебил Штольц. – Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее!» (с. 140) Тоже своего рода прямая, без особых извилин «нить шнурка жизни». Только это поэтическая и «покойная» прямая, а у Штольца нить трудовая и энергичная. И еще: обломовская нить упрощает реальность по линии абсолютизации 351 ощущений, штольцевская же – по линии абсолютизации прагматического смысла. Само собой значительное место в идеале жизни занимают завтрак, неспешное приготовление к обеду, непременно включающее в себя, кроме «заглядыванья в кухню», такое обязательное для нормы жизни мероприятие, как «лечь на кушетку»; наконец, в программе предусмотрен пикник с гостями, например, пожалует Штольц с женой («и там блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса»), а вечером – «на кухне стучат в пятеро ножей; сковорода грибов, котлеты, ягоды…» К чести Ильи Ильича была не обойдена вниманием и музыка, в частности, Casta diva. Вот, собственно, и все. «Да тут и все!» (с. 141-142) В диалог активно вступает Штольц: « – И весь век так? – спросил Штольц. – До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь! – Нет, это не жизнь! (…) Это (Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь). Какая-то … обломовщина, – сказал он наконец. (…) – Где же идеал жизни, по твоему? Что ж не обломовщина? – без увлечения, робко спросил он (Обломов – А.А.). – Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! – прибавил он смелее. – Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» (с. 142) « – Так когда же жить? – с досадой на замечания Штольца возразил Обломов. – Для чего же мучиться весь век? – Для самого труда, больше ни для чего. Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей. Вон ты выгнал труд из жизни: на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, может быть в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут, (…) то совсем пропадешь, станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда! – заключил он». (с 144) Что же получается, конфликт свелся к выхолощенному противопоставлению глупый «поэт, мечтатель» – и трезвомыслящий «реалист, деятель»? Это явное обеднение конфликта. Мы хорошо помним, что Илья не только поэт, но и вполне одаренный философ. На идиллическую «норму жизни» следует посмотреть не только как на легкомысленную блажь поэта, которую легко заклеймить «обломовщиной», но и как на способ обрести себя, «искать в природе сочувствия». После судьбоносного диалога, завершившегося практически гамлетовским «быть или не быть» (в варианте «теперь или никогда»), возникает впечатление, что Штольц победил Обломова психологически, но не идейно. Илья Ильич был робок, Андрей Иваныч решителен. Обломов сомневался и колебался, от самого себя скрывая свою слабость, – и в этом, в чуткости к вопросам экзистенциальным, его сила, как мы поймем в дальнейшем. Штольц не сомневался в своей линии или «шнурке» – и тем самым лишил мировоззренческой глубины свою позицию. Какую позицию в этом обозначающемся противостоянии занимает «литератор»? Вопрос интересный и закономерный. Здесь возникает впечатление, что он сам не разобрался в проблемах, которым посвятил свой 352 роман. Уж очень странным, немотивированным и неперспективным выглядит превращение Обломова из философа в поэта. Как «поэт» он не интересен, ибо поэтический идеал жизни глуповат и простодушен, он ни на что не претендует. Это вообще, строго говоря, не идеал, а комплекс ощущений. Романный конфликт на ощущениях не создашь. В этой связи любопытно вспомнить, что прежний идеал Обломова был куда содержательнее нынешнего. Судите сами. Вот как характеризует молодые «замыслы» Обломова Штольц: «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников (твои слова); работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать – значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов». (с. 142143) Идеал трудового «служения» был безболезненно (вот что худо!) заменен идеалом безмятежного растворения в природе, поэтическим идеалом утраченного рая. Однако Обломов все же понимает: утраченный рай без труда – это обломовщина; а вот обломовщина + труд = утраченно-обретенный рай. (Понимать-то понимает, но в «идеале» жизни даже лодкой у него «жена правит, едва поднимая весла»… Что это за понимание, которое ни намеком не отражается в «норме» жизни? Мировоззренческая доминанта главного героя моментами размывается и «плывет», концы с концами не сходятся. Грех писателя.) Поэтому нынешняя программа была энергично и в кратчайшие сроки, измеряемые часами, если не минутами, скорректирована в трудовом, деятельностном направлении, Обломов быстренько покаялся и под лозунгом «теперь или никогда!» готов был к схватке с судьбой за собственное счастье. И Обломов Илья, словно былинный богатырь Илья Муромец, встал со своей лежанки (ему вот-вот стукнет тридцать лет и три года: Муромец сподобился на «поприще» в те же года, а до него, как мы помним, легендарный Иисус), когда пробил его звездный час: «Быть или не быть!» Покаяние Ильи Ильича (он еще и духовный сын своего отца!) в этом революционном контексте заслуживает нашего внимания. «Жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так! С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну». (с. 144) Этот пассаж удачно, диалектически противоречит тому, как начинал свое «поприще» в Петербурге амбициозный провинциал. Здесь тверда доминанта… И далее – обломовская характеристика той социальной рутины, столь знакомой нам по проблемам лишних. Странно вот что: Илью Ильича угнетала бессодержательная, то есть по меркам психологическим наполненная, а по меркам разума – пустая жизнь («самолюбие – соль жизни» «тратилось» на пустяки; но растрачивалось активно). Психологическая активность, не подкрепленная высокой целью, – это и есть формула суеты. И теперь, в свои роковые почти тридцать три, он вновь содержанием жизни решил сделать поэзию, неверные ощущения, голую (пустую!) психологию! Пустоту решил заполнить жизнью души! Это и называется «сам копаю себе могилу», наступаю 353 на те же грабли или «возвращаюсь на круги своя». На выбор. Вновь зыбка доминанта… Попробуем-ка сами свести концы с концами. Чего не хватает идиллической программе Обломова? Труда, и в первую очередь труда мысли, того труда, что делает лишним или, в количествах символических, Штольцем. И Обломов, вроде бы, догадывается, что именно к этому роковому пункту сводятся все его проблемы: «Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его» (с. 145) Вновь тверда доминанта? После исповеди Обломова роман идет хоть и вперед, но несколько вспять. Мировоззренческая точка отсчета размывается и, по закону мысли, объективно снижается. Прозрачность и выдержанность концепции – дорогая плата за совершенство. 5 На что дан ум добрейшему Илье Ильичу? На то, чтобы раствориться в натуре, обрести способ защиты от «духовного погрома», учиненного недалекими прагматиками. Вперед, к культуре, для Обломова означает: назад, к натуре, к Обломовке, колосьям пшеницы (образ дородной вдовы Пшеницыной в этом контексте смотрится весьма и весьма колоритно), оврагу, пышкам… Можно ли считать Обломова «лишним»? Только отчасти – только в отношении его подхода к «бездушной» цивилизации. Идеалы же Обломова (а где вы видели лишнего, который носится с готовыми идеалами, с планом? лишние носятся с поисками идеалов – но так ничего путного и не находят) включают его в общество, делают существом социально востребованным. У «обломовщины» как идеологии найдется немало сторонников. Лишний же – это именно тот, кто не разделяет ни одну из идеологий, ибо идеология как психологизированная форма мировоззрения для него мелковата будет. У Обломова и Пшеницыной, как известно, родится сын Андрей, названный папашей, очевидно, в честь Штольца. «Андрей Обломов», согласимся, – это уже похоже на признание несостоятельности прожитой жизни, на ностальгию по чему-то более высокому, нежели «Илья Ильич». Все это отдает духовной неприкаянностью лишних – но не более того. Всякий человек становится лишним в той степени, в какой он умен. Поэтому не следует тащить Илью Обломова за уши в галерею лишних, хотя следует отдать должное его прозорливой созерцательности и многозначительному сибаритству. По большому счету, чума духовной хандры, мировоззренческого паралича по причине «горе от ума» счастливо миновала Обломова. При всем его уме глупость мироустройства его не угнетала. Более того: назад, к натуре, – это ведь 354 «вперед, к бессознательному». Это означает: назад от лишнего, чума на оба дома, Онегина и Штольца. Они – антиподы, но в равной степени искалечены культурой. Вот маргинальная ниша Ильи Обломова, родившегося и начавшего жить то ли на краю Европы, то ли «чуть не в Азии», устроившегося в Петербурге так, что и не поймешь, в городе он жил или в деревне; то ли скатившегося к философии, то ли возвысившегося до поэзии. Ведь и духовная фактура Ильи Ильича маргинальна: он и умнее многих, он как бы и мыслит, но для того только, чтобы устроиться таким образом, при котором отпала бы всякая потребность и охота мыслить. Собственно, он мыслит художественно, поэтически, то есть маргинально, он более «воображает», нежели мыслит. В результате мы имеем перспективу откровенно растительной жизни как идеал мыслящего человека: не правда ли, неожиданный поворот темы? Неожиданный для мыслящего, безусловно. А между тем Обломов и «обломовщина» – ложь, конечно, да в них намек. Какой намек? А такой намек, который еще в «Евгении Онегине» был развернут до степени программы: высшая заповедь культурного человека – не отрываться от натуры. Лишний ведь гибнет под тяжестью своего ума, вянет-пропадает, горе мыкает, и не подозревает даже, что в принципе все просто: не забывай, что ты не только Онегин, но и Обломов, потешь душу; собственно, поживи, как Ростова или Пшеницына. Но никогда не забывай при этом, что ты Онегин, иначе натура – гибель, а не спасение. Смысловой и символический сгусток «Андрей Обломов» можно рассматривать как художественную формулу, претензию на гармонию, на обозначение союза ума и души, строгой силы и очаровательной слабости. Иное дело, что ум в очередной раз в русской литературе выведен как ум глупый, куцый, одномерный, не адекватный широте души. Ум, так сказать, выведен в образе Штольца. Однако Штольц не умен, умен Онегин. Правда, это уже дело другое, другой поворот темы. Сам же союз ума и сердца как направление и путь к гармонии можно только приветствовать. Таков модус психики и сознания, который вывел Гончаров. Как видим, тема беспредельна и берется она с разных концов и с разной степенью глубины. Берите и вы, читатель, сколько сможете. Вернемся непосредственно к роману. Как бы то ни было, «теперь» Илья Обломов знал, что ему делать, а «литератор» (или, согласно «литератору», сама жизнь) позаботился(ась) о том, чтобы все у Ильи Ильича получилось. Дальше повествование напоминает одну из тех сказок, что рассказывала Илюше его славная нянька, «о какой-то неведомой стороне», «где все совершаются чудеса». «Добрая волшебница», «добрый молодец», «лентяй», «Милитриса Кирбитьевна»… Архетип. Илье Ильичу, этому Бове-королевичу, неслыханно повезло: чудотворец Штольц познакомил доброго барина Илью 355 Ильича с барышней Ильинской (какое трогательное, и, главное, неожиданное созвучие) Ольгой Сергеевной, которая была, уж конечно, не чета какой-нибудь Мине, бывшей любовнице Обломова, и, возможно, ничем не уступала Милитрисе Кирбитьевне, разве что «присутствие говорящей мысли» во взгляде «темных, серо-голубых глаз» несколько настораживало. Обломов попал в сказку, в утраченный рай. Впрочем, некоторые отличия рая от жизни обозначились незамедлительно: «Мужчина ленив – я этого не понимаю», – говаривала умная барышня «с едва приметным лукавством». «Чего тут не понимать?» – изумлялся Илья Ильич. «Кажется просто». (с. 152) Разумеется, мсье Обломов влюбился по уши – так сказать, заставил работать сердце и душу с полной выкладкой, и в этой части ему удалось реализовать свой «план». Поэзии в его жизни было немало, стало еще больше после того, как выяснилось, что и Ольга Сергеевна неравнодушна к чарам искренней, доброй натуры Ильи Ильича. Ветка сирени, Casta diva, ландыши… Чем не рай? Оставалось немного потрудиться (в соответствии с неофициальным контрактом, заключенным со Штольцем и своей совестью: «теперь»), устроить семейное гнездышко – а там уж честным пирком да за свадебку. Да и можно ли назвать трудом столь приятные, милые сердцу хлопоты? Но для Ильи Ильича, для которого труд съехать с квартиры и сыскать другую был уже неподъемен, хлопоты по переустройству имения не были, конечно, пустяками. Даже с учетом энтузиазма, порожденного самореализующейся целью. Ольга Сергеевна с самого начала поняла, что ей предстоит «править лодкой»: «Она даже видела и то, что, несмотря на ее молодость, ей принадлежит первая и главная роль в этой симпатии, что от него можно было ожидать только глубокого впечатления, страстно-ленивой покорности, вечной гармони с каждым биением ее пульса, но никакого движения воли, никакой активной мысли». (с. 181) Браво, Милитриса Кирбитьевна! Обломов был для нее «какойто Галатеей, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом». Она дала ему надежду («Опять жизнь, опять надежды!» – задумчиво твердил он и не верил сам себе», с. 184) – но и сама надеялась на то, что в этой «Галатее» проснется «воля» и «активная мысль». Что поделаешь: сердцу, любому сердцу не прикажешь, ему хочется верить. Верить легче, нежели замечать очевидное. И все же с самого начала Ольга Сергеевна поставила дело поэзии и любви на разумную основу. « – Жизнь, жизнь опять отворяется мне, – говорил он как в бреду, – вот она в ваших глазах, в улыбке, в этой ветке, в Casta diva… все здесь… Она покачала головой. – Нет, не все… половина. – Лучшая. – Пожалуй, – сказала она. – Где же другая? Что же после этого еще? – Ищите. 356 – Зачем? – Чтоб не потерять первой, – досказала она, подала ему руку, и они пошли домой». (с. 184) «Литератор» с большим знанием дела показал, как «раскрывались» «фазисы жизни, то есть чувства» (жизнь есть чувство: опять же ум, то есть труд, здесь лишний). «Любовь делалась строже, взыскательнее, стала превращаться в какую-то обязанность; явились взаимные права. (…) потом, по мере сближения с ним, от сарказмов над вялым и дряблым его существованием она перешла к деспотическому проявлению воли, отважно напоминала ему цель жизни и обязанностей и строго требовала движения, беспрестанно вызывала наружу его ум (…)» (с. 189) Случилось то, что и должно было случиться: любовь превратилась в службу («Разве любовь не служба?» – «говорил Обломов, тараща глаза после обеда, чтоб не заснуть».) Чтобы любовь двигалась, развивалась, не гасла – над нею надо было работать. Без труда было не обойтись: и в смысле широком (заботы «магического круга любви»), и в самом узком, практическом смысле необходимость труда обступала Илью Ильича со всех сторон. Ольга сформулировала свое отношение к любви достаточно жестко, не оставляя места для иллюзий: « – Для мня любовь эта – все равно что… жизнь, а жизнь (…) – долг, обязанность, следовательно, любовь – тоже долг: мне как будто бог послал ее, – досказала она, подняв глаза к небу, – и велел любить». (с. 192) Это вам уже не Милитриса, а «Корделия», и чувство ее – категорический императив. 6 Обломову «покамест» хватало сил служить более-менее успешно, и его гамлетианский вопрос «теперь или никогда» разрешался, кажется, в пользу «теперь». «Теперь, теперь, теперь!» – ликует Обломов. Однако «сирени… отошли, поблекли», наступил другой «фазис» жизни. Ольга была умнее, сильнее и властнее Обломова – она фактически выполняла функции мужчины, и даже ее «маленькие нервические расстройства», этот «лунатизм любви», не могли ввести Илью Ильича в заблуждение. Она же первая и поцеловала избранника. И вот Ольга Сергеевна «опять спрашивала», намерен ли он съездить в Обломовку… Кроме того, вопрос с квартирой решился стихийным и самым невероятным образом. Мелкий жулик и аферист Тарантьев заставил беспечного в вопросах юридических Илью Ильича подписать контракт, в соответствии с которым Обломов обязался либо нанять квартиру на Выборгской стороне сроком на год, либо платить весьма серьезную неустойку. А уж осень на дворе, уж прошли благословенные времена, когда Обломов (было такое) «испустил радостный вопль и упал на траву к ее ногам». Трава уже тоже «отошла». Надо было «идти в палату» и писать «какую-то бумагу». Без этих досадных мелочей, составлявших 357 плацдарм семейного бытия, нельзя было идти к тетке (матери у Ольги Сергеевны не было) и просить у нее руки племянницы. Ольга не позволяла ему расслабиться и диктовала ему перечень шагов и их очередность: первый шаг – идти в палату, второй – поездка в Обломовку, третий – приискать квартиру. Обломов стал было пошевеливаться в этом направлении, но волею обстоятельств оказался на Выборгской стороне, на улице «без домов, с заборами, с травой и с засохшими комьями из грязи», у домика, на воротах которого было написано: «Дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына». Это было уж совсем не то, что «в Гороховой улице». Конечно, у него и в мыслях не было оставаться здесь, у вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницыной, женщины, судя по всему, «доброй», к тому же с соблазнительно пышными голыми локтями, «с ямочками», что, впрочем, не имело никакого значения для влюбленного Ильи Ильича. Не мог же он, в самом деле, отвлекаться на привлекательную вдову, когда сердце его безраздельно было занято высшим чувством. Однако дело не клеилось, квартира не «приискивалась», до палаты не доходили то ли руки, то ли ноги, «цветущая поэма любви» с Ольгой «как будто остановилась, пошла ленивее…» В объяснениях с Ольгой Илья Ильич прибегал к тактике отговорок и недомолвок, что не могло длиться бесконечно. Ольга же была непреклонна: «Пока это все не устроится (…), говорить ma tante нельзя и видеться надо реже…» Она даже «попечение о порядке свиданий взяла на себя», чему Илья, по правде сказать, был очень рад. Словом, у Ильи Ильича начались проблемы, и «теперь или никогда» вновь звучало судьбоносно и актуально. Как-то невнятно, как бы само собой, волею каких-то безликих обстоятельств случилось так, что Обломов поселился-таки (о! временно, временно, конечно) у Агафьи Матвеевны, у которой, как выяснилось, была «белая шея» и «круглые, полные ноги» и которая варила «славный» кофе. Да и пироги она пекла «не хуже обломовских». «Какая она … простая, – подумал Обломов, – а есть в ней что-то такое… И держит себя чисто!» (с. 240) Но: «перед ним носился образ Ольги, и он едва замечал окружающее». Поверим лукавому «литератору» на слово. Беда подкралась к Обломову со стороны «братца» Пшеницыной, Ивана Матвеевича, который состряпал для доверчивого Обломова просто кабальный контракт. Денег не было, «задолжал» он братцу сумму приличную… Разумеется, это еще не катастрофа, но уже испытание. Что такое «тысяча триста пятьдесят четыре рубля двадцать восемь копеек ассигнациями всего-с» (с. 243) по сравнению с вечным блаженством? Мелочи жизни. Но если у тебя в кармане всего триста рублей, а квартиры стоят четыре или шесть тысяч, да еще плюс долг... Жизнь заворачивала на какую-то свою колею, не особо заботясь о планах, «начертанных» Ильей Ильичом. «Оно бы и тут можно жить, – думал он, – да далеко от всего, а в доме у них порядок строгий и хозяйство идет славно». (с. 358 245) И потом он погружался в мысль об Агафье Матвеевне: «Какая еще свежая, здоровая женщина и какая хозяйка! Право бы, замуж ей…» (с. 248) Ольге по-прежнему он не мог сообщить ничего утешительного, денег не прибавлялось. Она же была неумолима: «извольте ехать» в театр, «я завтра непременно жду вас в три часа в Летнем саду» etc. Она выполняла свой долг, и Обломов должен был «служить». Ситуация заходила в тупик, благо ум и решительность Ольги Сергеевны оставались при ней. К ma tante, ясное дело, идти было не с чем. Но разве это преграда для двух любящих сердец? « – Слушай же (…), скажем все ma tante, и пусть она завтра благословит нас…. Обломов побледнел. – Что ты? – спросила она. – Погоди, Ольга: зачем так торопиться?.. поспешно заметил он. У самого дрожали губы. – Не ты ли, две недели назад (еще до серьезного водворения в доме у вдовы – А.А.), сам торопил меня? – Она глядела сухо и внимательно на него. – Да я не подумал тогда о приготовлениях, а их много! – сказал он, вздохнув. – Дождемся только письма из деревни. – Зачем же дожидаться письма? Разве тот или другой ответ может изменить твое намерение? – спросила она, еще внимательнее глядя на него». (с. 261) Чего же так испугался Обломов? Ведь все устраивалось наилучшим образом и с наименьшими издержками, словно по-щучьему велению. Вчера он сам мечтал об этом, «торопил» – а сегодня… У Ольги были причины смотреть на Илью «сухо и внимательно». Дело было, конечно, не в «приготовлениях», а в том, что будущая совместная жизнь с Ольгой грозила обернуться «службой». И теоретически как автор «плана» Илья Ильич готов был отказаться от «покоя» во имя любви. Однако судьба (а впрочем, не исключено, что и бойкое перо повествователя, и даже скорее бойкое перо, что делает ему, повествователю, честь) сыграла(ло) с Ильей Ильичом злую шутку (опять же, на дело можно посмотреть иначе: не шутку сыграла, а поставила честный эксперимент): наряду с перспективой светлого будущего с Ильинской, что требовало от Ильи Ильича известных усилий, обозначилась возможность тихой «обломовщины» с мельканием голых локтей, подношением пирогов «с цыплятами и свежими грибами», да мало ли чем еще, сопутствующим обломовщине. На втором, альтернативном пути требовалось только одно усилие: отказаться от Ольги, а вместе с ней и от долга, службы, труда – в определенном смысле от своей мечты, от себя. И Обломов испугался того, что ему жутко, непреодолимо «теперь» хочется «обломовщины», хотя чувство долга твердило ему, что он выбирает «никогда». Дальнейшее развитие ситуации только подтверждает наши предположения (ненавязчиво внушенные нам «литератором» – поздравим его с изрядным литературным мастерством). В случае с Обломовым, натурой психологической, 359 ситуация непременно должна была развиваться «топтанием на месте», решения подспудно зрели как обобщение «большого количества» переживаний и только потом принимали форму роковых вопросов или неизбежных последствий, результата естественного хода вещей. Обломов и на этот раз оказался верен себе: он не выстраивал свою жизнь (что предполагало ставить цели, принимать решения и т.п.), не думал, а собственно жил, то есть плыл по течению – оставался самим собой. Умом-то он «хотел» одного, а получалось то, что он действительно хотел; и Обломов испугался этого, считал своим долгом хоть както противостоять естественному ходу вещей, посопротивляться для виду (не был же он вовсе хамелеоном, чуждым рефлексии!). На другой день после судьбоносного разговора с Ольгой, решительно предложившей сказать все ma tante, – «на другой день он содрогнулся при мысли ехать к Ольге, живо представив себе, как на него все станут смотреть значительно». (с. 262) Вместе со статусом жениха он напяливал на себя мундир долга, обязуясь оправдывать чьи-то ожидания. К Ольге он просто не поехал, «и смотрел в полуотворенную дверь, как мелькали и двигались локти хозяйки». (с. 263) Собственно, свой выбор он уже сделал. Однако надо было оформить этот выбор в пользу натуры надлежащим культурным образом, а именно: через объяснения, терзания, слезы, болезни, обмороки… Терзания, то есть психология, движения души и составляют плоть, вещество романа, не было бы этих душевных бурь – и роман бы не состоялся. Агафья Матвеевна, ее братец или, скажем, Штольц оттого и не годятся в герои романов, что не способны глубоко переживать, выплавляя умные мысли. Они оттеняют значительность и масштабность рыхлой фигуры Обломова: человек – это не только вопрос, сколько мучения в связи с проклятой неразрешимостью вопросов. Во всяком случае, художественная литература в своих крупных формах специализируется на личностях «переживательного» типа, склонных, в связи с этим, к рефлексии. Такие умы и души – хлеб литературы или, если угодно, ее нектар, который добывают труженики-литераторы на ниве жизни, где попадаются там-сям среди пустоцветов роскошные и плодоносные цветы. Начались терзания Обломова на фоне мелькающих локтей. «Плачет, не спит этот ангел! – восклицал Обломов. – Господи! Зачем она любит меня? Зачем я люблю ее? Зачем мы встретились? Это все Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим. И что это за жизнь, все волнения да тревоги! Когда же будет мирное счастье, покой?» Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и все доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы и исполнено содержания, и текло бы тихо, день за днем, капля по капле, в немом созерцании природы и тихих, едва ползущих явлениях семейной, мирно-хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать ее широкой, шумно несущейся рекой, с кипучими волнами, как воображал ее Штольц». (с. 264-265) Все силы широкой души своей Илья Ильич положил на то, чтобы изобретательно прятаться от 360 Ольги, то бишь от себя же. Репертуар оказался достойным его воображения: тут и простуда, и «маленькая опухоль в горле», и Нева, которая «собралась уже замерзнуть», и мосты, которые сняли… Рефрен, однако, соблюдался неукоснительно: «жестокая судьба лишает его счастья еще несколько дней видеть ненаглядную Ольгу». Благо судьба не лишала его возможности заглядывать в дверь к «мирно-хлопотливой» хозяйке, ведь так, чего доброго, можно было бы и захандрить. Но развязка неумолимо назревала, и инициатором выяснения отношений выступила, разумеется, Ольга. Между прочим, жестокая судьба позаботилась и о том, чтобы Ольга сказочным образом именно в этот критический момент стала вдруг обладательницей имения. Некий барон, друг семьи, выступил посланником судьбы и сообщил: «Оно (имение – А.А.) невелико, но местоположение – чудо! Вы будете довольны. Какой дом! Сад! Там есть один павильон, на горе: вы его полюбите. Вид на реку… вы не помните, вы пяти лет были, когда папа выехал оттуда и увез вас». (с. 268) Для счастья с Ольгой готово абсолютно все, в том числе дом, сад, река, все объективные предпосылки – налицо, не хватает только фактора субъективного: желания Ильи Ильича протянуть руку за тем счастьем, которое исполнено деятельностного содержания. Не откладывая дела в долгий ящик и демонстрируя будущий стиль поведения, Ольга сама явилась на Выборгскую сторону к Илье Ильичу в дом Агафьи Матвеевны, неотвратимая, словно фортуна. Оставим в стороне смятение Обломова и тоже перейдем к делу: «Послушай, – сказала она, – тут есть какая-то ложь, что-то не то… Поди сюда и скажи все, что у тебя на душе. Ты мог не быть день, два – пожалуй, неделю, из предосторожности, но все бы ты предупредил меня, написал. Ты знаешь, я уж не дитя и меня не так легко смутить вздором. Что это все значит?» (с. 273) Илья Ильич начинает оправдываться, врать и честно сознаваться, что врет. Это тактика слабого и проигравшего. Разговор был душераздирающим. Ольге пришлось выступать в качестве психоаналитика и добираться до истины, выводить Илью Ильича на чистую воду: она проделывала за него ту умственную работу, которой он так боялся и избегал. «Я цель твоя, говоришь ты и идешь к ней так робко, медленно; (…) нет, не похоже, чтоб любовь, чтоб я была твоей целью…» (с. 275) Ольга должна была вымолить у Обломова честное признание: отказ. Объяснение продолжилось на территории Ольги. Приговор Обломову был оформлен и подписан. Сначала – безмолвный: «Она молчала, глядя на него пристально, как привидение. Он смутно догадывался, какой приговор ожидал его, и взял шляпу, но медлил спрашивать: ему страшно было услыхать роковое решение и, может быть, без апелляции. Наконец он осилил себя. – Так ли я понял?.. – спросил он ее изменившимся голосом. 361 Она медленно, с кротостью наклонила, в знак согласия голову. Он хотя до этого угадал ее мысль, но побледнел и все стоял перед ней». (с. 287) Но затем, чтобы уж окончательно прояснить, кто есть кто, Илье Ильичу был великодушно предоставлен последний и исключительный в своем роде шанс. «Он вздохнул и задумался, боролся с собой. Она прочла эту борьбу на лице. – Послушай, – сказала она, – я сейчас долго смотрела на портрет моей матери и, кажется, заняла в ее глазах совета и силы. Если ты теперь как, честный человек… Помни, Илья, мы не дети и не шутим: дело идет о целой жизни! Спроси же строго у своей совести и скажи – я поверю тебе, я тебя знаю: станет ли тебя на всю жизнь? Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно? Ты меня знаешь, следовательно, понимаешь, что я хочу сказать. Если ты скажешь смело и обдуманно да: я беру назад свое решение: вот моя рука и пойдем, куда хочешь, за границу, в деревню, даже на Выборгскую сторону! Он молчал». (с. 288) Но это не пик или апогей, это даже не начало конца; это всего лишь формальная кульминация, а потому мелодраматическая. Мог ли Илья Ильич сказать «смело и обдуманно да» после всего, что было? Если бы сказал «да», роман не стоило бы разбирать. « – Да, – внятно и решительно сказал он, – ты права!» Иными словами, он не был готов стать для нее тем, что ей нужно. Надо признать, Илья Ильич сберег достоинство в этой нелегкой для себя ситуации: он честно признал поражение. «Я любила будущего Обломова! (...) А нежность… где ее нет!» (с. 289) «Нежность» – качество почти зоологическое, «голубиное» (по слову Штольца), не трудом добываемое, вот отчего слово «нежность» – «было жестоко», прозвучало как приговор и «глубоко уязвило Обломова». В ответ на порыв жалости, у Ильи Ильича хвалило мужества не принять подаяния: « – Нет! – сказал он, вдруг встав и устраняя решительным жестом ее порыв. (…) – Не тревожься, что сказала правду: я стою… – прибавил он с унынием. (…) – Отчего погибло все? – вдруг, подняв голову, спросила она. – Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден… и… гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу… – Есть, – сказал он чуть слышно. Она вопросительно, полными слез глазами взглянула на него. – Обломовщина! – прошептал он, потом взял ее руку, хотел поцеловать, но не мог, только прижал крепко к губам, и горячие слезы закапали ей на пальцы. Не поднимая головы, не показывая ей лица, он обернулся и пошел». (с. 290) У этого зла есть и другие имена: нежелание думать, лень мысли, эгоистическая потребность превратиться в безответственную божью тварь, кроткого голубка; глупость, наконец. Нет, Илья не был умен в полном и точном значении этого слова. Здесь Ольга Ильинская ошиблась. 362 7 Далее повествователь вновь блеснул литературным мастерством, то есть тонким пониманием предмета (натуры человека) и выразительностью изложения такого понимания. С одной стороны, Обломов, несомненно, пал, «пропал», как резюмировал категорически Штольц. С другой стороны, Андрей Иваныч и сам не мог похвастаться особыми успехами в реализации «блестящего призвания» и «высокой роли»; к тому же Обломов как-то так удачненько пал и пропал, что обрел реальный, а не мифический покой. Он действительно пережил момент растворения в природе, что и было, по сути, его главной мечтой, а может, и призванием, момент равновесия, гармонии потребностей души с ритмами космоса. Это был, что бы мы ни говорили, звездный час Ильи Обломова. Поэтому повествователь настаивает: надо отличать поражения Ильи Ильича от его нечаянных побед, надо мерить его судьбу разными аршинами, смотреть на эпопею обломовщины с разных точек зрения. Момент поражения стал одновременно моментом рождения какой-то несомненной победы главного героя: если бы этого не было, роман утратил бы философскую глубину, обретя моралистическую определенность. Начнем с того, что Илья Ильич «внятно и решительно» сказал «нет» не столько Ольге, сколько себе. Ольга как раз была гораздо более него самого готова к подобному развитию событий. И это было не формальное «нет»: дескать, не выгорело одно, возьмем другим, не мытьем так катаньем. «Нет» означало мировоззренческий крах: пропала цель, исчез смысл; следовало ожидать гибель и распад личности, приход «никогда» как формы аннигиляции. Так бы оно и было, если бы мы смотрели на жизнь только глазами тогдашнего Ильи Обломова или, скажем, Андрея Штольца. Илья Ильич серьезно заболел: «у него была горячка». (с. 291) После болезни он находился в состоянии «живого горя», место которого «заступило немое равнодушие». (с. 293) А там рукой подать до дивана и халата, а там – и до савана… Однако «литератор» на наших глазах виртуозно посрамил схему, вообще анализ и прогноз как способы мыслительной (культурной) деятельности. Оказывается, что жизнь богаче всяких там целеполаганий, у нее есть своя, обломовская логика и своя, пусть далекая от культуры, сермяжная правда. «Обломов мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою жизнь». (с. 293) Отношения с Агафьей Матвеевной развивались своим чередом. Любовь это была или не любовь, а только для нее «все ее хозяйство, толчения, глаженье, просеиванье и т.п. – все это получило новый, живой смысл: покой и удобство Ильи Ильича». (с. 297) «Но она не знала, что с ней делается, никогда не спрашивала себя, а перешла под это сладостное иго безусловно, без сопротивлений и увлечений, без трепета, без страсти, без смутных предчувствий, томлений, без игры и музыки нерв» (с. 297) – и уж, конечно, без рефлексии. 363 И между прочим, в этом женского было куда больше, нежели в мессианских хлопотах по спасению нравственно погибающего Обломова благочестивой Ольгой Сергеевной. В сущности, братец Иван Матвеевич был глубоко прав, когда так аттестовал свою сестру: «Корова, сущая корова: ее хоть ударь, хоть обними – все ухмыляется, как лошадь на овес». (с. 284) Она была сама природа, атрибут и продление замечательного обломовского пейзажа. Не удивительно, что Илья Ильич «глядел на нее с легким волнением, но глаза не блистали у него, не наполнялись слезами, не рвался дух на высоту, на подвиги. Ему только хотелось сесть на диван и не спускать глаз с ее локтей». (с. 301) Обломовщина. Сознательно Илья Обломов ориентировался на «высоту» и на «подвиги» как человек культурный и образованный; подсознательно или душевно (то есть «сознанием» же, но только другим – тайным, скрытым от очей сознания как такового: речь идет о разных функциях одного, единого сознания) он стремился к «покою и удобству». Реализовалась парадоксальная ситуация: «не торопитесь, а то успеете». Явился Штольц и без обиняков наговорил кучу «жалких слов»: «болото», «я обещал откапывать тебя из могилы», ты «погребался заживо», избрать «маленький круг деятельности», «строить, садить» – «все это ты должен и можешь сделать»… (с. 304) Илья, разумеется, как человек культурный посыпал голову пеплом, краснел, вздыхал и кисло возражал. Но дело не в том, насколько герой убежден в своей правоте. Штольц, например, ортодоксален до фанатизма. Ну, и что из того? Дело в степени соответствия их представлений реальной природе и реальным потребностям человека. Вот Штольц убежден, что «человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу», и потому побуждает погребенного заживо искать «строгой и серьезной цели». Есть цель и деятельность по ее воплощению – есть жизнь, нет их – нет жизни. Человек есть существо ставящее и достигающее цели посредством деятельности: вот credo Штольца, который, как мы помним, ценил людей только за то, что они способны добиться цели: «Выше всего он ставил настойчивость в достижении целей: это было признаком характера в его глазах, и людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были не важны их цели». (с. 130) Обломов уже неизвестно, в чем убежден, одно ясно: он не намерен был менять свою природу. На первый взгляд, и сравнивать эти позиции невозможно. Однако при ближайшем рассмотрении выясняются вещи любопытные. Через полтора года после того, как Илья Ильич «опустился в болото», к нему вновь приехал Штольц (в части четвертой роман развивается пунктирно, обозначая вехи в судьбе героя; главное, касающееся сути и причин, было сказано в предыдущих трех частях, теперь мы имеем дело со следствиями, поэтому распространяться нет необходимости; роман устроен чрезвычайно рационально). Оценим живую реакцию Обломова на известие о благополучном замужестве Ольги, с которой он когда-то «был в раю». Он искренне радовался ее счастью, «он радовался так 364 от души, так подпрыгивал на своем диване, так шевелился, что Штольц любовался им и был даже тронут». (с. 336) Словом, Обломов испытывал такие чувства, которые недоступны «погребенному заживо». Он продолжал оставаться живым, продолжал жить, и Штольц, несмотря на вопиющее отсутствие цели в жизни друга, которому по этой причине следовало отказать в уважении, вынужден был признать: «Какой ты добрый, Илья (…). Сердце твое стоило ее! (…) Недаром она забыть не может тебя. Нет, ты стоил ее: у тебя сердце как колодезь глубоко!» (с. 336-337) А что позволило Илье сохранить свое сердце в чистоте? Его жизнь с Агафьей Матвеевной, которой (жизни) он так стыдился. Конечно, это было не то счастье, которого надо было добиваться как цели, но это было своего рода счастье, потому что Агафья Матвеевна не только лень Обломова ублажала, но и потребность его слиться с природой и таким образом придать смысл своей жизни. Бессознательная потребность, обитавшая в колодезе души, в определенном отношении оказалась мудрее его сознательных претензий к себе же. Тут уж сложно отличить поражение от победы. Тем более что идиллический брак Ольги Сергеевны и Андрея Иваныча («все было у них гармония и тишина»), основанный именно на том, чего так недоставало Илье Обломову, – на долге, деятельности и взаимоуважении – брак этот не то чтобы стал давать трещину, но с некоторых пор он перестал быть идиллическим. Отчего? Ольга, «особенно с некоторого времени, после трех-четырех лет замужества», «иногда впадала в задумчивость». « – Что с тобой, Ольга?» – вопрошал муж, убежденный, что «однако ж должна быть причина задумчивости», «какой-то хандры», по выражению самой Ольги Сергеевны. (с. 355-356) Штольц, сам изрядно склонный к рефлексии («много мыслительной работы посвятил он и сердцу, и его мудреным законам», с. 348; не забудем при этом, что мыслительная работа великолепно сочеталась со «шнурком жизни»: это недвусмысленно характеризует качество самой работы), квалифицировал это состояние, это «временное недовольство жизнью» как «грусть души, вопрошающей жизнь о тайне». (с. 357) Удивляют не способности Андрея Иваныча, а то, как он с такими способностями умудрился не соскочить со «шнурка жизни». Он демонстрирует понимание, но какое-то холостое понимание, не затрагивающее основ его собственного существования. « – Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля …» (с. 358) Одна капля из того океана, имя которому «горе от ума». Как же можно избежать этого «общего недуга», который является врагом счастья? А очень просто, согласно убеждениям деятельного, не склонного к безрезультатной созерцательности ума «мыслителя»: «Мы не Титаны с тобой, (…) мы не пойдем, с Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и…» (с. 358) Если перевести с невнятного поэтического языка на язык мысли, на язык Фаустов и 365 Манфредов, то совет Штольца был столь же традиционен, как и «общий недуг человечества»: не хочешь угодить в лишние – не думай, поменьше думай или думай как-то так, чтобы «вопросы» обходили тебя. Итак, конкретной бедой счастливого семейства грозил стать «общий недуг человечества»: вновь нетривиальный и глубокий поворот темы, однако Гончаров «счастливо» избегает продолжения в этом направлении. Вопрос «счастливые или лишние» был смело решен в пользу первых, и у «литератора» были на то свои основания. Весь роман честно был выстроен на ложной, лучше сказать, скудной посылке, и концовка уже ничего не могла изменить. Вот как понимает Илью Обломова Андрей Штольц: « – Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог, за что ты еще любишь его? (…) За то, что в нем дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь (надо бы сказать сквозь культуру – А.А.). Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот – никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно…» (с. 362) Да, сердце не врет, и сердцу, этому природному золоту, честно захотелось обломовщины. Но сердце Обломова Штольцу нравится, а обломовщина отчего-то – нет. То, что «дороже всякого ума», «честность и верность», – на деле оказывается именно умом, хотя и объявляется «высокими качествами» сердца, души. Точкой отсчета в романе сделан Обломов, то есть верное, честное, светлое сердце, «хрустальная, прозрачная душа». Всякий ум, и, следовательно, всякий лишний будет неизмеримо ниже честного сердца. Эх, сердцу бы этому да деятельность, практический ум… Ничего не поделаешь: в романе много путаницы с умом и душой, путаницы с началом мужским и женским, с сознанием и психикой. Однако сам факт их противопоставления и одновременно увязки в некий духовный комплекс, осознание союза ума и души как предпосылки «счастья» или гибели – сам факт этот делает роман произведением чрезвычайно глубоким, насыщенным мыслью. Сам факт персонификации качеств ума и души (Обломов и «обломовщина», Штольц и «штольцевщина»), попытка увидеть в том и другом варианты приспособления, модусы человеческой неполноценности и обделенности чем-то высшим – все это делает роман явлением незаурядным, из ряда вон выходящим, по-настоящему концептуальным, «перлом в толпе», выражаясь словами Штольца, характеризующими Обломова. В романе присутствуют интуиции глубокие, но «лишние» для этого романа, не вписывающиеся в его философию. Вот характерный пример: «Даже если муж и превышает толпу умом – этой обаятельной силой в мужчине, такие женщины (речь идет о категории «многих», типичных женщин, не таких, как Ольга – А.А.) 366 гордятся этим преимуществом мужа, как каким-нибудь дорогим ожерельем, и то в таком только случае, если ум этот остается слеп на их жалкие, женские проделки. А если он осмелится прозирать в мелочную комедию их лукавого, ничтожного, иногда порочного существования, им делается тяжело и тесно от этого ума». (с. 360) Здесь рисуется уже образ какого-то другого ума, которого не видно в романе. «Обаятельной силой» в Обломове, что бы там ни говорил недалекий Штольц, был именно ум, который автору угодно было подать как «ум души» – качество, скорее, женское, нежели мужское. Какой-то бессознательный ум Ильи Ильича не позволял ему врать, но и мешал действовать: был и силой его, и слабостью. «Великолепный» «Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни» со своей гениальной хозяйкой Агафьей Матвеевной, которая тоже «была в зените своей жизни»; правда, «ей в голову об этом не приходило». Илье Ильичу, напротив, очень даже «приходило»: «Сам Обломов был полным и естественным отражением и выражением того покоя, довольства и безмятежной тишины. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился, хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское, широкое и беспечное течение жизни в родной деревне, среди крестьян, дворни». (с. 367) Интересно, что бы сказал Штольц по поводу сих честных «сердечных» решений? Обломов нашел свой способ уходить от вопросов, отравляющих жизнь и превращающих нормальных людей в фаустов-изгоев: «И здесь, как в Обломовке, ему удавалось дешево отделываться от жизни, выторговать у ней и застраховать себе невозмутимый покой». (с. 367) «Его окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые все согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему не замечать ее, не чувствовать». (с. 366) Илья Ильич (сознательно или бессознательно?) ушел от той стороны жизни, «где играют ложные надежды и великолепные призраки счастья…» (с. 367) «Другим, думал он, выпадало на долю выражать ее тревожные стороны, двигать созидающими и разрушающими силами: у всякого свое назначение!» «Вот какая философия выработалась у обломовского Платона и убаюкивала его среди вопросов и строгих требований долга и назначения! И родился и воспитан он был не как гладиатор для арены, а как мирный зритель боя; не вынести бы его робкой и ленивой душе ни тревог счастья, ни ударов жизни – следовательно, он выразил собою один ее край, и добиваться, менять в ней что-нибудь или каяться – нечего». (с. 368) Самое важное, что «литератор» не скрывает: Обломов (Платон!) выразил «один край» жизни, Штольц – другой, Фауст – третий… Обломов не сумел синтезировать крайности, в чем и лениво раскаивался (правда, «с летами волнения и раскаяния являлись реже»…). Штольц, заметим, не раскаивался, словно ему раскаиваться было не в чем. У Обломова «выработалась» (не он 367 «выработал», заметим) философия приспособления, а такого рода «философия» всегда вырабатывается сердцем и душой, а не умом. И не философия это вовсе, а идеология, и не познание это мира и себя, а приспособление к своим слабостям, к лени мысли. Совершенно верно: «обломовщина», у которой есть свои «светлые» и темные стороны. Идеализировать Обломова можно только на фоне Штольца; на фоне Фауста сей «Платон» как-то блекнет. Штольц, возможно, и выработал свою философию, но ей грош цена, ибо философия должна еще и «вырабатываться»; два органа создают серьезную философию: ум и душа. Или один, стоящий двух, потому что состоящий из двух: разум. 8 Не сразу бросается в глаза, однако тот самый Андрюша Обломов, родившийся от неформального союза Ильи Ильича и Пшеницыной, был оправданием и надеждой не только Ильи Обломова, но и Андрея Штольца. Можно сказать иначе: появление этого младенца было укором обрусевшему немцу, упреком в отсутствии у предприимчивого Штольца золотого обломовского «колодезя». Интересно также и то, что формула «Андрей Обломов» есть попытка с другой стороны преодолеть комплекс «лишнего»: это укор (заочный) и бесполезному лишнему, и суетливому прагматику. Правда, культурный младенец, ломающий традицию, был очень отвлеченен; впрочем, он был вектором, а не реальностью, и в этом смысле отвлеченность его вполне реалистична. Как бы то ни было, Андрюша будит своего ленивого папашу, хватая его за нос, не дает ему безмятежно храпеть на своем диване: выполняет функцию Ильинской, функцию культуры (русская литература, увы, часто преувеличивает культурную миссию женщины). Илья Ильич вроде бы и бодрствует, но впадает при этом «в неопределенное, загадочное состояние, род галлюцинации». «Настоящее и прошлое слились и перемешались. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре…» (с. 372) Дежавю. Милитриса Кирбитьевна, обломовский индейский петух, лай собаки… Обломовка или Выборгская сторона Петербурга? Круг жизни Ильи Ильича завершен, хорошо ли, худо ли. Именно в этот момент (пять лет прошло со времени предыдущей встречи, памятной «болотными» ассоциациями) его застает в последний раз Андрей Иваныч; в последний раз, так сказать, крайности сходятся. Несгибаемый Штольц в своем репертуаре: «ты погиб», «ты опустился совсем», «ты должен жить с нами, вблизи нас», «надо жить иначе, ты понимаешь как…», «вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор…» (с. 374) Однако у Ильи Ильича, пережившего апоплексический удар, едва не разбивший его, невесть откуда взялся «решительный, небывалый тон»: «Не делай напрасных попыток, не уговаривай меня: я останусь здесь». (с. 374) 368 Штольц в «изумлении», Обломов «покоен и решителен». « – Не напоминай, не тревожь прошлого: не воротишь! – говорил Обломов с мыслью на лице, с полным сознанием рассудка и воли. – Что ты хочешь делать со мной? С тем миром, куда ты влечешь меня, я расстался навсегда; ты не спаяешь, не составишь две разорванные половины. Я прирос к этой яме больным местом: попробуй оторвать – будет смерть». (с. 374) Это уж слова не мальчика, но мужа, или, если хотите, не поэта, но философа. Любо-дорого слушать. «, – Знаю, чувствую… Ах, Андрей, все я чувствую, все понимаю: мне давно совестно жить на свете! Но не могу идти с тобой твоей дорогой, если б даже захотел… (…) Я стою твоей дружбы – это бог видит, но не стою твоих хлопот». (с. 374) Не кажется ли вам, читатель, что Обломов, будучи крайним, тем не менее гораздо богаче, содержательнее спасающего его Штольца – уже хотя бы тем, что ему «совестно жить на свете» только с одного краю? Комплекс неполноценности в связи с культурной несостоятельностью. У Штольца же – дурацкий и заносчивый комплекс превосходства. От большого, но примитивного ума. Штольц «каменеет», «почти кричит», а Обломов «покойно» представляет «эту женщину», Агафью Матвеевну, как «жену». « – А этот ребенок – мой сын! Его зовут Андреем, в память о тебе!» «Теперь Штольц изменился в лице и ворочал изумленными, почти бессмысленными глазами вокруг себя. Перед ним вдруг «отверзлась бездна», воздвиглась «каменная стена», и Обломова как будто не стало, как будто он пропал из глаз его, провалился, и он только почувствовал ту жгучую тоску, которую испытывает человек, когда спешит с волнением после разлуки увидеть друга и узнает, что его давно уже нет, что он умер. – Погиб! – машинально, шепотом сказал он». (с. 375) Это реакция, недостойная мыслящего человека; это реакция моралиста и каменного догматика, абсолютизировавшего свою крайность и не видящего жизнь в ее целостности, без краев, бесконечную. Обломов «погиб» не больше, чем Штольц, или, если угодно, Штольц «пропал» не меньше, чем Обломов. Антагонисты и друзья «обнялись молча, крепко, как обнимаются перед боем, перед смертью. Это объятие задушило их слова, слезы, чувства…» (с. 375) Они «слились» в единое противоречивое целое – и от этого роман опять же только выиграл. Единство противоречий – это жизнь. Вот почему Обломовка превратилась в «станцию дороги», на Выборгской стороне уже «возвышается длинное, каменное, казенное здание», на могиле Обломова «ветки сирени, посаженные дружеской рукой», соседствуют с полынью, Андрюшу Обломова «выпросили на воспитание Штольц и жена и считают его членом своего семейства»; наконец, Агафья Матвеевна из «коровы» превратилась в «барыню, помещицу»: «Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что бог вложил в эту жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда… Навсегда, 369 правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно». (с. 379) Совмещение противоречий, обогащающее их и придающее им новое качество – закон жизни и, следовательно, закон литературы. В заключение остается сказать, что «литератор», «приятель» Штольца, был «полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами». Как вы думаете, отчего этого «апатического» господина, который говорил, «лениво зевая», столь взволновал рассказ Андрея Иваныча об Илье Ильиче и «обломовщине»? Штольц рассказал, а «литератор», весьма смахивающий на еще не нашедшего точки приложения своих сил и способностей Обломова, с энтузиазмом записал, проработал, близко принял к сердцу историю души. Не кажется ли вам, что безвестный «литератор» и есть уже в определенном смысле Андрей Обломов – образ, в котором совместились свойства Обломова и Штольца? Если это так, тем более стоит обратить внимание на название романа. Оно весьма многозначительно, ибо не указывает на какого-либо одного, конкретного Обломова. Название можно отнести как к Илье Ильичу, так и к Андрюше. 9 Почему же вопрос «практики», действия, деятельности оказался в центре внимания Обломова? Вопрос этот стал крестом, стыдом и скорбью – «обломовщиной», собственно, омрачал жизнь склонного к созерцанию и тучности сибарита. Дело в том, что практика как категория «гуманитета» служит способом перехода от натуры к культуре. Сам переход этот – вопрос усилий, вложенного труда. Труд делает человека – и этим все сказано в смысле философском. Ежели ты перестаешь трудиться (не хочешь, не желаешь, не умеешь, не имеешь вкуса к деятельности), ты рано или поздно начинаешь выпадать из культуры. Становиться культурным, быть культурным и удержаться в культуре – это вопрос практики. Вот почему, признав перед барышней Ильинской свою неспособность быть одержимым деятельностью, неспособность к постоянному труду, Обломов опускается, в известном смысле ставит на себе крест. В конечном счете, он и сына назвал Андреем Ильичом в честь труженика Андрея Иваныча: это красноречивое завещание Ильи Ильича. Он «пропал», с точки зрения Штольца, абсолютизирующего практику. Для Андрея Иваныча это не способ стать культурным, а высшая ценность сама по себе. Цель ничто, движение – все. Вот почему, с точки зрения «литератора», деятельность Штольца превращается в «штольцевщину», малокультурную озабоченную возню, отвлекающую от осмысленной, высшей практики. Если быть последовательным и корректным, сам Штольц, задавленный работой, 370 превращается в варвара, далекого от культуры, ибо практика стала для него не способом прогрессировать в культуре, а вариантом деградации. А где же гармоничный человек? Дайте «гармонического» человека! Вот Андрей Обломов и есть намек или заявка на искомую гармонию. Ведь почему несчастные «лишние» жаждали потрудиться, рады были бы служить (но не «прислуживаться»)? Они рады были становиться людьми, заслуживающими уважения трудом, цель и смысл которого не набить брюхо (так и не вырваться из «лона натуры» и трудом именно закабалить себя: труд в этом контексте – идеал человека комического), а прорваться к высшим духовным ценностям, к духовному творчеству. Иначе сказать, труд и практика сами по себе не являются доблестью высшего, культурного порядка. Иногда, как это было в случае с умными лишними, да и с тем же Обломовым в части первой эпопеи под названием «обломовщина», лучше ничего не делать, чем делать ничего. Такое ничегонеделание – форма протеста, то есть все-таки что-то вроде дела, позволяющего сохранить духовное здоровье. Поскольку главный человеческий труд – это мышление, то размышления Ильи Ильича в этом контексте были – пока еще! – где-то и нормальной реакцией. Скажи мне, во имя чего ты трудишься – и я скажу, кто ты. Однако если тебе лень протянуть руку за собственным счастьем – вот тут отсутствие воли к практике означает деградацию, скатывание в натуру, мягкий или жесткий (всяко бывает) вариант оскотинивания, «обламывания» того самого культурного сука, на который с таким трудом удалось взгромоздиться. А ведь под гору бегом – с горы кувырком: вверх вползаешь медленно, а с горы катишься – аж дух захватывает. Так почему же Илья Ильич так и не стал «скотиной», а, напротив, как-то даже симпатично пребывал «в лоне природы»? И ничего не делал – и золотое сердце было при нем, в сохранности. Дело в том, что уход в скиты натуры, в Обломовку сам Илья Ильич считал едва ли не высшим культурным достижением. Он немало потрудился над проектом счастливого уединения от суеты. Поэтому когда он не без удовольствия скатился в объятия Пшеницыной, то попал он в тот самый рай, на грезы о котором положил столько сил, пребывая в халате на диване. В раю не хватало только одного: все той же проклятой практики, ибо без нее никуда. Чтобы ничего не делать и чувствовать себя при этом человеком, надо немало потрудиться. Гармония с природой (а гармония с природой – это всегда гармония натуры и культуры) получилась относительной и не весьма завидной. Пришлось честно назвать сына Андреем… Иное дело, что оппозиционный вариант гармонии «по Штольцу» – через выпячивание деятельностного компонента – также завел в тупик. Обломов – это протест против того, что труд как главная ценность цивилизации гробит человека, и одновременно жертва в том смысле, что без труда человеком не стать. Гуманист, который подрывал основы гуманизма. Маргинал двуликий супротив одномерного Штольца. 371 Вот почему роман называется «Обломов», а не «Обломовщина» и не «Штольц». Обломов – это духовное явление, а Штольц – это эффективная практика, которая возможна только тогда, когда человеку некогда подумать, некогда быть человеком (а ему уже казалось, что и незачем думать). Время – становится деньгами, а не жизнью. Штольц продукт цивилизации, а Обломов – диагноз. Очень тонкую притчу неторопливо развернул перед нами «литератор». ДеЛень – это миф, а «польза от лени» – это схоластика. Лень как момент труда, составляющая практики – это поэтическое нечто, лень как нежелание превращаться в человека – это тоже диагноз. Таким образом, «литератор» представил нашему просвещенному взору две модели цивилизации (именно цивилизации, но не культуры): «западную» с ее культом труда и минимумом созерцательной рефлексии (тратить время, то бишь деньги – без пользы?) – и «восточную», без всякого намека на Европу, с ее очаровательной способностью к погружению в психологические глубины и отвращением к созидательному труду. Обратим внимание: Обломов не столько мыслитель, сколько поэт, не мышление, а «волканическое» воображение стало областью его творчества. Он не познает или трезво отражает мир, а «меняет» его в своих мечтах. Понятно, что зловредная «обломовщина» погубит мир; однако, как ни странно, ее противоположность, «штольцевщина», также погубит «гуманитет», а вместе с ним и мир (что, собственно, сейчас и происходит). Де-Лень оказался пророком. Бывает. Еще более странно, что рецепт облагораживания «штольцевщины» – скрещение ее с бесполезной «обломовщиной», а рецепт выживания «обломовщины» – породниться с бездушной рутиной практики. Возможно ли сие в культуре? Младенец, нареченный Андреем Ильичем Обломовым, только народился. Воспитывается он в семье Штольца. Что ждет его впереди? Деловитая Обломовка? Кто знает. Хотелось бы, чтобы у него было будущее. Пока же «литератор» обращает внимание на приоритет «гуманитета»: берегите в себе и культуре Обломова, ибо штольцам культура не нужна. Они не собираются познавать себя и в соответствии с этим изменять мир. Они собираются менять и менять мир, им некогда познавать себя. Зачем? Штольцам не интересны такие пустяковые вопросы. За этим обращайтесь к Фаусту и Платону. Собственно, то, о чем мы говорим, – это предел художественной мысли в России. Россия смогла поставить сложнейшие философские вопросы в художественной форме, пропустив их через душу и сердце. Чего ж вам больше? Страна, которая родит только обломовых, специализируется на душевном освоении мира, на большее пока не способна. Но и это немало. Более того: в современном контексте «диван, халат и туфли» (рыцарские доспехи Дон Кихота 372 от «гуманитета») в противовес «клонированию» и «ядерной зиме» звучит как мелодичный набат. Вставайте, люди добрые! «Теперь или никогда!» 373 ЧАСТЬ 9. А.С. ГРИБОЕДОВ 9.1. ГОРЕ УМУ, иль СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ 1 Если горе от ума – значит, нам весь мир тюрьма. Чацкий Александр Андреевич был первым, еще весьма несовершенным эскизом «лишнего», избыточно для обыденной жизни умного, – но первым. Духовно-исторический приоритет Грибоедова Александра Сергеевича в открытии подобного эксклюзивного типажа, и даже «типичной» культурной ситуации для русской литературы, несомненен. В Чацком много еще задора, он, очевидно, полагал, что за ним будущее, ибо с ним истина (то есть культурное прошлое, заставляющее чтить истину превыше всего на свете). Не в силе бог – а в правде, истина дороже. Направление духовного развития было направлено на истину, такая установка делала ум свободным, совесть чистой, силы – безмерными. Энтузиазм первопроходца принимал форму духовной эйфории. Поймать бога за бороду – это ведь о таких, как Чацкий. «А судьи кто?» – это ведь «море по колено». А там, где море по колено, ждите «мильон терзаний», тысячу разочарований, прозрений, трагизма – нового качества ума, приносящего новое горе. Жизнь продолжается: очарование сменяется разочарованием, смех – слезами, трезвость ума – стремлением к новым идеологическим чарам. В великой комедии намечены те основные проблемно-содержательные поля, которые впоследствии на разные лады будут прилежно обрабатываться русской литературой. Во-первых, это не комедия, а трагикомедия; лишний и трагикомедия – близнецы-братья. Во-вторых, горе настигает лишнего всегда со стороны социума, общества (фамусовского ли, «водяного», петербургского, уездно-аристократического, дворянско-помещичьего – не суть), со стороны бдительных судей, всегда готовых сию минуту удавить какого-либо новоявленного героя, отколовшегося от «всех», крепкими лямками морали и «принсипов». Горе, строго говоря, есть форма разочарования в духовных возможностях социума и одновременно форма прозрения относительно колоссальных, неисчерпаемых репрессивных возможностей того же социума. Никаких иллюзий: заблудшее чадо, паршивая овца или «сатанический урод» будет исторгнут из всеобщей колыбели и примерно наказан. Отлучен. Наказание – адекватно преступлению: поднявший меч разума погибнет в тенетах психики. Натура душит культуру, маскируясь под культуру: законами, догмами и проч. «Лишний» лишен будет социальной базы и ниши. 374 Отсюда присутствие постоянного мотива: путешествия, «охота к перемене мест»; в частности, из города – в деревню, поближе к «доброй» и «честной» природе, подальше от социума, от «коварной» и «лживой» культуры. В третьих, горе лишнему веет отовсюду – оно может нагрянуть и оттуда, откуда его совсем не ждешь. Умному человеку испытанием становится любовь: как альтернатива бессмысленному общественному бытию актуализируется богатая внутренними коллизиями частная жизнь. Но и любовь выступает как наказание. Мне отмщение и аз воздам. Это уже непосредственно месть самой природы. И хлеба обращаются в камни: то, что для всех источник радости и «смысла», для лишнего – печаль. Природа любви роковым образом несовместима с природой «горе от ума». Хотя ум именно в любви ищет забвения от горя. В-четвертых (и это пока еще традиция), лишнему не удается перестать быть жертвой в социальном, а чаще всего и в духовном смысле. Торжествуют «судьи». И, наконец, в-пятых (возможно, в-главных): проблемой лишнего, в конечном счете, становится проблема самопознания. Имей мужество познать себя – это сказано каким-то древним лишним. Сердцевина же самопознания как проблемы – взаимодействие взаимопересекающихся, но не взаимопроницаемых инстанций, психики и сознания. Собственно, горе от ума ведь и означает: горе душе от присутствия эффективно действующего ума. Коллизия ума и души («ум с сердцем не в ладу») вынесена в заглавие не только «комедии» Грибоедова, но и главной темы всей русской литературы – той темы, что создала не только репутацию, но и самою русскую литературу, придала этой литературе навеки узнаваемое лицо, и вознесла русскую литературу до художественных небес. Строго говоря, эта тема стала (всегда была, но скрыто, подспудно) главной темой всей мировой литературы. Тема, разумеется, мистична, ибо мистика возникает всегда там, где душа злорадно торжествует над аргументами разума, бравируя невменяемостью по отношению к здравому смыслу, преклонением перед непознаваемостью «вещей». Вот вам только один мистический штрих: тему Грибоедова подхватил другой Александр Сергеевич, Пушкин. Нет бы сначала Михаил Юрьевич или Антон Павлович, на худой конец – Иван Сергеевич, так ведь нет: двойной тезка, след в след, пуля в пулю. Тайна сия велика есть. Так ли? Отнюдь не так, господа. Самая большая тайна в том, как русской литературе удалось разгадать тайну человека, во всяком случае, вплотную приблизиться к разгадке, что саму русскую литературу в известном смысле сделало «лишней». Ведь русской литературе – не по заслугам честь: ее в упор не видят, не замечают ее культурного величия. Тут уже не за державу, а за человека обидно. 375 Оставим первую тайну вместе с мусором мистики, а сами займемся тайной второй. Тайна называется – «горе от ума», феномен и парадокс самопознания, отраженный и смоделированный в бессмертной комедии Грибоедова. Конечно, можно считать эту великолепную формулу (которая в первоначальном варианте звучала еще более определенно: горе уму) реминисценцией из Библии. Кто не знает перлов Соломона: во многой мудрости многая печаль, и умножая познание – умножаешь скорбь… Однако это, так сказать, поэтическая ипостась проблемы самопознания, описательный подход к феномену. Собственно, начало феноменологии. Грибоедов же, который вряд ли был глупее Соломона, предпринял попытку разобраться в проблеме уже в художественно-аналитическом ключе. Это не просто шаг вперед; это иной уровень освещения проблемы, на ином культурном языке, в иной культурной ситуации. Высший этап всей этой соломоновско-грибоедовской пирамиды – научное постижение моделей, созданных художественной культурой человечества, той самой мудростью аналитически расчленить модель, познать ее – и нажить себе еще большую печаль. Такая перспектива – от литературы к философии – как ни странно, всегда вдохновляла творцов культуры. Не будем и мы отступать от этой древней и, не исключено, гибельной традиции. 2 Все благородное общество, которое окружает Чацкого, изображено красками исключительно сатирическими. Отсюда – комедия: сатирическая, обратим внимание, комедия. По всем жанровым, стилевым и духовным канонам того времени Чацкий должен был быть героем – то есть человеком, который «рад служить» «делу», высоким идеалам, и служит им самозабвенно, и обретает в этом моральную правоту, силу и стойкость духа, и, наконец, ту высокую точку, с которой он с полным правом судит общество морально убогих, неполноценных, негероических «уродов». (Кстати, именно так трактует Чацкого И.А. Гончаров в своем знаменитом критическом этюде «Мильон терзаний»: «общественные вопросы», «общественное благо», «роль бойца с ложью и предрассудками» и т.п.) Чацкий должен был быть «судией». Но тогда бы комедия называлась «Счастие уму», а умом считалась бы способность быть героем. Вспомним Правдина и Стародума из «Недоросля»: вот типичная, можно сказать классическая (что не мешает ей быть классицистской) нормативная модель. Точка отсчета всегда – герой, источник героизма – верное служение морали, общественному благу. Чацкий же – «служить бы рад», однако любое служение оборачивается «прислуживанием»: это уже нечто из области явно не героической, явно 376 критически направленное по отношению к общественным потребностям, что меняет их статус абсолютно значимых для личности. Итак, с самого начала нам необходимо верно разобраться в природе конфликта, положенного в основу пьесы. Что не поделили Чацкий и его окружение? Почему они мгновенно стали врагами и антагонистами? Дело в том, что общество (коллектив) – колыбель личности. Так было до Чацкого. Ворвался в культуру Александр Андреевич – и общество стало одновременно колыбелью и могилой. Общество – среда обитания и способ жизнедеятельности индивидуума; вышел из общества, оперился благодаря ему – укрепи его, отдай сыновний долг. А общество, сиречь Отечество, отечески поощрит. Оно тебе – ты ему. Ежели по своим потребностям, умственным и нравственным запросам ты становишься «умнее», выше общества – ты вступаешь в конфликт экзистенциальный, конфликт, в котором победа любой из сторон оборачивается бедой или катастрофой. Это недопустимо. Сгинет, пропадет, развалится общество – исчезнет сама жизнь, род человеческий, который умные люди назвали homo sapiens. Но развитие общества приводит к появлению личности, которая не может не презирать общество, не может не видеть убогость и ограниченность общественных норм и регуляций. В культурном отношении личность – венец и оправдание общественного развития, цель и смысл истории, критерий прогресса. Личность приходит в противоречие с самой жизнью, точнее, личность как порождение культуры – с натурой, также имеющей непосредственное отношение к появлению личности. Поистине убийственное противоречие. Культура или натура, сознание и психика – вот арена, на которую вышел Чацкий, этот «Манфред и Фауст» человечества (говоря словами Штольца, героя Гончарова, достойного члена общества). Дело, разумеется, не в наличии общества так такового; оно есть естественное порождение жизни, форма жизни и гарантия выживания человека. Дело в наличии у человека «ума» (плода культуры) и души (психики, феномена натуры). Чацкий по большому счету вступил в конфликт не с обществом «фамусовых» – а в конфликт с собой, с разными сторонами своего противоречиво устроенного существа. Это универсальный конфликт homo sapiens’a. Из Москвы уехать – не проблема: карету мне, продукт материальной культуры, – и с глаз долой. А вот от себя не убежишь, не напутешествуешься. Где оскорбленному есть чувству уголок? Разве что там, где нас нет. Нигде. Таким образом, проблема, которую безрезультатно решает Чацкий, – это не его только персональная проблема. Мы все, общество в целом, заинтересованы в том, чтобы конфликт так или иначе был решен: и жизнь продолжить, и с ума не сойти. Общество в лице его передового представителя В.Г. Белинского аттестовало лиц, подобных Чацкому, формулой «страдающий эгоист». В этой формуле 377 «лишнего» забавен вот какой нюанс: это оксюморон, сочетание несочетаемого, прямой намек на то, что эгоист не может страдать; а если он вдруг все же страдает, то это не может вызвать у читателя ничего, кроме кривой улыбки, ибо повод для страдания эгоиста всегда будет «шкурным», узколичным, эгоистичным же. Иначе сказать, Белинский продемонстрировал ментальность человека, целиком и полностью сориентированного на приоритет общественного в духовном мире личности. Белинский почитает героическое, «народное» в человеке (и, соответственно, в отражающей человека литературе): чем больше в нем общественного, тем меньше эгоистического. Белинский не заметил, что страдающий эгоист – это уже отрицание эгоиста в себе, а значит, поощрение в себе неэгоизма. Да и что такое эгоизм лишнего? Это неумение и невозможность подать себя в качестве полезного члена общества. Чацкий и рвался бы служить. Но чему прикажете служить? «Похвала глупцов» его интересует, «взманили почести и знатность»? Все это, видите ль, брюхо иль психика, тело да душа – комплексы человека комического, раба природы, а потому царя людей (не царь, так «туз»: тут дело не в ранге, а в принципе). А где же ум, основа самоуважения и достоинства, оплот культуры? Вот основное противоречие человека думающего, желающего служить обществу, и не находящего для этого никакой возможности. С эгоизмом лишнего не все так просто еще и с той стороны, что эгоизм этот есть проявление естественной жажды общественно-полезной деятельности. Более того: знак не только жажды, но и реального служения. Чацкий ведь не скрывает, что он ищет службы, не бегает от нее. Фактически он и служит – себе, личности, человеку, то есть, в конечном счете – обществу, но – в конечном счете, с учетом перспективы. Сию минуту он эгоист, а потому лишний. Служить себе, то есть личности в себе, – это акт глубоко общественный, скрытый смысл которого – изменить общественные приоритеты. Ни больше – ни меньше. Ведь до Чацкого точкой отсчета в морали были интересы социума (Отечества, общества, народа). Чацкий точкой отсчета недвусмысленно и полемически делает личность – и потому попадает в лишние, в «карбонари», в «якобинцы», в нигилисты, в революционеры… И потому открывает новую страницу в эпопее под названием человековедение. Разумеется, выдвижение на первый план интересов личности не «задвигает» интересов общества. Главным интересом общества становятся права личности: это и сегодня не более чем декларация, а во времена Чацкого отдавало изрядной ересью. Александр Андреевич «эгоистически» провозгласил иную комбинацию интересов, иной баланс, новый тип гармонии личного и общественного, идущий на смену типу героическому, где долг и честь состояли в отречении от всего личного. На первый взгляд, Чацкий жаждет обыкновенного героизма в противовес «фальшивому», сатирическому героизму фамусовского общества. 378 Однако в его постановке вопроса появляется роковой нюанс: он готов служить тому, что в свою очередь служит человеку. Чацкий Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдется – враг исканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, – Они (судьи – А.А.) тотчас: разбой! пожар! И прослывет у них мечтателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! Служение науке или искусству превращается в форму служения себе (у истинного героя – наоборот: служить себе – служить «мундиру», общественным представлениям о долге). Этот новый тип эгоистической героики, новый тип гармонии за неимением более подходящего термина мы называем гуманистическим или «идиллическим». По существу, это, несомненно, духовная революция, и лишний Чацкий – ее буревестник и авангард. Его доля и удел – чрезвычайно горьки и безнадежны, ибо уж очень высоки и невероятно далеки от чаяний народа и толпы. Чацкий, судя по всему, еще и сам себе цены не знает. Он бессознательно движется по пути сознания. Итак, природа конфликта Чацкого и общества – целиком и полностью духовная. «Чацкие» отныне и навсегда становятся критерием общественного прогресса, и выясняется, что общество, «в общем и целом», не заинтересовано в том, чтобы духовный уровень его членов повышался далее допустимой отметки. Есть, оказывается, предел совершенству, с точки зрения общества. Появление Чацкого поставило на повестку дня вопрос об ином типе социума, где умных бы не объявляли сумасшедшими. Означает ли «горе» Чацкого от избытка ума, что подобных обществ не бывает и быть не может? Вопрос открытый, не станем лукавить. У нас есть основания полагать, что чацкие будут если не блаженствовать на свете, то по крайней мере станут относительно востребованы теми же «молчалиными», которые ничего не говорят не только из тактических соображений (потому как в чинах небольших), но и потому, что им просто нечего сказать. Это гении приспособления, их цель – мундир, а молчание – верное средство. До тех пор, пока можно жить приспосабливаясь, чацким ничего особо не светит. Горе от ума ведь и означает: ум дан для того, чтобы пользоваться умом как хитростью, а если использовать его по прямому назначению – разоблачать хитрость, думать – 379 горе. Вся надежда на то, что людей поджидает катастрофа, которая будет являться следствием молчалинской духовной политики. Точнее, надежда на то, что у Чацкого появится шанс реализовать свой способ жизнедеятельности как гуманистическую альтернативу катастрофе. Хочется в это верить; но не оченьто верится. Интересно: верилось ли бы сегодня самому Чацкому? 3 Чацкий попал, как известно, «с корабля на бал»: из огня да в полымя. Впоследствии точно такой же путь и с равной же безуспешностью проделает Онегин – по уже намеченной, но не пробитой колее. Александра Андреевича сама жизнь заставила появиться в обществе, из которого он бежал три года тому назад. А «сама жизнь» – обратим внимание – это любовь. Это веское слово тела и души, не подчиняющихся воле рассудка. Не умственные запросы, не решение «вопросов», не формулировка целей – а любовь, квинтэссенция жизни. Чацкий появляется в обществе, к которому у него сложилось вполне определенное, резко негативное отношение, по поводу сугубо частному, лично-интимному, не касающемуся общества. И это первое попадание Грибоедова в «десятку»: у «лишних» все личное неизбежно социализируется, за деревьями всегда сквозит лес, за частным – общее. Почему? Потому что их мировоззрению свойственно философское измерение: они стремятся видеть связь всего со всем. В этом и состоит отличительная черта ума. Симптоматично уже то, что умный Чацкий служит «сердцу», ищет утешения в чувствах. Уже одно это свидетельствует о том, что в области «целей» и «трудов» на благо чему бы то ни было откровенно социальному – беспросветный кризис. Грибоедов пишет не о любви; он угадывает печальные закономерности культурной ситуации: если ты по-настоящему умен, то… Мотив появления Чацкого в обществе настолько глубок, что впору смеяться над теми зрителями, которые принимают трагические метания Александра Андреевича за комедию. Кто смеется последний? Собственно, конфликт с обществом как таковой у Чацкого не рождается спонтанно, по ходу пьесы, несмотря на то, что в конце Чацкий заявит: «Так! отрезвился я сполна, мечтанья с глаз долой – и спала пелена». Просто появляется масса поводов высказать свое выстраданное отношение к обществу, его героям и идеалам. Иными словами, Чацкий как личность не формируется на наших глазах, он уже в значительной – решающей! – степени сформирован (хотя «мечтанья» еще оставались). Конфликт становится не личностнообразующим по главной своей функции, не формирующим на наших глазах новую духовную позицию; конфликт становится способом показать последствия «умного» отношения ко всему: к себе, другим, делу, лицам, отцам, молодым, судьям и т.п.. И следствием такого отношения оказывается «горе». 380 Вот почему анализ «комедии» со стороны сюжетно-композиционной, словесной, и даже характерологической является анализом также следствий, но не причин, анализом явлений, но не сути. Это поверхностный анализ вторичных феноменов. Причины причин лежат глубже. Гораздо содержательнее анализ ситуации, в которой разворачивается идейно-духовная сторона конфликта. Весь сыр-бор разгорелся не потому, что Чацкий любит Софью, а потому что Чацкий умен, а все остальные нет. Происходит столкновение двух систем ценностей. Причины утоплены в сюжет, стоят «за кадром», образуя многослойный семантический контекст и подтекст, так сказать, внутренний сюжет. Сам язык комедии сложно понять и оценить по достоинству, если не видеть, на какую сверхзадачу он работает. Легендарная ясность, лапидарность и отточенность формулировок свидетельствуют о точности и продуманности (неслучайности) отношения. Ядовито-саркастическая патетика не «забивает» строгости мысли: это потрясающее достоинство произведения. Еще одна великолепная сторона шедевра: всем кажется, что они вполне понимают, что происходит на сцене. Но часто за деревьями не видят леса. Комичность ситуации, если уж на то пошло, в том, что история любви принимается за чистую монету, и страдания героя превращаются в мыльный сериал. «Горе от ума» и «комедия» становятся оценочными характеристиками еще и того обстоятельства, что массовому зрителю невозможно показать и объяснить суть происходящего. Они всегда видят не то, что представлено в пьесе. Слезы автора они чистосердечно принимают за смех. Грибоедов – один из наиболее решительных, ядовитых и непримиримых врагов толпы, для пущей дерзости рискнувший заговорить с ней на том языке, который «общество» считает своим, родным. Итак, необходимо развести подтексты и непосредственное «сквозное действие», глубокий культурный архетип и его яркую и зрелищную символизацию, чем мы и собираемся заняться. Первая и радикальная ошибка Чацкого, делающая его, впрочем, в глазах многих непонятым и отвергнутым (вызывающим жалость жертвой) – это то, что он искал в Софье, Софии не родственную душу, а родственное отношение к свету, толпе, человеку, жизни. (Русская литература, вне всякого сомнения, с большим пиететом относится к женщине, а потому первое, чем награждает своих героинь – это умом, мудростью, чертой «софийствующей»: в имени героини отражены более благие намерения, чем понимание природы женщины; а вот в поведении Софии гораздо больше истинно женского, нежели мудрого или просто умного: ее горе в том, что ей как раз «ума недоставало».) Чацкий по себе судил о женщине: простим ему это только потому, что он был безумно влюблен. «Умно», рассудочно влюбленными бывают только подлецы и мелкие душонки вроде Молчалина. Любовное чувство, где страсть перемешана с 381 хладнокровным самоанализом, как раз с выгодной стороны характеризует Чацкого. Любовь слепа: Чацкий и был слеп, то есть влюблен, но не глуп. Уже одним тем, что Софья смогла внушить ему сильное чувство, она как бы выделилась из толпы, общества: избранница знающего цену людям Чацкого кажется нам девушкой особенной. Его безответное чувство как бы связывает их обоих и возвышает над всеми (скажи мне, кто тебя любит, и я скажу, кто ты). Здесь не столько Софья нам интересна, которая, в свою очередь, оказалась слепа в отношении любимого ею Молчалина (обратная связь: скажи мне, кого ты любишь, и я скажу, кто ты; отблеск ничтожности Молчалина падает на Софью), сколько то, что Чацкий обречен был искать если не союза, то контакта с обществом, а через него с жизнью. Без Софьи (Татьяны, Веры, Наташи…) не прожить; но именно Софья и формулирует то, что все так жаждали услышать о Чацком: он сошел с ума, он сумасшедший, ибо своим поведением и речами предлагал всем остальным – всему миру! – быть умалишенными. Софья первая догадалась, она глубже всех была оскорблена дерзостью постылого поклонника. Любовь делает сердце зрячим – особенно относительно того, что угрожает любви. Тут дело даже не в злонамеренности Софьи Фамусовой, а в бессознательной логике «общества», которую возлюбленная Чацкого уловила и озвучила. Вот характерная реплика шестерых княжен Тугоуховских, произносимая совместно с князем и княгинею, а также с Загорецким (к этому хору можно вполне присоединять солирующий гневный голос Софьи): Все вместе Мсье Репетилов! Мсье Репетилов! что вы! Да как вы! Можно ль против всех! Да почему вы? стыд и смех. Мсье Репетилов, напомним, всего-то позволил себе усомниться в том, что Чацкий «в уме сурьёзно поврежден». Против всех – стыдно, смешно и невозможно. Ежели ты все же не внемлешь этим аргументам и продолжаешь выступать против всех, следовательно, ты «не в своем уме». Репетилов, кстати, мгновенно образумился и покаялся: «Простите, я не знал, что это слишком гласно». Стал как все – стал нормальным. Вообще тема сумасшествия обыграна Грибоедовым гениально. Тысячи подтекстов таит в себе этот «диагноз». Те, кого Чацкий упрекает в «рассудка нищете», платят ему той же монетой: уже одно это свидетельствует о том, что именно ум выступает мерилом и критерием всего, даже безумия, именно за право быть умным бьётся Чацкий с обществом. Вопрос ставится ребром, в судьбоносном и роковом ключе: если допустить, что Чацкий нормален – значит все остальные не в своем уме. Или мир сошел с ума – или Александр Андреич «в его лета с ума спрыгнул» (Хлёстова). И тут уже свет безжалостно эксплуатирует сумасшедшую логику, согласно которой все правы уж тем, что они – все, общество, сила, большинство. 382 Количество беззастенчиво бьёт качество. И далее в ход идут утонченные, даже иезуитские соображения, которые призваны продемонстрировать трезвость и ясность ума тех, у кого его нет. Фамусов По матери пошел, по Анне Алексевне; Покойница с ума сходила восемь раз. (…) Загорецкий В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны. (…) Хлёстова Чай, пил не по летам. «Высокий ум» Чацкого (аттестация Репетилова) упорно сводят к клиническому диагнозу, к банальному сумасшествию. «Высокий ум» становится формой отнюдь не высокой болезни, за которую в приличном обществе «на цепь» сажают и «упрятывают» от греха подальше в «желтый дом» (автор откровений – Загорецкий). Что все это значит? Это значит, что не Чацкий, а мир действительно, реально сошел с ума. Еще точнее: мир всегда, извечно был глупым. Вот великое открытие Чацкого, с которым ему не с кем даже поделиться и которое не могло не привести к трагедии. Ум делает тебя ненормальным. Горько и смешно! Живите после этого нормальной жизнью… Все это очень, очень «сурьёзно». Из уст любимой девушки глупость и клевета звучат как приговор, обжалованию не подлежащий. И рад бы обманываться дальше, «мечтать» и питать иллюзии – да ум не позволяет. «Зачем меня надеждой завлекли?» – в отчаянии восклицает Чацкий. Но это не Софья завлекала надеждой; просто надежда – это единственное, что оставалось беспощадно трезвому уму. Дело не в Софье; дело в том, что у Чацкого была еще надежда. Как жить дальше, когда надежду «отобрали»? Вот этот сакраментальный вопрос оптимистически зачислен в риторические, «тактично» вынесен за скобки, за рамки ситуации. Абсурдность ситуации сама по себе словно служит гарантией того, что рано или поздно жить начнут по уму. Не может того быть, чтобы на свете не нашлось уголка оскорбленному чувству Чацкого! Как-нибудь выживем, прорвемся, авось обойдется. Пророк отказывается верить собственному пророчеству или, по другому: надежда все еще теплится. Несколько оптимистическая трагедия? Трагедийный ужас и пафос ситуации состоит в том, что из нее даже теоретически не просматривается выхода. Это буквально древнегреческого накала и чистоты трагедия. Для сознания, верящего в высокое призвание ума, желающего жить по шкале достоинства и благородства, определяемых умом, – для такого типа сознания нет перспективы и компромисса. Или ты живешь как все – или ты не живешь. Вот принципиальная, но нежизнеспособная постановка вопроса. 383 Чацкий Да, мочи нет: мильон терзаний Груди от дружеских тисков, Ногам от шарканья, ушам от восклицаний, А пуще голове от всяких пустяков. (Подходит к Софье.) Душа здесь у меня каким-то горем сжата, И в многолюдстве я потерян, сам не свой. Нет! недоволен я Москвой. Весь XIX век русская литература усиленно искала этот компромисс, а нашел его Александр Сергеевич Пушкин, сразу вслед за Грибоедовым диалектически продливший ситуацию в сторону совмещения противоречий и нащупавший иной тип сознания. Иные отношения, иная постановка вопроса – иные перспективы. 4 Но Чацкий был обречен: в гуманистической культуре все судьбоносные вопросы вначале обретают форму роковых дилемм. Он осознал и сформулировал противоречие: чего ж вам больше? Сложные проблемы начинаются с простоты противопоставления «черной» и «белой» правды, но и заканчиваются простотой, только уже иного порядка: черное оказывается стороной белого. Простота простоте рознь, как Чацкий и Онегин. Софью понять можно: у нее другая жизненная программа, она с радостью служит предназначению, которое не обсуждается в силу его вечной актуальности. И Чацкому в принципе это хорошо известно. Вот его милые и почти неядовитые комплименты Наталье Дмитриевне Горич: Чацкий Однако, кто, смотря на вас, не подивится? Полнее прежнего, похорошели страх; Моложе вы, свежее стали; Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Наталья Дмитриевна Я замужем. Чацкий Давно бы вы сказали! Совсем иное дело быть женатым: уму это мало помогает. Платон Михайлович, «прелестный муж» Натальи Дмитриевны, оказался «другом старым» Чацкого: Чацкий Платон любезный, славно. Похвальный лист тебе: ведешь себя исправно. 384 Платон Михайлович Как видишь, брат: Московский житель и женат. (…) Брат, женишься, тогда меня вспомянь! От скуки будешь ты свистеть одно и то же. Чацкий От скуки! как? уж ты ей платишь дань? (…) Движенья более. В деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. Деревня летом – рай. Наталья Дмитриевна Платон Михайлыч город любит, Москву; за что в глуши он дни свои погубит! Чацкий Москву и город… Ты чудак! Горич, Горич! Ведь нам обрисовали горькую перспективу Чацкого, если бы он, чего доброго, добился благосклонности Софьи и охмурил ее батюшку, стал зятем Фамусова. Следует сказать прямо: трагедия Чацкого не в том, что у него не было выбора, не было свободы. Выбор у него как раз был и была свобода действий и поступков: он мог жениться на Софье (в принципе она ведь могла быть и не против), мог не жениться или жениться не на Софье, мог уехать на три года, а мог и на все пять («рыскать по свету», по словам Фамусова), мог служить, не служить («бить баклуши» – Фамусов). «Кто путешествует, в деревне кто живет» – он волен был делать и то, и другое. Уму приносит горе не несчастная любовь или отсутствие свободы, а невозможность с помощью любви, брака, карьеры или «баклушей» избежать горя всевидения и всепонимания. Формально он мог выбирать, и формально он был свободен. Но есть еще высшая, «тайная», духовная свобода. Будучи умным и, следовательно, понастоящему свободным, он не волен был поменять своего отношения к социуму, уму и судьям. Беда в том, что он стал фактически свободен, а потому не мог предать истину – и вследствие того лишен был мировоззренческого выбора, понимаемого в том смысле, что «выбираю ту истину, какая мне больше нравится». Выбравший истину и ум – обретает свободу, а потому лишает себя иллюзорного, неизменно приятного и, как водится, полезного выбора. Свобода становится познанной необходимостью. Такая свобода – диктатура отраженных разумом законов. Такая свобода – не что хочу, то и делаю. С этой культурной кручи – только «вниз», в «хочу», в омут психики. Или – в трагедию, логика которой ведет к смерти. «С вами (Софьей – А.А.) я горжусь моим разрывом»: это и есть полная безнадега. Ясное понимание. Трагедия. Свобода. Горе от ума. Соблазнительно, очень соблазнительно отыскать для Чацкого незамеченную им самим социальную нишу и тем самым обозначить для него перспективу приложения сил общественной пользы ради. Если объективно существует ниша, 385 значит, трагедия носит субъективный характер. И тогда многое на свете поправимо. Вселенские обличения Чацкого можно представить в комическом свете. Ведь мелькнул же дразнящим призраком «князь Федор», племянник княгини Тугоуховской. «Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник…» В науки вперил ум? Но чистый интерес к чистой науке немногим отличается, скажем, от растворения в семье или от ловли тех же чинов. Ботаника может быть великолепным бегством от проклятых вопросов. Наука (особенно негуманитарная) чаще всего и выступает не формой протеста, а формой приспособления к действительности, против которой не хватает сил протестовать. Ботаника – это вам не «Философические письма»… С другой стороны, если химия является формой протеста, если ученых молодых людей становится много, если это поветрие, так сказать, порождение эпохи, – то Чацкий оказывается прежде всего социальным, и только во вторую очередь уже духовным явлением. Он не дотягивает до Фауста, становится по отношению к нему тем, чем Репетилов – по отношению к самому Чацкому. «Горе от ума» привязывается к конкретной исторической ситуации конкретной эпохи, и тем самым универсальный характер модели ставится под сомнение. Специально, чтобы развеять наши сомнения, на сцене появляется мсье Репетилов, этот вечный морально-социальный типаж. Сей «многозначительный» болтун – злая карикатура на лишнего. По формальным признакам его вполне можно принять за нонконформиста и нигилиста, даже за революционера. Сначала он «людьми пустыми дорожил», «бредил целый век обедом или балом!» Онегин, да и только. А теперь – «с людьми я знаюсь с умнейшими!!» «У нас есть общество, и тайные собранья по четвергам. Секретнейший союз…» «Что за люди, mon cher! Сок умной молодежи!» «Государственное дело…» Политика – и лишний? Этак всякую оппозицию, рвущуюся к власти, можно зачислить в лишние или всякий хоть сколько-нибудь проявивший себя бойкий ум. Если лишних становится настолько много, что они имеют реальный шанс превратиться в социальную или политическую силу, – это уже не лишние. Колоритные сатирические штрихи, которыми очерчены «умнейшие», сгребают их в пеструю толпу, заурядную светскую тусовку: англоман (и потому только «чудак единственный») «князь Григорий», дивный романсист Воркулов Евдоким (представьте себе Печорина «воркующим» романсы), «Левон и Боринька, чудесные ребята! Об них не знаешь, что сказать»; «гений», который «не пишет ничего», «Удушьев Ипполит Маркелыч!!!!» (последний, правда, «крепко на руку нечист; да умный человек не может не быть плутом»). Это не просто сомнительная компания; это органическое продолжение так называемого фамусовского общества, столь любезного душе Чацкого. «Куда деваться мне от них!» (от Репетилова, Скалозуба и иже с ними) – восклицает Чацкий. Это пародия на «союз» и «государственное дело». Но тут сам факт интересен: Репетилов (прекрасно, кстати, принятый в обществе) пытается прельстить умного Чацкого «соком умной молодежи», 386 якобы политически ангажированной. Ум и политика ставятся в один ряд. Причина горя от ума вновь сводится к неверному политическому режиму или устройству. Вот истолкование ума левым крылом консервативного общества! Если ты такой умный, почему равнодушен к политике? Потому что умный интересуется вечными вещами; этим он вызывает вечный интерес к себе. Чацкий, «не в прошлом ли году, в конце» находившийся «в полку», среди «шума лагерного, товарищей и братьев» («а помнишь прежнее?» – говорит он Платону Михайловичу), ни словом, ни намеком не дает оснований хоть как-то поставить себя в связь с какими бы то ни было общественными движениями. «Я сам к нему (к мундиру – А.А.) давно ль от нежности отрекся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть (…)». Чацкий честно служил – поэтому искренне разочарован. Он, к сожалению для него, настоящий лишний. Он – сам по себе, и Репетилов, как и все остальные, только подчеркивает масштаб и исключительность эпохальной фигуры. 5 В заключение отметим немаловажный нюанс, который дорогого стоит. И Чацкий, и Онегин, и Печорин (Грибоедов, Пушкин, Лермонтов соответственно) осознавали свою вынужденную оппозиционность как ущербность. Чацкий был объявлен сумасшедшим, Онегин – сумасбродом, Печорин – разносчик «болезни века». Сам факт того, что их никак не устраивает положение вещей, устраивающее большинство, осознается не только всеми, но и самими «лишними» как некий постыдный порок или комплекс неполноценности; как минимум – болезненное отклонение от нормы. Норма, очевидно, – это так или иначе служение другим, обществу, принесение в жертву ради «пользы дела» своих пассивно-созерцательных амбиций. Чацкий единственный, кто заговорил о своей исключительности и «странности» во всеуслышание и с героическим пафосом. Чацкий Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож; Молчалин, например… Но он был новоиспеченным лишним; лишние со стажем уже никогда не пустят «всех» в свой внутренний мир. Они принципиально и радикально обособятся. Русская литература XIX века так и не представила типа лишнего человека, который бы иначе отнесся к своей ненормальности: посмотрел бы на себя как на мудреца, а на всех остальных – как на «ребят», думающих, что они всерьез чтолибо понимают в жизни. Это любопытно. Очевидно, русский менталитет в трудом допускает мысль о возможной правоте одного и неправоте всех (а между тем христианство и начиналось именно с этого, случайного для христианства, 387 пункта: Иисус выглядел чудаком). Один в поле – не воин. Рецидивы коллективистской морали? На самом деле открытый и исследованный русской литературой тип лишнего не только не является человеком сумасшедшим, ущербно-странным или больным загадочной хворобой, но, напротив, является в высшей степени нормальным, эталонно нормальным человеком. Все его несчастье в одном: он умен. Где ум – там и горе. Где тут вина? Без вины виноват, как в народе говорят. «Запрятавшийся в пословицу» (выражение Гончарова) «один в поле не воин» лишний становится воином, выступает против всех, против мнения народа. Он видит относительность всех правд (в том числе народной); но он не осмелился еще признаться себе самому, что таково реальное состояние мира. И надо приспосабливаться к миру идиотов («запрятываться») и жить в нем с улыбкой. Вот, например, влюбился, как все, и разделил в чем-то общую судьбу, стал чуточку как все. Надо принять свой дар мудрости как должное и принять мир, сопротивляющийся мудрости, как должное. Так или иначе в основе всех духовных стремлений всех «лишних» – тоска по идеалу, тоска по «правильной» идеологии. Их состояние лишнего – это духовный кризис, а не осознание того, что они благодаря личным усилиям оказались на высочайшей духовной вершине. Но влезть на нее легче, чем удержаться. «Лишние» взыскуют «зацепочной» идеологии – веры, надежды, любви (а это и есть всеобщая духовная технология, технология всех!) – которая удовлетворила бы их ясный, системный, диалектический ум. Идеология же как раз порождается неполноценным умом. Естественно, они не видят и не находят такой идеологии. Они ищут того, чего нет. В этом суть их трагедии. Лишний лишнему рознь. Следующий этап духовной зрелости заключается в том, что приходит понимание: всякая идеология ущербна – и вместе с тем невозможно обойтись без нее в мире людей. Бессмысленно искать истинную идеологию: такой просто нет. Либо истину – либо идеологию. Нашедший идеологию глупо превращает ее в «истину». Нашедший истину понимает, что идеология, как и глупость вообще, есть неустранимый признак жизни. Диалектический «абсурд» (с точки зрения обыденного, недиалектического, глупого сознания) переплавляется в высшую норму. Кто сумасшедший? Итак, с Грибоедова в истории классической русской литературы началась эпоха перехода от социоцентризма к персоноцентризму. Суть трагедии «горе от ума» именно в этом. Речь идет не просто об очередной смене одних идеалов другими; речь идет о принципиально иной духовной парадигме. Отсюда – отчетливая невнятность личности Чацкого, который, будучи фактически личностью нового типа, по-старому понимает призвание человека. «Служить бы рад»: в жизни есть место подвигу во имя какого-то невиданного социального прогресса. Лишний в мундире, антигероический герой… Чацкий – большой путаник, ибо до конца не осознает степень той угрозы, которую он несет обществу, собираясь ему служить. Противоречия Чацкого во многом принимают 388 форму сбивчивой путаницы: они не выстраиваются без натяжек в осмысленную ценностную «вертикаль». Путаницу можно прокомментировать только как путаницу, но не как цельную, внутренне противоречивую модель личности. Вот почему при целостном анализе действий и слов Чацкого не сходятся концы с концами. Это придает живости персонажу, хотя и снижает художественную ценность произведения. На основании уже обозначенной духовной коллизии рискнем предсказать тип нового, еще неведомого мировой литературе героя. Это будет тип лишнего человека, находящегося, однако, в состоянии гармонии (гуманистической) с собой и миром. Разумеется, гармония эта может быть исключительно результатом жизнетворчества, а не благой вести, слетевшей неизвестно откуда. Формула проста: не подавлять в себе человеческие слабости и жить верой, надеждой, любовью (жить бессознательной жизнью). Быть как все – но оставаться собой. Жить в болоте не значит становиться лягушкой. Для этого необходимо понимать, что традиционные формы жизни – это дань своей человеческой слабости. Ничто человеческое не чуждо – при полном осознании того, что все человеческое – это полная химера. Такой тип сознания вполне может быть освоен в русле реализма. Работы хватит на несколько веков. Тогда духовная жизнь человека предстанет динамическим спектром, палитрой красок с устойчивой тягой к гуманистической гармонии, то есть к сочетанию противоречивых компонентов, а не к вычленению одного компонента в качестве истинного (чем успешно занимается идеология). Если это когда-нибудь произойдет, величественная фигура Чацкого окажется точкой отсчета новой духовной формации людей. А если не произойдет, судьба Чацкого станет пророчеством и приговором всем, и прежде всего «судьям».