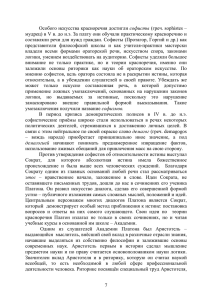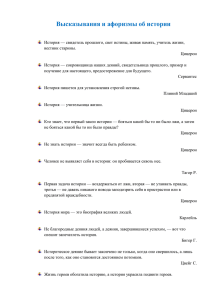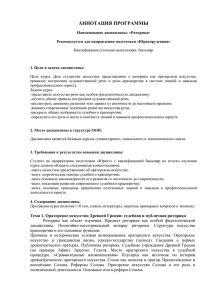Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика.
advertisement
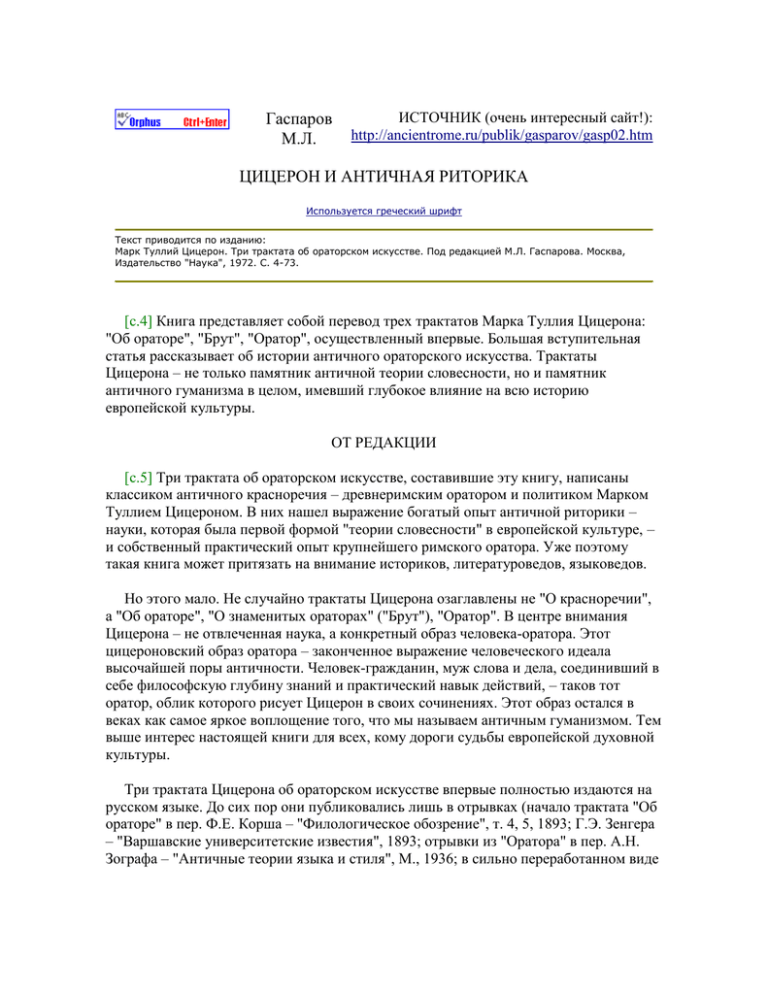
Гаспаров М.Л. ИСТОЧНИК (очень интересный сайт!): http://ancientrome.ru/publik/gasparov/gasp02.htm ЦИЦЕРОН И АНТИЧНАЯ РИТОРИКА Используется греческий шрифт Текст приводится по изданию: Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Под редакцией М.Л. Гаспарова. Москва, Издательство "Наука", 1972. С. 4-73. [с.4] Книга представляет собой перевод трех трактатов Марка Туллия Цицерона: "Об ораторе", "Брут", "Оратор", осуществленный впервые. Большая вступительная статья рассказывает об истории античного ораторского искусства. Трактаты Цицерона – не только памятник античной теории словесности, но и памятник античного гуманизма в целом, имевший глубокое влияние на всю историю европейской культуры. ОТ РЕДАКЦИИ [с.5] Три трактата об ораторском искусстве, составившие эту книгу, написаны классиком античного красноречия – древнеримским оратором и политиком Марком Туллием Цицероном. В них нашел выражение богатый опыт античной риторики – науки, которая была первой формой "теории словесности" в европейской культуре, – и собственный практический опыт крупнейшего римского оратора. Уже поэтому такая книга может притязать на внимание историков, литературоведов, языковедов. Но этого мало. Не случайно трактаты Цицерона озаглавлены не "О красноречии", а "Об ораторе", "О знаменитых ораторах" ("Брут"), "Оратор". В центре внимания Цицерона – не отвлеченная наука, а конкретный образ человека-оратора. Этот цицероновский образ оратора – законченное выражение человеческого идеала высочайшей поры античности. Человек-гражданин, муж слова и дела, соединивший в себе философскую глубину знаний и практический навык действий, – таков тот оратор, облик которого рисует Цицерон в своих сочинениях. Этот образ остался в веках как самое яркое воплощение того, что мы называем античным гуманизмом. Тем выше интерес настоящей книги для всех, кому дороги судьбы европейской духовной культуры. Три трактата Цицерона об ораторском искусстве впервые полностью издаются на русском языке. До сих пор они публиковались лишь в отрывках (начало трактата "Об ораторе" в пер. Ф.Е. Корша – "Филологическое обозрение", т. 4, 5, 1893; Г.Э. Зенгера – "Варшавские университетские известия", 1893; отрывки из "Оратора" в пер. А.Н. Зографа – "Античные теории языка и стиля", М., 1936; в сильно переработанном виде эти работы использованы переводчиками настоящего издания). Перевод осуществлен коллективом античного сектора ИМЛИ АН СССР. ЦИЦЕРОН И АНТИЧНАЯ РИТОРИКА I [с.6] [с.7] Современному человеку трудно представить и понять, какое значение имела для античности культура красноречия и каким почетом оно пользовалось. Новое время, время революций и парламентской борьбы, знало немало выдающихся ораторов, память о них сохранялась надолго, но никогда в новое время не приходилось обозначать целый литературный период именем великого оратора, как обозначаем мы в римской литературе I в. до н.э. именем Цицерона. Чтобы оценить это исключительное значение ораторского слова в древности, следует прежде всего вспомнить, что вся культура Греции и Рима – особенно по сравнению с нашей – в большой степени была культурой устного, а не письменного слова. Книги были рукописные, книг было мало, многое приходилось заучивать наизусть, и люди хранили любимые сочинения поэтов и прозаиков не на полках, а в памяти. Стихи Вергилия и периоды Цицерона одинаково рассчитаны не на чтение глазами, а на произнесение вслух. Даже исторические сочинения, даже философские трактаты, даже научные исследования писались прежде всего для громкого чтения. Высказывалось предположение, что античность вовсе не знала чтения "про себя": даже наедине с собою люди читали книги вслух, наслаждаясь звучащим словом. Поэтому нетрудно понять, какое значение для развития художественного стиля античной литературы имело красноречие – жанр, в котором звучащее слово царило полновластнее всего. Далее, следует помнить, что античность до самого позднего времени не знала беллетристики в нашем смысле слова: художественной прозы с вымышленным занимательным сюжетом. Если читатель искал занимательности, он брался за историю, за мифологию, за описательную географию и естествознание – книги о дальних странах и диковинках природы; если же читатель искал художественности, он брался за поэтов, а из прозаиков – прежде всего за ораторов. Таким образом, речи Демосфена и Цицерона оставались источниками художественного наслаждения даже для тех читателей, которые не знали и не думали, когда, зачем и о чем эти речи были произнесены. Наконец – и это важнее всего – в общественной жизни античных государств красноречие играло неизмеримо более важную роль, чем в новое время. Древность не знала представительной системы правления, власть в государстве принадлежала только тем членам правящего сословия, которые являлись в сенат, и только тем гражданам, которые толпились на площади народного собрания; и обращаясь к ним лично, хороший оратор одной выразительной речью мог решающим образом повлиять на государственную политику. [с.8] В наше время эта роль все более переходит от устных речей к печатным статьям, и все чаще приходится слышать с трибуны речи, написанные в форме статьи и читаемые по записке; в древности же, напротив, даже если речь не предназначалась к произнесению и издавалась письменно, как памфлет, она бережно сохраняла все признаки стиля и жанра устной речи. Общественную роль играли не только речи в сенате и в народном собрании – "совещательные", по античной терминологии, – но и речи торжественные и судебные. Торжественные речи на празднестве или чествовании очень часто выливались в декларацию политической программы, а судебные речи обычно использовались, чтобы свести политические счеты с противником, обвинив его в злоупотреблении властью или опорочив как частное лицо. Легко понять, что больше всего простора для развития красноречия предоставлял демократический строй. И действительно, два периода наибольшего расцвета античного красноречия приблизительно совпадают с двумя периодами большого подъема рабовладельческой демократии. В Греции это V-IV вв. до н.э., в Афинах – время от Перикла до Демосфена; в Риме это I в. до н.э., время Цицерона. Афинская демократия V-IV вв. породила целую плеяду славных ораторов, имена которых с неизменным почетом упоминаются у Цицерона. Великим оратором считали Фемистокла, основателя афинского могущества; о Перикле говорили, что его речь подобна громам и молниям; глашатай простонародья Клеон и идеолог аристократии Ферамен оставили свои имена в истории аттического красноречия. Правда, все их речи остались незаписанными, и потомки могли о них судить лишь по преданию или в лучшем случае по той великолепной речи, которую Фукидид в своей "Истории" влагает в уста Перикла. Первым оратором, который стал записывать свои речи, считался Антифонт, современник Ферамена. Зато следующие поколения, ряд великих ораторов IV в., уже вошли в литературу с писаными речами. Первым в этом ряду стоит Лисий, признанный образец простоты и изящества; затем – Исократ, "отец красноречия", сам почти не выступавший публично, но оставивший много писаных речей и воспитавший много талантливых учеников; и затем, уже в пору борьбы Афин против македонского наступления на Грецию – лучшие ораторы македонской партии, блестящий Эсхин и язвительный Демад, и лучшие ораторы антимакедонской партии, резкий Ликург и тонкий Гиперид, во главе с величайшим оратором Греции – Демосфеном. Речи Демосфена были вершиной аттического красноречия, преклонение перед его гением было всеобщим: Цицерон считал его речи совершенством, Квинтилиан называл его законодателем слова. Параллельно с этим стремительным развитием красноречия и под его ощутимым влиянием развивались и другие жанры художественной прозы. В эпически-плавном историческом повествовании Геродота еще незаметно приемов красноречия; но крупнейший греческий историк Фукидид уже считался учеником оратора Антифонта; продолжатель Фукидида Ксенофонт [с.9] разделял с Лисием славу сладостной простоты и изящества; а два историка IV в., более всего повлиявшие на позднейшую историографию, Эфор и Феопомп, были учениками Исократа и обрабатывали исторический материал в соответствии с его риторическими предписаниями. Наконец, Платон, величайший из философов, признавался также величайшим мастером слова, равным Демосфену ("так говорил бы Юпитер, если бы стал говорить по-гречески", – пишет о нем Цицерон1); и его ученик Аристотель в меру сил подражал учителю в тех своих написанных для широкой публики произведениях, которые до нас не дошли, но которыми древность восхищалась. В этой обстановке подъема и расцвета политического красноречия складывалось представление демократической Греции об идеале человека. Это был образ "общественного человека" (ἀνὴρ πολιτικός ), человека, способного держать в своих руках управление государством; и понятно, что искусство владеть речью было непременной и важнейшей чертой этого образа. Глашатаями этого человеческого идеала выступили во второй половине V в. до н.э. софисты, странствующие "учителя мудрости". Софистика V в. была очень сложным идейным явлением, однако бесспорно одно: несмотря на то, что слушателями софистов сплошь и рядом были аристократы, несмотря на то, что теории софистов охотно брали на вооружение противники демократов, все же софистика в целом была духовным детищем демократии. Демократическим было, прежде всего, само предложение научить любого желающего всем доступным знаниям и этим сделать его совершенным человеком – предложение, которым больше всего привлекали к себе внимание софисты. Демократический образ мыслей лежал и в основе тех представлений о знании, с которыми выступали софисты: в основе учения об относительности истины. Как в свободном государстве всякий человек имеет право судить о государственных делах и требовать, чтобы с ним считались, так и о любом предмете всякий человек вправе иметь свое мнение, и оно имеет столько же прав на существование, как и любое другое. Объективной истины нет, есть только субъективные суждения о ней: человек есть мера всех вещей. Поэтому нельзя говорить, что одно мнение истиннее другого: можно лишь говорить, что одно мнение убедительнее другого. Научить убедительности, научить "делать слабое мнение сильным" – так представляли свою главную задачу софистыпреподаватели. Для этого в их распоряжении были два средства: диалектика, искусство рассуждать, и риторика, искусство говорить; первая обращалась к разуму слушателей, вторая – к чувству. Тот, кто умело владеет обоими искусствами, может переубедить любого противника и добиться торжества своего мнения: а в этом и заключается цель идеального "общественного человека", участвующего в [с.10] государственных делах. Отсюда понятно то внимание, с каким софисты занимались теорией красноречия. Протагор, один из первых софистов, считался изобретателем "общих мест", которые играли такую важную роль в позднейшей риторике. Горгий, софист с самой громкой славой, первый стал художественно использовать три самые яркие риторические фигуры – параллелизм (исоколон), антитезу и созвучие окончаний (гомойотелевтон); афиняне долго помнили о том неслыханном успехе, какой имели эти непривычно изысканные, звучавшие почти как стихи, речи Горгия, когда он в 427 г. впервые приехал в Афины из своей родной Сицилии. Современник Горгия Фрасимах первым стал разрабатывать вопросы ораторского ритма; ученики Горгия Пол и Ликимний занимались вопросами ораторской лексики; младшие софисты Продик и Гиппий изучали воздействие речи на чувства. Софистам же принадлежит разработка системы учебных ораторских упражнений – декламаций на заданные темы: отчасти в виде речей с похвалами, порицаниями, описаниями и т.п., отчасти в виде прений по вымышленным судебным делам. Однако расцвет софистики был шумным, но недолгим. Возвысившись с подъемом афинской демократии, она закатилась вместе с нею. К концу V в., в ходе несчастной Пелопоннесской войны, несовершенство и внутренняя противоречивость рабовладельческой демократии сделались явными. Стало ясно, что самый разумный "общественный человек" не в силах преодолеть несовершенства существующего государственного строя и должен или подчиниться ему в своей практике, отрешившись от всех идеальных устремлений, или отказаться от всякой общественной деятельности и заняться самосовершенствованием в узком кругу искателей истинного блага. Идеал "общественной жизни" распался на два взаимоисключающих понятия: "жизнь деятельная" (πρακτικὸς βίος ) и "жизнь созерцательная" (θεωρετικὸς βίος ). Идеалом первой был ритор – практик и политик; идеалом второй – философ, теоретик и мыслитель. Отныне вся духовная жизнь античности была заключена между этими двумя полюсами – риторикой и философией. Отношения названных культурных идеалов менялись: иногда между ними шла жестокая борьба, иногда намечалось примирение, но борьба никогда не заканчивалась победой одного из них, а примирение не превращалось в слияние обоих. Первый вызов софистическому идеалу единства философии и риторики был брошен Сократом. Сократ выступил против краеугольного положения софистов – против учения об относительности истины. Для Сократа абсолютная истина существует, она божественна, она выше человеческих суждений, и она-то является мерой всех вещей. Следовательно, риторика бесполезна: мнение истинное сохранит свою силу даже без риторических убеждений, а мнение ложное даже с помощью риторики не устоит против истины. Эта мысль о тщете риторики была воспринята, обоснована и развита Платоном в диалогах "Федр" и "Горгий" – оба диалога не раз упоминаются Цицероном. Критика существующей риторики [с.11] представлена Платоном, главным образом, в "Горгии", идеал истинного красноречия – в "Федре". Чтобы наставить слушателей на истинный путь, заявляет Платон устами Сократа, оратор должен сам знать, что истинно и что ложно, что справедливо и что несправедливо, а это знание доступно только философу. Не владея этим знанием, оратор-софист, стремящийся к успеху, будет лишь идти на поводу у публики, потакая ее заблуждениям и тем принося народу не пользу, а вред. Риторика не имеет даже права называться наукой, изучающей законы речи, так как форма речи не подчиняется никаким общим законам и определяется только конкретным содержанием речи; риторика есть всего лишь практическое знание, приобретаемое не изучением, а опытом. Этой ходячей риторике Платон противопоставляет истинное красноречие, основанное на подлинном знании и потому доступное только философу. Познав сущность вещей, философ придет к правильному о них мнению, а познав природу человеческих душ, он правильно внушит свое мнение душам слушателей. Образец такого истинного красноречия предлагает Платон в том же "Федре": это знаменитая речь Сократа о любви, которую он произносит, соперничая с речью профессионального оратора Лисия о том же предмете, и остается бесспорным победителем. Сокрушительное выступление Платона против риторики было моментом наивысшего обострения вражды между риторикой и философией. Но, как всякая крайность, такое отношение не могло держаться долго. В том же IV в. уже намечаются тенденции к примирению этих двух наук. Со стороны риторики на уступки идет Исократ, со стороны философии – Аристотель. Они ненавидели друг друга ("стыдно молчать и позволять говорить Исократам!" – говорил, по преданию, Аристотель), но объективно оба стремились к одной цели. Поэтому не так уж неправ был Цицерон, когда упоминал их имена рядом. Исократ был учеником Горгия и прямым наследником софистической образовательной системы. Однако он внес в нее самые решительные изменения. Прежде всего он полностью отказался от софистических притязаний на знание всех наук. Его школа давала ученикам не сумму знаний, а искусство пользоваться знаниями, ключ к человеческой культуре. Поэтому Исократ называл себя философом, но это слово он понимал иначе, чем Сократ и Платон. Умозрительная философия была слишком неудобна для практической жизни, в которой приходится иметь дело не с истинами, а с мнениями. Поэтому тем ключом к деятельности, каким для Платона была Истина, для Исократа стало Слово. Исократ соглашался, что искусство правильно говорить и правильно мыслить едино, но он считал, что первое искусство должно подводить ко второму, а не второе к первому. Он соглашался, что красноречие и добродетель должны быть неразрывны, но больше рассчитывал не на то, что добродетельный человек будет искать дополнения своему совершенству в красноречии, а на то, что красноречивый человек будет подкреплять авторитет своей речи авторитетом своей личности. Во всех [с.12] этих суждениях виден искусный воспитатель, привыкший обдумывать не только цель, но и путь к этой цели. Таким путем была для Исократа риторика. Риторика стояла в центре его образовательной системы, элементы других знаний были только подготовкой к ней. Исократ усовершенствовал риторическую теорию, умерив крайности софистического стиля, изгнав из прозаической речи слишком яркие поэтические слова и ритмы и выработав тип пространного и стройного, в меру ритмизованного речевого периода. Его идеалом была речь легкая и изящная, которую простой человек поймет, а знаток оценит. Как Исократ переработал риторику софистов, так Аристотель смягчил непримиримость философии Платона. Перерабатывая идеалистическую философию Платона в материалистическом направлении, Аристотель не мог принять платоновский разрыв между миром чувственным и миром умопостигаемым, между мнением и знанием; для него мнение было лишь низшей, подготовительной ступенью знания. Это позволило ему восстановить риторику в правах науки: в его системе наук риторика стала наукой о законах мнения, как логика – наукой о законах знания. В основу риторики были положены понятия о благе и справедливости; учение о доказательствах было разработано по образцу логики, учение о возбуждении страстей – по образцу этики; учение о словесном выражении, самое важное для традиционной риторики, оказалось самым маловажным для Аристотеля и свелось к систематизации приемов практической (исократовской) риторики с точки зрения главного требования к речевому стилю: ясности. Так создалась стройная система философской риторики, замечательная по мастерству соединения практических требований и философских обоснований. Однако эта система учила скорее исследовать речи, чем их составлять, была средством науки, а не школы; поэтому при всем уважении к имени Аристотеля, его "Риторика" почти не повлияла на практику риторического преподавания. Гораздо большее значение для школы имела деятельность ученика и продолжателя Аристотеля – Феофраста: сосредоточив свое внимание на вопросах стиля и исполнения речи, широко пользуясь практическим опытом Исократа и его традиции, он дал в распоряжение школы обширный и отлично систематизированный аппарат риторических категорий, и его сочинение "О слоге" (до нас не дошедшее) оказало едва ли не самое сильное влияние на все последующее развитие риторической теории. Между тем, как заветы Платона, Аристотеля, Исократа переходили от учителей к их ученикам, в истории Греции наступала новая эпоха: эллинизм. На Востоке, в странах, завоеванных Александром Македонским, выросли огромные грекомакедонские монархии. Центры экономической, политической, культурной жизни сдвинулись на Восток – в Александрию, Антиохию, Пергам. Городские республики старой Греции начинали хиреть. Последствия этих политических изменений не замедлили сказаться и на красноречии. Древность знала три рода красноречия: политическое, торжественное и судебное. Судебные речи были наиболее многочисленны, [с.13] но наименее самостоятельны: образцами для их тона и стиля служили или политические, или торжественные речи. Пока Греция была свободной и сильной, ведущую роль играло политическое красноречие; с упадком политической жизни в греческих городах эта роль перешла к торжественному красноречию. А это означало серьезные изменения во всей системе античной риторики. В этих изменениях наибольшую важность представляют два аспекта. Во-первых, изменился эстетический идеал красноречия. Политическая речь стремится прежде всего убедить слушателя, торжественная речь – понравиться слушателю. Там важнее всего была сила, здесь важнее всего красота. И греческое красноречие ищет пафоса, изысканности, пышности, блеска, в речах появляются редкие слова, вычурные метафоры, подчеркнутый ритм, ораторы стараются щегольнуть всем арсеналом школьных декламаций. Наибольшую известность среди ораторов нового стиля имел Гегесий, имя которого впоследствии стало синонимом дурного вкуса. Позднее, когда приевшаяся пышность нового стиля стала ощущаться как упадок красноречия после древнего величия, возникло мнение, что причиной этого упадка было перемещение аттического красноречия на Восток, в среду изнеженных жителей греческой Азии, усвоивших тамошние "варварские" вкусы; отсюда за всем новым стилем закрепилось наименование "азианство". Однако такое объяснение было неверным: новый стиль был подготовлен всем развитием классического стиля – от простоты и скромности Лисия к богатству и сложности Демосфена; переход от классического стиля к новому был плавным и постепенным (лишь условно стали потом связывать этот переход с именем философа-оратора Деметрия Фалерского, ученика Феофраста); сами ораторы нового стиля считали себя истинными наследниками аттических ораторов и даже дробились на несколько направлений в зависимости от избираемого классического образца. Так, одни старались подражать сухой отчетливости Лисия ("рубленый слог": сам Гегесий считал себя продолжателем Лисия), другие воспроизводили плавную пространность Исократа ("надутый слог"), третьи – напряженную выразительность Демосфена. Впрочем, это последнее направление, центром которого был Родос, обычно не причисляли к азианству и выделяли в особую родосскую школу, промежуточную между азианским и аттическим красноречием: об этом постарался Цицерон, который сам учился на Родосе и не хотел, чтобы его наставников позорили именем азианцев. Во-вторых, повысилось значение теоретических предписаний для красноречия. Если в политическом красноречии содержание и построение речи целиком исходит из неповторимой конкретной обстановки, то содержание торжественных речей всегда более однообразно и, следовательно, легче поддается предварительному расчету. Поэтому риторическая теория, заранее рассчитывающая все возможные типы и комбинации ораторских приемов, оказывается в высшей степени необходимой оратору. Начинается усиленная разработка теоретической системы риторики, существующие положения и предписания умножаются новыми и новыми, [с.14] классифицируются на разные лады, достигают небывалой дробности и тонкости, стараясь охватить все возможные случаи ораторской практики. Высшим достижением риторической теории эпохи эллинизма была система "нахождения", разработанная Гермагором около середины II в. до н.э.: Гермагор сумел свести все многообразие судебных казусов и соответствующих им мотивов в речах к единой схеме видов и разновидностей ("статусов"), необычайно разветвленной и сложной, но логичной, точной и ясной. Современники и потомки порицали его педантическую мелочность, заставлявшую предусматривать даже случаи, заведомо нереальные, но признавали удобство и пользу его систематики. В этих и подобных классификациях и разделениях теоретикам приходилось, разумеется, опираться на опыт логики как классической аристотелевской, так и позднейшей, усиленно разрабатываемой стоиками. Следы стоических влияний часто заметны в сохранившихся до нас остатках эллинистической риторики; однако преувеличивать их значение не следует, ни о каком глубоком влиянии философии на риторику этого времени говорить не приходится. Скорее напротив, эллинистическая риторика все дальше отстраняется от философских интересов. Возводя свое происхождение к Исократу, восприняв от него культ слова и заботу о красоте речи, эллинистические школы все более и более отходили от исократовского гуманистического идеала, все более и более сосредоточивались на искусстве слова в ущерб искусству мысли. В этих риторических школах постепенно вырабатывался тот тип ритора-краснобая, ремесленника слова, способного говорить обо всем, не зная ничего, который стал впоследствии таким распространенным и навлекал насмешки лучших писателей эпохи Римской империи. При таком состоянии риторики трудно было ожидать серьезного сближения между риторикой и философией. Правда, внешне отношения между ними смягчились. Из четырех философских школ, деливших власть над умами в эпоху эллинизма, только эпикурейцы с их отрицанием всякой науки и проповедью ухода от общественной жизни относились к риторике непримиримо враждебно. Академики, продолжатели Платона, на первых порах за своим учителем отвергали риторику; но в начале II в. до н.э. на смену "древней Академии" Платона пришла "средняя Академия" Аркесилая, и на смену объективному идеализму Платона – скептицизм; и представители этого младшего поколения академиков, по-прежнему отвергая риторику в принципе, тем не менее стали охотно прибегать в преподавании к ходовым риторическим приемам – "о всяком предмете рассуждать и за и против", подводя слушателя к требуемым скептическим выводам. Крупнейший философ средней Академии Карнеад (II в. до н.э.) даже стяжал себе такими рассуждениями славу замечательного оратора. Перипатетики, продолжатели Аристотеля, также охотно пользовались риторическими методами преподавания; более того, вслед за своим учителем они с готовностью признавали за риторикой ее право на место в системе наук и уделяли ей внимание в своих эмпирических исследованиях. Наконец, стоики пошли еще дальше: исходя из внутреннего единства риторики и диалектики (Цицерон [с.15] не раз упоминает о том, как Зенон, основатель стоицизма, демонстрировал это единство одним движением руки1), они объявили, что риторика составляет такую же необходимую часть познаний истинного мудреца, как диалектика, этика, физика, политика и теология; более того, со своим обычным экстремизмом они объявили, что только истинный мудрец и может считаться красноречивым оратором. Однако на практике все речи стоиков, полные диалектических тонкостей и непривычных парадоксов, сознательно избегающие возбуждения сильных чувств, не могли иметь никакого успеха у публики; а по поводу попыток стоических философов создать собственную систему теоретической риторики даже деликатный Цицерон говорил, что хороший оратор скорее онемеет, чем будет следовать риторикам Клеанфа и Хрисиппа2. Такое более или менее мирное сосуществование риторики и философии продолжалось около полутора столетий: в III в. и в первой половине II в. до н.э. Обе науки, как мы видим, заимствовали друг у друга отдельные приемы, из-за этого бывали мелкие споры, но серьезных разногласий не возникало. С новой силой вспыхнула ожесточенная борьба между риторикой и философией лишь во второй половине II в. до н.э. – в то самое время, когда на сцену античной культуры впервые выступил Рим. Уважение к ораторскому слову было в Риме древним и традиционным. Считалось, что как на войне римлянин служит своему отечеству с оружием в руках, так в мирное время он служит ему речами в сенате и народном собрании. "Vir bonus dicendi peritus" – "достойный муж, искусный в речах", – так определяет идеал древнего римского оратора Катон Старший. Однако чтобы правильно понять его, следует помнить, что "достойный муж" в латинском языке тех времен – синоним аристократа. Идеал красноречия был тесно связан с политическим идеалом, и когда был брошен вызов отжившему свой век политическому идеалу древней римской аристократии, заколебался и ораторский идеал. К новому красноречию греческого типа Рим пришел в бурный век гражданских войн. Поднимающаяся римская демократия – всадники и плебеи – в своей борьбе против сенатской олигархии нуждалась в действенном ораторском искусстве. Фамильных традиций сенатского красноречия всадники и плебеи не имели – с тем большей жадностью набросились они на эллинистическую риторику, которая бралась научить ораторскому искусству всякого желающего. В Риме появились школы греческих риторов – сперва вольноотпущенников, потом свободных приезжих учителей. Обеспокоенный сенат стал принимать меры. В 173 и 161 гг. были изданы указы об изгнании из Рима греческих философов и риторов. Это не помогло: поколение спустя в Риме вновь свободно преподают греческие риторы, и появляются даже латинские риторы, [с.16] преподающие на латинском языке и довольно удачно перерабатывающие греческую риторику применительно к требованиям римской действительности. Их уроки более доступны и этим более опасны, поэтому сенат оставляет в покое греческих риторов и обращается против латинских: в 92 г. лучший сенатский оратор Луций Лициний Красс (будущий герой диалога Цицерона "Об ораторе") в должности цензора издает указ о закрытии латинских риторических школ как заведений, не отвечающих римским нравам. Этим удалось временно покончить с преподаванием латинской риторики, но с тем большим усердием обратились римляне к изучению риторики греческой. С каждым днем все больше молодых людей отправлялось из Рима в Грецию, чтобы у лучших преподавателей учиться греческой культуре слова и мысли. Легко понять, что из этой толпы римских учеников, нахлынувших в Грецию, десятки и сотни шли в обучение к риторам и лишь единицы – к философам. Легко понять также, с каким раздражением смотрели философы на эти успехи своих конкурентов. В этой обстановке и возобновляется давняя вражда между риторикой и философией. Вновь идут в ход старые доводы: риторика не наука, все ее положительное содержание украдено у философии, только философ может быть истинно красноречив. В диалоге Цицерона "Об ораторе" (I, 82-93) Марк Антоний не без юмора вспоминает, как в 102 г., когда он по пути в свою провинцию задержался в Афинах, местные философы, узнав, что он известный оратор, завели перед ним бурный спор, доказывая, что для оратора философия гораздо важней риторики. Вновь начинаются опыты создания новой, философской риторики; так как стоикам это не удалось, теперь за это берутся академики. Филон Ларисский, возглавлявший эту школу в начале I в. до н.э., открыто порывает с традиционным для платоников отрицанием риторики и сам берется преподавать теорию красноречия: "Уже на нашей памяти Филон... завел обычай в одни часы преподавать наставления риторов, в другие часы – наставления философов", – пишет Цицерон1. Из сочинений Цицерона можно понять, каков был тот раздел риторики, которым предполагал воспользоваться Филон, чтобы подчинить риторику философии. Это было учение об "общем вопросе" (quaestio, – θέσις ) – отвлеченной проблеме, к которой следовало возводить каждый разбираемый конкретный случай: так, если разбирался конкретный случай "По велению Аполлона Орест убил свою мать", то обсуждению подлежал прежде всего общий вопрос "должно ли ставить веления богов выше родственных чувств?", – а о таком вопросе, действительно, лучше всего мог судить философ. Плохо было то, что такие общие вопросы были преимущественно достоянием учебного, а не практического красноречия: в фиктивных казусах, служивших материалом для школьных декламаций, конкретные подробности избегались, и общие вопросы оставались единственным источником ученического красноречия, в действительных же [с.17] судебных делах, где конкретные обстоятельства были важнее всего, об общих вопросах говорить приходилось мало, и помощь философа была оратору не нужна. Однако Филона это не останавливало. Стремясь подчинить себе риторику, Филон и его единомышленники стремились прежде всего повысить практическое значение философии в общественной деятельности, вывести ее из отрешенности "созерцательной жизни". Объединение Средиземноморья под властью Рима побуждало искать в римском строе и в римских правителях задатки того идеального государственного устройства, о котором мечтали все философы, начиная с легендарных семи мудрецов и кончая Полибием. Философы вспоминали о законодательстве первых мудрецов, о деятельности Платона в Сиракузах, о наставлениях Аристотеля Александру Македонскому. Когда ученик и преемник Филона Антиох сопровождал римского полководца Лукулла в его завоевательном походе по Малой Азии, он, должно быть, мечтал о роли Аристотеля при новом Александре. Все эти мечты, конечно, были утопией. Нового Александра академикам воспитать не пришлось: зато они воспитали Цицерона. Цицерон был учеником Филона и Антиоха; высшим его желанием было воплотить политический идеал греческих философов в римском государстве; но ему удалось лишь воплотить их духовный идеал в своих риторических сочинениях. Эти сочинения – "Об ораторе", "Брут" и "Оратор". II Поборник новой, философской риторики, Цицерон смотрел свысока на традиционную догматическую риторику, процветавшую в эллинистических школах; но сам он ее знал и знал прекрасно. В своих сочинениях он больше всего заботится о том, чтобы не воспроизводить шаблонов риторических учебников; однако при этом он имеет в виду читателя, который сам отлично знаком с содержанием этих учебников. Не зная современной Цицерону школьной риторической системы, невозможно правильно понять содержание и связь мыслей в сочинениях Цицерона. Поэтому необходимым предисловием к толкованию риторических сочинений Цицерона неизбежно должен быть самый сжатый очерк основных понятий традиционной античной риторики. Почти все дошедшие до нас источники по античной риторике относятся к позднему времени, к периоду империи; кроме того, теоретики риторики в отдельных вопросах часто противоречат друг другу, по-разному определяя и классифицируя те или иные понятия. Сам Цицерон, излагая учение о "статусах" в двух своих сочинениях – "Топике" и "Ораторских разделениях", – оба раза дает им различную классификацию. Оставляя в стороне эти разноречия и не касаясь также очень спорной проблемы возникновения тех или иных риторических концепций, мы изложим здесь лишь самые основные положения школьной риторики, общие для всех или почти для всех поколений и направлений. [с.18] Как уже было сказано, античные теоретики различали три рода красноречия: 1) т о р ж е с т в е н н о е (ἐπιδεικτικὸν γένος, genus demonstrativum), 2) с о в е щ а т е л ь н о е (т.е. политическое: συμβουλευτικόν, genus deliberativum) и З) с у д е б н о е (δικανικὸν γένος, genus iudiciale или forense). Торжественное красноречие включало речи хвалебные и порицательные, совещательное – речи убеждающие и разубеждающие, судебное – речи обвинительные и защитительные. В торжественном красноречии оратор должен был исходить из категорий хорошего и дурного, в совещательном – из категорий полезного и вредного, в судебном – из категорий справедливого и несправедливого. Различалось три источника красноречия и три цели красноречия. Тремя источниками красноречия считалось природное д а р о в а н и е (natura, ingenium), теоретическое о б у ч е н и е (ars, doctrina) и практическое у п р а ж н е н и е (exercitatio). В этом же ряду чем дальше, тем чаще занимало место п о д р а ж а н и е (imitatio), обычно как вид обучения или упражнения, но иногда и как самостоятельный пункт. Три цели красноречия были: у б е д и т ь , у с л а д и т ь и в з в о л н о в а т ь (docere, probare; delectare, conciliare; movere, flectere). К достижению этих трех целей и вела риторическая наука. Риторическая разработка речи насчитывала пять частей: нахождение материала (inventio), расположение материала (dispositio), словесное выражение (elocutio), запоминание (memoria) и произнесение (actio). В последовательности этих пяти частей и излагалась обычно риторическая теория. 1. Н а х о ж д е н и е материала – раздел, разработанный античной риторикой (в первую очередь, Гермагором и его продолжателями) с особенно тщательной мелочностью. Отчасти именно поэтому Цицерон в своих риторических сочинениях останавливается на нем так редко и неохотно. Это позволяет нам указать здесь только основное содержание этого раздела, не входя в бесчисленные подробности. Материал красноречия прежде всего разделяется на две большие категории: конкретные д е л а (causa, ὑπόθεσις ) и общие в о п р о с ы (quaestio, θέσις ). Всякое конкретное дело может быть сведено к общему вопросу посредством отвлечения от конкретных обстоятельств: места, времени, участников и т.д. Общие вопросы, к которым приходит таким образом оратор, могут быть двух родов: т е о р е т и ч е с к и е (quaestiones cognitionis, например: "природа или закон лежит в основе права?") и п р а к т и ч е с к и е (quaestiones actionis, например: "к лицу ли мудрецу заниматься государственными делами?"); философы обычно имеют дело с теоретическими вопросами, ораторы – с практическими. Основным предметом речи при разборе как теоретического, так и практического вопроса является спорный пункт (controversia) – то положение, которое утверждается одной стороной и отрицается другою. В зависимости от содержания спорного пункта предмет речи относится к одной из нескольких категорий - с т а т у с о в (status, στάσις ). Важнейших статусов три: статус установления (coniecturalis), статус определения (definitivus) и статус законности [с.19] (iudicialis). При статусе установления ставится вопрос, имел ли место поступок (an sit?): например, когда подсудимый, обвиняемый в убийстве, отрицает, что он совершил убийство. При статусе определения ставится вопрос, правильно ли определен поступок (quid sit?): например, обвиняемый признает факт убийства, но утверждает, что убийство было непреднамеренным. При статусе законности ставится вопрос, законен или противозаконен поступок (quale sit?): например, обвиняемый признает преднамеренность убийства, но оправдывает его тем, что убитый был врагом отечества. Вокруг этих трех основных статусов группируется целый ряд других, второстепенных или подчиненных им. Среди них выделяется нередко упоминаемая группа "статусов от закона": статус расхождения между буквой и смыслом закона (когда случай формально подходит под статью закона, а по сути – нет), статус двусмысленности (когда закон изложен так, что может толковаться двояко), статус противоречия (когда случай подпадает сразу под два несовместимых закона). В диалоге "Об ораторе" Цицерон подчиняет эту группу статусов статусу законности ("Об ораторе", II, 112), но такой взгляд не был общепринятым. Вокруг спорного пункта сосредоточивалось судебное разбирательство (disceptatio). Трактовка спорного пункта обвинителем называлась обоснованием (ratio), обвиняемым – оправданием (firmamentum), их разногласие и было предметом суда (iudicatio, κρινόμενον ). Средством утвердить свой взгляд на спорный пункт были д о к а з а т е л ь с т в а (argumenta, πίστεις ). Доказательства делились на две категории: внешние и внутренние. Внешние доказательства (πίστεις ἄτεχνοι ) – это свидетельские показания, документы, признания, присяги, т.е. такие доказательства, которые вески сами по себе и на которые достаточно сослаться. Внутренние доказательства (πίστεις ἔντεχνοι ) – это доказательства логические, которые сами по себе не очевидны и которым нужно придать убедительности речью; они-то и считались главным достоянием оратора. Логическое доказательство имеет две формы соответственно двум формам логического мышления: пример (индукция) и энтимема (дедукция). Источники логических доказательств именовались м е с т а м и (loci, τόποι ); отыскание таковых было важнейшей частью учения о нахождении. Среди мест конкретного дела различались места, относящиеся к обстоятельствам (loci ante rem), и места, относящиеся к общему вопросу (loci in re, circa rem, post rem). Места первого рода производили доводы "от человека" ("человек такого происхождения не мог совершить убийство", "человек такого общественного положения не мог совершить убийство" и т.д. – об образе жизни, характере, возрасте, внешности, силе, воспитании, занятиях и пр.), "от побуждений" ("могла ли его побуждать к убийству зависть? ненависть? гнев? честолюбие? страх? алчность?" и т.д.), "от места действия", "от времени действия", "от способа действия", "от средств". Места второго рода разнились в зависимости от общих вопросов, лежащих в основе конкретного дела. Наиболее употребительными были три группы доводов: а) "от [с.20] определения", "от разделения", "от рода", "от вида", "от признака" и пр. ("если убийством называется то-то и то-то, то этот человек не совершал убийства", "если убийство может быть преднамеренным и непреднамеренным, то этот человек не совершил ни того, ни другого" и т.д.); б) "от сходства", "от различия", "от большего и меньшего" и пр. ("если бороться с врагом отечества похвально, то убить его тем более похвально", "если обвиняемый не поколебался убить врага-согражданина, то сколь отважнее будет он биться с врагами-чужеземцами!" и т.д.); в) "от причины", "от следствия", "от последовательности событий" и пр. ("обвиняемый совершил убийство из высоких побуждений, иначе он поспешил бы скрыться" и т.д.). Наравне с судебными речами на мельчайшие места дробились и совещательные и торжественные речи. Так, политическая речь должна была исходить из понятий о безопасности государства и о достоинстве государства; понятие о безопасности распадалось на понятия о силе и о хитрости, понятие о достоинстве – на понятия справедливости и почета; каждое из этих понятий в свою очередь распадалось на ряд мест. Особое место в системе нахождения занимали так называемые о б щ и е м е с т а (loci communes). По существу они не были источниками доказательства, так как ничего не давали для логического обоснования доводов обвинения и оправдания; зато они служили для эмоционального усиления уже имеющихся доводов. Общих мест насчитывалось около десятка: это были рассуждения о необходимости чтить богов, законы, государство и заветы предков и о том гибельном ущербе, который грозит этим оплотам человеческого общества в том случае, если обвиняемый не окажется осужденным (по мнению обвинителя) или оправданным (по мнению защитника). По отвлеченности своего содержания эти мотивы могли одинаково развиваться в речах по любому поводу: отсюда их название. 2. Р а с п о л о ж е н и е материала опиралось на твердую схему строения речи, выработанную еще во времена софистов. Речь разделялась на четыре основных части: вступление (prooemium, exordium), изложение (narratio), разработка (tractatio), заключение (conclusio, peroratio). Впрочем, часто из этих четырех частей третью делили на две и вводили две новые, так что у некоторых теоретиков число частей речи доходило до семи: вступление, изложение, определение темы (propositio, с разделением – partitio), доказательства (argumentatio, probatio, confirmatio), опровержение доказательств противника (refutatio, reprehensio), отступление (digressio) и заключение. Нарушения этой схемы были возможны, но редки. В с т у п л е н и е к речи преследовало троякую цель: добиться от слушателей понимания дела, внимания и сочувствия. В зависимости от того, что из этих трех задач было важнее для данного дела, вступление могло строиться по-разному, и подчас оратор был вынужден завоевывать сочувствие публики обходами и обиняками (ср. "Об ораторе", II, 198-201). И з л о ж е н и е содержало последовательный рассказ о предмете разбирательства в освещении говорящей стороны. Основными требованиями к изложению были: [с.21] ясность (привлечение всех необходимых подробностей), краткость (опущение всего, что не идет к делу) и правдоподобие (отсутствие внутренних противоречий). О п р е д е л е н и е т е м ы разбирательства служит выводом из изложения и вступлением к системе доказательств: оно обычно сопровождалось р а з д е л е н и е м , т.е. предварительным перечнем вопросов, подлежащих дальнейшему рассмотрению; этот перечень должен помочь слушателю разобраться в последующих доказательствах. Д о к а з а т е л ь с т в а представляют собой важнейшую часть речи: здесь и приходится применять с как можно большей легкостью весь громоздкий аппарат системы статусов и системы мест. Последовательность и группировка отдельных доводов всецело зависели от сущности конкретного дела и заранее не могли быть предопределены. Руководствоваться можно было лишь самым общим принципом: внешние доказательства должны предшествовать внутренним, самые сильные доводы должны быть сосредоточены в начале и конце рассуждения, более слабые – в середине. Тождественным образом строилось и о п р о в е р ж е н и е доказательств противника. Здесь различалось несколько приемов: можно было опровергать доводы противника вместе или порознь, преуменьшая значение упомянутых противником обстоятельств или преувеличивая значение неупомянутых и т.п.; самые легкие опровержения ставились в начале, самые трудные – в конце. О т с т у п л е н и е делалось обычно перед заключением или даже раньше – перед доказательствами; обычно оно представляло собой подробное описание, похвалу или порицание какого-нибудь предмета, связанного с основной темой речи (например, отступление о Сицилии в речи против Верреса, II, 312, сл.). Многие теоретики, впрочем, считали неуместным вводить отступление в ряд непременных частей речи и делать о нем твердые предписания; с этим соглашался и Цицерон. Наконец, з а к л ю ч е н и е имело целью возбудить эмоциональное отношение слушателей и судей к разбираемому делу. Обычно это делалось в три приема: сперва для напоминания кратко суммировались основные положения уже сказанного, затем следовала амплификация – распространение и эмоциональное усиление этих положений с помощью общих мест, после этого – возбуждение сострадания или негодования, самая ответственная часть речи. При возбуждении страстей различались порывистые, бурные чувства ("пафос") и умеренные, мягкие чувства ("этос"); особую роль играли средства комического, которые позволяли шутками и насмешками уничтожить впечатление, произведенное речью противника. Однако разработка этой теории страстей по существу принадлежала этике, и в системе риторики она так и не нашла постоянного места. 3. С л о в е с н о е в ы р а ж е н и е речи, понятным образом, составляло главную заботу оратора. Кроме того, эта часть красноречия пользовалась наибольшей популярностью оттого, что представляла интерес не только для профессиональных ораторов, но и для историков, философов и других авторов письменной прозы. Словесное выражение должно было отвечать четырем главным требованиям: правильности (latinitas, ἐλληνισμός ), ясности [с.22] (plana elocutio, σαφήνεια ), уместности (decorum, πρέπον ), пышности (ornatus, κατασκευή ). П р а в и л ь н о с т ь означала верное соблюдение грамматических и лексических норм языка. Я с н о с т ь означала употребление слов общепонятных в точных значениях и естественных сочетаниях. У м е с т н о с т ь означала, что для каждого предмета следует употреблять соответствующий ему стиль, избегая низких выражений при высоких предметах и высоких – при низких. П ы ш н о с т ь означала, что художественная речь должна отличаться от обыденной необычной благозвучностью и образностью; иногда это понятие подразделялось на два: величавость (gravitas) и приятность (suavitas). Речь без соблюдения правильности становилась варварской, без ясности – темной, без уместности – безвкусной, без пышности – голой. Эти четыре требования восходят к Феофрасту; стоики с их любовью к научной сухости добавляли к ним пятое – краткость, но это не нашло всеобщего признания. Были в ходу и другие категории, определявшие качества слога: сила (vis), внушительность (dignitas), возвышенность (sublimitas), блеск (splendidum), живость (vigor) и т.д., но все они играли подчиненную роль и во времена Цицерона еще не стали из образных выражений устойчивыми терминами: это произойдет лишь в эпоху империи. Теория словесного выражения делилась на три раздела: учение об отборе слов, учение о сочетании слов и учение о фигурах. При о т б о р е слов речь шла, главным образом, о мере пользования словами малоупотребительными и редкими. Обычно выделялись три категории таких слов – слова устарелые, слова новообразованные и слова с переносным значением. Все они считались законным достоянием оратора, при условии разумного и уместного их применения: основой речи должен незыблемо оставаться разговорный язык образованного общества (urbanitas). Использование слов диалектных или просторечных подвергалось гораздо более строгим ограничениям и в риторической теории даже почти не обсуждалось. Учение об отборе слов имело особенно большое значение для греческой риторики, где разница между диалектом аттических классиков-образцов и языков эллинистического времени была очень ощутительна; латинская риторика уделяла ему меньше внимания. При с о ч е т а н и и слов обычно рассматривались, во-первых, благозвучное расположение слов, во-вторых, соразмерное построение фраз, в-третьих, ритмическое завершение фраз. Благозвучное р а с п о л о ж е н и е с л о в предполагает, например, чтобы конец одного слова и начало следующего не образовывали зияния (столкновения гласных) или какофонии (столкновения труднопроизносимых согласных), не складывались в самостоятельное слово, чтобы слова не тревожили слух назойливой аллитерацией (повторение одинаковых звуков), не слишком отступали от естественного порядка слов и т.д. Соразмерное п о с т р о е н и е ф р а з сводилось к комбинациям трех типов: короткой фразы – отрезка (incisum, κόμμα ), средней фразы – члена (membrum, κῶλον ) и длинной фразы – периода (περίοδος ; латинский перевод этого термина при Цицероне еще не установился, и наш автор обычно передает его нагромождением [с.23] синонимов: comprehensio, circumscriptio, ambitus verborum и т.п.: см., например, "Оратор", 204). Члены строились из отрезков, периоды – из членов; предельным объемом периода были четыре члена, из них последний немного длиннее предыдущих. Вопросом о синтаксических формах периода античные риторы почти не занимались. Зато чрезвычайное внимание обращалось на р и т м периода, особенно в заключительных частях ("закруглениях"): здесь ритм должен был чувствоваться вполне отчетливо, никогда не достигая, однако, стихотворной правильности. Мерою ритма были те же стопы, что и в стихотворной метрике; чаще всего рекомендовались для заключения периода пеаны (стопы из трех кратких и одного долгого слога), дихореи (дважды повторенная стопа из долгого и краткого слога), кретики (долгий, краткий, долгий слог) и пр. Использование ф и г у р речи было главным средством достигнуть того ее качества, которое Феофраст назвал пышностью. Фигурами (σχήματα, "обороты", lumina "блестки": оба слова в эпоху Цицерона еще не потеряли образного значения и часто употреблялись не терминологически) могли называться все выражения, отступавшие от той неопределенной нормы, которая считалась разговорной естественностью. Понятно, что таких выражений можно было отыскать бесчисленное множество; и действительно, усердие теоретиков эллинистической риторики быстро нагромоздило огромное количество этих фигур, которые было очень легко назвать, труднее определить и еще труднее систематизировать. Так называемая "Риторика для Геренния", латинский риторический учебник неизвестного автора, составленный в годы молодости Цицерона, различает около семидесяти "фигур", причем в их число попадают и "период", и "свободоречие", и "наглядность", и другие неожиданные понятия. Не удивительно, что Цицерон с его отвращением к мелочному педантизму риторов всячески избегал касаться этого предмета, а если касался, то лишь в описательных выражениях и без всяких притязаний на полноту и точность. Лишь впоследствии, в эпоху империи, была создана сколько-нибудь приемлемая классификация фигур, но полное единообразие здесь никогда не было достигнуто. В возобладавшей системе утвердилось различение тропов и собственно фигур, а среди собственно фигур – фигур мысли и фигур слова. К тропам относятся отдельные слова, употребленные необычным образом, к фигурам – сочетания слов; если с изменением этих сочетаний слов меняется и смысл, то перед нами фигура мысли, если нет – перед нами фигура слова. К тропам относятся, например, метафора, метонимия, синекдоха, перифраза, гипербола; к фигурам мысли – риторический вопрос, восклицание, обращение; к фигурам слова – прибавление слов (повторение, анафора, градация и пр.), убавление слов (эллипс и пр.), созвучие (подобие корней слов, подобие окончаний слов, равносложный параллелизм и пр.), противоположение (антитеза) и т.д. Подробно останавливаться на этой классификации незачем: Цицерон если и знает ее, то не употребляет и почти демонстративно смешивает в своих перечислениях фигуры самых несхожих категорий. [с.24] Чем усерднее заботился оратор об отборе слов, о сочетании слов и о фигурах, тем более возвышалась его речь над обыденной разговорной речью. Степень этой возвышенности определялась требованием уместности, т.е. соответствия предмету. Таких степеней различалось три: с т и л ь в ы с о к и й , с р е д н и й и п р о с т о й . Высокий стиль (genus grande, sublime) пользовался риторическими украшениями с наибольшей полнотой, простой стиль (genus tenue, subtile) с наибольшей скромностью, средний стиль (genus medium) занимал промежуточное положение и поначалу имел лишь отрицательное определение: "свободный от обеих крайностей"; потом для большей определенности его стали называть "гладким" или "цветистым" (floridum). Каждый стиль имел свою предосудительную крайность: высокий стиль мог перейти в напыщенный (inflatum, tumidum), средний – в вялый (dissolutum, sine nervis), простой – в сухой (aridum, siccum). Образцом высокого стиля считался Демосфен, среднего стиля – Деметрий Фалерский, простого стиля – Лисий. Зачатки учения о трех стилях восходят еще ко времени софистов, но Феофраст его не коснулся, и разработку оно получило лишь в эпоху эллинизма. Цицерон, как мы увидим, уделял ему особенное внимание. Учение о трех стилях образует естественный синтез и завершение трех разделов искусства словесного выражения: отбора слов, сочетания слов и использования фигур. 4. З а п о м и н а н и е было наименее разработанной теоретически частью риторики. Это и понятно: здесь больше всего приходилось полагаться на индивидуальные особенности памяти и в зависимости от этого видоизменять традиционные предписания. Общей чертой античной мнемоники было использование зрительных образов как основы всякого запоминания: рекомендовалось представить себе каждый кусок речи в виде какого-нибудь предмета и затем представить себе эти предметы последовательно расположенными в пространстве, например, в комнате, которую обводит оратор мысленным взором от вещи к вещи. Заучивая текст по писанному, предлагалось запоминать общий вид страницы и расположение строк. Основателем искусства мнемоники считался греческий поэт V в. Симонид Кеосский; твердое место в риторической системе она заняла лишь в эпоху эллинизма. Трудно судить, насколько практичны были подобные советы; но память профессиональных ораторов, действительно, бывала изумительна. В следующем после Цицерона поколении декламатор Сенека Старший (отец философа Сенеки) гордился тем, что умел с одного раза запомнить две тысячи бессвязных слов или, впервые услышав двести стихов, тут же повторить их от конца к началу. 5. П р о и з н е с е н и е , последняя часть риторики, было практически важнейшим элементом красноречия: блестящее произнесение могло спасти посредственно написанную речь, дурное произнесение – погубить превосходную. Цицерон любил вспоминать изречение Демосфена о том, что в красноречии первое дело – произнесение, и второе – произнесение, и третье – тоже произнесение. Теорию произнесения впервые ввел в риторику Феофраст, использовав богатейший опыт актерского искусства, накопленный классическим театром. [с.25] Двумя разделами произнесения были владение голосом и владение телом. Голос оратора должен был быть звучным, внятным, богатым оттенками, но без нарочитой игры интонациями, которая ставилась в упрек азианским риторам. Осанка должна была быть полна достоинства, взгляд прямой, лицо выразительное, движения широкие, но сдержанные; подробнейшим образом описывалось, какие жесты приличествуют оратору и какие нет. Предшественники Цицерона различали по крайней мере восемь случаев речи, требующих различного произнесения: речь важную и насмешливую, объяснительную и повествовательную, связную и прерывистую, увещевательную и патетическую, – и для каждого случая были предписаны особые интонации и жесты. Такова была риторическая система, сложившаяся в эллинистическую эпоху и усвоенная Римом. Ей нельзя отказать в полноте, стройности и продуманности. Это была хорошая школа для начинающего оратора и хорошее оружие для зрелого оратора. Но у нее был и недостаток, и этот недостаток был следствием ее достоинств: чем больше в ней было внутренней стройности, тем больше она стремилась замкнуться в себе, отгородиться от всех иных областей человеческого знания, стать в действительности умением говорить подробно и убедительно о любом предмете, будь он даже совершенно незнаком говорящему. Это было уместно в эллинистических монархиях, где ораторское слово давно уже перестало быть средством политической борьбы и стало средством эстетического наслаждения. Но это было неуместно в Риме, который переживал в I в. до н.э. самый тяжелый кризис в своей истории – крушение республики и установление военной монархии. Политическая борьба на форуме достигла наивысшего напряжения. Риму нужны были не краснобаи, а политики. Таких эллинистическая школа дать не могла. Отсюда – протест против школьной греческой риторики с позиций римской политической практики. Выразителем этого протеста и стал крупнейший политический оратор Рима этих лет – Цицерон. Так в творчестве Цицерона объединилась критика школьной риторики сразу с двух сторон: с точки зрения теории и с точки зрения практики, от лица греческой философии и от лица римской политики. Это своеобразное сочетание тенденций и составляет особенность риторической трилогии Цицерона – сочинений "Об ораторе", "Брут" и "Оратор". III Когда Цицерон писал диалог "Об ораторе", ему шел пятьдесят второй год; когда он писал "Брута" и "Оратора", ему было шестьдесят лет, и жить ему оставалось только три года. Эти сочинения написаны человеком пожилым, умудренным и усталым, за плечами у которого – жизнь, полная непрерывных трудов и тревог, и в мыслях которого – сознание, что жизнь эта сложилась неудачно, что [с.26] цели своей он не достиг. У него была слава, но не было силы, его слушали, но за ним не шли. Он был лучшим писателем своего поколения, но он не смог стать его политическим вождем. Время гражданских войн нуждалось в вождях решительных и смелых, которые не боялись рвать с политическими условностями и готовы были идти на любые крайности. Цицерону, с его идеалом общественного равновесия, с его заботой о равном удовлетворении всех противников, с его преклонением перед законностью и традицией, – Цицерону не было места среди бойцов этой жестокой схватки. Он оказался одиночкой. К этой судьбе его одинаково вело и его общественное положение, и его индивидуальный духовный склад. По своему общественному положению Цицерон принадлежал к всадническому сословию. Положение всадничества в римской сословной системе было двойственным: оно было экономически могущественно и политически бесправно. Первая черта сближала его с правящим сенатским сословием, вторая черта сближала его с восстающим на сенат бесправным плебейством. В результате на долю всадничества выпадала незавидная роль политических соглашателей: когда сенатское сословие непримиримо упорствовало в своей монополии на власть, всадничество блокировалось с плебсом и шло против сената в первых рядах оппозиции, но как только сенат шел на уступки и делился долей власти с младшим сословием, всадничество меняло фронт и решительно выступало против дальнейших притязаний своего вчерашнего союзника, плебса. Сенатская знать презирала всадников как выскочек, плебейство сторонилось их как изменников. Таково было положение Гая Мария, лучшего военного вождя, выдвинутого всадничеством, когда он в 100 г. до н.э. вооруженной силой подавил плебейское восстание Аппулея Сатурнина; таково было положение Цицерона, лучшего оратора, выдвинутого всадничеством, когда он в 63 г. до н.э. расправился с заговором Катилины. Разумеется, не следует представлять себе все эти сложные политические отношения слишком упрощенно: всадничество не было классом, тем более не было партией, внутреннего единства здесь было меньше, чем где-либо еще в римском обществе, однако именно эта картина постоянных политических колебаний остается типичной для всаднического сословия в целом, и именно жизненный путь Цицерона служит этому самым ярким примером. Индивидуальный духовный склад Цицерона также содействовал его политическому одиночеству. Он не был прирожденным политиком, у него не было наследственного навыка и опыта в политической игре, как у сенатской аристократии; вместо этого у него был широкий философский кругозор и высокие представления о долге перед государством и человечеством. К политическим вопросам он подходил не как практик, а как теоретик. Происхождение и социальное положение всадника, человека без доступа к власти, толкало его на борьбу с сенатом, воспитание в духе традиционных римских этических и политических идеалов заставляло его преклоняться перед сенатом. В поисках выхода из этого противоречия Цицерон обращался к греческой философии. Философия приходила к нему на помощь учением [с.27] о государстве как о высшей форме общечеловеческой справедливости, которой все лица и сословия должны подчинять свои частные интересы. Такое равновесие частных интересов вокруг заботы об общем благе и стало политическим идеалом, которому Цицерон посвятил все свои труды. "Согласие сословий" (concordia ordinum) или, вернее, "согласие всех честных граждан" (consensus omnium bonorum) было его программой: в годы самой жестокой междоусобицы он выступил с лозунгом всеобщего примирения. Конечно, это было утопией. События разворачивались совсем не так, как ждал и надеялся Цицерон, и приносили ему все новые разочарования. Вместо того, чтобы управлять событиями, ему приходилось подчиняться им; вместо того, чтобы утверждать золотую середину, ему приходилось выбирать между крайностями. А крайности для его идеализма были невыносимы: аристократическая тирания Суллы и демократическая тирания Цезаря одинаково ему претили. Нужно было решать, которое из двух зол меньшее, а такое решение для душевного склада Цицерона всегда было непосильно. Впечатлительность и склонность к увлечению сочеталась в нем с пытливой рассудочностью, рефлексией, самоконтролем; философия и риторика учили его взвешивать и учитывать все доводы за и против; и каждое решение требовало от него стольких оговорок перед самим собой, что всякий раз он безнадежно упускал и время и обстоятельства, делал шаг не нужный, а вынужденный, и оставался ни с чем, недовольный сам собой и пренебрегаемый политическими партнерами. Цицерон родился 3 января 106 г. до н.э. в Арпине, маленьком городке Лация, во всаднической семье. Отроческие и юношеские годы он провел в Риме. Отец его сделал все, чтобы дать сыну самое лучшее образование и подготовить его к политической карьере. Обычно такая подготовка начиналась с того, что юношу вводили в дом кого-нибудь из видных сенаторов, и там, присутствуя при занятиях и беседах хозяина, глядя, как он готовится к речам и дает юридические советы, молодой человек привыкал к образу жизни и дел правящего сословия. Для юного Цицерона такой политической школой явились дома Квинта Муция Сцеволы-авгура, лучшего римского юриста, и его зятя Луция Лициния Красса, лучшего римского оратора. Это был тот узкий круг просвещенной аристократии, который с такой любовью будет изображен Цицероном в диалоге "Об ораторе": здесь жила родственная память о Сципионе и Лелии, о Панэтии и Полибии, о первых идеологах возвышенного синтеза римских нравов и эллинской философии. Здесь и на форуме Цицерон слышал лучших ораторов своего времени – Красса, Антония, Сульпиция, Котту; у родосского ритора Аполлония Молона, преподававшего в это время в Риме, он учился греческому красноречию; знаменитый трагик Акций и греческий поэт Архий руководили им в чтении поэтов; эпикуреец Федр, стоик Диодот и приехавший в Рим академик Филон Ларисский были его наставниками в философии. Политические смуты этих лет – сперва союзническая война, потом террор марианцев, потом война между Цинной и Суллой – помешали Цицерону выступить на политическую арену в обычном раннем возрасте и заставили [с.28] его посвятить несколько лишних лет философским и риторическим занятиям. Впоследствии это принесло ему неоценимую пользу. Занимался он с замечательным трудолюбием и усердием. В частности, он задумал составить большую компиляцию из лучших греческих пособий по риторике и написал уже первые две книги, обнимавшие учение о нахождении, но потом оставил эту мысль. Эти две книги сохранились и известны под названием "О нахождении". Впоследствии он со стыдом вспоминал об этом сочинении, полном той риторической догматики, против которой он так ополчился потом; но для двадцатилетнего юноши такая работа была большим успехом. Когда Цицерон впервые выступил с речью на форуме, в Риме правил Сулла. Диктатура Суллы, жестокая и кровавая, была своеобразной попыткой утвердить аристократическую республику методами деспотической монархии. Оппозиция против Суллы (конечно, тайная и робкая) объединяла не только всадников и плебс, но и многих представителей сенатской знати. К этой оппозиции примкнул и молодой Цицерон. В одной из своих судебных речей он задел влиятельного вольноотпущенника Суллы, в другой поставил под сомнение один из законов Суллы, – выпады мелкие, но достаточные, чтобы привлечь неблагосклонное внимание правителя. Цицерон, всегда осторожный, начинает беспокоиться за свою судьбу, и после трех лет удачной адвокатской практики неожиданно покидает Рим, по его словам, для поправления здоровья и усовершенствования в искусстве. Он едет в Грецию, слушает в Афинах ученика Филона – Антиоха Аскалонского, объезжает города Малой Азии с их славными риторическими школами и на целый год остается на Родосе, где под руководством Молона вновь и вновь изучает Демосфена, стараясь достичь в своих речах его силы и избавиться от чрезмерной пышности. Только после смерти Суллы, в 77 г. двадцатидевятилетний Цицерон возвращается в Рим. Здесь уже шла успешная борьба за ликвидацию сулланского режима: всадничество и плебс добивались хотя бы тех же прав, которые они имели до Суллы, а сенатская знать, опасаясь появления нового диктатора, охотно шла на уступки. Первые речи Цицерона еще не были забыты: молодой оратор радостно принят демократическим блоком, он удачно женится на Теренции, богатой невесте из знатного рода, и в 76 г. избирается на должность квестора. Его политическая карьера началась. Цицерон не обольщался первыми успехами. Он помнил, что среди правящего сословия он новый человек, без больших средств и прочных связей, и должен полагаться только на свои силы. А его силы были в одном: в его красноречии. И он вновь принимается за адвокатскую практику, берется за новые и новые дела, соперничает с лучшими ораторами своего времени и постепенно выходит победителем из всех соперничеств. Каждая новая защитительная речь приносит ему нового влиятельного заступника в сенате и новую ораторскую славу в народе. Каким особенностям своего красноречия был обязан Цицерон этим успехам? Во-первых, своей теоретической подготовке: со своими философскими познаниями он мог поновому говорить о старых предметах, поражая слух толпы, не привыкшей [с.29] к широким взглядам и суждениям; а со своими риторическими познаниями он умел строить речь более рассчитано, гибко и убедительно, чем его соперники, для которых все-таки наследственная традиция римского практического красноречия всегда была сильней теоретических уроков греческой риторики. Во-вторых, своему художественному вкусу: до Цицерона латинский язык не знал стилистической разработки, в языке ораторов беспорядочно соседствовали архаические выражения древних жрецов и законодателей с новомодными греческими словечками, бытовые и просторечные обороты с торжественными поэтическими речениями; Цицерон первый привел этот хаос к единым стилистическим нормам разговорного языка образованного римского общества, упорядочил, развил, обогатил средства ораторской речи, навсегда став для потомков образцом того драгоценного для оратора качества, которое древние называли "обилием" (copia). В-третьих, своему умению возбуждать в слушателях страсть: для нас эта способность не кажется важной, но для древнего оратора, которому так часто приходилось подменять логику доводов силой эмоций, это качество было первым залогом успеха; и Цицерон здесь был непревзойденным мастером, равно способным исторгать у публики смех и слезы: шутки его пользовались такой славой, что издавались отдельными сборниками, а жалость и ненависть он возбуждал с таким искусством, что когда ему приходилось делить защитительную речь с другими ораторами (как часто делалось в Риме), на его долю единодушно оставлялось заключение – самая напряженная и страстная часть речи. Так в течение нескольких лет завоевал Цицерон неоспоримую славу первого римского оратора, и эта слава стала началом его первых политических успехов. Годом политического признания для Цицерона был 70 год, когда в консульство Помпея и Красса, двух вождей демократического блока, были окончательно отменены последние остатки сулланского режима. Победа реставрации должна была завершиться громким судебным процессом – расправой с Верресом, наместником Сицилии, одним из ставленников аристократической реакции. Этот процесс был поручен Цицерону, который в бытность свою квестором служил в Сицилии, и Цицерон провел его блестяще. Веррес удалился в изгнание, не дожидаясь конца процесса, его адвокат, знаменитый Гортензий, отказался от защиты, триумф был полный. С этих пор Цицерон переходит от должности к должности при единодушной общей поддержке. В 69 г. он становится эдилом, в 66 г. претором. В должности претора он произносит свою первую политическую речь, выступая за предоставление Гнею Помпею чрезвычайных военных полномочий на Востоке. Он уже мог льстить себя мыслью, что судьбу римского народа вершат два вождя – Помпей и он. В 63 г. Цицерон делается консулом и наконец-то приступает к практическому осуществлению своей мечты – "согласия сословий". Обстоятельства ему благоприятствовали: в Италии было неспокойно, носились слухи о волнениях рабов, у всех еще свежо было в памяти восстание Спартака, и перед лицом общей угрозы сенат, всадники и народ предпочитали жить в мире. В самый год консульства Цицерона был [с.30] раскрыт заговор Катилины – дерзкая и широко задуманная попытка государственного переворота. Цицерон воспользовался призраком анархии, чтобы еще теснее сплотить все сословия на защиту государства. Наделенный чрезвычайными полномочиями, при поддержке сената и ликовании народа он изгнал из Рима Катилину и казнил его ближайших сообщников. Народ прославлял его как второго основателя Рима, сенат наградил его небывалым почетным титулом "отец отечества". Казалось, что Цицерон достиг пределов своих желаний. Однако этот высший взлет был для него началом падения. "Согласие сословий", созданное им, было недолгим и непрочным: оно рассыпалось, как только миновала непосредственная опасность. Сенатская аристократия не хотела поступаться своими интересами ради интересов других сословий, а демократы не могли простить Цицерону его расправу с катилинариями. Вернувшийся с Востока Помпей не поддержал Цицерона: он нашел более выгодных союзников в лице Красса и Юлия Цезаря ("первый триумвират", 60 г.). Цицерон остался в одиночестве. Он произносил речи, напоминал о всенародном единении 63 г., вновь и вновь прославлял свою победу над Катилиной, но эти призывы уже не находили отклика. В 58 г. по требованию плебейского вождя Публия Клодия, личного врага оратора, за расправу с сообщниками Катилины Цицерон был объявлен вне закона и вынужден удалиться в изгнание в Фессалонику. Правда, через полтора года ему удалось вернуться и вернуться с почетом; триумвиры даже взяли его под свою защиту от нападок Клодия, но потребовали от него за это поддержки словом их политических действий. И Цицерон произносит в сенате речи в поддержку Помпея и Цезаря, защищает в суде их ставленников, все более оплакивая положение государства, все более презирая самого себя. Практическая недостижимость желанного политического идеала уже ясна для него, и он торопится хотя бы письменно, хотя бы в теории запечатлеть свою несбывшуюся программу. Все чаще удаляясь из Рима к себе на виллы, он пишет свои первые теоретические трактаты: "Об ораторе" (55 г.), "О государстве" и "О законах" (54-51 гг.). Он еще не покидает форум, но когда он выступает, его уже не слушают: в 52 г. он произносит одну из лучших своих речей – в защиту Милона, убившего в уличной схватке ненавистного Цицерону Клодия; и все же Милон был осужден и изгнан. В таких-то условиях получил Цицерон в 51 г. неожиданное назначение наместником в провинцию и почти с радостью покинул Рим, чтобы спасти свою гибнущую политическую репутацию. Полтора года провел Цицерон в глухой Киликии, приводя в порядок налоги и воюя с горными разбойничьими племенами. А когда в последних числах 50 г. он вернулся в Италию, политическое положение в Риме уже совершенно переменилось. Юлий Цезарь, завоеватель Галлии, с мощным войском стоял на пороге Италии, требуя себе власти; страх перед общей угрозой объединил против него аристократию во главе с сенатом и умеренную демократию во главе с Помпеем; начиналась гражданская война, и обе стороны рады были привлечь к себе лучшего римского оратора. Казалось, выбор [с.31] Цицерона был предрешен: в союзе Помпея и сената ему вновь виделся образ долгожданного "согласия сословий" против грозящей тирании. Но и тут идеальные понятия Цицерона-философа сковали действия Цицерона-политика: гражданская война казалась ему таким гибельным ужасом, что он не хотел встать ни на чью сторону, пока не будут исчерпаны все средства примирения. Сперва он дожидается в Италии Цезаря и тщетно просит его не преследовать помпеянцев; потом он переправляется в Македонию к Помпею и убеждает его не отказываться от перемирия; разумеется, никто его не слушает. Скрепя сердце, он остается в лагере Помпея, хотя обреченность республиканцев ему ясна; но при первой вести о разгроме Помпея при Фарсале летом 48 г. он покидает Македонию и возвращается в Италию. В течение одиннадцати месяцев он живет в Брундизии, томясь неизвестностью своей судьбы. Наконец, в сентябре 47 г. через Брундизий проезжает победоносный Цезарь, ласково принимает Цицерона и позволяет ему вернуться в Рим. С этих пор Цицерон живет то в Риме, то в своих поместьях, усталый и глубоко подавленный. Форум для него закрыт: лишь изредка он произносит перед Цезарем льстивые речи, заступаясь за своих друзей-республиканцев. Его красноречие больше не пользуется успехом: в Риме теперь царит новая риторическая мода – аттицизм. Его философия кажется уже устарелой: вместо скептицизма Филона теперь господствует эклектизм Антиоха. Его имущественные дела в расстройстве: в гражданской войне он потерял большое состояние. Его семейное счастье разрушено: в 46 г. он разводится с властной Теренцией, с которой прожил тридцать лет, вскоре женится на молодой богатой наследнице Публилии, но через несколько месяцев разводится и с ней. В начале 45 г. умирает Туллия, любимая дочь Цицерона; этот удар окончательно надламывает его душу. Теперь Цицерон живет в полном уединении, целиком отдавшись литературной работе и общаясь лишь с немногими друзьями. Имена этих друзей то и дело появляются на страницах сочинений Цицерона. Прежде всего, это Аттик, самый близкий друг и многолетний советник Цицерона, римский всадник, один из самых богатых людей в Риме, смолоду отказавшийся от всякого участия в политике и умевший быть общим другом и ничьим врагом; он неизменно был первым издателем сочинений Цицерона, и сам занимался литературой как историк-любитель. Далее, это Квинт Цицерон, младший брат оратора и зять Аттика, человек легкомысленный и необузданно буйный, хороший офицер и плохой поэт, немного завидовавший брату и впоследствии погибший вместе с ним. Ему Цицерон посвятил свой диалог "Об ораторе". Далее, это Теренций Варрон, семидесятилетний старик, один из ученейших людей Рима, автор бесчисленных сочинений по всем отраслям знаний, желанный собеседник Цицерона в философских спорах; преклонный возраст не помешал ему незадолго до этого деятельно сражаться в Испании за Помпея против Цезаря. Далее, это Сервий Сульпиций Руф, друг молодости Цицерона, знаменитый юрист, впервые внесший в казуистику римского права систематизирующий дух греческой философии; [с.32] сохранилось его проникновенное письмо к Цицерону с утешением на смерть Туллии, присланное из Греции, где в эту пору он был наместником. Наконец, это Марк Юний Брут, будущий убийца Цезаря, самый младший и самый нежно любимый из друзей Цицерона: потомок древнейшего римского рода, получивший лучшее образование, философ, аскет, человек неоспоримой добродетели, твердой мысли и железной воли, он внушал уважение и друзьям и врагам, а особенно Цицерону, умевшему ценить в людях решительность и мужество, которых так недоставало ему самому. В гражданской войне Брут сражался на стороне Помпея, после Фарсала перешел к Цезарю, пользовался его глубочайшим доверием, но в душе твердо сохранял верность республиканским идеалам; и старые республиканцы, тайные враги Цезаря, с Цицероном во главе, мечтая о восстановлении республики, возлагали на Брута свои лучшие надежды. Бруту Цицерон посвятил большую часть своих сочинений последних лет, в том числе диалог "Брут" и трактат "Оратор". "Брут" и "Оратор" появились в 46 г., это была попытка Цицерона оправдать свою манеру красноречия перед молодыми критически настроенными ораторами. К этому же времени относится заметка "О наилучшем роде ораторов" (предисловие к переводу двух речей Демосфена и Эсхина) и, по-видимому, маленький учебник в вопросах и ответах "Ораторские разделения". Однако основная масса теоретических сочинений Цицерона падает на 45-44 гг.: в марте 45 г., тотчас после смерти Туллии, Цицерон пишет обращенное к самому себе философское "Утешение", за ним следует диалог "Гортензий" – как бы вступление и побуждение к философским занятиям, а затем – целая серия философских трактатов и диалогов: "Академики", "О высшем благе и крайнем зле", "Тускуланские беседы", "О природе богов", "О предвидении", "О судьбе", "О старости", "О дружбе", "О славе", "Об обязанностях". Все эти произведения были созданы меньше, чем за два года, писались они с необычайной быстротой. "Все это не требует труда: от меня нужны лишь слова, а слов у меня вдоволь", – писал Цицерон Аттику ("К Аттику", XII, 52, 3), объясняя эту легкость тем, что он лишь перерабатывает сочинения греков. Это не совсем так: действительно, все философские взгляды Цицерона заимствованы из греческих учений, но выбор и сочетание элементов его философской системы индивидуальны и своеобразны. В вопросах теоретической философии Цицерон – скептик, и держится того из академических учений, которое в годы его молодости проповедовал Филон: критериев истинности познания для него нет, бытие божества недоказуемо, рока не существует, и человеческая воля свободна. В вопросах практической философии Цицерон – стоик: его этика строится на основании представления о природе, руководимой разумом, и о четырех добродетелях души (мудрость, справедливость, мужество, умеренность), диктующих человеку его нравственный долг, исполнение которого дает счастье. Эта философия самосовершенствования была теперь для Цицерона утешением в его сознательном и безнадежном отречении от общественной жизни [с.33] В марте 44 г., когда Цицерон работал над второй книгой трактата "О предвидении", в Риме под кинжалами заговорщиков погиб Юлий Цезарь. Мгновенно государство очутилось вновь на пороге гражданской войны. Вначале была еще надежда, что все обойдется мирно, как обошлось когда-то после отречения Суллы; но достичь мира не удалось. Консул Антоний, мечтая о диктатуре, собирал войска, чтобы мстить за Цезаря; приемный сын Цезаря, девятнадцатилетний Октавиан, собирал войска, чтобы защищать сенат; Брут отправился на Восток, чтобы закрепить сенатскую власть над провинциями. Цицерон не принимал участия в этих событиях, он видел, что политические счеты будут сводиться уже не речами, а оружием и что ему здесь более нет места. В июле он решает покинуть Италию и уехать в Грецию, где учился в это время сын его Марк; в дороге он отвлекается от горьких мыслей, сочиняя по просьбе одного из друзей "Топику", маленькое пособие по риторике. Но на половине пути в одной из гаваней южной Италии он повстречал Брута, задержавшегося в пути на Восток; и несколько часов их беседы произвели в душе Цицерона последний переворот. Он отказался от поездки, отказался от философского уединения, вернулся в Рим и с мужеством отчаянья бросился в борьбу за спасение республики. Теперь он – признанный вождь сената и республиканцев: осенью, зимой и весной 44-43 гг. он произносит перед сенатом и народом четырнадцать речей, которые сам называет "Филиппиками" в память о знаменитых речах Демосфена; в них он клеймит Антония и превозносит республику и Октавиана. Последняя филиппика была произнесена в апреле 43 г., это было торжественное славословие первой победе сенатских войск над Антонием при Мутине; а через полгода после этой победы наступило окончательное поражение. Побежденный Антоний и победитель Октавиан вступили в союз и двинули войска на Рим; беззащитный сенат признал за ними высшую власть; политические враги новых правителей были объявлены вне закона и обречены на казнь; одним из первых в перечне жертв был Цицерон. Цицерон пытался бежать, но безуспешно. В ночь с 6 на 7 декабря 43 г. он был настигнут и убит на своей формийской вилле. Ему отрубили голову и руки и отнесли их Антонию; Антоний приказал пригвоздить их на форуме перед той трибуной, с которой Цицерон так часто выступал. "И больше народу приходило посмотреть на мертвого, чем когда-то – послушать живого", – говорит историк Аппиан1. IV Если разделить теоретические сочинения Цицерона на несколько циклов, как это часто делается, то диалог "Об ораторе" окажется принадлежащим одновременно к двум циклам: во-первых, к риторической трилогии "Об ораторе" – "Брут" – "Оратор", во-вторых, к [с.34] политической трилогии "Об ораторе" – "О государстве" – "О законах". Перед читателем "Об ораторе" обычно выступает в составе риторической трилогии, но связь этого сочинения с политическими произведениями Цицерона едва ли не столь же важна. Три книги "Об ораторе" писались в 55 г. до н.э. – это был один из самых тревожных годов своего времени, когда форум бушевал схватками Клодия и Милона, консулы три месяца не могли вступить в должность, и только личное вмешательство Помпея и Красса навело к концу года порядок в государстве. Цицерона в его уединении на путеоланской вилле эти события не могли не наводить на горькие раздумья. В 54 г., тотчас по окончании "Об ораторе", Цицерон приступает к работе над сочинением "О государстве". Нет никакого сомнения, что основные мысли этого сочинения созревали в голове Цицерона уже тогда, когда он писал "Об ораторе". Больше того, только в общей связи этих мыслей можно вполне понять возникновение и облик диалога "Об ораторе". В основе политической теории Цицерона, как она развернута в сочинении "О государстве", лежит широко известное учение греческой философии о том, что существуют три формы правления – монархия, аристократия и демократия, – но лучшей является форма, смешанная из всех этих трех элементов, так как она более всего соответствует принципу справедливости, на котором зиждется государство, и так как она более всего осуществляет идеал "согласия сословий". Для Цицерона эта идеальная смешанная форма не является беспочвенной утопией: по его мнению, она нашла свое воплощение в римском государственном строе, каков он был накануне гражданских войн, в век Катона и Сципиона. Гражданские войны поколебали его единство, и в Риме возникло словно два борющихся государства в государстве. Чтобы преодолеть этот кризис и восстановить общественное равновесие и справедливость, Риму нужны новые люди, новые вожди – такие, для которых интересы государства выше интересов партии, которые знают, что такое общее благо и высшая справедливость, видят пути к их достижению и умеют повести за собой по этим путям народ. "Первый человек в государстве" (princeps rei publicae), "правитель" (rector), "умиротворитель" (moderator), "блюститель и попечитель государства" (tutor et curator rei publicae) – так называет Цицерон такого идеального вождя. Этот вождь объединяет в себе теоретика и практика, философа и политика, он не только сознает цель, но и владеет средствами для выполнения своей миссии. А из этих средств самое могущественное и важное – красноречие. От V книги трактата "О государстве", где Цицерон рисовал портрет этого идеального вождя, до нас дошли ничтожные отрывки, но и среди них тема красноречия возникает несколько раз. "В своем "Государстве" Туллий говорит, что правитель государства должен быть мужем великим и ученейшим, соединяя в себе и мудрость, и справедливость, и умеренность, и красноречие, плавный бег которого позволил бы ему изъяснить свои сокровенные мысли, чтобы возглавить народ", – говорится в одном из этих отрывков (V, 1, 2). В другом отрывке речь идет о [с.35] сладостной речи мифического царя Менелая (V, 9, 11); в третьем звучит предупреждение, что речь оратора должна служить только высоким и благородным целям, и что обольщать судей красноречием столь же позорно, как и подкупать их деньгами (там же; ср. "Об ораторе", III, 55). Легко заметить, что, возвращаясь к политическому идеалу времен Сципиона и Катона, Цицерон возвращается и к риторическому идеалу той же поры – его оратор не кто иной, как vir bonus dicendi peritus, для него красноречие имеет цену только в сочетании с политической благонадежностью, а само по себе оно есть опасное оружие, одинаково готовое служить добру и злу. Когда между благонадежностью и красноречием происходит разрыв, это всегда оказывается пагубно для государства: таково демагогическое красноречие вождей демократов, Тиберия Гракха в старшем поколении или Сульпиция Руфа в младшем; оба были замечательными ораторами, но оба погубили в конце концов и себя, и республику. Но не только в римском прошлом, а и дальше в глубине истории, в греческом прошлом усматривал Цицерон прообразы своего идеального философа-политика: это Перикл, ученик Анаксагора, Алкивиад и Критий, ученики Сократа, Дион и Демосфен, ученики Платона, Тимофей, ученик Исократа ("Об ораторе", III, 138-139)... Иными словами, идеал Цицерона оказывается перенесенным в новую эпоху древним идеалом "общественного человека", ἀνὴρ πολιτικός. Поэтому естественно, что и мысли теоретиков этого идеала, греческих софистов, оказываются близки Цицерону: он открыто восхваляет Гиппия, Горгия и других мудрецов, которые знали все и умели говорить обо всем, а историческое поражение этих мудрецов в споре с Сократом объясняет только тем, что презиравший красноречие Сократ сам был красноречив намного больше, чем его соперники ("Об ораторе", II, 126-130). Более того, Цицерон оплакивает это поражение софистов, так как оно разъединило философию и красноречие, теорию и практику, и из общего источника они потекли в разные стороны, как реки с Апеннин ("Об ораторе", III, 56-73). Возвращение к этому единому источнику государственной мудрости греческих и римских вождей Цицерон считает залогом общего блага. В своем отношении к софистам и их идеалу человека Цицерон неизбежно вставал в оппозицию всем греческим философским школам, так как все они в конечном счете вели начало от Сократа, врага софистов. Но хотя Цицерон был усердным учеником философов и причислял себя к школе Платона, величайшего из сократиков, такое противоречие его не смущало. Он был слишком далек от больших философских проблем классической древности, и многое в разногласиях философских эпох и школ казалось ему спором о словах при единомыслии по существу. А если так, то почему не взять лучшее от каждого направления и не соединить все взятое в общем синтезе? Правда, Платон в "Горгии" самым сокрушительным образом ниспровергал софистическую риторику; но ведь тот же Платон в "Федре" сам предлагал блестящий образец такой же философской [с.36] риторики! И Цицерон стремится совместить Платона с софистами, Аристотеля с Исократом, глубину с широтой, созерцательность с действенностью. Эклектик в философии, он остается эклектиком и в риторике. Это не было его индивидуальной чертой, это было духом времени: один из учителей Цицерона, академик Антиох Аскалонский, посвятил всю свою жизнь попытке примирить и объединить три основные философские школы, академиков, перипатетиков и стоиков, положив в основу пункты их согласия и сведя к спору из-за слов пункты их разногласия. Поэтому, между прочим, так трудно определить прямые источники риторической системы трактата "Об ораторе": несомненно, здесь присутствуют и мысли Филона, и мысли Антиоха, но в какой мере – сказать невозможно. Зато с уверенностью можно сказать, что главным и определяющим в замысле и написании трактата был теоретический и практический опыт самого Цицерона. В эклектике взглядов Цицерона политика занимала особое место. Мы уже говорили, что в теоретической философии Цицерон был скептик, воздерживавшийся от всякого суждения об истине, а в практической философии – стоик, неукоснительно следующий нравственному долгу. В политике эти два принципа сталкивались: как теоретик, Цицерон не мог не признавать, что политические взгляды Гракхов или Клодия имеют такое же право на существование, как и его собственные, но как практик он не мог не восставать против них в твердом сознании своего нравственного долга – борьбы с анархией. Для того чтобы пойти на это, он был должен убедить не только других, но и себя, что его собственный взгляд на вещи если не истиннее, то вероятнее, чем взгляд его политических противников; а средством такого убеждения было красноречие. В той системе философского скептицизма, какую Цицерон воспринял от Филона, истинность была заменена вероятностью, факты – мнениями, доказательность – убедительностью. Таким образом, из всех возможных мнений истинно то, которое красноречивее изложено; таким образом, красноречие есть не только средство изложения уже достигнутых истин, но и средство достижения еще сомнительных истин. Учение Платона выше учения стоиков главным образом потому, что Платон изложил свою метафизику с божественным красноречием, а стоики свою – небрежно, холодно и сухо. Более того, всякий оратор, знакомый с философией, сможет изложить философское учение более убедительно, а следовательно, и более истинно, чем философ, незнакомый с красноречием ("Об ораторе", I, 67; III, 78). Таковы, по-видимому, выводы, которые сделал римский оратор Цицерон из уроков греческого философа Филона Ларисского. Красноречие – вершина науки, как бы утверждает Цицерон; в мире скепсиса, где все истины науки относительны, одни истины красноречия абсолютны, ибо они убедительны. В этом – высшая гордость оратора. Разумеется, этот идеальный образ оратора, рисовавшийся Цицерону, не имел ничего общего с тем оратором, ремесленником слова, которого выпускали на форум риторические школы. "Я много видел [с.37] ораторов речистых, но ни одного – красноречивого", – повторяет Цицерон слова Марка Антония. Для идеального оратора слово – венец всех знаний, для ритора-ремесленника слово – свобода от всех знаний. Ритор неспособен быть тем политическим вождем, какой нужен Риму: он будет не властвовать событиями, а покоряться им и принесет своими речами не пользу, а вред государству. Ведь задача воспитания политического вождя не в том, чтобы научить его красивой речи, а в том, чтобы научить его пользоваться этой речью. А для этого он должен знать многое и многое, чему не учат в риторических школах: с одной стороны, греческую философскую теорию, т.е. учение о единении граждан вокруг принципа равновесия и справедливости, с другой стороны, римскую политическую практику, т.е. традицию просвещенной аристократии Сципиона и его кружка, последователем которой считал себя Цицерон. Только это соединение красноречия со знаниями и опытом создаст политического вождя: одна риторика здесь бессильна. Поэтому Цицерон и взял названием своего сочинения не традиционное заглавие "Риторика" или "О красноречии", а неожиданное – "Об ораторе". По той же причине Цицерон не стал придавать этому сочинению традиционной формы риторического учебника, а избрал свободную форму философского диалога, еще мало привычную в Риме. Это давало автору три преимущества. Во-первых, это позволяло ему подчеркнуть отличие своего подхода к теме от традиционного подхода школьных учебников и компиляций, в том числе и его собственной юношеской "Риторики" ("О нахождении"): об этом произведении он весьма критически упоминает во введении в диалог (I, 5). Во-вторых, это позволяло ему излагать материал не догматически, как непреложную истину, а дискуссионно, как спорную проблему, приводя и взвешивая все доводы за и против каждого мнения, как того требовала скептическая философия и ораторская выучка. В-третьих, это позволяло ему подкрепить свое мнение авторитетом тех деятелей, которых он выводил действующими лицами своего диалога. Выбор этих лиц был для него нетруден: это были учителя его молодости, лучшие ораторы предшествующих поколений, вожди сената и хранители сципионовских традиций, Лициний Красс и Марк Антоний. Их ораторский талант был общепризнан, их отрицательное отношение к школьной риторике общеизвестно: именно Красс был автором эдикта 92 г., запрещавшего латинские риторические школы. Цицерон не забывает упомянуть об этом в диалоге, разумеется, истолковав этот акт в соответствии с собственными взглядами (III, 9394). Время действия диалога – первые дни сентября 91 г. до н.э., последняя пора политического мира перед Союзнической войной и марианским переворотом. Место действия – тускуланская усадьба Красса, куда съехались участники диалога на время праздничного перерыва сенатских заседаний. Цицерон, как мы видели, критикует существующую систему риторического обучения с двух точек зрения: во-первых, за отсутствие теоретических, философских основ, во-вторых, за отсутствие практического жизненного опыта. Глашатаем критики первого рода [с.38] выступает в диалоге глубокомысленный Красс, глашатаем критики второго рода – энергичный Антоний. Луцию Лицинию Крассу во время действия диалога было 49 лет; он был консулом за четыре года до того (в 95 г.) и цензором за год до того (в 92 г.). За ним было уже много заслуг в борьбе сената против демократии: осуждение Карбона, одного из виднейших гракханцев (119 г.), попытка вернуть сенату захваченные всадничеством суды (106 г.), закон, отвергавший притязания италиков на римское гражданство (95 г.); в самое время действия диалога он был занят борьбой с консулом 91 г. Марцием Филиппом, сторонником демократических реформ Друза, и через десять дней после описанной Цицероном беседы произнес против Филиппа свою лучшую речь, оказавшуюся его последней речью (III, 1-6). Марк Антоний (отец Гая Антония, который был коллегой Цицерона по консульству, и дед триумвира Марка Антония, по чьему приказанию Цицерон впоследствии был казнен) был старше Красса на три года и занимал консульскую должность на четыре года, а цензорскую на пять лет раньше своего товарища. Он был столь же предан сенатской партии, но не столь последователен во всех своих действиях: свою лучшую речь он произнес в защиту Гая Норбана, своего товарища по военной службе, хотя Норбан был демократ, а нападал на него Сульпиций, аристократ и единомышленник Антония (II, 197-204). Антоний пережил Красса, участвовал в Союзнической войне и погиб во время террора Цинны (III, 10). Связанные тесной личной дружбой и политическим единомыслием, Красс и Антоний тем не менее отличались друг от друга и характером и красноречием. Оба они учились у греческих философов (I, 45; II, 365; III, 75), но Красс относился к почерпнутым знаниям глубоко серьезно, Антоний – с оттенком иронии; Красс решительно отвергал школьную риторику, Антоний же сам когда-то написал маленький риторический учебник (I, 94, 206); Красс предпочитал сенатское красноречие, Антоний – судебное; Красс был выше всего в объяснениях и истолкованиях, Антоний – в нападении и опровержении; речь Красса отличалась величественным пафосом, речь Антония – сжатой силой; слог Красса был отделан до совершенства, между тем как Антоний полагался лишь на естественное чувство языка. В этих двух фигурах, своим сходством и различием превосходно дополнявших друг друга, Цицерон нашел идеальных героев своего диалога, поборника глубокой мысли и поборника блестящий силы. Образы этих ораторов, конечно, идеализированы Цицероном – он сам оговаривает, что их знакомство с греческой наукой для многих было весьма сомнительным (II, 1); но соотношение между двумя образами передано, по-видимому, верно. Вокруг этих двух главных персонажей диалога группируются остальные действующие лица. Прежде всего это пара младших ораторов, учеников и продолжателей Красса и Антония – Сульпиций и Котта. Во время диалога им уже по 33 года, и каждый из них уже известен как талантливый оратор, но в доме Красса они по-прежнему чувствуют себя начинающими учениками, ищущими у старших мастеров образца и совета. По их побуждению и для их наставления, [с.39] собственно, и завязывается беседа об истинном ораторе. Это накладывает характерный римский отпечаток на весь разговор: диалог ведется не между равными, не между философами-теоретиками, в споре ищущими истину (как в греческом диалоге), а между старшими и младшими, между политиками-практиками, хранителями аристократической традиции, в беседе передающими свой опыт от учителей к ученикам. Из двух молодых людей Сульпиций более подражал изобилию и пафосу Красса, Котта – простоте и силе Антония. Позднейшая судьба их была различна. Сульпиций вскоре перешел от аристократов к демократам, был главным действующим лицом бурного марианского переворота 88 г. и пал одной из первых жертв Суллы. Котте удалось пережить (хотя и в изгнании) гражданскую войну, он мирно достиг консульства в 75 г. и умер на следующий год; он был неизменно дружен с молодым Цицероном, и именно на него ссылается Цицерон как на источник своих сведений о беседе Красса и Антония (I, 26) – обычная условность диалогического жанра. Если Сульпиций и Котта представляют в диалоге младшее поколение, то Квинт Муций Сцевола представляет старшее. Ему около семидесяти лет (он был консулом в 117 г.), и он служит как бы связующим звеном между поколением Красса и Антония и поколением Сципиона и Лелия: его жена – дочь Лелия, а его дочь – жена Красса. В семействе Сцевол наследственным было изучение права (I, 39, 165), и Сцевола выступает в диалоге как хранитель древних римских традиций, требующий от государственного деятеля прежде всего благоразумия и знаний и скептически относящийся ко всякому красноречию (I, 35-44). Однако и он хорошо знаком с греческой философией и помнит уроки Панэтия. Цицерон смолоду хранил живую память о Сцеволе и впоследствии повторил самый лестный отзыв о нем в "Бруте" (147-150). Сцевола выступает участником диалога только в I книге; затем он удаляется, но вместо него появляются два новых собеседника – Квинт Лутаций Катул и Гай Юлий Цезарь Страбон; Катул принадлежит к поколению Красса и Антония, Цезарь – к поколению Сульпиция и Котты. Катул, деливший с Марием консульство и победы над германцами, славился своим вкусом, греческой образованностью и изяществом речи; Цезарь, несмотря на молодые годы, был уже известен как несравненный мастер шутки и насмешки, и в диалоге он появляется, собственно, лишь затем, чтобы сделать род содоклада на эту тему. Дом Катула был центром кружка молодых поэтов, а Цезарь был сам поэтом и писал трагедии. Оба они, и старый и молодой, погибли в годы марианского террора. Ими заключается состав семи собеседников диалога "Об ораторе". Древность знала две разновидности в жанре диалога: диалог платоновского типа, состоящий из коротких реплик, которыми один из собеседников постепенно наводит другого на правильное решение проблемы, и диалог аристотелевского типа, состоящий из связных речей, в которых собеседники поочередно высказывают свое мнение о предмете спора. Диалоги Цицерона принадлежат к [с.40] аристотелевскому типу1: действующие лица высказываются в них связно, пространно и многословно. Однако в диалоге "Об ораторе", первой цицероновской пробе нового жанра, забота о разговорной естественности все же присутствует: короткие речи чередуются с долгими, долгие перебиваются репликами и замечаниями, фиктивность диалога не обнажается так, как это будет в торопливо написанных философских сочинениях последних лет. Подражая Аристотелю, автор помнит и о Платоне. В начале диалога, выбирая место для беседы под платаном, собеседники ссылаются на "Федра" (I, 28); в конце, где предсказывается славное будущее начинающему Гортензию (III, 228-230), несомненна аналогия пророчеству об Исократе в том же "Федре" (место, которое Цицерон помнил и любил, видя в нем залог желанного союза философии с риторикой); общий тон разговора, происходящего за считанные дни до кончины Красса, напоминает читателям платоновского "Федона". Даже в более частных и случайных мотивах Цицерон старался брать пример с Платона: любопытное свидетельство об этом сохранилось в письме к Аттику (IV, 16, 3). Аттик удивлялся, что Сцевола, выступив в первой книге диалога, затем исчезает со сцены; Цицерон ему напоминает, что таким же образом в "Государстве" Платона старый Кефал, приняв Сократа, участвует лишь в первой беседе с ним, а затем уходит и не возвращается. "Платон, мне думается, счел неуместным заставлять человека таких лет участвовать дольше в столь длинной беседе. Я полагал, что мне следует еще того более остерегаться этого по отношению к Сцеволе: и возраст его и здоровье, как ты помнишь, и высокое положение были таковы, что для него едва ли было достаточно пристойным жить много дней в тускуланской усадьбе Красса. Беседа, помещенная в первой книге, не была чужда занятиям Сцеволы; прочие же книги, как тебе известно, говорят о ремесле. Я совершенно не хотел, чтобы этот старик, любитель шутки, которого ты знал, принимал в этом участие". Последние строки приведенного отрывка указывают на еще одну особенность диалога "Об ораторе" – на его композицию. Цицерон отличает первую книгу диалога, где вопрос об истинном красноречии ставится во всей его философской широте, и две последние книги, где речь идет лишь об отдельных сторонах ораторского искусства (Цицерон пользуется греческим термином: τεχνολογία, ремесло). В первой книге Красс и Антоний выступают попеременно, завязывая спор, во второй – Антоний рассуждает о нахождении, расположении и памяти, в третьей – Красс говорит о словесном выражении и о произнесении. Последнее слово, таким образом, остается за Крассом. Для Цицерона такая композиция имеет особый смысл. Его целью было подвести римских читателей к образу идеального оратора – философа и политика в одном лице. Делать это надо было [с.41] осторожно: слишком нереальным должно было казаться римским практикам такое сочетание. И Цицерон искусным приемом завоевывает внимание публики. В первой книге он выводит не один, а два идеала и сталкивает их между собой в споре Красса и Антония: идеал философский и практический, греческий и римский, крассовский и антониевский. А затем, во второй и третьей книгах, он постепенно сближает эти две враждебные точки зрения и подробным раскрытием взглядов сперва Антония, а потом Красса показывает, что в действительности обе крайности сходятся, и подлинный идеал красноречия оказывается одним и тем же в понимании обоих спорящих. В первой книге приближение к теме совершается в три приема. Раньше всего – еще во вступлении, до начала диалога – Цицерон от собственного лица ставит вопрос, почему красноречием занимаются столь многие, а достигают в нем успеха столь немногие? – и сам на него отвечает: потому что красноречие – труднейшее из искусств, так как требует от оратора знаний сразу по многим наукам, из которых каждая и сама по себе уже значительна (I, 6-20). После этого возникает второй вопрос: в чем же это истинное величие красноречия? Красс произносит краткую, но яркую похвалу красноречию в самом высоком плане: это высшее проявление человеческих сил, основа общественного и частного благосостояния и т.д. (I, 30-34). Эта речь вызывает возражения Сцеволы и Антония: Сцевола указывает, что политика может обходиться и обходится без красноречия (I, 35-44), Антоний напоминает, что философия также отвергает красноречие и даже отрицает за ним имя науки (I, 80-95). Тогда Красс произносит вторую речь, в которой идет на уступки: он уже не настаивает на образе оратора-мыслителя, который царит над всеми науками, придавая им совершенство своим красноречием, но выдвигает образ оратораполитика и правозащитника, который знаком со всеми науками и в случае необходимости черпает из них материал для своих речей (I, 45-73). Однако Красс не противополагает эти образы один другому, в его речи они все время подменяют друг друга, переливаются друг в друга, выдвигая на первый план то те, то другие черты; недаром Сцевола с улыбкой отвечает ему: "Ты, Красс, сумел какой-то уловкой и уступить и не уступить мне те свойства, которые я оспаривал в ораторе". Этот двоящийся образ идеального оратора, возникающий в речи Красса, как бы предвещает тот синтез теоретических и практических требований к оратору, каким явится все сочинение "Об ораторе". Но сейчас, в начале диалога, этот обрисованный Крассом образ служит лишь поводом для завязки – для открытого столкновения мнений Красса и Антония об ораторском искусстве. Материалом для столкновения мнений служит естественно возникающий третий вопрос: каковы должны быть качества истинного оратора и как они приобретаются? Первым выступает Красс. Сначала он говорит о трех элементах традиционной подготовки оратора – дарование, обучение, упражнение (I, 107-159). Затем, в ответ на просьбу подробнее остановиться на более высоких требованиях, т.е. на [с.42] знакомстве оратора со всеми науками, он для примера выбирает право и подробно показывает, что знание права для оратора необходимо, интересно и почетно (I, 166-203). Разработка права была национальной гордостью римлян, и Цицерон разумно рассчитывал, что сочувствие читателей он скорее всего завоюет, заступаясь за право, изгоняемое греческими риторами из школьного обучения. На всю эту длинную речь Красса тотчас же возражает такой же развернутой речью Антоний (I, 207-262). Он сразу противопоставляет крассовскому представлению об ораторе, который заключает в себе познание всех наук и искусств, свое собственное представление: оратор – это человек, умеющий в суде и собрании пользоваться приятными словами и убедительными мыслями. А затем он последовательно утверждает, что красноречие и политика, красноречие и философия, красноречие и правоведение – вещи разные; что политик не обязан быть оратором, философия несовместима с практической жизнью, в правоведении достаточно следовать советам знающих друзей; и наконец, что весь объем знаний, рекомендуемых Крассом, недоступен для одного человека, в особенности для такого занятого человека, как оратор. Цель оратора – убеждать речью, и он должен не отвлекаться, а сосредоточиться на этом искусстве. Речь Антония стройна и убедительна: видно, что всем своим рассудком Цицерон был с Антонием, как всем своим чувством – с Крассом. Сопоставление двух точек зрения настолько контрастно, что лучшей завязки для диалога не приходится желать: собеседники расходятся с твердым намерением возобновить разговор на следующий день. Этот возобновленный разговор займет остальные две книги. Но уже здесь, в финале первой книги, в момент наивысшего напряжения спора, неожиданно звучит ироническая реплика Красса, предугадывающая его мирный исход: "Боюсь, Антоний, что не истинное свое мнение ты излагаешь, а только упражняешься в опровержении чужого, как ораторы и как философы!" В самом деле, уже в первой книге выясняется одна важная общая черта взглядов Красса и Антония – их отношение к вопросу, разделявшему философов и риторов: является ли риторика наукой? Философы утверждали, что риторика не есть наука, риторы утверждали обратное; Красс предлагает компромиссное решение: риторика не есть истинная, т.е. умозрительная наука, но она представляет собой практически полезную систематизацию ораторского опыта; и Антоний соглашается с таким пониманием (I, 107-110). А это позволяет обоим собеседникам застраховать себя от критики со стороны философов и самим сосредоточиться на критике школьных риторов с их уверенностью в незыблемой научности преподаваемых предписаний. Эта общность критического взгляда на школьную риторику и становится почвой для сближения и слияния мнений Красса и Антония об истинном ораторе. Начало критике школьных догм кладет Красс: в своей характеристике трех элементов ораторского образования – дарование, обучение, упражнение – он искусно подменяет понятие "обучение" (ars) понятием "рвение" (studium) (I, 133-135), а перечислив (нарочито упрощенно) основные [с.43] предписания риторической школы, заключает, что все они не создают искусственного красноречия, а лишь развивают природное (I, 146). Антоний, отвечая Крассу, ни словом не возражает против такого подхода, а в своей речи о нахождении, занимающей большую часть второй книги, развивает те же мысли еще дальше. Речь Антония во второй книге начинается пространной и эффектной похвалой красноречию (II, 28-38): это до известной степени параллель той речи Красса, с которой начиналась первая книга, и хотя Красс прославлял слово скорее как средство познания, а Антоний – как средство убеждения, сходство между двумя речами таково, что вызывает новое ироническое замечание Красса и честный ответ Антония: "вчера я говорил, чтобы поспорить с тобой, сегодня говорю то, что думаю". Вслед за этим Антоний приступает к изложению своих взглядов на нахождение материала, все время противопоставляя их взглядам школьной риторики. Говоря о видах красноречия, он указывает, что нецелесообразно к судебному и политическому красноречию приравнивать малопрактичное хвалебное (II, 47); говоря о разделах речи, он замечает, что требования ясности, выразительности и пр., относясь ко всей речи, относятся ко всем ее разделам в равной мере, так что неразумно ограничивать применение пафоса – заключением, а требование краткости и ясности – повествованием и т.п. (II, 79-83, ср. 326); говоря о приобретении опыта, осуждает школьные упражнения с фиктивными казусами, всегда более легкими и примитивными, чем в действительности (II, 100); говоря о нахождении, критикует излишний педантизм в трактовке спорного пункта и излишнюю мелочность в классификации доводов (II, 108-109, 117-118) и т.д. Вслед за Крассом Антоний подчеркивает значение природного таланта и добросовестного рвения в начинающем ораторе; для риторической "науки" в собственном смысле слова остается лишь узкое пространство между "дарованием" и "рвением" (II, 150). Больше того, Антоний пытается заменить в риторической системе роль "обучения" ролью "подражания" и систему правил системой образцов (II, 90-98) – здесь он удачно применяет против риторов их же оружие: подражание классикам было давним средством риторического образования, но в системе школьных наставлений оно никогда не могло найти твердого места. Все эти рассуждения сопровождаются непрерывными напоминаниями о чисто практической и чисто римской точке зрения говорящего, в противоположность суесловию греческих учителей; иллюстрацией этого противоположения должен служить остроумный анекдот о Ганнибале и Формионе, вставленный в начальную часть речи (II, 75-76). В противовес школьным тонкостям, Цицерон выдвигает в речи Антония два общих понятия, определяющие суть двух главных аспектов красноречия: "общий вопрос" (θέσις ) для логического аспекта, "уместность" (πρέπον ) для эмоционального аспекта. С понятием общего вопроса мы уже знакомы – его появление в риторике связано, по-видимому, с именем Филона или его предшественников; понятие "уместности" бытовало в риторике, по крайне мере, со времен [с.44] Феофраста, но особенную широту и глубину оно получило в стоической философии Панэтия, откуда его и усвоил Цицерон. Впрочем, подробного развития эти два понятия в речи Антония еще не получают. Общий вопрос упоминается здесь лишь с практической точки зрения – как средство заменить многочисленные и дробные доводы "от частностей", разрабатываемые по риторической системе, немногими и связными доводами "от целого", извлекаемыми из общего вопроса (II, 133-141). Понятие уместности служит здесь лишь для того, чтобы ввести рассуждения о страстях, возбуждаемых речью (II, 114, 186, 205 и др.). Раздел о возбуждении страстей изложен Цицероном с особенной подробностью: важность его была общепризнанна, но в логические схемы риторов он укладывался плохо, и Цицерон пользуется случаем показать превосходство своего подхода к красноречию. Наиболее обстоятельно говорится о юморе и остроумии – материале, наименее поддающемся логическому схематизированию (II, 216-217): здесь Антоний передает слово Цезарю, известному мастеру шутки, и тот держит об этом длинную речь, пересыпанную многочисленными примерами (II, 216-290). Цицерон сам славился остроумием и знал, что такого рода отступление в его трактате вызовет широкий интерес. А в общей композиции второй книги этот раздел создает приятное разнообразие, облегчая Цицерону завершение книги малооригинальными замечаниями о диспозиции, о несудебных родах речи и о памяти. Таким образом, почти вся цицероновская программа новой риторики, и положительная и отрицательная, оказывается изложенной в речи Антония и представленной как вывод из самых практических и самых традиционно-римских соображений деловитого оратора. Противоречие между этой практической программой и той теоретической программой, которую в начале сочинения вызывающе излагал Красс, оказывается мнимым. Крассу остается только поставить все точки над "и", наметив за риторическими положениями Антония глубину философской перспективы. Это и делается в третьей книге диалога. Третья книга по плану беседы должна заключать речь Красса о словесном выражении и о произнесении речи – самых важных для оратора предметах. В действительности эта тема дважды перебивается обширными отступлениями, в общей сложности занимающими около трети всей книги. В этих отступлениях сосредоточен главный интерес Цицерона. Первое отступление рисует общую картину отношений между риторикой и философией (III, 56-108): их первоначальное единство, последующее разделение, отношение отдельных философских школ к красноречию и необходимость для красноречия обращаться к философским образцам. Второе отступление (III, 120-143) раскрывает прообразы желаемого синтеза красноречия и философии: среди теоретиков – это софисты, среди практиков – в Риме Катон, в Греции великие народные вожди от Солона и Писистрата до Перикла и Тимофея. Так перед уже подготовленным читателем раскрывается, наконец, конечная цель всей риторико-политической программы Цицерона. Что эта цель трудно достижима, [с.45] автор не скрывает: на всем протяжении речи Красс не устает напоминать, что он говорит об идеальной цели, достигнуть которой может лишь идеальный оратор (III, 54, 74, 83, 90). Впрочем, Цицерон заботливо смягчает решительность этих заявлений, тут же заставляя собеседников восклицать, что он, Красс, и есть живое воплощение такого идеального оратора (III, 82, 126-131, 189). Красс отклоняет эти комплименты, но по существу и он допускает появление такого истинного оратора, если в нем осуществится идеальное сочетание ораторского дарования с философской образованностью (I, 79, ср. 95). Почти не может быть сомнений, что Цицерон, вкладывая это пророчество в уста Красса, имел в виду самого себя. Однако, разумеется, открыто об этом нигде не сказано, и даже в концовке сочинения для намека на дальнейшее совершенствование римского красноречия упомянуто лишь имя Гортензия. Совпадение мыслей Красса о риторике с мыслями Антония подчеркивается тем, что оба важнейших понятия второй книги – "общий вопрос" и "уместность" – возникают и в третьей книге: уместность – как одно из четырех феофрастовских требований к слогу, а общий вопрос – без всякой видимой связи с основной темой словесного выражения, только затем, чтобы показать, как философские требования к риторике подводят к тем же итогам, что и практические требования. Такой же перекличкой с Антонием служит и продолжающийся ряд выпадов против школьной риторики (III, 54, 75, 92), но и он получает новое философское обоснование в рассуждении о том, что искусство вырастает из природы (III, 197), красноречие родилось раньше, чем теория красноречия, и следовательно, школьные предписания не могут притязать на общеобязательность и нерушимость (ср. I, 146). "Из обилия предметов само собой родится обилие слов" – вот основная мысль речи Красса о словесном выражении. Частные замечания об отдельных сторонах словесного искусства здесь менее существенны и менее интересны. Красс придерживается традиционной схемы четырех требований к речи – правильность, ясность, пышность, уместность; но подробно он говорит только о пышности, также по традиционной схеме: отбор слов, сочетание слов, фигуры. Любопытно, что в разделе о сочетании слов речь идет почти исключительно о вопросах ритма (III, 173-198): для Цицерона ритм всегда был предметом величайшей заботы как на практике, так и в теории; мы встретимся с этой темой и в трактате "Оратор". Небольшое рассуждение о произнесении речи кажется лишь вынужденным добавлением к теме; а затем предельно краткое заключение заканчивает диалог. Так построен диалог "Об ораторе": противопоставление двух точек зрения в первой книге, их постепенное сближение и отождествление во второй и третьей книгах. Результат должен был удовлетворить как поклонников греческой философии, так и приверженцев римской традиционной практики. Именно таким признанием и звучат реплики троих младших собеседников в ответ на речь Красса: Котта говорит, что он уже почти готов стать философом; Цезарь, напротив, делает вывод, что можно и без философии, и без [с.46] энциклопедических знаний стать оратором; и, наконец, Сульпиций заявляет, что желает быть как раз таким практическим оратором, лишь по мере надобности прибегающим к более отвлеченным наукам (III, 145-147). Цицерон был доволен своим сочинением и имел на то основания. "О моих трех книгах "Об ораторе" я очень высокого мнения", – заявлял он даже десять лет спустя1. "Мой способ обучения более основателен и богаче общими вопросами (θετικώτερον )", – писал он брату вскоре после окончания диалога2. А своему другу Лентулу он сообщал об этом так: "Я написал в духе Аристотеля (по крайней мере, так мне хотелось) три книги "Об ораторе" в виде диалога и спора...; они далеки от ходячих наставлений и охватывают все ораторское искусство древних, и Аристотеля и Исократа"3. Не следует понимать последних слов буквально, Аристотель и Исократ для Цицерона не столько источники, сколько символы древнего единства риторики и философии; однако философский подход Цицерона к риторике был для его времени новым и плодотворным. V Когда Цицерон писал диалог "Об ораторе", он не предполагал, что вернется к этому предмету вновь. Тема "Об ораторе" была для него лишь подступом к теме "О государстве", и красноречие занимало его лишь как средство политики. Однако не прошло и десяти лет, как ему вновь пришлось обратиться к обсуждению теории красноречия, и на этот раз безотносительно к политике, с точки зрения эстетической по преимуществу. Так явились трактаты "Брут" и "Оратор", почти тотчас один после другого, перекликающиеся друг с другом и дополняющие друг друга. В них получают развитие те же мысли, какие были высказаны в диалоге "Об ораторе", но в новых обстоятельствах они приобретают новое значение. "Брут" и "Оратор" были написаны в 46 г., в течение первого года по возвращении Цицерона в Рим. Это был год окончательного торжества Цезаря: в апреле он разбил в Африке последнее войско помпеянцев во главе со Сципионом и Катоном, в июне вернулся в Рим, в августе справил неслыханный по великолепию четверной триумф, конец года посвятил законодательству и административным реформам. Цицерон все это время жил в Риме, в двусмысленном положении прощенного помпеянца, скорбным созерцателем гибели республики и робким заступником перед победителем за побежденных: в сентябре 46 г. им произнесена перед Цезарем благодарственная речь за прощение Марцелла, в промежутке между "Брутом" и "Оратором" им написана похвала Катону, идейному вождю республиканцев, покончившему самоубийством в Африке после победы Цезаря. [с.47] Политическая роль Цицерона была уже сыграна, это понимали все, и он сам в первую очередь. У него оставалось единственное утешение – слава первого оратора своего времени. Тем болезненнее он почувствовал, что и эта его слава была под угрозой. С молодых лет Цицерон выработал свой идеал красноречия, стремился к нему и считал, что близок к его достижению. А теперь, вернувшись в Рим после четырехлетнего отсутствия, он увидел, что на смену его поколению выдвинулось новое, не разделявшее его ораторских идеалов и искавшее иного совершенства. Во главе этих новых на форуме людей стояли Лициний Кальв, талантливый поэт и темпераментный оратор, и Марк Юний Брут, уже знакомый нам молодой друг Цицерона; к ним примыкали Марк Калидий, Квинт Корнифиций, Азиний Поллион, все личные знакомые Цицерона и по большей части цезарианцы. Им было по тридцать-сорок лет; называли они себя "аттиками". Чтобы понять происхождение этого течения, которое принято называть аттицизмом, следует вернуться лет на сто назад, в мир греческой риторики эпохи эллинизма. Мы помним, что в риторической школе эпохи эллинизма преподавание держалось на двух основах: на изучении риторической теории и на изучении образцов – аттических ораторов V-IV вв. Риторическая теория изменялась с изменением вкусов и требований современности, помогая ученикам создавать все более пышные и велеречивые произведения; образцы оставались неизменными в своем классически ограниченном величии. С течением времени разрыв между эстетикой теории и эстетикой образцов становился все сильнее и в языке, и в стиле, и в тематике красноречия. Художественное чувство античности ощущало такой разрыв крайне болезненно. Традиционализм всегда был самой характерной чертой античного искусства, по крайней мере, у его теоретиков: эстетический идеал виделся ему не впереди, а позади, вместо поисков оно призывало к подражанию, имена классиков каждого жанра окружались почти религиозным почитанием, и поэты воспроизводили язык и стиль Гомера, Софокла и Пиндара с такой точностью, которая показалась бы нам стилизацией. Искания и эксперименты дозволялись лишь в тех жанрах, которые не были еще освящены классическими художественными образцами. Проза дольше, чем поэзия, сопротивлялась давлению традиции, так как проза была теснее связана с запросами действительности; но когда связь красноречия с жизнью ослабела, и художественное слово превратилось в искусство для искусства, тирания образцов распространилась и на нее. Произведения аттических прозаиков стали казаться единственно совершенными, а все последующие памятники стиля – искажением и извращением. Подражания Лисию, Платону и Демосфену были удостоены почетного имени "аттицизма", а традиции эллинистической прозы заклеймены презрительной кличкой "азианства". Органическое развитие классики подменилось ее догматизацией. Вместо живого художественного чувства основой творчества стала педантически тщательная ученость, отмечающая "аттические" особенности образца и [с.48] воспроизводящая их в подражании. Аттицизм был созданием теоретизирующих эстетов в эллинистических культурных центрах, ученой модой, доступной лишь узкому кругу ценителей. В дни Цицерона это была еще спорная новинка, и только в следующем после него поколении, при Дионисии Галикарнасском и Цецилии Калактинском он получил широкое признание в греческом мире. На римской почве судьба его была иной. Строго говоря, аттицизм вообще не мог быть воспроизведен в латинской речи: языковый пуризм аттицистов, провозглашавших отказ от современного греческого языка и возвращение к аттическому диалекту трехвековой давности, понятным образом, не мог быть перенесен в латинский язык; принцип возврата к древним образцам через голову новейших также был неуместен в латинском красноречии, где древних образцов, по существу, не было вовсе. Однако тех молодых римлян, которые так неожиданно и торопливо провозгласили себя аттицистами, пленяло в греческом учении совсем не это. Им нравился более всего самый дух учености, труднодоступного искусства, умственного аристократизма, проникавший реставраторские изыскания греческих риторов. Это было поколение, вступившее в политическую жизнь Рима уже после того, как террор Мария и Суллы оборвал преемственность древних республиканских традиций; заветы Сципиона, Сцеволы и Красса для них уже не существовали, и на агонию республики они смотрели не с болью, как Цицерон, а с высокомерным равнодушием. От политических дрязг они уходили в личную жизнь, в искусство и в науку; чем меньше общего имели их занятия с интересами форума, тем дороже им были эти занятия. Такова была ученая и любовная поэзия Катулла и Кальва, подражавшая изысканнейшим александрийским образцам, такова была философия Лукреция с ее аполитизмом и пафосом чистой науки, таковы были их исследования в области грамматики (так называемый аналогизм, о котором нам еще придется говорить), права, энциклопедических наук и т.д. Аттицизм в красноречии также был одной из форм этого протеста против современности. Вовсе отстраниться от политической жизни молодые римляне не могли, да, пожалуй, и не хотели; но снисходить в своих речах до угождения вкусам толпы было ниже их достоинства (если не говорить о таких ораторах, как Целий или Курион, в своем презрении к вырождавшейся республике доходивших до крайнего политического авантюризма). Пышная выразительность гортензиевского и цицероновского слога им претила. Вместо чувств слушателей, они обращались к их разуму, вместо полноты и силы искали простоты и краткости. К этому их толкала и философия, которую они исповедовали: стоицизм с его культом логики и отрицанием страстей и эпикурейство, осуждавшее всякую заботу о художественности речи. Поэтому аттицизм греческих теоретиков в восприятии римских практиков претерпел любопытные изменения: если у греков в ряду аттических образцов выше всего ставилось развитое искусство Демосфена (как мы увидим впоследствии у Дионисия Галикарнасского), то для римлян на первый план [с.49] выдвинулась старинная безыскусственность Лисия и (с натяжками) Фукидида. Благозвучие словосочетаний, периодический строй, ритм – все это казалось уже позднейшими ухищрениями, недостойными истинного "аттика"; и писатели, приверженные к такого рода изяществу речи, клеймились именем "азианцев". Первым среди них, разумеется, был Цицерон. Тацит и Квинтилиан сохранили память о тех нападках, какими осыпали Цицерона римские аттицисты. Тацит пишет1: "Хорошо известно, что даже у Цицерона не было недостатка в хулителях, которым он казался надутым, напыщенным, недостаточно сжатым, не знающим меры, многословным и мало аттическим. Вы, конечно, читали письма Кальва и Брута к Цицерону, из которых легко увидеть, что Кальв казался Цицерону бескровным и сухим, Брут – вялым и несвязным, но и Цицерон в свою очередь подвергался нареканиям от Кальва за расплывчатость и бессилие, а от Брута (по его собственным словам) за изломанность и развинченность". Квинтилиан подтверждает: "Современники дерзали даже нападать на него как на оратора азианского, напыщенного, не в меру обильного, излишне щедрого на повторения, подчас холодного в шутках, изломанного в построении речи, тщеславного и чуть ли не женоподобного (что было ему совершенно несвойственно); в особенности набрасывались на него те, которые желали казаться подражателями аттиков"2. Конечно, Цицерон не мог примириться с таким отношением к его эстетической программе и к его ораторским достижениям. Едва освоившись с новым положением в Риме, он начинает полемику против аттицистов. Обстоятельства складывались для него благоприятно: в 47 г. скончались Калидий и Кальв, еще раньше погибли в гражданской войне Курион и Целий, и теперь вождем аттицизма бесспорно оставался Брут, близкий друг и политический единомышленник Цицерона, глубоко уважавший старого оратора. Цицерон мог надеяться, что ему удастся убеждением отвратить Брута от аттицизма и сделать его своим наследником в искусстве величественного традиционного стиля. К Бруту Цицерон обращает оба свои сочинения 46 г.: в "Бруте" он выступает собеседником, в "Ораторе" – адресатом. Цель этих сочинений – обосновать законность и превосходство того ораторского идеала, пути к которому Цицерон указал в диалоге "Об ораторе". Обоснование двоякое: с точки зрения исторической в "Бруте", с точки зрения теоретической в "Ораторе". "Брут" был написан раньше, хотя по содержанию он был менее важен для Цицерона, чем "Оратор". По-видимому, лишь случайное обстоятельство побудило Цицерона взяться в первую очередь за историю, а не за теорию красноречия. Друг Цицерона, Аттик, только что закончил "Летопись" – небольшой исторический труд, о котором Цицерон упоминает не раз и с неизменным восхищением. Если бы этот труд дошел до нас, вряд ли мы разделили бы восторг Цицерона; по-видимому, это была простая хронологическая таблица [с.50] с указанием имен магистратов каждого года и важнейших событий римской (а отчасти и греческой) истории, случившихся в эти годы. Однако нужно вспомнить все несовершенство древнего летосчисления, которое не знало последовательной нумерации годов и поэтому сталкивалось с постоянными трудностями при расчете промежутков между событиями и с еще большими – при синхронистических сопоставлениях: тогда мы оценим значение книги Аттика для римских историков. Для Цицерона же она имела и другое значение. Римское красноречие было прежде всего красноречием политическим, и этот однообразный перечень консулов и преторов за пятьсот лет был в то же время перечнем ораторов, более значительных или менее значительных, память о которых жила в римском красноречии и на опыте которых учились молодые ораторы. Книга Аттика побудила Цицерона упорядочить свои юношеские воспоминания, расположить их в хронологической последовательности и обобщить мыслями о направлении развития римского красноречия и о его уроках. Так создался "Брут". Художественная форма "Брута" – диалог, но диалог не столь драматически разработанный, как в книгах "Об ораторе": в нем меньше платоновского и больше аристотелевского элемента (хотя и здесь фоном для разговора служит статуя Платона – "Брут", 24 – как в первой книге "Об ораторе" – платоновский платан). Действующие лица диалога – сам Цицерон, Брут и Аттик; но по существу их беседа представляет собой длинную лекцию Цицерона по истории ораторского искусства, лишь изредка в паузах перебиваемую репликами или дополнениями собеседников. План сочинения определяется материалом: это – хронологический обзор римских ораторов в последовательности их консульских или преторских дат (нарушаемой лишь сравнительно редко) с краткими характеристиками каждого. Для удобства обозрения материал более или менее отчетливо членится на несколько периодов, приблизительно соответствующих поколениям: время до Катона (53-60), время Катона (61-80), время Лелия и Гальбы (81-102), время Гракхов (103-138), время Красса и Антония (139-200), время Сульпиция и Котты (201-233), время Гортензия (233-329). Имя Гортензия служит как бы рамкой и хронологическим рубежом повествования: сожалением о его недавней смерти (в 50 г.) начинается книга Цицерона, рассуждением о его красноречии она кончается. Ораторов, которые еще живут и здравствуют, Цицерон намеренно не касается: исключение сделано лишь для Цезаря и Марцелла, да и то лестная речь о Цезаре вложена в уста Аттика. Периоды, намеченные Цицероном, довольно обширны, поэтому внутри них он подробно останавливается лишь на более видных ораторах, а второстепенных перечисляет небольшими группами; иногда группировка производится по какому-нибудь явному признаку (ораторы-стоики, 117-121; ораторы неримского происхождения, 169-172; ораторы, погибшие в гражданской войне, 265-269), но часто – просто для легкости изложения. Вступлением к обзору римского красноречия служит очень краткий обзор греческого [с.51] красноречия (26-38) с хронологическим сопоставлением греческой и римской древности (39-51). Отступления в ходе повествования немногочисленны (если не считать попутных замечаний о хронологии, о подлинности текстов и т.п.). Выделяется лишь одно, с явным расчетом помещенное в самой середине сочинения – о соотношении суждений знатоков и публики (183-200). Общее число ораторов, перечисленных Цицероном в "Бруте" – свыше двухсот. Он намеренно старается упомянуть даже самых незначительных деятелей римского красноречия. Цель его при этом двоякая: во-первых, показать, что Рим всегда славился рвением к художественному слову (впрочем, он сам не очень всерьез принимает всю эту массу ораторов, однако свое скептическое к ним отношение высказывает не лично, а устами трезво мыслящего Аттика – см. 244 и 297); вовторых, подчеркнуть, как много достойных граждан стремилось достичь идеала красноречия и сколь немногим это удавалось, – как мы помним, эта тема уже звучала во введении к диалогу "Об ораторе". Источниками для суждений Цицерона были, прежде всего, собственные речи ораторов, записанные и сохранившиеся. Не следует слишком доверять его словам, когда он говорит, что "отыскал и прочитал" сто пятьдесят речей Катона (165); но несомненно, что со своим неизменным интересом ко всему, что касалось красноречия, Цицерон читал их больше, чем кто-нибудь из его современников. Ценность таких речей была неодинакова: одни из них были записаны самими авторами, другие – скорописцами на форуме, некоторые сохранились лишь в конспектах (ср. 160, 164), были даже подложные речи (ср. 99, 205). Почти всех римских ораторов двух последних поколений Цицерон знал лично, видя и слыша их на форуме в течение сорока лет, и судил о них по собственным впечатлениям. Об ораторах предыдущих двух поколений Цицерон мог в юности слышать подробные рассказы от Сцеволы, Красса и других старших современников: "Мы утверждаем это, опираясь на воспоминания отцов", – ссылается он в одном месте (104 – о талантах Тиберия Гракха и Карбона). Характерно, что говоря о тех ораторах, которых он видел собственными глазами, Цицерон никогда не упускает случая упомянуть об их внешности, голосе и жестах, тогда как о более ранних ораторах ему удается это сообщить лишь в редких случаях. Красноречие догракховского времени известно Цицерону лишь по писанным речам, а красноречие докатоновского времени – лишь по догадкам. Из исторических сочинений, содержавших важный для историка красноречия материал, Цицерон пользовался "Началами" Катона (где Катон приводил собственные речи – 66, 75, 89, 90) и "Анналами" Фанния (может быть, лишь в извлечении, сделанном Брутом – 81, ср. "К Аттику" XII, 5, 3); привлекал также стихи Энния (58), Луцилия (160, 172), Акция (72). Другие литературные источники Цицерона скрыты от нас обычной для диалога условной безличностью: "говорят", "известно", "мы слышали" и т.п. Историко-литературное значение "Брута" огромно. Это едва ли не единственное связное и полное сочинение по истории литературы, [с.52] сохранившееся до нас от античности. Без этих заметок Цицерона, при всей их краткости и схематичности, наше представление о началах римской прозы было бы гораздо более смутным. Для Цицерона римское красноречие было предметом национальной гордости, и он был счастлив стать первым его историком. "Я воздал немалую хвалу римлянам в той нашей беседе, которую я изложил в "Бруте" как из любви к своим, так и из желания ободрить других", – писал он впоследствии ("Оратор", 23). Однако главная цель произведения заключалась не в этом. "Весь этот наш разговор ставит целью не только перечисление ораторов, но и некоторые наставления", – признается он в конце диалога (319). "Брут" – сочинение прежде всего критическое и полемическое. Литературно-критическая направленность "Брута" видна прежде всего в многочисленных оценках отдельных ораторов. Здесь Цицерон наименее оригинален. Его критерии соответствуют традиционной системе школьной риторики: "дарование – ученость – усердие" (22, 92, 98, 110, 125 и др.), "красноречие совещательное – красноречие судебное" (112, 165, 178, 268 и др.), "нахождение – расположение – изложение – произнесение" (139-141, 202), "правильность – ясность – пышность – уместность" (там же), "убеждение – услаждение – волнение" (144-145, 202-203, 274); по рубрикам этой схемы раскладываются достоинства и недостатки каждого оратора; и лучшим показателем практичности этой выработанной веками схемы является то, что для каждого оратора она дает свое неповторяющееся сочетание характеристик. Разумеется, при вынужденной беглости обзора эта рубрикация все одних и тех же качеств делает характеристики бледными и монотонными. Избегая этого, Цицерон старается объединять важнейшие имена попарно, чтобы они оттеняли друг друга: так, в Лелии было больше изящества для убеждения, а в Гальбе больше силы для возбуждения волнения (89); Антоний был сильнее в произнесении, Красс – в подготовке речи (215); Котта отличался искусной сдержанностью, Сульпиций – патетической пылкостью (202-203) и т.д. В тех же профессиональных терминах оценивает Цицерон и отдельные речи своих ораторов (159-162, 194-198 и др.). Современный читатель, который требует от критики прежде всего выявления индивидуальности и внутреннего единства писательского творчества, может остаться не удовлетворен подобными характеристиками; но следует помнить, что Цицерон пишет не серию литературных портретов, а обзор развития красноречия, и черты общего для него важнее, чем черты индивидуального. В самом деле, если присмотреться к цицероновским характеристикам, то легко увидеть предмет преимущественного внимания Цицерона. Это – соотношение таланта, учености и упражнения, тот же вопрос, который был поставлен в первой книге "Об ораторе". Действительно, Цицерон заботливо отмечает все условия, влиявшие на формирование оратора: домашнее воспитание и семейные традиции (108, 210, 211, 213), диалектное окружение (170, 171), имена наставников (101, 104, 114, 245, 263), научный кругозор (81, 94,[с.53] 175 и др.) или отсутствие такового (213-214). Развитие римского красноречия есть следствие распространения культуры в римском обществе – такова основная мысль Цицерона, которую он старается иллюстрировать всем ходом своего изложения. Большие дарования всегда были среди римских ораторов; но то, что дарованием достигается случайно и наугад, с помощью науки может быть достигнуто легче и наверняка. До Катона римское красноречие было вполне стихийным; Катон первый стал уделять художественной стороне красноречия особое внимание. Лелий и за ним Гай Гракх впервые сочетали римское красноречие с греческой философией. Рутилий Руф последовал за ними, но выбрал неправильный путь и застыл в стоических тонкостях; правильный путь нашли Антоний и Красс, в творчестве которых римское красноречие достигает высшего блеска. Путь к дальнейшему совершенствованию открыт, и углубление философской мудрости красноречия сулит ораторам большие удачи; правда, Котте и Сульпицию для этого не хватало полноты дарования, а Гортензию – постоянства и усердия, но тот оратор, который совместит в себе большой талант и большие познания во всех науках, несомненно достигнет идеального совершенства. Нет нужды добавлять, что в понимании Цицерона этот мастер, которому суждено достигнуть идеала, – сам Цицерон. Правда, в ходе диалога он неизменно уклоняется от разговора о самом себе (161-162, 322); но устами собеседников и упоминаемых лиц он достаточно часто высказывает лестные мнения о собственном таланте (123, 140, 150, 190, 254); а заканчивая книгу воспоминаниями о своей молодости, о научных занятиях и ораторских упражнениях (интереснейший образец "духовной автобиографии", едва ли не единственный в дошедшей до нас античной литературе), он явно желает дать конкретное представление о том общеобразовательном идеале, который должен найти воплощение в совершенном ораторе. Таким образом, Цицерон в своей истории красноречия рисует продуманную картину исторического прогресса и постепенного восхождения от ничтожества к совершенству. "Ничто не начинается с совершенства", – заявляет он, и подтверждает это примерами из истории литературы и искусства (69-73, ср. 26-36 и 296). Он относится к древности с глубоким почтением, но не как к живому образцу, а как к музейному памятнику; он готов допустить даже подражание Катону, но лишь при условии, чтобы были исправлены и улучшены все несовершенства Катона, очевидные современному взгляду (69; "я не столько порицаю древность за то, чего в ней нет, сколько хвалю за то, что в ней есть", – скажет он потом в "Ораторе", 169). Эта концепция прогресса – прямая противоположность той концепции упадка и искусственного возрождения, которой придерживались аттицисты. Цицерон согласен, что за достигнутым совершенством наступает упадок, как это случилось в Афинах после Демосфена и Эсхина; но римское красноречие, по его мнению, еще не достигло своей вершины, и поэтому говорить об упадке рано: золотой век римского слова не позади, а впереди. Три раза на протяжении своего сочинения Цицерон вступает [с.54] с римскими аттицистами в открытый спор. В первый раз он выступает против исторических спекуляций аттицистов: наполовину иронически, наполовину серьезно он показывает, что с точки зрения концепции упадка и возрождения аттицистам следовало бы возрождать в римском красноречии стиль не грека Лисия, а римлянина Катона; и если они в своей утонченности этого не делают, то это значит, что их концепция к истории римского красноречия неприменима (63-70). Во второй раз он выступает против теоретических убеждений аттицистов, против их ученого снобизма и пренебрежения к вкусам толпы: Цицерон утверждает, что оратор тем и отличается от других писателей и мыслителей, что должен иметь дело не со знатоками, а с толпой, и если он не хочет или не может увлечь толпу, то он – не настоящий оратор, как бы высоко ни ценили его ученые критики: истинное красноречие – всегда только то, которое одинаково нравится и народу и знатокам (183-200). Наконец, в третий раз он делает окончательный вывод из этих двух положений: аттицисты не имеют права именовать себя аттицистами, потому что они не умеют ни выбрать образец, ни подражать ему: они подражают сухости Лисия, забывая о полноте и силе Демосфена; они подражают Фукидиду, забывая, что сам Фукидид, живи он столетием позже, писал бы пространней и мягче; тем самым безмерно суживается их представление об аттическом красноречии: они не более достойны зваться аттицистами, чем пресловутый Гегесий, который ведь тоже считал себя подражателем Лисия (283-291). Эти три полемических отступления – в начале, середине и конце сочинения – достаточно напоминают читателю о критической установке трактата. Итак, развитие римского красноречия определяется, по Цицерону, прежде всего внутренними причинами – широтой и глубиной усвоения греческой культуры; сам Цицерон представляет вершину этого развития, аттицизм – неразумное отклонение от общего пути этого развития. Однако Цицерон не оставляет без внимания и внешних, политических обстоятельств развития красноречия; ему, опытному политику, значение этих обстоятельств хорошо известно. Он не забывает упомянуть ни об учреждении постоянно действующих судов при Гракхах, ни об установлении закрытого голосования в судах (106); он называет законопроект Мамилия 110 г. и закон Вария 90 г., повлекшие за собой особенно много судебных процессов (127-128, 205, 304); он говорит и о недавнем законе Помпея 52 г., ограничившем число защитников и продолжительность речей в суде (243, 324). Красноречие для Цицерона – по-прежнему не самоцель, а лишь форма политической деятельности, и судьба красноречия неразрывно связана с судьбой государства. "Ни те, кто заняты устроением государства, ни те, кто ведут войны, ни те, кто покорены и скованы царским владычеством, неспособны воспылать страстью к слову. Красноречие – всегда спутник мира, товарищ покоя и как бы вскормленник благоустроенного государства" (45). Читатель книг "Об ораторе" и "О государстве", конечно, уловит в этих словах тоску [с.55] Цицерона о том идеальном государственном деятеле, который своим словом сплотил бы народ вокруг вожделенного "согласия сословий", этого залога общественного мира. Современность тем и страшна для Цицерона, что оружие красноречия служит уже не гражданскому миру, а гражданской войне, и влиянием на государственные дела пользуются не люди разумные и красноречивые, а коварные интриганы (7, 157). Свой разговор об истории римского красноречия Цицерон, Брут и Аттик завязывают именно затем, чтобы отвлечься мыслью от безотрадных событий современности; но горькая участь ораторов недавнего прошлого все время напоминает им о бедствиях настоящего, и осторожному Аттику приходится сдерживать слишком опасные повороты разговора (157, 251). Лучшие ораторы Рима гибнут в гражданской войне (227, 266, 288, 307, 311), другие оказываются в изгнании (250-251), третьи вынуждены молчать, форум безмолвствует, красноречие бессильно, и будущее сулит еще горшие несчастья (266, 329). Смерть Гортензия, последнего в ряду великих ораторов прошлого, старшего современника, соперника и друга Цицерона, представляется на этом фоне символической. Цицерон скорбит о смерти талантливого человека в эту пору, когда государство так оскудело талантливыми людьми; но он признает, что Гортензий умер вовремя, что даже если бы он остался жив, он мог бы лишь оплакивать беды государства, но был бы бессилен им помочь (1-4). Гортензий, предтеча Цицерона, смолкнул после того, как прошел свой ораторский путь до конца; сам Цицерон вынужден смолкнуть на середине своего пути; наследник Цицерона, Брут, от которого Цицерон ждет еще большей славы для римского красноречия, смолкает в самом начале своего пути к славе и должен искать утешения в философии (329-333). Роковым образом внешние причины приводят римское красноречие к гибели в то самое время, когда внутреннее развитие приводит его к расцвету. В этом – жестокий трагизм участи латинского слова. Эта трагическая атмосфера пронизывает весь диалог, придавая значительность и важность даже такому событию, как спор о стиле между Цицероном и аттицистами. VI Закончив "Брута", Цицерон поспешил послать книгу ее герою, Марку Юнию Бруту, который в это время был наместником Цизальпинской Галлии, а сам взялся за сочинение похвального слова Катону, весть о гибели которого только что донеслась из Африки. Брут живо откликнулся на сочинение Цицерона. Переписку Цицерона с Брутом о вопросах красноречия читал еще Квинтилиан1; если бы она дошла до нас, нам многое стало бы яснее и в составе, и в плане следующего риторического сочинения Цицерона. Однако ясно, что Брут соглашался далеко не со всеми оценками старых и [с.56] новых ораторов, предложенными Цицероном. Отказываясь их принять, он просил Цицерона разъяснить те критерии, на которых он основывается в своих суждениях, – главным образом, разумеется, в области словесного выражения и, в частности, по вопросу об ораторском ритме ("Оратор", 1, 3, 52, 174). В ответ на эту просьбу Цицерон тотчас по окончании слова о Катоне принимается за сочинение трактата "Оратор", завершающего произведения своей риторической трилогии. Трактат был начат, по-видимому, летом того же 46 г. и закончен до конца года. Разъяснить критерии художественных оценок – это значило для Цицерона обрисовать идеальный образ, совмещающий в себе высшую степень всех достоинств и служащий мерилом совершенства для всех конкретных произведений искусства. "Так как нам предстоит рассуждать об ораторе, то необходимо сказать об ораторе идеальном, – ибо невозможно уразуметь суть и природу предмета, не представив его глазам во всем его совершенстве как количественном, так и качественном", – писал Цицерон еще в сочинении "Об ораторе" (III, 85). Там этот образ идеального оратора появлялся лишь мимолетно в речи философствующего Красса; здесь он стал центром всего произведения. Цицерон без конца подчеркивает идеальное совершенство рисуемого образа (2, 3, 7, 17, 43, 52 и т.д.), разъясняет его как платоновскую идею красноречия, несовершенными подобиями которой являются все земные ораторы (810, 101), напоминает сентенцию Антония: "я видел многих ораторов речистых, но ни одного красноречивого": вот о таком воплощении истинного красноречия и будет идти речь (18, 19, 33, 69, 100). Этот идеал недостижим, поэтому все дидактические наставления полностью исключаются из трактата: "мы не будем давать никаких наставлений, но попытаемся обрисовать вид и облик совершенного красноречия и рассказать не о том, какими средствами оно достигается, а о том, каким оно нам представляется" (43, ср. 55, 97); "пусть видно будет, что я говорю не как учитель, а как ценитель" (112, ср. 117, 123). Именно этот недостижимый идеал есть цель и стимул развития красноречия. Книги "Об ораторе" рисовали индивидуальный путь к этой цели – образование оратора, "Брут" показывал общий путь к этой цели – становление национального красноречия, "Оратор" должен был, наконец, раскрыть самое существо этой цели, завершив тем самым картину риторической системы Цицерона. В "Ораторе" Цицерон окончательно отказывается от диалогической формы. Все сочинение написано от первого лица, за все высказываемые суждения автор принимает полную ответственность. Повторяющиеся обращения к Бруту придают произведению вид пространного письма. Из уважения к аттицистическим симпатиям Брута Цицерон не пытается строить свое сочинение как последовательно полемический памфлет против "младоаттиков" и кладет в основу книги композиционную схему риторического трактата. Однако содержание "Оратора" не вполне соответствует этой схеме: одни разделы для целей Цицерона мало существенны, и он их касается лишь мимоходом, другие, напротив, исключительно важны в его споре [с.57] с аттицистами, и он их разрабатывает с непропорциональной подробностью. Это заставляет его вносить многие коррективы в традиционный план, и в результате возникает композиция совершенно своеобразная, не находящая соответствия ни в каком другом произведении Цицерона. После книг "Об ораторе", отчетливо распадающихся на большие самостоятельные куски – речи персонажей, после "Брута" с его простым нанизыванием материала на хронологическую нить, искусная сложность композиции "Оратора" особенно останавливает на себе внимание. Так как в научной литературе этот вопрос до сих пор освещен недостаточно, мы остановимся на нем немного подробнее. "Оратор" Цицерона явственно разделяется на пять частей. Эти пять частей представляют собой пять ступеней, пять уровней последовательного углубления в предмет. Первая ступень – вводная: вступление, понятие об идеальном образе оратора, самые общие требования к нему: со стороны содержания – философская образованность, со стороны формы – владение всеми тремя стилями (1-32). Вторая ступень – специально-риторическая: ограничение темы судебным красноречием, рассмотрение "нахождения", "расположения" и – в нарушение обычного порядка – "произнесения"; словесное выражение временно отложено для более подробного анализа (33-60). Этот более подробный анализ словесного выражения представляет собой третью ступень: опять происходит отмежевание ораторского от неораторского слога, опять разбираются три стиля красноречия, опять говорится о философской и научной подготовке оратора и дополнительно рассматриваются некоторые частные вопросы слога (61-139). Из трех разделов учения о словесном выражении для дальнейшей разработки выбирается один – раздел о сочетании слов; это – четвертая ступень углубления в предмет (140-167). Наконец, из вопросов, составляющих раздел о сочетании слов, выделяется один и исследуется с наибольшей тщательностью и подробностью – это вопрос о ритме и его рассмотрение по четырем рубрикам (происхождение, причина, сущность, употребление) представляет собой пятую и последнюю ступень, предел углубления темы (168-237). После этого краткое заключение (237-238) замыкает трактат. Переходы между этими пятью уровнями заботливо отмечены Цицероном. Первая часть открывается вводным посвящением Бруту, после чего Цицерон предупреждает о трудностях темы (1-6). Точно такое же посвящение и напоминание о трудностях темы повторено в начале второй части (3336). Третья часть, о словесном выражении, снабжена своим маленьким введением (61). На стыке третьей и четвертой частей вдвинуто отступление: к лицу ли государственному деятелю рассуждать о риторике, углубляясь в такие мелкие технические подробности? (140-148). И, наконец, пятая часть, о ритме, опять вводится особым вступлением, своеобразной апологией ритма, за которой даже следует отдельный план последующего изложения (168-174). Так, в пять приемов совершается постепенное раскрытие темы трактата: автор быстро разделывается с вопросами, мало его занимающими, чтобы переходить к вопросам все [с.58] более и более важным и, наконец, углубиться в тему ораторского ритма, подробный разбор которой служит венцом сочинения. При этом вопросы, занимающие автора неотступно, возникают, повторяясь, на нескольких уровнях исследования: так, о философском образовании и о трех стилях красноречия подробно говорится дважды: в разделе вступительном (11-19, 20-32) и в разделе о словесном выражении (113-120, 75-112). Легко заметить, что из пяти разделов "Оратора" объемом и обстоятельностью выделяются два: третий – о словесном выражении, пятый – о ритме; вместе взятые, они занимают почти две трети всего сочинения. Это объясняется тем, что именно по этим вопросам спор Цицерона с аттицистами достигал наибольшей остроты. Мы видели это по приведенным выше сообщениям Тацита и Квинтилиана: когда аттицисты упрекали Цицерона в напыщенности, расплывчатости и многословии, речь шла именно о словесном выражении, а когда говорили об изломанности и развинченности, имелся в виду именно ритм. Квинтилиан упоминает и еще одно обвинение против Цицерона – в натянутых и холодных шутках; но на этом Цицерон почти не останавливается (ср., впрочем, 87-90). В вопросе о словесном выражении главным для Цицерона было отстоять свое право на величественный и пышный слог, отведя упреки в азианстве и обличив недостаточность и слабость проповедуемой аттицистами простоты. Своим оружием в этой борьбе Цицерон выбирает эллинистическое учение о трех стилях красноречия: высоком, среднем и простом. В диалогах "Об ораторе" и "Брут" он почти не касался этой теории, тем подробнее он говорит о ней здесь. Учение о трех стилях красноречия Цицерон ставит в прямую связь с учением о трех задачах красноречия: простой стиль призван убедить, средний – усладить, высокий стиль – взволновать и увлечь слушателя. Такая зависимость формы от содержания определялась в античной эстетике понятием уместности (πρέπον, decorum); Цицерон принимает феофрастовское понятие уместности, но от узкориторического значения он возвышает его до общефилософского, имеющего отношение ко всем областям жизни (72-74). Собственно, для него оно является ключом ко всей эстетике "Оратора": как умопостигаемый идеал един в своей отвлеченности от всего земного, так уместность определяет его реальный облик в конкретных земных обстоятельствах. Такое философское осмысление понятия уместности было делом стоиков, в особенности Панэтия; вместе со стоицизмом оно входило в практическую философию Цицерона и нашло наиболее полное выражение в его позднейшем трактате "Об обязанностях". В дошедшей до нас античной риторической литературе сближение трех задач и трех стилей красноречия встречается здесь в первый раз: может быть, оно было введено самим Цицероном, может быть, почерпнуто из какой-нибудь не получившей распространения теории эллинистических риторов. Во всяком случае, для Цицерона этот ход был выигрышным. Так как речь, по общему признанию, должна отвечать всем трем стоящим перед красноречием задачам, то идеальный оратор должен владеть всеми тремя стилями, [с.59] применяя то один, то другой, в зависимости от содержания (22-23, 100-101). Примеры такого использования всех трех стилей Цицерон приводит из Демосфеновой речи о венке и из собственных речей (101-103, 107-108). Имя Демосфена служит для него залогом "аттичности", и он не устает повторять, что только это господство над всеми ораторскими средствами и есть настоящий аттицизм. Римские ораторы, притязающие на это имя, ограничивают себя одним лишь простым стилем, вместо всемогущего Демосфена берут за образец одностороннего Лисия и тем бесконечно суживают свое понятие об аттическом красноречии (23, 28-29, 234). Более того, Цицерон отказывает аттицистам даже в совершенном владении этим простым стилем. В своей классификации трех стилей (20) он выделяет и в простом, и в высоком стиле по два вида: один естественный, грубый и неотделанный, другой искусный, рассчитанный и закругленный. Это деление также нигде более не встречается и явно придумано Цицероном ad hoc. Красноречие римских аттицистов Цицерон относит к низшему виду, красноречие их греческих образцов – к высшему виду: простота Лисия и Фукидида была результатом продуманного и тонкого искусства (подробную характеристику этого искусства дает Цицерон, описывая идеальный простой стиль в § 75-90), а простота их римских подражателей – результат недомыслия и невежества. Не в силе, а в слабости подражают римские ораторы греческим образцам: "ведь у нас теперь каждый хвалит только то, чему сам способен подражать" (24, ср. 235). Осуждая римских аттицистов, Цицерон заботится и о том, чтобы отмежеваться от крайностей традиционного пышного стиля, заклейменного прозвищем "азианства". Действительно, многое в речах Цицерона, особенно в ранних, легко могло навлечь упреки в азианской вычурности и претенциозности. Чтобы избежать этого, Цицерон еще в "Бруте" отрекся от своей ранней стилистической манеры, описав, как в своих занятиях на Родосе он избавился от всех юношеских излишеств и вернулся в Рим "не только более опытным, но почти переродившимся" ("Брут", 316). В "Ораторе" он повторяет это отречение, что не мешает ему, однако, приводить примеры из своих ранних речей в качестве образцов ("Оратор", 107). Более того, говоря о различии аттического и азианского красноречия, он заботливо ограничивает термин "азианский" его географическим значением (25-27), отрицая применимость этого термина даже к родосскому красноречию: он не хочет, чтобы точный термин стал безответственной кличкой. Параллельно теме словесного выражения в "Ораторе" развивается другая тема, непосредственно со спором об аттицизме не связанная, но для Цицерона неизбежная при характеристике идеального оратора: тема философского образования (11-17, 113120). Он перечисляет философские проблемы, знакомство с которыми необходимо для оратора, вновь требует от оратора познаний в области истории и права, вновь ссылается на предания о том, что Перикл учился у Анаксагора, а Демосфен у Платона и, наконец, апеллирует к собственному опыту: "если я оратор, то сделали меня [с.60] оратором не риторские школы, а просторы Академии" (12). В произведении, обращенном к Бруту, эти рассуждения играют особую роль: они должны напомнить Бруту о философских интересах, роднящих его с Цицероном (Брут усердно изучал ту академическую философию, приверженцем которой считал себя Цицерон), и этим привлечь его к Цицерону от аттицистов. Следует заметить, что на протяжении всего трактата Цицерон разговаривает с Брутом об аттицистах так, словно Брут к ним заведомо не имеет никакого отношения и является полным единомышленником Цицерона. С этими двумя сквозными темами – словесным выражением и философским образованием – тесно связаны два экскурса, расположенные в самой середине трактата и на первый взгляд слабо связанные с окружающими разделами. Первый из них посвящен общему вопросу и амплификации – это как бы иллюстрация пользы философских знаний для красноречия (125-127). Второй из них говорит об этосе и пафосе (128-133), т.е. об искусстве возбуждать страсти – это как бы описание действенности того высокого стиля, которого Цицерон требует от истинного оратора и от которого отказываются аттицисты. Здесь Цицерон всего прямее говорит от собственного лица и всего откровеннее прославляет собственные успехи в красноречии, недвусмысленно намекая, что его собственные речи и представляют наибольшее приближение к недостижимому идеалу "Оратора". Это место подготовлено другим, незадолго до него расположенным, где Цицерон цитирует примеры из своих речей и заявляет: "Ни в одном роде нет такого ораторского достоинства, которого бы не было в наших речах, пусть не в совершенном виде, но хотя бы в виде попытки или наброска" (103). В нашем месте Цицерон восхваляет себя уже почти без оговорок: "Нет такого средства возбудить или успокоить душу слушателя, какого бы я не испробовал; я сказал бы, что достиг в этом совершенства, если бы не боялся показаться заносчивым..." (132). Особое место в трактате занимает рассуждение на грамматические темы, занимающее почти весь раздел о соединении слов (149-162): сам автор сознает его как отступление, развернутое более пространно, чем требует главная тема (162). Это отклик Цицерона на спор между "аналогистами" и "аномалистами", уже более столетия занимавший античную филологию. Речь шла о том, что считать "правильным", нормативным в языке: формы, следующие теоретически установленным единообразным правилам, или формы, практически употребительные в разговорном и литературном языке? Первого взгляда держались аналогисты, второго – аномалисты. Каково было отношение риторов – аттицистов к этому грамматическому спору? В Греции аттицисты стояли явно на позициях аномализма: образцом для них были не теоретические правила, а практическое словоупотребление аттических классиков. В Риме не было своих древних классиков, и поэтому ораторы, занятые выработкой норм латинского языка, могли обращаться или к практике современной разговорной речи образованного общества, или к теории грамматического единообразия. По первому пути, пути вкуса, как мы знаем, пошел Цицерон; по второму [с.61] пути, пути науки, пошли аттицисты, чуткие, как всегда, к ученой эллинистической моде. Здесь союзником аттицистов оказался такой крупнейший писатель и оратор, как Юлий Цезарь; манифестом римского аналогизма стало не дошедшее до нас сочинение Цезаря "Об аналогии", написанное в 53 г. и посвященное Цицерону. В "Ораторе" Цицерон воспользовался случаем возразить против грамматических взглядов своих литературных противников – аттицистов и своего политического противника – Цезаря (разумеется, имя Цезаря при этом не названо). Он громоздит множество примеров, подчас не связанных друг с другом, подчас неправильно истолкованных (но таков был общий уровень тогдашней грамматики: сам ученый Варрон сплошь и рядом допускал подобные ошибки); однако все они объединены вновь и вновь повторяемым утверждением о главенстве вкуса над знанием. "Сверься с правилами – они осудят; обратись к слуху – он одобрит; спроси, почему так – он скажет, что так приятнее" (159). А вкус есть понятие, ускользающее от научной догматизации и основанное только на представлениях широкой публики – той самой публики, с которой аттицисты не желают считаться. Собственно, таким же отступлением, почти "трактатом в трактате", выглядит и рассуждение о ритме, занимающее в "Ораторе" так много места. Дело в том, что из всех риторических новшеств Цицерона самым значительным (или, во всяком случае, самым заметным для современников) была именно ритмизация фраз, забота о благозвучии интонационных каденций. Аскетический вкус аттицистов должен был этим более всего возмущаться; и, действительно, Брут в своих письмах к Цицерону просил у него о ритме особых разъяснений (172). Цицерон охотно откликнулся: он гордился своим новаторством и чувствовал себя в безопасности, так как мог здесь ссылаться и на Аристотеля, и на Феофраста, и на Исократа. Правда, теория ритма в изложении Цицерона получилась не очень стройной и ясной. Вводя ритм в латинскую речь, Цицерон руководствовался скорее собственным слухом, чем греческими наставлениями, и поэтому теоретическое осмысление своей же практики давалось ему нелегко. Исследователи, много труда положившие на изучение ритма в речах Цицерона, свидетельствуют, что утверждения "Оратора" не всегда совпадают с действительными предпочтениями Цицерона. Особенно это обнаруживается там, где Цицерон приводит примеры ритмической речи и вынужден пускаться в натяжки, чтобы связать их со своей теорией (210, 214, 223 и др.). Сбивчивым получается и порядок изложения: план всего раздела о ритме, намеченный Цицероном в § 174, оказывается недостаточным, а план главного подраздела о сущности ритма, намеченный в § 179, оказывается не выдержанным. Современному читателю разобраться в рассуждениях Цицерона о ритме еще труднее потому, что нашему уху уже недоступно непосредственное ощущение ритма долгих и кратких латинских слогов, и реальная выразительность цицероновских ритмов остается для нас скрытой. Однако общий смысл раздела не вызывает сомнений. Ритм в человеческой речи заложен природой, ощущается [с.62] слухом, различается вкусом, и поскольку речь есть произведение искусства, обращенное ко всем слушателям, а не произведение науки, рассчитанное лишь на знатоков, постольку она должна использовать и это средство выразительности. Таков основной тезис Цицерона. Тема ритма становится образцово-показательным аргументом в полемике против аттицистов, и в этой своей функции успешно завершает трактат победоносным выпадом: "я, поборник ритма, могу по первому требованию без труда говорить неритмически; а мои противники, ниспровергатели ритма, смогут ли они так же легко заговорить ритмически? Вряд ли; а если это так, то и вся их теория, весь их аттицизм есть не самосознание таланта, а прикрытие бездарности". Таково содержание "Оратора", самого возвышенно философского и самого узко технического из трех риторических произведений Цицерона. Одно обстоятельство обращает при этом на себя внимание. Того ощущения трагизма современности, которым пронизан "Брут", в "Ораторе" нет. Только дважды проскальзывают упоминания о "времени, враждебном добродетели", и о "скорби, которой я противлюсь" (35, 148). Можно думать, что гражданская скорбь, преисполнявшая Цицерона при виде торжества Цезаря, вылилась в сочинении, предшествовавшем "Оратору", – в похвальном слове Катону. Эта маленькая книга приобрела легко понятную шумную известность, вызвала подражания (Брут, ее адресат, тоже написал подобный панегирик Катону) и, конечно, не могла понравиться Цезарю и его сторонникам: сам Цезарь взялся за перо, чтобы сочинить ответ Цицерону под названием "Антикатон". Осторожного Цицерона это должно было очень встревожить; со своей обычной мнительностью он забеспокоился, что слишком перегнул палку, и в "Ораторе" он торопится упомянуть, что "Катон" им написан только в угоду просьбам Брута (35). Рядом с пылкими похвалами административной мудрости и учености Брута это выглядит просьбой о заступничестве, обращенной к любимцу и наместнику Цезаря. Так и было это понято современниками1. Понятно, что при таких обстоятельствах Цицерон не хотел раздражать Цезаря никакими политическими намеками в своем трактате и сосредоточился только на риторической тематике. Закончив "Оратора", Цицерон деятельно заботится о его издании и распространении, посылает письмо Аттику с просьбой исправить ошибку в экземплярах, находящихся у него в переписке2, рассылает свою книгу друзьям и просит их об отклике3. "Очень рад, что ты одобряешь моего "Оратора", – пишет он одному из них4. – [с.63] Самого себя я убеждаю в том, что высказал в этой книге все свое мнение о красноречии, какое имел. Если книга действительно такова, какой, по твоим словам, она тебе показалась, то и я, значит, чего-нибудь стою; если же это не так, то пусть моя книга и мои критические способности одинаково пострадают в общем мнении". По-видимому, тогда же, тотчас по окончании "Оратора", Цицерон берется еще за одну работу, которая должна как бы стать практическим подтверждением его точки зрения на ораторский идеал. Он переводит две знаменитые речи "О венке", упомянутые им в "Ораторе" (26 и 110-111), – речь Демосфена за Ктесифонта и речь Эсхина против Ктесифонта. Этим он желает показать, что именно его, цицероновская, манера лучше всего способна передать на латинском языке аттические шедевры. В соответствии с этой целью перевод, как кажется, был весьма вольным ("я перевел их не как толмач, а как оратор" – "О лучшем роде ораторов", 14). Перевод не сохранился; до нас дошло только предисловие к нему под названием "О лучшем роде ораторов". Здесь Цицерон вновь кратко излагает свое представление об аттическом идеале красноречия и, как можно думать, отвечает на одно возражение, которое могла вызвать у аттицистов книга "Оратор". Именно, аттицисты протестовали, по-видимому, против единственности ораторского идеала, провозглашенного Цицероном: как в поэзии, говорили они, нет общего идеала, а есть идеал эпоса, трагедии, комедии, так и в красноречии следует раздельно мыслить идеалы простого, среднего и высокого стиля. Цицерон не соглашается с этим: жанры поэзии различны, красноречие же едино, и идеал его един; отличия от этого идеала могут быть лишь в степени приближения к нему, но не в качестве. Менандр мог не заботиться о подражании Гомеру, но оратор не может не заботиться о подражании Демосфену. Отказываясь от стремления к этой вершине, аттицисты только расписываются в своей ораторской несостоятельности ("О лучшем роде ораторов", 6, 11-12). Победа в споре с аттицистами осталась на стороне Цицерона. Опытный оратор лучше знал публику римского форума, чем его молодые противники. Сухая простота ораторов-аттицистов наскучила толпе очень быстро, и пышное разнообразие цицероновской манеры вновь обрело признание. Уже в "Бруте" он замечал, что "когда выступают эти аттики, то их покидает не только толпа, что уже плачевно, но даже свидетели и советники" (289); в предисловии "О лучшем роде ораторов" он говорит о насмешках, которыми публика встречает речи "аттиков" (11); а год спустя, упомянув мимоходом об аттицистах в "Тускуланских беседах", он уже добавляет: "ныне они уже смолкли под насмешками едва ли не целого форума" (II, 3). Правда, Брут, адресат Цицерона, не поддался его убеждениям и остался аттицистом до конца своих недолгих дней. Больше года спустя Цицерон писал об этом Аттику с еще не остывшей досадой: "Когда я, почти поддавшись его просьбам, посвятил ему книгу о наилучшем роде красноречия, он написал не только мне, но и тебе, что то, что нравится мне, ему нисколько не по сердцу" (К Аттику, XIV, 20, 3). А о той речи, которую Брут произнес перед народом [с.64] после убийства Цезаря, Цицерон отзывался (тоже в письме к Аттику) так: "Речь написана очень изящно и по мысли, и по выражению – ничто не может быть выше. Однако, если бы я излагал этот предмет, то писал бы с большим жаром... В том стиле, какого держится наш Брут, и в том роде красноречия, какой он считает наилучшим, он достиг в этой речи непревзойденного изящества; однако я следовал по другому пути, правильно ли это или неправильно... И если ты вспомнишь о молниях Демосфена, то поймешь, что и в самом аттическом роде можно достигнуть величайшей силы" (К Аттику, XV, 1, A, 2). Видно, что непреклонность Брута огорчала Цицерона; но к спору об аттицизме оратор более не возвращался. Смерть дочери, работа над философскими сочинениями, а потом борьба за республику против Антония окончательно увела его от размышлений о риторике. VII Все три риторических произведения Цицерона были написаны им в годы невольного досуга, вызванного вынужденным отходом от государственных дел. Эти литературные занятия были для него продолжением политических занятий. В предисловии к трактату "О предвидении" он писал так: "Я долго раздумывал, каким способом я могу оказывать людям помощь как можно более широкую, чтобы не оставлять государство своими советами; и мне представилось, что лучше всего было бы указать моим согражданам пути к самым прекрасным наукам. Думается, что в моих уже многочисленных книгах я этого достиг...", – и затем, перечислив свои написанные к этому времени философские произведения, добавляет: "А так как Аристотель и Феофраст, мужи замечательные как высокостью мысли, так и обилием сочинений, соединяли с философией и наставления в красноречии, то, видимо, в числе остальных следует упомянуть и наши ораторские книги – а именно, три – "Об ораторе", четвертую – "Брут" и пятую – "Оратор"1. Цицерон имел право гордиться своим творением. Он поставил себе целью изобразить для современников и потомков идеальный облик человека-гражданина, мужа слова и дела, соединившего в себе философскую глубину знаний и практический навык действий. Человеческий идеал, замысленный эллинами в пору расцвета первых античных республик, нашел завершение под пером Цицерона в пору заката последней античной республики. "Называются людьми многие, но являются людьми только те, кто образованы в науках, свойственных человечности", – говорит Сципион в диалоге "О государстве" (I, 28). Это понятие "человечности" не так уж часто появляется на страницах риторических сочинений Цицерона – оратор и политик предпочитает держаться категорий риторики и политики, не возносясь настолько высоко, – но именно оно в конечном счете [с.65] определяет все содержание "ораторской трилогии" Цицерона. Цицероновский образ оратора остался в веках самым ярким воплощением того, что мы называем античным гуманизмом. Для самой античности значение образа, нарисованного Цицероном, было еще более ощутимым. Созданный накануне крушения римской республики, он был для потомков напоминанием о республике, которая все более и более начинала уже казаться золотым веком вольности и царством свободного красноречия. Разительный контраст с политической обстановкой и с положением красноречия в первый век империи усугублял эту ностальгию по утраченному идеалу. С переходом от республики к империи латинское красноречие повторило ту же эволюцию, которую в свое время претерпело греческое красноречие с переходом от эллинских республик к эллинистическим монархиям. Значение политического красноречия упало, значение торжественного красноречия возросло. Не случайно единственный сохранившийся памятник красноречия I в. н.э. – это похвальная речь Плиния императору Траяну. Судебное красноречие по-прежнему процветало, имена таких ораторов, как Эприй Марцелл или Аквилий Регул, пользовались громкой известностью, но это уже была только известность бойкого обвинителя или адвоката. Римское право все более складывалось в твердую систему, в речах судебных ораторов оставалось все меньше юридического содержания и все больше формального блеска. Цицероновское многословие становилось уже ненужным, на смену пространным периодам приходили короткие броские сентенции, лаконически отточенные, заостренные антитезами, сверкающие парадоксами. Все подчиняется мгновенному эффекту. Это – латинская параллель рубленому стилю греческого азианства; впрочем, в Риме этот стиль азианством не называется, а именуется просто "новым красноречием". Становление нового красноречия было постепенным, современники отмечали его черты уже у крупнейшего оратора следующего за Цицероном поколения – Валерия Мессалы; а еще поколение спустя пылкий и талантливый Кассий Север окончательно утвердил новый стиль на форуме. Успех нового красноречия был огромным, его отголоски слышатся и в поэзии, и в философской, и в исторической прозе I в. н.э. Всеобщим кумиром был философ Сенека с его дробным, афористическим, блестяще сентенциозным, патетически напряженным слогом, в небольших отрывках увлекательным, но в конечном счете утомительным. Питомником нового красноречия была риторическая школа. Латинские риторические школы, закрытые когда-то Крассом, влачившие незаметное существование при Цицероне, с первых же дней империи мгновенно расцветают, переполняются учениками, становятся центрами всей культурной жизни Рима. Падение господства сенатской олигархии повлекло стремительный переворот римской образовательной системы. Раньше молодые люди из сенаторских семей готовились к политической жизни дома и на форуме, с детства усваивая наследственные аристократические традиции (вспомним, как юный Цицерон посещал дома Сцеволы и Красса); теперь, [с.66] с победой монархии, в политику хлынули новые люди, возвысившиеся на императорской службе, часто даже не римляне, а италийцы или провинциалы; не имея за собой никаких родовых традиций, их сыновья не могли искать образования в сенаторских семьях и неизбежно устремлялись в риторические школы. Пользуясь богатым опытом греческих риторических школ, латинские школы быстро выработали свой тип преподавания и свою программу. Основным видом занятий в риторической школе стали декламации – речи на вымышленные темы. Было два вида декламаций – контроверсии, речи по поводу фиктивного судебного казуса, и суазории, увещевательные речи к лицу, колеблющемуся в каком-нибудь затруднительном положении. Такие декламации были известны школе издавна; но обычно они старались держаться тематически ближе к действительности, использовали для контроверсий реальные судебные дела, а для суазорий – реальные исторические ситуации; теперь же, когда главным в красноречии стало не содержание, а форма, тематика декламаций все дальше стала уходить от действительности. Началась погоня за эффектами в ущерб правдоподобию; тиранноубийцы, пираты, насильники, неслыханные герои и неслыханные злодеи стали постоянными персонажами декламаций; чтобы сделать положения как можно более замысловатыми, в контроверсии вводились несуществующие законы, в суазории – небывалые исторические события. Нельзя сказать, чтобы эти упражнения были совсем бесполезны: они представляли собой отличную гимнастику для ума и языка. История их оправдала, показав, что для культурной обстановки Римской империи они были приспособлены лучше всего: риторические школы с такой программой просуществовали почти без изменения до самого крушения Западной Римской империи, а местами и дольше. Современникам оправдать их было труднее: слишком бросалась в глаза противоположность между эффектным драматизмом декламационных коллизий и заурядной простотой практических дел, с которыми встречались молодые ораторы по выходе из школы. Критика риторических школ и нового красноречия стала общим местом литературы первого века империи, еще хранившей память о республиканских ораторах. Осуждение декламационной моды с большей или меньшей решительностью возникает и у ритора Сенеки Старшего, и у его сына, философа Сенеки Младшего, и у Петрония, и у поэтов-сатириков, и у анонимного автора греческого трактата "О возвышенном". Рубленые сентенции вместо развернутых периодов, школьная словесная изощренность вместо единства философской теории и политической практики – новое красноречие было вызывающей противоположностью цицероновскому ораторскому идеалу. Любопытно, что при этом никакой сознательной борьбы против цицероновской традиции не велось: имя Цицерона в риторических школах пользовалось высочайшим уважением, речи его читались и изучались (были, конечно, исключения, но они лишь подтверждали правило), однако чувство действительности подсказывало учителям и ученикам, что прямое следование цицероновским идеалам в новой исторической [с.67] обстановке уже невозможно. Зато все противники нового красноречия, отыскивая противовес господствующему риторическому обучению естественно обращались мыслью к ораторским сочинениям Цицерона. Их мечтой было вновь вдохнуть животворный цицероновский дух в погибающее, как им казалось, латинское красноречие. Из всех попыток, которые делались в этом направлении, две известны нам лучше всего и больше всего заслуживают нашего внимания. Речь идет о двух произведениях, возникших почти одновременно на исходе I в. н.э. – одно было написано ритором, другое – политиком. Это "Образование оратора" Квинтилиана и "Разговор об ораторах" Тацита. Марк Фабий Квинтилиан был самым видным ритором Рима в последней четверти I в. н.э. Слава его была широка, Плиний и Марциал считали его гордостью Рима, император Веспасиан содержал его школу на государственный счет, император Домициан сделал его наставником своих предполагаемых наследников. Это было время, когда полувековое господство нового стиля в литературе уже успело утомить слух своим напряженным однообразием. Началась реставрация классического стиля "золотого века": поэты стали копировать Вергилия, ораторы – Цицерона. Квинтилиан стал вождем этого литературного неоклассицизма. Беззаветный поклонник Цицерона, он видел в его величественной пространности и плавности залог спасения от "соблазнительной порочности" нового стиля. Для него Цицерон уже не имя, а символ красноречия: "Чем больше тебе нравится Цицерон, тем больше будь уверен в своих успехах", – говорит он ученику. Как и все современники, Квинтилиан задавал себе вопрос, в чем причина "упадка" красноречия после Цицерона. Педагог по призванию, он отвечал на него, как педагог: причина – в несовершенном воспитании молодых ораторов. Трактат Квинтилиана "О причинах упадка красноречия", в котором он развивал эту мысль, не сохранился; но до нас дошло обширное сочинение "Образование оратора", где Квинтилиан во всеоружии своего двадцатилетнего преподавательского опыта развертывает программу идеального воспитания молодого оратора. Vir bonus dicendi peritus – это древнее катоновское определение, столь близкое, как мы видели, Цицерону, остается идеалом и для Квинтилиана, но понимает он его уже иначе. Чтобы оратор был "достойным мужем", необходимо развивать его нравственность; чтобы оратор был "искусен в речах", необходимо развивать его вкус. Развитию нравственности должен служить весь образ жизни оратора с младенческих лет и до старости, в особенности же занятия философией; развитию вкуса должен служить весь курс его риторических занятий, систематизированный, освобожденный от излишней догматики, всецело ориентированный на лучшие классические образцы. Замечательно сжатая и яркая характеристика этих образцов в X книге "Образования оратора" во многом навеяна критическими приемами цицероновского "Брута". Сам Цицерон, разумеется, занимает среди этих образцов главное место: его имя упоминается на каждом шагу, приводятся цитаты [с.68] едва ли не изо всех его речей, ссылка на "Оратора" делается так: "в "Ораторе" Туллий сказал – божественно, как и все, что он говорил..." Местами целые разделы представляют собой переложение из риторических сочинений Цицерона: например, раздел о комическом почти полностью повторяет речь Цезаря в диалоге "Об ораторе". Самое заглавие труда Квинтилиана должно напомнить Цицерона: он пишет не о красноречии, а об "образовании оратора", потому что вслед за Цицероном он видит залог процветания красноречия не в технике речи, а в личности оратора. Но именно это старание Квинтилиана как можно ближе воспроизвести цицероновский идеал отчетливее всего показывает глубокие исторические различия между системой Цицерона и системой Квинтилиана. Цицерон, как мы помним, ратует против риторических школ, за практическое образование на форуме, где начинающий оратор прислушивается к речам современников, учится сам и не перестает учиться всю жизнь. У Квинтилиана, наоборот, именно риторическая школа стоит в центре всей образовательной системы, без нее он не мыслит себе обучения, и его наставления имеют в виду не зрелых мужей, а юношей-учеников; закончив курс и перейдя из школы на форум, оратор выходит из поля зрения Квинтилиана, и старый ритор ограничивается лишь самыми общими напутствиями для его дальнейшей жизни. В соответствии с этим Цицерон всегда лишь бегло и мимоходом касался обычной тематики риторических занятий – учения о пяти разделах красноречия, четырех частях речи и т.д., а главное внимание уделял общей подготовке оратора – философии, истории, праву. У Квинтилиана, напротив, изложение традиционной риторической науки занимает три четверти его сочинения (9 из 12 книг – это самый подробный из сохранившихся от древности риторических курсов), а философии, истории и праву посвящены лишь три главы в последней книге (XII, 2-4), изложенные сухо и равнодушно и имеющие вид вынужденной добавки. Для Цицерона основу риторики представляет освоение философии, для Квинтилиана – изучение классических писателей; Цицерон хочет видеть в ораторе мыслителя, Квинтилиан – стилиста. Цицерон настаивает на том, что высший судья ораторского успеха – народ; Квинтилиан в этом уже сомневается и явно ставит мнение литературно искушенного ценителя выше рукоплесканий невежественной публики. Наконец – и это главное – вместо цицероновской концепции плавного и неуклонного прогресса красноречия, у Квинтилиана появляется концепция расцвета, упадка и возрождения – та самая концепция, которую изобрели когда-то греческие аттицисты, вдохновители цицероновских оппонентов. Для Цицерона золотой век ораторского искусства был впереди, и он сам был его вдохновенным искателем и открывателем. Для Квинтилиана золотой век уже позади, и он – лишь его ученый исследователь и реставратор. Путей вперед больше нет: лучшее, что осталось римскому красноречию – это повторять пройденное. Как и всякий призыв "назад к классикам", программа Квинтилиана обрекала литературу на бесплодное эпигонство. До нас [с.69] дошли сочинения Плиния Младшего, одного из преданнейших учеников Квинтилиана: десять книг писем и панегирик императору Траяну. Письма Плиния представляют собой заботливейшее подражание письмам Цицерона, а панегирик – речам Цицерона; но сопоставление образца с подражанием особенно ярко показывает, насколько бессилен оказывается классицизм рядом с классикой. Произведения Плиния написаны тщательно, изящно, даже талантливо, но они бездейственны и легковесны, в них нет ни римской силы, ни греческой глубины, то есть именно того, за что боролся Цицерон. Корнелий Тацит был сверстником Плиния. Его "Разговор об ораторах" появился, по-видимому, около 100 г., лет через пять после сочинения Квинтилиана. Мы привыкли видеть в Таците историка, но в эти годы он историком не был. Это был политик, сенатор, недавний консул: его первыми литературными опытами были "Агрикола", биография римского сенатора и полководца, и "Германия", трактат о самом опасном соседе Римской империи. Как всякий римский сенатор, Тацит был и оратором: Плиний высоко его ценил и прислушивался к его суждениям. Вопрос о судьбах латинского красноречия вставал и перед Тацитом; но его, как политика, больше занимал не стиль, а смысл красноречия, не построение риторической программы, а место риторики в жизни общества. Это и определило своеобразие его взглядов, нашедших выражение в "Разговоре об ораторах". Действие "Разговора об ораторах" происходит в 75 г., при императоре Веспасиане. Участники диалога – четверо видных ораторов и литераторов этого времени – Марк Апр, Випстан Мессала, Куриаций Матерн и Юлий Секунд. Образы двух главных антагонистов явственно напоминают центральные образы цицероновского диалога "Об ораторе": стремительный и беспринципный Апр, полагающийся на талант, рвущийся к победам, беззаботный по части теории, играет здесь роль, аналогичную роли Антония, а рассудительный Мессала, образованный и вдумчивый поклонник старины, выступает как подобие Красса. Поводом к беседе служит решение Куриация Матерна, оратора и драматурга, оставить красноречие и предаться одной лишь поэзии. Апр пытается разубедить Матерна, указывая ему на значение, пользу, почет и славу ораторских занятий; Матерн возражает, что этими выгодами не окупаются все тревоги, унижения и опасности, подстерегающие оратора на каждом шагу. Этот вопрос – что же перевешивает в красноречии, хорошее или плохое? – и заставляет Апра и Мессалу обратиться к сравнению "древнего" (т.е. республиканского) и "нового" красноречия. Поборником нового, процветающего красноречия выступает Апр: он указывает, что новое красноречие развилось из древнего плавно и постепенно, не отрицая, а совершенствуя цицероновское красноречие: вкус публики развился, многословные рассуждения приелись, и слушатель законно требует теперь от речи большей сжатости, яркости и блеска; этой потребности и отвечает новое красноречие. Противоположную точку зрения защищает Мессала: можно [с.70] было бы ожидать, что он будет отрицать доводы Апра и восхвалять древних ораторов, но вместо этого он принимает все сказанное Апром и лишь указывает, что красоты нового стиля слишком часто оказываются жеманными и манерными, недостойными мужественной важности речи; что сама эта забота о внешности, о яркости, о блеске речи есть признак вырождения и упадка; что древнее, цицероновское красноречие естественно порождало обилие слов обилием мыслей, усвоенных из философии, а новое красноречие с философией незнакомо, мыслями скудно и вынуждено прикрывать свое убожество показным блеском. В чем причина этого упадка красноречия? Мессала упоминает о пороках школьного образования, но главная причина лежит глубже, и указывает ее не Мессала, а Матерн (или Секунд), речью которого заканчивается спор. Не педагогика, как для Квинтилиана, а политика является для Тацита началом начал. Эпоха республики была временем безначалия, смут и бедствий, но именно это и питало расцвет республиканского красноречия: переменчивость народных собраний совершенствовала политическое красноречие, необходимость обвинять несправедливых и защищать обиженных совершенствовала красноречие судебное. Эпоха империи установила в Риме и провинциях твердую и устойчивую власть, разногласия и беспорядки миновали, но с ними исчезли и поводы для применения силы красноречия. Можно радоваться спокойствию и благоденствию римской державы, но от мечты о процветании латинского красноречия нужно отказаться. В этом оправдание Матерна, от риторики уходящего к поэзии. Вопрос о судьбах римского красноречия распадается на два вопроса – о жанре и о стиле красноречия. Квинтилиан признавал незыблемость жанра красноречия, но предлагал реформировать стиль. Тацит отрицает жизнеспособность самого жанра красноречия (политического и судебного) в новых исторических условиях. Это мысль не новая: она трагической нотой звучала в том же цицероновском "Бруте"; и если Квинтилиан, читая "Брута", учился быть критиком, то Тацит, читая "Брута", учился быть историком. Действительно, он уходит от красноречия к истории, как Матерн – к поэзии: первые книги "Истории" Тацита появятся через несколько лет после "Разговора об ораторах". Что же касается вопроса о стиле, то и здесь сказалось тацитовское чувство истории. Он видит вместе с Апром историческую закономерность перерождения цицероновского стиля в стиль "нового красноречия" и понимает, что всякая попытка повернуть историю вспять безнадежна. Поэтому вместе с Мессалой он не осуждает новый стиль в его основе, а осуждает только его недостатки в конкретной практике современников: изнеженность, манерность, несоответствие высоким темам. И когда он будет писать свою "Историю", он наперекор Квинтилиану и Плинию смело положит в основу своего стиля не цицероновский слог, а слог нового красноречия, но освободит его от всей мелочной изысканности, бьющей на дешевый эффект, и возвысит до трагически величественной монументальности. Стиль Тацита-историка – самая глубокая противоположность [с.71] цицероновскому стилю, какую только можно вообразить; но Тацит пришел к нему, следуя до конца заветам Цицерона. Квинтилиан стремился перенести в свою эпоху достижения Цицерона, Тацит – методы Цицерона. Квинтилиан пришел к реставраторскому подражанию, Тацит – к дерзкому эксперименту. И то и другое было попыткой опереться на Цицерона в борьбе против модного красноречия; но путь Квинтилиана был удобен для бездарностей, путь Тацита доступен только гению. Поэтому на обоих путях цицероновскую традицию ждала неудача: классицизм Квинтилиана в течение двухтрех поколений выродился в ничто, а искания Тацита не нашли ни единого подражателя, и стиль его остался единственным в своем роде. Это было последнее эхо цицероновского призыва к обновлению риторики. Господином положения осталась риторическая школа, и на этот раз уже окончательно, до самого крушения античного мира. Она дала Греции и Риму еще много талантливых писателей, много красноречивых риторов, много ярких произведений, но все это была литература новой формации, не знавшая и не желавшая знать заветов эллинской и римской республиканской классики. Риторическая программа Цицерона им уже чужда и непонятна. Книги "Об ораторе", "Брут", "Оратор" читаются все меньше и упоминаются все реже. Зато ученическое сочинение "О нахождении", банальный эмпиризм которого заставлял когда-то краснеть Цицерона, благоговейно изучается и переписывается. Наконец, "темные века" раннего средневековья погружают риторическую трилогию Цицерона в полное забвение, из которого ее воскрешает лишь гуманистическое Возрождение XV в. БИБЛИОГРАФИЯ Классической работой, положившей начало современному этапу изучения античного красноречия и риторики, остается книга E. N o r d e n . Die antike Kunstprosa: vom VI Jh. v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, I-II, Lpz., 1898 (последняя перепечатка в 1958 г.). Ее популярное изложение на русском языке представляет собой статья Ф. Ф. З е л и н с к о г о "Художественная проза и ее судьба" в сб. "Из жизни идей", т. 2 (изд. 3. СПб., 1911). Вопрос об отношениях риторики и философии в античной культуре впервые серьезно исследован во вступительной главе книги H. v. A r n i m , Leben und Werke des Dion von Prusa, B., 1898 ("Sophistik, Rhetorik und Philosophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung", S. 4-114). Опираясь на Арнима, серьезные поправки к концепции Нордена сделал U. v. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , Asianismus und Attizismus, "Hermes", 35 (1900), 1-52. Общий очерк греческого и римского образования дает прекрасная книга H. I. M a r r o u , Histoire de l'éducation dans l'antiquité, Paris, 1948; более обстоятельно рассматривает наш период работа A. G w y n n , Roman education from Cicero to Quintilian, Oxford, 1926. [с.72] Систематический свод положений различных теоретиков античной риторики представляет собой книга: R. V o l k m a n n , Die Rhetorik der Griechen und Römer, 3. Aufl., Leipzig, 1885. Сильно сокращенный вариант этой работы имеется в русском переводе: Р. Ф о л ь к м а н н , Риторика греков и римлян, Ревель, 1891. По тому же плану, но с гораздо более детальной систематизацией и с привлечением риторики нового времени написана книга: Н. L a u s b e r g . Handbuch der Literarischen Rhetorik: eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, I-II, München, 1960. Удовлетворительной истории античной риторики не существует; лишь ценнейшим наброском такой истории является статья W. K r o l l , Rhetorik, "Realencyklopaedie der Altertumswissenschaft" von Pauly-Wissowa, Supplbd. 7 (1940), 1039-1138. На русском языке см. переводы отрывков в сб. "Античные теории языка и стиля" под ред. О.М. Фрейденберг, Л., 1936, и предпосланную им статью: С. М е л и к о в а Т о л с т а я , Античные теории художественной речи, стр. 147-167. Для понимания Цицерона в частности важна старая работа С. C a u s e r e t , Étude sur la langue de la rhétorique et de la critique littéraire dans Cicéron, Paris, 1886. Из обширной биографической литературы о Цицероне на русском языке следует выделить статью Ф. Ф. З е л и н с к о г о "Цицерон" в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза-Ефрона, т. 75 (1903) и переводную книгу Г. Б у а с с ь е , Цицерон и его друзья, М., 1880 и 1914; особый интерес для нашей темы имеет очерк Г. И в а н о в а , Взгляд Цицерона на современное ему изучение красноречия в Риме, М., 1878. Обобщение современных взглядов зарубежных ученых дает коллективная статья "М. Tullius Cicero" в "Realencyklopaedie", Hb. 13a (1939), 827-1274; ср. также F. K l i n g n e r , Cicero (в его сб. "Römische Geisteswelt", 3. Aufl., München, 1956); E. C i a c e r i , Cicerone e i suoi tempi, I-II, 2a ed., Milano, 1941; M. M a f f i i , Cicéron et son drame politique, Paris, 1961; R. E. S m i t h , Cicero the statesman, Cambridge, 1966; K. K u m a n i e c k i , Cyceron i jego wspólczésni, Warszawa, 1959. Очень полезна также книга: W. K r o l l , Kultur der ciceronischen Zeit, I-II, Leipzig, 1933. Общий анализ риторической концепции Цицерона наиболее обстоятелен в новейшей работе A. M i c h e l . Les rapports de la rhétorique et de la philosophie dans l'oeuvre de Cicéron: recherches sur les fondements de l'art de persuader. P., 1960 (768 стр., обширная библиография). Еще не потеряли значения старые работы L. L a u r a n d . De M. Tulli Ciceronis studiis rhetoricis. P., 1907, и G. C u r c i o . Le opere retoriche di Cicerone. Acireale, 1900. Следующим шагом в исследовании риторики Цицерона были статьи W. K r o l l . Studien über Ciceros Schrift de oratore, "Rheinisches Museum", 58 (1903), 552-597, и Cicero und die Rhetorik, "Neue Jahrbb. f. d. klass. Alt", 11 (1903), 681-689 (главным образом, о греческих источниках концепции Цицерона). Интересный сравнительный материал предоставляют М. A. G r a n t a. G.С. F i s k e , Cicero's de oratore and Horace's Ars poetica, Madison, 1929 (Univ. of Wisc. Stud, in lang. a. lit., no. 27); [с.73] Cicero's Orator and Horace's Ars poetica, "Harvard studies in classical philology", 35 (1924), 1-74. Из новой литературы по диалогу "Об ораторе" следует упомянуть J. P e r r e t . A propos du second discours de Crassus, "Revue des études latines", 24 (1946), 169-189 и W. S t e i d l e . Einflüsse römischen Lebens und Denkens auf Ciceros Schrift de oratore, "Museum Helveticum", 9 (1952), 10-41. Полемика Цицерона с аттицистами неплохо освещена в соответствующих главах книги J. F. D ' A l t o n . Roman literary theory and criticism: a study in tendencies. London, 1931; более поверхностно касается этого вопроса J. W. H. A t k i n s . Literary criticism in antiquity, I-II, London, 1934. Новые взгляды на римский аттицизм излагаются в статьях P. G i u f f r i d a . Significato e limiti del neoatticismo, "Maia", 7 (1955), 83-124; A. D e s m o u l i e z . Sur la polémique de Cicéron et des atticistes, "Revue des études latines", 30 (1952), 168-185. В частности, по вопросу об аналогии см. A. D i h l e , Analogie und Attizismus, "Hermes", 85 (1957), 170-205. Из старых работ о "Бруте" см. J. H a e n n i . Die literarische Kritik in Ciceros Brutus, Freiburg, 1905; G. L. H e n d r i c k s o n . Literary sources in Cicero's Brutus and the technique of citations in dialogue, "American Journal of Philology", 27 (1906), 184-199; об "Ораторе" – Е. S c h l i t t e n b a u e r . Die Tendenz von Ciceros Orator, "Neue Jahrbb. f. Philol. u. Paedag.", Supplbd. 28 (1903), 183. Общий анализ основных идей трех трактатов Цицерона содержится в книге K. B a r w i c k , Das rednerische Bildungsideal Ciceros, Berlin, 1963 (Abhandl. d. Sächs. Akad. d. Wiss., Philol.-hist Kl., Bd. 54, H. 3); более старая работа H. К. S с h u l t e , Orator: Untersuchungen über Ciceros Bildungsideal, Frankfurt a. M., 1935, была нам недоступна. О цицероновской традиции у Квинтилиана говорится в книге: J. C o u s i n , Études sur Quintilien, Paris, 1936; у Тацита – A. M i c h e l , Le Dialogue des orateurs de Tacite et la philosophie de Cicéron, Paris, 1962. Об изданиях, комментариях и переводах риторических сочинений Цицерона см. в примечаниях в конце книги. ПРИМЕЧАНИЯ 1. "Брут", 121. – Здесь и далее в ссылках указываются только параграфы цицероновских книг. [назад] 1. "Оратор", 113; ср. "О пределах", II, 17; "Академика", II, 145 [назад] 2. "О пределах", IV, 7. [назад] 1. "Тускуланские беседы", I, 3, 9; ср. "О природе богов", I, 11. [назад] 1. Аппиан, "Гражданские войны", IV, 20. [назад] 1. "К близким", I, 9, 23: "...написал я в духе Аристотеля – так, по крайней мере, мне хотелось, – три книги "Об ораторе" в виде диалога и спора... " [назад] 1. К Аттику, XIII, 19, 4 (июнь 45 г.). [назад] 2. К брату Квинту, III, 3, 4 (октябрь 54 г.) [назад] 3. К близким, I, 9, 23. [назад] 1. "Разговор об ораторах", 18. [назад] 2. "Образование оратора", XII, 10, 12. [назад] 1. "Образование оратора", VIII, 3, 6. [назад] 1. Авл Цецина писал Цицерону из своего сицилийского изгнания: "Ты усугубляешь мой страх тем, что прибегаешь за помощью к Бруту и ищешь соучастника для оправдания" (К близким, VI, 7, 4). [назад] 2. К Аттику, XII, 6, 3. [назад] 3. К близким, XII, 17, 2 (Корнифицию, одному из аттицистов); XV, 20, 1 (Требонию). [назад] 4. К близким, VI, 18 (Квинту Лепте). [назад] 1. "О предвидении", II, 1-2. [назад]