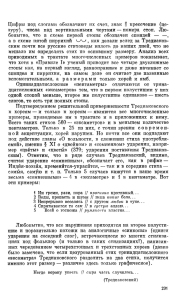ДПП.В.2.2 Теория и практика стиха (новое окно)
advertisement

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) ФИЛИАЛ ДВФУ В Г. УССУРИЙСКЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ Теория и практика стиха Специальность - 050301.65 Русский язык и литература Форма подготовки очная/заочная Кафедра русского языка, литературы и методики преподавания Курс 3/3 семестр 6/6 Лекции 0 час. Практические занятия 16/12 час. Семинарские занятия 0 час. Лабораторные работы 0 час. Самостоятельная работа 24/24 час. Всего 40/36 час. Реферативные работы 1 Контрольные работы 0 Зачет 6/6 семестр Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (№ государственной регистрации 707 пед/сп от 31.01.2005 г.). Учебно-методический комплекс обсужден на заседании кафедры русского языка, литературы и методики преподавания «12» октября 2011 г. Протокол № 2. Составитель профессор О.А. Москвина ________________ 1 СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА 1. Аннотация ………………………………………………………………....3 2. Выписка из ГОС ВПО (для дисциплин Федерального компонента) … 4 3. Рабочая учебная программа дисциплины (РУПД) …………………..…5 4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………………..….14 а). Хрестоматия учебно-методического материала …………………….14 б). Карта обеспеченности литературой по дисциплине ………………. 84 в) Список имеющихся демонстрационных, раздаточных материалов, оборудования, компьютерных программ и т.д. ……………………..85 2 1. АННОТАЦИЯ Настоящий учебно-методический комплекс разработан для дисциплины по выбору «Теория и практика стиха». Семинарские занятия по предмету проводятся в шестом семестре (очное отделение). Установленный объем составляет 40 часов. Основой методического комплекса является учебная программа дисциплины, в которой определяются основные направления семинарских занятий и самостоятельной работы. Учебно-методический комплекс включает карту обеспеченности основной и дополнительной литературы, а также хрестоматию трудов по изучаемым проблемам. 3 2. ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО (Для дисциплин Федерального компонента) Данная дисциплина компонента ГОС ВПО. не является 4 дисциплиной Федерального МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) ФИЛИАЛ ДВФУ В Г. УССУРИЙСКЕ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Теория и практика стиха Специальность - 050301.65 Русский язык и литература Форма подготовки очная/заочная Кафедра русского языка, литературы и методики преподавания Курс 3/3 семестр 6/6 Лекции 0 час. Практические занятия 16/12 час. Семинарские занятия 0 час. Лабораторные работы 0 час. Самостоятельная работа 24/24 час. Всего 40/36 час. Реферативные работы 1 Контрольные работы 0 Зачет 6/6 семестр Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (№ государственной регистрации 707 пед/сп от 31.01.2005 г.). Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русского языка, литературы и методики преподавания 14.09.2011 г. Протокол № 1 Составитель профессор О.А. Москвина ________________ 5 I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры: Протокол от «_____» _________________ 20 г. № ______ Заведующий кафедрой _______________________ __С.А. Калмыкова_ Изменений нет. II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры: Протокол от «_____» _________________ 20 г. № ______ Заведующий кафедрой _______________________ __С.А. Калмыкова___ 6 СОДЕРЖАНИЕ 1. Пояснительная записка ......................................................................................8 2. Тематический план дисциплины .......................................................................9 а) для очной формы обучения ..........................................................................9 б) для заочной формы обучения .....................................................................10 3. Содержание учебного материала ....................................................................11 4. Требования к знаниям и умениям студентов ...........................................12 5. Формы контроля (очное и заочное обучение) ...............................................13 а) рубежный (текущий) контроль ..................................................................13 б) итоговый контроль ......................................................................................13 6. Список литературы ..........................................................................................13 7 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Семинар «Теория и практика стиха» является дисциплиной по выбору, изучается в VI семестре очной и заочной формы обучения и призван углубить знания студентов в области такого важного раздела литературоведения, как стиховедение, задачей которого является изучение природы и особенностей стихотворной речи, принципов версификации. В работе семинара уделяется особое внимание выявлению семантики метра и ритма. Формируется инструментарий для анализа стихотворных произведений с учетом того, что при восприятии текста важна не условно«скандовочная» мелодия сама по себе. Акцент делается на том, что выстроенные особым образом слова стихотворного текста и их реальные ударения образуют ритмический ряд, подчиняющийся определенным закономерностям. На примерах исследования произведений поэтов доказывается, что игнорирование названного аспекта, во взаимодействии с которым реализуются элементы стиха (размер, рифмовка, интонационносинтаксические особенности и т.д.), приводит к упрощению и искажению в понимании их художественной роли, к прямолинейному толкованию. Тематика докладов семинара включает материал об основных этапах развития русского стихосложения, начиная с неосознанного накопления потенциально-стихотворных элементов ритмически урегулированной речи до современных способов создания ритмических структур. Изучение истории стиховедческой мысли в России, знакомство с общим кругом проблем современного стиховедения, а также постижение художественной функции стиховых приемов и овладение навыками анализа стихотворного текста – вот основные цели семинара «Теория и практика стиха». 8 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ а) для очной формы обучения № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 Практические занятия Лабораторные занятия Самостоятельная работа студентов Трудоемкость (всего часов) III курс 6 семестр Предмет и задачи семинара. Обзор литературы по темам. Комментарий тематики докладов. Истоки русской стиховой культуры: фольклорные и литературные корни русского стиха. Русская силлабическая поэзия: Симеон Полоцкий, Антиох Кантемир. Реформа русского стихосложения: эволюция или революция? Ритмические определители силлаботонического стиха. Клаузула как наиболее активный элемент стиха. Вариации анакруз в двух – и трехсложных стихах: а) на материале стихов М. Лермонтова; б) на материале стихов А. Блока. Анжамбеман в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». Игра на отступлениях от идеальной метрической схемы (поэзия А. Пушкина). Принципиальное отличие тонического стиха от силлабо-тонического. Выразительность дольника (Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Есенин). Итого за 6 семестр Итого по дисциплине Лекции Наименование модулей, разделов, тем (с указанием семестра) Всего Аудиторные занятия 18 0 16 0 24 40 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 4 6 2 2 2 4 2 2 4 6 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 6 2 2 2 4 24 24 40 40 16 16 0 0 16 16 0 0 а) для заочной формы обучения № 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ные занятия Самостоятель ная работа студентов Трудоемкость (всего часов) Лекции 1. III курс 6 семестр Предмет и задачи семинара. Обзор литературы по темам. Комментарий тематики докладов. Истоки русской стиховой культуры: фольклорные и литературные корни русского стиха. Русская силлабическая поэзия: Симеон Полоцкий, Антиох Кантемир. Реформа русского стихосложения: эволюция или революция? Ритмические определители силлаботонического стиха. Клаузула как наиболее активный элемент стиха. Вариации анакруз в двух – и трехсложных стихах: а) на материале стихов М. Лермонтова; б) на материале стихов А. Блока. Анжамбеман в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». Игра на отступлениях от идеальной метрической схемы (поэзия А. Пушкина). Принципиальное отличие тонического стиха от силлабо-тонического. Выразительность дольника (Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Есенин). Итого за 6 семестр Итого по дисциплине Всего Наименование модулей, разделов, тем (с указанием семестра) Практичес кие занятия Лаборатор Аудиторные занятия 12 0 12 0 24 36 2 0 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2 0 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 12 12 0 0 12 12 0 0 24 24 36 36 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 1. Предмет и задачи семинара. Обзор литературы по темам. Комментарий тематики докладов. Место семинара среди литературоведческих дисциплин. Актуализация аспектов стиховедения. Сопоставление источников. Обозначение основной направленности докладов. 2. Истоки русской стиховой культуры: фольклорные и литературные корни русского стиха. Формирование оппозиции «стих – проза» в фольклорных жанрах. Речевое и музыкально-речевое направления. Разные точки зрения ученых на основные формы ритмически организованной речи фольклора. Влияние литературных произведений на народную лирику. 3. Русская силлабическая поэзия: Симеон Полоцкий, Антиох Кантемир. Реформа русского стихосложения: эволюция или революция? Приверженность силлабике и стремление «сгладить» силлабический стих: тенденция к тоническому принципу. Споры Тредиаковского и Ломоносова. Современный взгляд на предпосылки силлабического принципа и стопную теорию. 4. Ритмические определители силлабо-тонического стиха. Клаузула как наиболее активный в ритмическом отношении элемент стиха. Жирмунский В.М., Холшевников В.Е., Федотов О.И. по поводу ритмических определителей стиха. Выразительные возможности определителей. Константа и клаузула. Каталектика и акаталектика. Примеры активного использования. 5. Вариации анакруз в двух- и трехсложных стихах: а) на материале стихов М. Лермонтова; б) на материале стихов А. Блока. Постоянные и переменные акценты на начале ритмических отрезков. Варианты соотнесения двухсложных и трехсложных анакруз с соответствующими стопами. Выразительные возможности тихого и стремительного «приступов». Наблюдаемые предпочтения и тенденции. 6. Анжамбеман в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». Характер ритмического и интонационного переноса в соотнесении с жанровой природой данного произведения. «Онегинская» строфа и перенос. 11 Анжамбеман как средство создания особой повествовательности текста: взаимодействие лирического и эпического начал. 7. Игра на отступлениях от идеальной метрической схемы (поэзия А. Пушкина). Соотношение ритмической и метрической схем. Разновидности отступлений. Замеченная тенденция в пушкинских стихах. Выразительные возможности такой «игры» (на примере ряда текстов). 8. Принципиальное отличие тонического стиха от силлабо-тонического. Сущность силлабики и тоники. «Магистральный» принцип русского стихосложения. Качественное преобразование двух принципов в силлаботонике. Тоническая система: акцентный стих; декламационно-тонический стих. 9. Выразительность дольника (Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Есенин). Различное толкование отступлений от силлабо-тонического стиха (усечение слога). Виды дольников (по В.Е. Холшевникову). Сопоставление текстов указанных поэтов в аспекте применения дольника; выявление художественной функции «нарушения». 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СТУДЕНТОВ Студент должен знать: принципы организации всех систем русского стихосложения, переходных форм между ними, а также формы дописьменного стиха; общие положения трудов по стиховедению; функциональные возможности стиховых приемов. Студенты должны уметь: определить принадлежность стихотворного текста к виду ритмической структуры; видеть индивидуально-авторские способы использования стихотворной речи; анализировать текст в единстве его содержательных и формальных компонентов. 12 5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (очное и заочное отделение) а) Рубежный (текущий) контроль Очная форма обучения. Письменная работа. Составить реферат статьи В.Е. Холшевникова «Типы интонации русского классического стиха». б) Итоговый контроль Условием допуска к зачету является выполнение всех видов работ, предусмотренных учебной программой дисциплины. Типы заданий, выполняемых во время зачета: 1). Описать роль композиционных аспектов в предложенном тексте. 2). Соотнести метрическую и ритмическую схемы в предложенном тексте. 3). Определить вид тонического стиха (текст дается на зачете). 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Основная литература 1. Илюшин, А.А. Русское стихосложение / А.А. Илюшин. – М., 2004. – 453 с. 2. Холшевников, В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение / В.Е. Холшевников. – Л., 2004. – 232 с. Дополнительная литература 1. Федотов, О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2 кн./ О.И. Федотов. – М., 2002. – 848 с. Электронные ресурсы 1. Федотов, О. И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2-х книгах: Кн.1: Метрика и ритмика; Кн. 2: 13 Строфика / О.И. Федотов. - М.: Флинта; СПб.: Наука, 2002. - 848 с. http://znanium.com/bookread.php?book=55367; 4. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4-а. Хрестоматия учебно-методического материала Содержание: 1. Шенгели Г.А. О лирической композиции // Поэтика. Хрестоматия по теории литературы для слушателей филологического факультета университета / Сост. П.А. Ланин. – М., 1992. …………………………………………………..15 2. Холшевников В.Е. Анализ композиции лирического стихотворения // Анализ одного стихотворения / Сост. В.Е. Холшевников. – Л., 1983. …………………………………………..22 3. Холшевников В.Е. Перебои ритма как средство выразительности // Стихотворение: Хрестоматия / Сост. Л.Е. Ляпина. – М., 1998. …………………………………………………57 4. Гаспаров М.Л. Синтаксис пушкинского шестистопного ямба // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. ………………69 5. Томашевский Б.В. Стих и язык // Стиховедение: Хрестоматия / Сост. Л.Е. Ляпина. – М., 1998. …………………………………………77 14 Георгий Шенгели О ЛИРИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ До «Трактата о композиции» далеко: методология не разработана; материал, сколько-нибудь обширный, не собран; собранный — не поддается классифицированию, ибо случаен; одни исследователи (Жирмунский) скользят по скорлупе вопроса, учитывая синтаксические формы сцепления строф; другие (Вал. Гливенко) не публикуют своих интереснейших опытов; Вяч. Иванов, вероятно, сам позабыл то, что писал когда-то о «лирической теме»; прочие (Гроссман, Шкловский. Петровский) свое внимание отдают прозе; большинство ныне пишущих стихотворцев понятия не имеют о том, что есть композиция: редкое стихотворение нельзя прочитать (без ущерба) снизу вверх, или переставив строфы, или сочетав первую и третью строки одного катрена со второй и четвертой другого и наоборот; на литературных дискуссиях говорят о ритме, об ассонансах, об образах, даже об «искренности»,— но вовсе умалчивают о композиции. Между тем, овладение законами композиции является высшей ступенью стихотворческого мастерства, ибо безупречность лирического силлогизма внушает переживание всегда, тогда когда бестолочь самых выразительных образов обретает силу, лишь упадая в «родственные души». Настоящая статья являет собою попытку первой ориентировки в совершенно почти неизведанной области. Тезисы, которые встанут здесь, не сводимые пока в систему, возникали в порядке «челночного движения» мысли, устремлявшейся от первых смутных догадок к реальным образцам и возвращавшейся, вникнув в последние, к исходным предположениям, уточняя и дифференцируя их. I. Художественное произведение как телеологическое единство. Каков бы ни был процесс художественного творчества явно одно: в психике поэта (в области сознания или подсознания — пока все равно) существует обширный, вполне смутный и нерасчлененный материал, сумма впечатлений, чувствований, мыслей, волевых импульсов, пронизанная, проросшая самыми причудливыми нитями ассоциаций. Ясно, что пассивное стенографирование всего, что в творческий час клубится в психике поэта, не дает произведения. В такой стенограмме должно было бы запечатлеться восприятие всей внешней обстановки, досада на тухнущую папиросу, кисловатый вкус обгрызаемой ручки, внезапное воспоминание о челюсти поэта NN и о том, как Самсон избил филистимлян, — невероятное рагу образов и чувствований, за которое читатель не поблагодарил бы. Но поэт не стенограф. Из первозданной хляби материала он избирает — сознательно или инстинктивно — те части, которые с полной необходимостью будут применены в произведении. Все прочее остается в виде «отбросов производства», которые могут пригодиться в свою очередь. Когда стихотворение написано, и поэту явен его лирический итог, наступает период обработки, совершается окончательная пригонка частей, устраняются вкравшиеся ненужности, заполняются пробелы, резче подчеркиваются важные моменты. И обработка ведется по принципу целесообразности: только то, что служит выразительности стихотворения в целом, имеет право остаться в нем. Чехов где-то сказал: «Если на первой странице рассказа упоминается о ружье, то на пятой оно должно выстрелить, иначе незачем ему и висеть». Эта шутливая формула с полной ясностью вскрывает 15 основной композиционный принцип. Применение же последнего требует от поэта большой образной памятливости, весьма развитой способности . целостного восприятия: только при этих данных возможно учесть, «стреляет» ли в концовке стихотворения то «ружье», о котором говорилось в зачине. Для исследования весьма показательно сличение черновых и белового текстов стихотворения; при этом сличении нередко удается с сугубой отчетливостью установить тот или иной композиционный ход или членение тем 1. II. Отдельные высказывания не имманентны себе. Опустим руку в горячую воду, а потом в комнатную — последняя покажется холодной: опустим руку в ледяную воду, а потом в ту же комнатную, и последняя покажется теплой. Шаляпин в поток пения иногда вкрапляет говор, и говором произнесенные слова обретают усиленную выразительность. Блок в трехстопном ямбе дает перебой: Твои высокие плечи,— U — I U — I (U) I U — I U Безумие мое...,— и сломанный стих привлекает особое внимание, ритменно воплощая головокружение влюбленности именно своим выпадением из общего строя. Живописец, изображая голубой снег, пишет его белым, но дает на полотне желтое пятно,— освещенные окна, например,— и белизна голубеет. Ясно: эффект данного момента обусловлен не им самим, но всей совокупностью предшествующих или окружающих моментов. То же в композиционном плане. Произведение слова есть развертывающаяся во времени последовательность высказываний. Каждое высказывание,— будь то логическая формула, эмфатический выклик, чувственный или моторный образ,— неизбежно вступает во взаимодействие с предыдущими и последующими, и лирический смысл их совокупности возникает именно из этого взаимодействия,— подобно тому, как искра проскакивает при сближении двух кондукторов электрической машины. Способность целостного восприятия связывает соответствиями отделенные многими строками высказывания,— и перед поэтом встает задача сочетать логику отдельных высказываний, учесть их удельный вес. Вот пример неразрешения этой задачи: поэт говорит, что он ...бредет как сомнамбула По тонкой нити бытия..., затем, вдруг очнувшись от реальностью, он хочет оборвать отрадных сомнамбулических грез, ошеломленный ...нить рукою тонкой..., хочет погибнуть. Логика самоубийцы велит «оборвать нить бытия»: но логика канатоходца, хотя бы и лунатика, говорит, что для смерти достаточно спрыгнуть с проволоки, обрывать же ее — напрасный труд. Обе «логики» не сочетаны, в стихотворении — композиционный разрыв, и оно лишено внушающей силы. 1 См. варианты 2-й строки 4 строфы пушкинского «Памятника». См. мою брошюру «Два памятника» и книгу М. Гершензона «Мудрость Пушкина», с. 53 и след. 16 Эта взаимосвязанность высказываний делает стихотворение необратимым в чтении, чем лишний раз подкрепляется принцип телеологического единства. III. Двусторонность высказываний. А: некто дает другому яд; В: некто дает другому яд; А.: этот «другой» — невыносимо страдающий и безнадежно больной; B1: этот «другой» — совсем не страдающий, но богатый дядя. Высказывания А и В совершенно одинаковы по содержанию и совершенно различны по устремлению; устремление же становится явным из сопоставления с другими высказываниями. В каждом высказывании наличествуют эти две стороны: содержание и устремление. Условимся называть содержание — фабулой и устремление — темой. Одна и та же фабула может быть истоком различных тем. Фабула осенней непогоды в сопоставлении с фабулой пылающего камина и ковров прорастает темой уюта; в сопоставлении с фабулой шагающего по пустырям бродяги прорастает темой бездомности; в сопоставлении с фабулой весеннего неба — темой тоски об ушедшем и милом былом и т. д. Эта двусторонность весьма важна, ибо умелое ее употребление является одним из способов снабдить стихотворение внушающей силой. Дело в том, что каждый предмет или явление представляет собою точку взаимопересечения целого ряда обобщающих систем. Свеча, примерно, есть цилиндр: система геометрических определений; свеча есть белый предмет: система определений цветовых: свеча—орудие освещения; свеча — продукт производства; свеча — предмет купли-продажи,— и т. д. до бесконечности. Каждый предмет или явление, упоминаемые в стихотворении, влекут за собой огромную туманность, ауру- обобщающих их познавательных систем — и в эту ауру самопроизвольно устремляются ассоциации читателя, весьма редко совпадающие с таковыми поэта. Стихотворец ратгаузовского толка употребит слово «фиалка» к будет чуять в нем чистоту, скромность и проч., а читательгорожанин припомнит фруктовую воду под названием «фиалка» и связанный с этой водой анекдот. У Блока в «Равенне» есть стих: Чтобы воскресший глас Плакиды..., а пишущий эти строки, гимназистом, неоднократно сидел в карцере по жалобам классного надзирателя, носившего фамилию: Плакида, и никак не может отделаться от неудовольствия при мысли о «воскресшем гласе» почтенного педагога. Последний пример, конечно, вполне анекдотичен: от читательских ассоциаций такого рода поэт совершенно беззащитен, но в общем поэту приходится, во-первых, бороться с опасностью переоценить явность собственных ассоциаций и обузывать анархичность читательских ассоциаций — во-вторых. Отсюда задача: дать фабулу в таком повороте, чтобы было явно, с какой иной фабулой она породит нужную тему, и, с другой стороны, пресечь читателю распространиться ассоциациями по ненужному, с точки зрения основной телеологии, пути. IV. Четыре яруса композиционного строя. Из сказанного возникает необходимость усматривать в стихотворении четыре композиционных яруса. Первый ярус есть ярус «ограничительный»: поэт, читатель и исследователь устанавливают необходимость наличия в стихотворении тех или иных высказываний. Момент отбрасывания ненужного материала явен только поэту и в некоторой доле исследователю,— при изучении черновиков. Момент ограждения от ассоциаций, от неправильного истолкования (под истолкованием я не разумею вылущивание из стихотворения «идеи») может быть показан, исходя из текста. Здесь — употребление особенно точных слов, законченность фразы, наличие эпитетов при важных 17 для общего впечатления понятиях отсутствие определений при понятиях служебных к пр. Пересказав стихотворение «своими словами» и сличив, пересказ с текстом, исследователь без труда может уяснить картину ограничительного яруса. Иногда самое направление повествования — в эпических произведениях и прозе — показательно для вскрытия ограничительного приема. В «Преступлении и наказании», когда читатель с глубоким сочувствием следит за судьбой семейства Мармеладовых и готов отвлечься от драмы главного персонажа, Достоевский неожиданно заставляет Свидригайлова благотворительствовать,— и Мармеладовы, сыграв свою роль в характеристике Раскольникова, сходя со страниц романа, безболезненно уходят из сознания читателя. А персонаж иного склада, сочувствия не привлекающий, Лужин, исчезает из повествования просто, провожаемый стаканом провиантского чиновника. Другой ярус есть ярус «фабульный». Отдельные фабулы сочетаются в системы. В этих системах мы усматриваем логику, соответствующую самой природе вещей, называемых я фабулах. Описание весенней грозы у Тютчева дает перечень отдельных моментов в их естественной последовательности: раскаты грома, брызнувший дождь, взметнувшаяся под каплями и ветром пыль, проглянувшее сквозь тучу солнце, превращающее капли в «перлы», бегущие ручьи, птичий гам. С другой стороны, в фабульных системах мы усматриваем их структуру, весьма Многоразличную. В тех же фабулах тютчевского стихотворений мы видим последовательность звуковых образов и образов движения, промеженную зрительным образом: гремят раскаты (зв,), дождик брызнул, пыль летит (дв.), повисли перлы, солнце нити золотит (зр.), бежит поток (дв), не молкнет гам (зв.), все вторит громам (зв.). Структура этого описания — «кольцо» (начинается и замыкается «громом»), составленное из «звеньев». Мы встречаемся в фабульных структурах с градацией и деградацией, с полярным и тройственным противопоставлением, с «крестом» и пр. Третий ярус — «тематический». В лирическом плане он представляется первенствующим. Если ограничительный ярус осуществляет приемы, сосредоточивающие внимание на данной картине; если ярус фабульный в логике своей есть уступка поэта естественному ходу вещей, то в выборе тем, в путях лирического доказательств а поэт волен. Все стихотворение может быть пронизано одной темой,— перед нами будет тематическая монада; две темы дадут диаду, причем в диаде может быть сосуществование тем (например, тема внешней обстановки и тема переживания); взаимодействие тем в виде борьбы их и победы одной (а сама победа может быть обусловлена естественными склонностями например, тема похорон и тема голубого неба у Тютчева,— преодоление механическое; или же поэт вскроет в побеждающей теме неожиданные черты — преодоление творческое, как у Тютчева же в «Mal'aria»), то взаимодействие в виде антиномии. Мы встречаем стихотворения в облике тематической триады и тетриады, причем в триаде две темы могут находиться между собой во всех отношениях, которые возможны в диаде, третья же тема — может быть параллельной первым двум, или антитетической им обеим, или синтезировать их, или, наконец, быть «применением», давая истолкование прочих двух тем в ином плане. Тетриада дает те же отношения с соответственным усложнением их. Тетриада, обычно, является самой сложной компонемой в лирических стихотворениях (применяясь преимущественно в сонетах и во французских балладах). Но, наряду с основными темами, в облике монады ли, диады и пр., мы встречаемся с темами побочными. Последние, обыкновенно, представлены в скрытом виде и уясняются лишь при внимательном, при «медленном» (Гершензон) чтении. В «Памятнике» Пушкин говорит: «славен буду... доколь... жить будет хоть один пиит», — т. е. как художник ценим буду вечно. И далее, упоминая с прагматическом значении своей поэзии говорит: «и долго буду... любезен я народу, что...» И противопоставление вечной славы, как художника, долгому восхвалению, как гражданина, порождает побочную тему о примате художества над идеологией. И тогда стволы основных тем прорастают шаг за 18 шагом, фабула за фабулой, темами побочными (часто у Пушкина, у Вяч. Иванова), которые дают исход поэтовым ассоциациям,— и в этой роли восполняют приемы ограничительной композиции. Весьма важной стороной в изучении тематического строя является учет 1) «нагрузка» — количества стихов, понятий или образов, развертывающих данную тему; 2) формы развертывания. При наличии двух или более тем каждая может быть развертываема целиком — сначала первая, потом вторая, потом третья (преимущественно у поэтов классического стиля), или же — в «шахматном порядке» (Тютчев, Блок). При этом фабулистические конструкции и приемы перехода обретают особенное значение. Рассмотрим бегло стихотворение Бальмонта: Она отдалась без упрека, Она целовала без слов. Как темное море глубоко, Как блещут края облаков. Она не твердила: «не надо», Признаний она не ждала. Как сладостно веет прохлада, Как дышит вечерняя мгла. Она не боялась возмездья, Она не страшилась утрат. Как сказочно светят созвездья, Как звезды бессмертно горят. Перед нами — отчетливая параллельная диада: тема любовной беззаветности и тема чарующей окружающей обстановки. Развернуты обе в строгом шахматном порядке: двустишия последовательно относятся то к первой, то ко второй теме. Фабулы первой темы не дают никакого развития: их без ущерба можно расставить в любой последовательности. Фабулы темы второй являют несколько одновременных градаций: 1) градация естественного процесса— переход от вечера к ночи: «блещут облака», «дышит вечерняя мгла», «светят созвездья»; 2) градация отзывчивости: в первом двустишии темы нет эмоциональных определений, во втором — одно: «сладостно», в третьем два: «сказочно», «бессмертно». При этом сила второй градации подчеркивается тем, что зрительные образы первого двустишия, сменяясь осузательными второго, упираются в зрительные же образы последнего: при одинаковости природы образов особую отчетливость обретают различия в оценке, в эмоциональном отклике. Итак, если фабулы первой темы можно изобразить горизонтальной линией, то фабулы темы второй предстанут в виде восходящей линии; мы получаем фабульный «открытый угол»; < Теперь произведем эксперимент. Заменим слово «вечерняя» словом «рассветная» и прочтем стихотворение в обратном порядке четверостиший: сначала третье, потом второе, потом первое. Первая тема, лишенная развития, от такой перестановки фабул ничего не проиграет; вторая тема, сохранив последовательность моментов естественного процесса (только не перехода сумерек в ночь, а ночи в рассвет,— чему и служит предложенная замена одного слова другим), дает деградацию эмоциональных откликов, причем теряет выразительность вышеотмеченный переход от зрительных образов к зрительным. Мы получим «закрытый угол»: 19 < Едва ли кто-нибудь не согласится, что при такой конструкции вся выразительность, вся внушающая сила этого стихотворения теряется безвозвратно. Взаимоотношения фабульных конструкций, облекающих отдельные темы, при широком наблюдении могут дать весьма солидные основания для суждения о стиле отдельных поэтов и целых школ, а в дальнейшем — для утверждения общих композиционных норм, подобных нормам логики. Четвертый ярус композиционного строя есть ярус - «идеологический». Подобно тому, как отдельные фабулы в логике своей соответствуют внутренней логике называемых в них процессов и явлений, так и идейные концепции стихотворения не могут не находиться в осознанном отношении к соответственным сферам идей — философских, религиозных, социальных и пр. Блестящий анализ идеологического яруса— не стихотворения, правда, а романа, — дан Иннокентием Анненским в разборе «Преступления и наказания». Идео логический ярус выходит за пределы суждений о поэте как мастере, полагая основание оценке поэта, как мыслителя. Таковы, в беглом очерке, начальные углы зрения, под которыми будущему исследователю придется приступить к изучению композиционных приемов. Надлежит выработать систему обозначений — графическую или буквенную; условиться в способах формулировки тем (часто тема не укладывается в законченное суждение, вроде «подвиг художника выше подвига гражданина», а является несказуемым переживанием); наметить признаки, по которым «запевка» и «концовка» стихотворения может быть объективно отличена от высказываний, развертывающих основные темы; наконец,— и это самая опасная область, — привыкнуть различать в стихотворении живые его части от высказываний, поставленных для заполнения строки, для рифмы, чем грешат иногда и большие поэты. В виде «приложения» дадим разбор пушкинского стихотворения «Сонет» (текст которого не выписываем за его общеизвестностью). В «Сонете» поименованы сонетисты: Дант, Петрарка, Шекспир, Камоэнс, Вордсворт, Мицкевич и Дельвиг. Спрашивается, почему названы именно эти, а не другие? Казалось бы, поскольку для названных сонет был не первенствующей в их творчестве формой, то в стихотворении должны были бы быть упомянуты другие имена, имена сонетистов по преимуществу. Неужели семь имен названы случайно, только потому, что подвернулись под перо? Правда, отчетливо членение на сонетистов старых и сонетистов «наших дней»,— но вглядимся внутрь этих рубрик. Как назван Шекспир?— «Творцом Макбета». Пришлось бы в рифму и «Гамлета»; как-нибудь могла бы улечься в стих и «Джульета» Однако «Макбет» есть по преимуществу трагедия людей воли, трагедия, клокочущая волей, как «Гамлет» — трагедия безволия, а «Ромео — страсти, а «Лир»—разочарования. Если Шекспир здесь назван как поэт, которому ясна была волевая стихия, то мы получаем стройное членение: Петрарка изливал «жар любви» — чувство; Камоэнс — «хладну мысль»; Шекспир—поэт воли. Весь внутренний мир, микрокосм, — в условном, неточном, но крайне стойком подразделении: ум, воля и чувство. Правда, сонеты Шекспира— просто галантные, с эвфуистическим налетом стихотворные безделки, но ведь и сонеты Петрарки насыщены рассудочностью, и Камоэнс не избегал и иных, помимо философских, мотивов. О Вордсворте прямо сказано: «природы идеал» — макрокосм. Мицкевич — поэт угнетенной Польши, поэт политический, поэт социальных бурь. Область же последних объемлет стихию как внешнего мира, объективных условий, так и внутреннего, является сферой пересечения микро- и макрокосма. Но и внутренний мир, и внешний, и область их слияния, все вместе, — земное. Это земное противостоит надмирным сферам, в которых витала творческая мысль Данта, возносившегося к Абсолюту и все-таки «не презиравшего» сонет. Графически соотношение имен и областей предстанет таким: 20 Дант Надмирное Петрарка Шекспир Чувство Воля Микрокосм Земное Камоэнс Ум Вордсворт Макрокосм Мицкевич Их пересечение Теперь остается определить место Дельвига. Обычно в тематической монаде Пушкин в конце как бы отступает в сторону от основного русла темы, указывает новую точку зрения на предмет стихотворения. В данном случае тот же ход. Предшествующие имена, предшествующие фабулы установили тему, одну (поэтому и все стихотворение мы оп-определяем как монаду): сонет всеотзывен, всепригоден, емок для переживаний поэта с любым душевным складом. Теперь — концовочный вопрос: чем сонет может привлекать Художника? Внятностью его для «широкой публики», для «дев»? — Нет, «девы» его еще не знают, а «священные напевы» гекзаметра, широко известные, все-таки «забываются» ради сонета — несомненно, в силу присущего ему и явного для художнинка очарования. Итак — сонет всеотзывен, и поэт избирает его, руководясь только художественной волей. Наряду с изъясненным выше соотношением имен, усматривается иное: поэты несовременные (первые четыре) — поэты современные (последние три); поэты нерусские (первые шесть) — поэт русский (Дельвиг). Таким образом, мы можем утверждать в этом стихотворении чрезвычайную стройность и четкость в последовательности фабул, сменяющих одна другую по принципу полярного членения, — стройность, ощущаемую при непосредственном восприятии и, как ни странно, комментаторами этого стихотворения не вскрытую доселе. Печатается по: Проблемы поэтики // Сб. статей.— М.; Л.: ЗиФ, 1925.— С. 97—113. 21 В. Е. Холшевников АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИИ ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ Нужен ли анализ лирического стихотворения? Ведь любой читатель — и профессионал-литературовед, и просто любитель поэзии — воспринимает его непосредственно, интуитивно. Если разбор стихотворения превращается, как это иногда, к сожалению, бывает в школе, в сухой перечень так называемых «художественных особенностей» — эпитетов, метафор и т. п., то он, конечно, не нужен1. Но если анализ помогает уловить в известном нам стихотворении такие оттенки мысли, такую красоту чувства и выражающего его слова, которых мы раньше не замечали, то такой анализ, конечно, необходим. Анализировать стихотворение можно под разными, вполне закономерными углами зрения: место стихотворения в творческой эволюции поэта; в истории жанра и литературных направлений; в литературно-общественном движении эпохи; в связи с биографией поэта и его идейной позицией; в истории русского литературного языка вообще и поэтического в частности. Но когда мы снимаем с полки книжку одного из любимых нами поэтов, мы обычно не думаем об историко-литературных проблемах, нам просто хочется еще раз приобщиться к прекрасному. Каждое настоящее художественное произведение — это и открытый всему, и в то же время замкнутый в себе поэтический мир, который мы имеем право и воспринимать, и анализировать как некое сложное целое, как систему заключенных в нем образов и понятий. Одна из задач, которые ставили перед собой авторы этого сборника,— показать, что нет в науке волшебных слов «Сезам, откройся», при помощи которых можно анализировать любое стихотворение. У одного и того же поэта не только стихотворения разных жанров, но и два близких по жанру и теме стихотворения (скажем, любовных) могут быть построены неодинаково и требовать поэтому разных приемов анализа. Слова Пушкина о том, что драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным, мы имеем право расширить: всякого писателя и каждое его произведение. Ключ к каждому стихотворению заключен в нем самом. (Разумеется, речь идет о подлинно художественных произведениях, а не о ремесленных поделках, изготовляемых по трафарету.) Задача исследователя состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае найти такой ключ, который раскроет это — и только это — стихотворение, поможет проникнуть в его тайну. Ибо удивительный парадокс поэзии заключается в том, что она доступна всем достаточно культурным читателям — и в то же время содержит некую тайну, точнее — не сразу и не до конца постигаемую глубину мыслей и чувств. И чем образованнее читатель, чем лучше подготовлен опытом жизни и чтения стихов, чем чаще перелистывает знакомые страницы — тем чаще ловит себя на мысли: «Как я мог не заметить этого раньше?..» И в то же время каждое следующее поколение читателей и критиков открывает в шедеврах поэзии что-то, чего не заметили и, вероятно, не могли заметить предшественники, ибо слово в лирике многозначно и содержание непереводимо до конца на язык логики. Но если каждое стихотворение — неповторимый мир, то можно ли говорить о каких-то общих принципах анализа поэтических произведений? Все-таки можно. Есть основные типы композиции лирических стихотворений. В каждом из них можно найти 22 типологические закономерности, знание которых поможет при анализе каждого отдельного стихотворения. Может возникнуть вопрос: почему на первый план здесь выдвинут анализ именно композиции, а не тематики, жанра, стиля, стиха? Во-первых, потому, что вопрос композиции в лирике -----------------------------------1 Кстати, сам термин «художественные особенности» крайне неудачен: как будто в хорошем стихотворении есть «особенности» нехудожественные; в этом термине скрыто методологически несостоятельное противопоставление «художественных особенностей», т. е. формы, идейному содержанию. наименее разработаны2 и, как показывает опыт критики и преподавания в средней и высшей школе, наиболее трудны. Во-вторых, потому, что композиция стихотворения тесно связана с его темой и подчинена задаче раскрытия его художественной идеи. В свою очередь, анализ композиции неизбежно захватывает анализ стиля и стиха, потому что художественное –произведение — это сложная система, все уровни которой3 взаимосвязаны и влияют друг на друга. Но в этой системе есть некая иерархия ее элементов, определяемая именно композицией. Скелетом композиции рассказа или пьесы обычно является сюжет, который можно пересказать «своими словами»; лирическое стихотворение пересказать невозможно, в нем все — «содержание»: последовательность изображения чувства и мысли, выбор и расположение слов, повторы слов, фраз, синтаксических конструкций, стиль речи, деление на строфы или их отсутствие, соотношение деления потока речи на стихи и синтаксического членения, стихотворный размер, звуковая инструментовка, способы рифмовки, характер рифмы. В лирике особенно выпукло, наглядно ощущается то, что свойственно вообще художественной литературе: тема произведения — это не только, изображаемые предметы и явления, но и выражение отношения к ним, одинаково «что» и «как». Из трех основных родов художественной литературы (эпос, драма, лирика) последний — самый субъективный. Поэт делится с читателем своими мыслями и чувствами, рассказывает о печалях, радостях, скорби, восторгах, вызванных отвергнутой или разделенной любовью либо событиями общественной жизни. И в то же время этот субъективнейший род литературы оказывается наиболее «всеобщим». Лирическое стихотворение будит ответное чувство сопереживание в читателе — и в современнике, и в последующих поколениях. Поэтому лирическое «Я» — это прежде всего сам поэт (если он не говорит от лица воображаемого им персонажа), но в значительной мере и читатель, сочувствующий поэту (восстановим этимологию слова: со-чувствовать — чувствовать вместе с кем-то). Т. И. Сильман справедливо говорит о том, что поэты редко называют в стихах имя женщины, которой посвящено стихотворение 4 лирическое «Ты» способствует обобщенности образа, и у каждого читателя это местоимение может видеть в воображении дорогое ему имя, конкретный образ, свои собственные ассоциации; лирическое «Я», в свою очередь может, хотя бы частично, ощущаться читателем как свое. Что же касается условно-поэтических имен, распространенных в XVIII —начале XIX века (Хлоя, Лейла и т. п.), то они, именно по своей заведомой условности, тоже были своеобразными местоимениями. Основная трудность анализа композиции лирического стихотворения заключается в том, что в нем обычно отсутствует сюжет, т. е. изображение событий, развивающихся во времени и в определенном пространстве. Но даже если сюжет имеется, как в лироэпической балладе, то он важен не сам по себе, а прежде всего по эмоциям, которые он вызывает. Зерно сюжета может встретиться и в традиционном романсе — но только зерно. Лирическое стихотворение изображает большей частью не событие, а переживания, порожденные каким-то событием. Поэтому незачем искать в лирическом стихотворении 23 экспозицию, завязку (т. е. обозначение конфликта, из которого вырастает сюжет), развитие действия, кульминацию и развязку — классические пять ступеней в развитии сюжета эпического и драматического произведения. ----------------------------2 Специально анализу композиции (только строфической) лишь одна книга: Жирмунский В. Композиция лирических стихотворений. Пб., 1921 (вошла з книгу: Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975). Главы об отдельных элементах композиции есть в книгах: Сил ь-ман Тамара. Заметки о лирике. Л., 1977; Гиршман М. М, Громя к Р- Т. Целостный анализ художественного произведения. Донецк, 1970 Попутно о композиции говорится в ряде работ. Их обзор см.: Копыло в а Н. И. Трактовка композиции лирического произведения я современном литературоведении (б работах 60—70-х годов).— В кн.: Поэтика литературы и фольклора. Воронеж, 1980. Против ставшего популярным термина «уровни» (тематический, стилистический, грамматический и т. д.) иногда возражают на том основании, что термин этот якобы предполагает рассмотрение каждого уровня как имманентного. Думается, что в самом термине такой методологический принцип не заключен: нужно только всегда помнить о взаимосвязи и взаимовлиянии всех элементов стихотворения, а методика анализа позволяет иногда рассматривать последовательно отдельные уровни; необходимо лишь, чтобы за таким анализом следовал синтез. 4 Сильман Тамара. Указ. Соч., с. 37-38. 3 Правда, в науке за последние десятилетия прочно укоренился термин «лирический сюжет». Этот метафорический термин неудачен, потому что наводит на мысль о сюжете в буквальном смысле слова. Однако так как все исследователи оговариваются, что речь идет здесь не о событии, а о развитии лирического образа, то выступать против употребления этого термина нет нужды, надо только помнить, что он условен. Но есть и оправдание для этого термина: как сюжет — движение событий, в котором развиваются образы героев, так и в лирическом стихотворении движется, развивается, стремится к концовке лирический образ. Что же такое образ в лирике? В эпическом и драматическом произведении этим словом обычно называют героя произведения (образ Татьяны Лариной, Родиона Раскольникова и т. д.); слово «образ» здесь почти всегда — синоним слова «персонаж». Почти, а не всегда, потому что мы имеем право говорить об образе Петербурга в «Преступлении и наказании», образе «возмущенной стихии» в «Медном всаднике» и т. п. Однако в центре внимания в сюжетном произведении остается образ человека. Не то в лирике. Кто является центральным образом в стихотворении Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...»)? «Ты»? Но мы о «ней» знаем только то, что она — «мимолетное виденье», «гений чистой красоты»5. И это определение не меняется, не развивается в стихотворении. «Я»? Но о «нем» мы знаем только то, что «он» любит «ее». Конечно, центральный образ стихотворения — животворящая любовь «его» к «ней». Образ в лирике обычно не человек, а его чувство и мысль, а еще точнее, по прекрасному выражению Маяковского, «чувствуемая мысль»6. Но и этого уточнения недостаточно. Термином «образ» в лирике иногда обозначают изображение предметно-чувственного характера (море, лошадь, дом и т. п.), чаще — слово, употребленное в переносном значении: метафора, метонимия и т. д. Маяковский очень хорошо говорил об «основном образе-видении», развивающем тему стихотворения, и о «вспомогательных образах, помогающих вырастать этому главному»7, т. е. именно о сравнениях, метафорах и т. п. Во избежание путаницы этот основной, главный лирический образ будем в дальнейшем называть тематическим образом. Сказанное не означает, конечно, что предметный, материальный мир, окружающий поэта, — и вещи, и природа, и, самое главное, люди — исключаются из лирического восприятия. Мы знаем немало так называемых описательных стихотворений, в которых изображаются, порой подробно, материальные предметы, природа; еще чаще встречается изображение людей — иногда условных персонажей, иногда вполне реальных, названных по имени. Но в подлинной лирике они не изображаются, так сказать, сами по себе, а 24 рождают у поэта мысли, чувства, ряд ассоциаций — и эта совокупность предмета, мыслей, чувств и ассоциаций и есть тематический лирический образ. Приведем примеры. Вот стихотворение Пушкина, само название которого — предмет: «Цветок». Цветок засохший, безуханный, Забытый в книге вижу я; И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя: Где цвел? когда? какой весною? И долго ль цвел? и сорван кем, Чужой, знакомой ли рукою? И положён сюда зачем? ---------------------------------И даже слова «Гений чистой красоты» - цитата из стихотворения Жуковского «Лала Рук». Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12 М., 1959, с. 265. 7 Там же, с. 108. 5 6 На память нежного ль свиданья, Или разлуки роковой, Иль одинокого гулянья В тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та жива ли? И нынче где их уголок? Или уже они увяли, Как сей неведомый цветок? Засохший цветок важен поэту не сам по себе: «странная мечта» вызывает связанные с ним представления о неведомых людях и, главное, об их чувствах, перекликающихся с чувствами поэта. Переход от паруса (предмета) к чувствам человека («А он, мятежный, просит бури...») у Лермонтова очевиден. В стихотворении Некрасова «Надрывается сердце от муки...» поэт обращается к поэтично изображенной им природе («весна золотая», «гармония жизни») с мольбой заглушить «музыку злобы», успокоить надрывающееся от муки сердце. «Памяти Белинского», «На смерть Шевченко», «Памяти Добролюбова» и им подобные стихотворения — это прежде всего выражение мыслей и чувств самого Некрасова, как «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» — выражение мыслей и чувств Маяковского. Во всех приведенных примерах и множестве более или менее им подобных ясно движение поэтической мысли от единичного предмета или определенного человека к лирическому обобщению. Но если тематический образ в лирике — «чувствуемая мысль», то и лирический зачин существенно отличается от сюжетной экспозиции. Последняя дает предварительные сведения о главных героях, времени и месте действия и т. п. до завязки. Лирический зачин обычно дает эмоциональный ключ, настраивающий читателя так, как это нужно поэту. «Я помню чудное мгновенье...», «Пришла,— и тает все вокруг...» — мы еще не знаем, о чем будет стихотворение, но уже настраиваемся на мажорный лад: будет что-то светлое, радостное, 25 прекрасное. «За8 унывный ветер гонит | Стаи туч на край небес...» , «Надрывается сердце от муки...» — и читатель уже ждет чего-то печального, даже мучительного. Зачины могут быть различны по величине. Иногда это один первый стих9, иногда два («На холмах Грузии лежит ночная мгла; | Шумит Арагва предо мною...»; «Белеет парус одинокий | В тумане моря голубом...»), иногда первое четверостишие («Брожу ли я вдоль улиц шумных, | Вхожу ль во многолюдный храм, | Сижу ль меж юношей безумных, | Я предаюсь моим мечтам»). Разнообразны зачины и по своему характеру. В стихотворениях, построенных по схеме логического развития мысли (что встречается чаще в философской лирике, в особенности в XVIII веке), зачин достаточно отчетливо обозначает тему рассуждения, например в «Послании к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» Фонвизина: «Скажи, Шумилов, мне, на что сей создан свет? | И как мне в оном жить, подай ты мне совет». В лирике предромантической и романтической, а затем и реалистической, преобладают зачины, создающие нужную поэту эмоциональную настроенность. -----------------------Если стихотворные цитаты не выделены графически, а включены в авторский текст, то стихотворные строки для ясности разделены вертикальными чертами. 9 «Первый стих в лирическом стихотворении играет совершенно особую и исключительную роль. В известном смысле он представляет все стихотворение, сигнализирует об особенностях его метрики, языкового строения и содержания, являясь своеобразной моделью целого» (Баевский В. С. Стих русской советской поэзии. Смоленск, 1972, с. 22). Ряд наблюдений автора интересен и убедителен. Однако, оставляя в стороне вопросы метрики и стиля, отметим преувеличение: в образной композиции зачин часто ограничивается первым стихом, но нередко захватывает два, даже четыре. Важно не количество стихов, а функция лирического зачина. 8 Существует также много переходных форм, в которых сочетается и логическое, и эмоциональное начало. Так, у Державина в духовной оде (этот термин в XVIII веке обозначал философскую лирику) «На смерть князя Мещерского» бой часов не только вводит тему течения времени, приближающего человека к смерти, но и создает ощущение ужаса перед неизбежным концом всего живого: «Глагол времен! металла звон! | Твой страшный глас меня смущает; | Зовет меня, зовет, твой стон, Зовет — и к гробу приближает». Логическая связь лирического зачина «Весеннего чувства» Жуковского с последующим текстом стихотворения не очень сильна. «Легкий, легкий ветерок, | Что так сладко, тихо веешь?»— это не столько описание ветра, сколько вступление к выражению мысли и чувства. Суть не в том, что ветер слабый, тихий, а в том, что слово «легкий» повторено, что это не ветер, а ветерок, что веет он сладко. Никакой логической связи с остальным текстом нет в пейзажном зачине стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла; | Шумит Арагва предо мною». Но такой зачин создает настроение, не логически, а эмоционально мотивирующее развитие любовной темы. Попробуем мысленно отбросить первые два стиха и начать с третьего: «Мне грустно и легко; печаль моя светла...» — и мы почувствуем, что выражение чувства недостаточно мотивировано. Поэтичный, романтический пейзаж настраивает на лирический лад — и выражение чувства воспринимается как совершенно естественное. Так нередко бывает в любовной лирике. Поэтому разделение лирики на пейзажную и интимную часто выглядит искусственно: провести грань между изображением природы и выражением чувства не всегда возможно. Для гражданской лирики, патриотической, революционной, характерны зачины возвышенно-патетические, часто выражаемые риторическими фигурами: восклицаниями, обращениями, вопросами и т. п. «Царей и царств земных отрада, | Возлюбленная тишина 10 , | Блаженство сел, градов отрада, | Коль ты полезна и красна!» (Ломоносов). «О! дар 26 небес благословенный, | Источник всех великих дел, | О, вольность, вольность, дар бесценный, | Позволь, чтоб раб тебя воспел! (Радищев). «Я ль буду в роковое время | Позорить гражданина сан...» (Рылеев). «Смолкли честные, доблестно павшие, | Смолкли их голоса одинокие, | За несчастный народ вопиявшие...» (Некрасов). «Разворачивайтесь в марше!..» (Маяковский). Меняется стиль, конкретное историческое содержание, но интонационный характер зачина устойчив. В лирике интимной — и не только в посланиях, адресованных некоему лицу, хотя бы условному — зачины-обращения тоже нередки, но содержание их не патетическое, а лирическое. «Уноси мое сердце в звенящую даль, | Где, как месяц за рощей, печаль...» (Фет). Лирический зачин-обращение близок по характеру к зачину-вопросу. Тот и другой могут определить композицию целого стихотворения, представляющего собой цепь вопросов, или обращений, или комбинацию тех и других. «Легкий, легкий ветерок, | Что так сладко, тихо веешь?» — так начинается «Весеннее чувство» Жуковского, и дальше в стихотворении развивается целая система вопросов. Только четыре стиха из двадцати — утвердительное предложение, остальные шестнадцать — нарастающая цепь вопросов, вопросом стихотворение и кончается. В лирике философской тоже встречается патетический зачин-обращение (так же, как и вопрос или восклицание). Например, в стихотворении Тютчева «Silentium!»: Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои... и т. д. Зачин может предваряться заглавием, в лирике совсем не обязательным. Оно может назвать жанр и тему («Послание к слугам моим...» Фонвизина, «На смерть князя Мещерского» Державина), главный тематический образ («Парус» Лермонтова, «Зеленый шум» Некрасова), обстоятельства, без которых начало было бы не вполне ясно («На железной дороге» Блока), даже стихотворную форму («Рондо» А. К. Толстого). В таких случаях заглавие — как бы -----------------------10 «Тишина» - здесь «мир». начало зачина, направляющее внимание читателя на то, что поэт считает важным, значительным для восприятия стихотворения. Некоторые поэты почти всегда озаглавливали свои стихотворения, например, Маяковский, обращавший названием внимание читателя на тему и тематические образы, часто парадоксальные: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». А Фет, например, всегда давал названия лирическим циклам и редко — отдельным стихотворениям. Нередко зачин не выделяется в особую композиционную единицу: начало развития темы сразу создает нужное настроение и выполняет функцию зачина, например, в стихотворении Тютчева: «От жизни той, что бушевала здесь, [ От крови той, что здесь рекой лилась, | Что уцелело, что дошло до нас? | Два-три кургана, видимых поднесь...» Композиция без зачина встречается особенно часто в поэзии XX века. Поэт может начать стихотворение с союза «и», «а», «но», давая понять, будто стихотворение — отрывок, начавшийся как бы с середины, и заставляя читателя догадываться о том, что было раньше. Вот один из характернейших примеров у Ахматовой. 27 декабря 1940 ПОСВЯЩЕНИЕ ……………………………………. ...а так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. 27 И вот чужое слово проступает и, как тогда снежинка на руке, доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись — и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным... Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипаньи пен все ближе, ближе... Marche funebie...11 Шопен... Это посвящение, как и многие посвящения поэм XIX и XX веков, является в то же время самостоятельным лирическим стихотворением. Композиция «продолжения» демонстративно подчеркнута здесь строкой точек и началом со строчной буквы. И все же первые два стиха по своей функции — зачин, вводящий в тему воспоминаний. «Ты» («на твоем... черновике») — один из тех, кто вереницей пройдет в воображении поэта в «Поэме без героя». Дата «Посвящения» вынесена в заглавие, первая часть называется «Девятьсот тринадцатый год»; в третьем стихе «чужое слово проступает», т. е. рождает ряд воспоминаний, ассоциаций, «и, как тогда снежинка... тает...». Таким образом, если формальный зачин и отсутствует, если даже поэт избирает форму отрывка, «продолжения», первые строки могут быть достаточно четким зачином. Не забудем при этом, что первые строки — именно потому, что они первые, что 'они начинают стихотворение,— в любом случае бессознательно воспринимаются читателями как зачин и выполняют его функцию. Как же развиваются сами тематические образы? В огромном многообразии стиховых форм можно наметить три основных композиционных типа: 1) сопоставление двух образов, диалектически взаимодействующих; 2) развитие и трансформация одного центрального образа (у него много общего с сюжетными стихотворениями); 3) логическое рассуждение. Рассмотрим сначала первый тип. -------------------------11 Траурный марш (фр.) (Прим. ред.) В. Я. Брюсов писал: «...типическое произведение поэзии есть синтез двух образов, в которых воплощены две идеи. К этому синтезу поэт приходит через ряд вспомогательных синтезов. И каждый «поэтический образ» (в узком смысле этого слова) есть также синтез двух представлений. Поэтическое произведение... есть система синтезов»12. (Брюсов противопоставляет научное, логическое мышление, основанное на анализе, художественному, основанному на синтезе.) Н. Н. Асеев утверждает, что «отличительным свойством подлинной поэзии является ее диалектическая сущность», которую он видит в «контрастности положений, иначе говоря... единстве и борьбе противоположностей»13. Один из древнейших видов сопоставления двух образов — так называемый психологический параллелизм, уподобление образа человека и его переживания какомулибо явлению природы. Этот образный параллелизм часто выражается посредством параллелизма синтаксического: Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке Сизый селезень плывет; Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому Добрый молодец идет. 28 В приведенном зачине плясовой фольклорной песни образно-синтаксический параллелизм полный: каждому члену предложения первой половины (о селезне) соответствует параллельный член предложения второй половины (о молодце). Но даже неполный синтаксический параллелизм, обнимающий лишь главные по значению слова, сразу схватывается сознанием — и два образа осмысляются как сопоставляемые: Не ветер бушует над бором, Не с гор побежали ручьи — Мороз-воевода дозором Обходит владенья свои. В европейской лирике, в частности в русской, целые стихотворения редко строятся на развернутом синтаксическом параллелизме, он обычно встречается лишь в части более крупного произведения, как в приведенном примере из поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос». Но параллелизм образов, не связанный с синтаксическим параллелизмом, нередко является основой композиции целого стихотворения, даже целое стихотворение может быть одним развернутым сравнением, например «Амбра» Гнедича: Амбра, душистая амбра, скольки́х ты и мух и червей Предохраняешь от тленья! Амбра — поэзия; что без нее именитость людей? Блеск метеора, добыча забвенья! Композиционная схема очень проста: как амбра предохраняет от тленья, так поэзия — от забвенья. Такое развернутое сравнение может получить значение символа— так в знаменитом переводе Лермонтова из Гейне: На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой— В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет. Психологический параллелизм здесь не назван, но подразумевается: деревья — это символы одиноких людей, которые могут встретиться лишь в мечтах. Композиция развернутого сравнения часто осложняется, например у Баратынского: Чудный град порой сольется Из летучих облаков, Но лишь ветр его коснется, Он исчезнет без следов. Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыханья Посторонней суеты. В этом стихотворении нет символики, но прямое сравнение (чудный град — созданья поэтической мечты) сочетается с обращенным (град сольется — и исчезнет; поэтическая мечта возникает — и исчезает). Сравнение, выраженное словом «так» в начале второго четверостишия, поддержано одинаковым глаголом-сказуемым (исчезать) и 29 аналогией ветра (буквального) и дыханья (метафорического). Такое сочетание прямого параллелизма (сравнения) с обращенным часто встречается в композиции стихотворений. Но что такое обращенный параллелизм? Это, по сути, противопоставление, контраст, часто сам по себе составляющий основу композиции стихотворений. Это могут быть и миниатюры, например небольшое стихотворение Тютчева: С поляны коршун поднялся, Высоко к небу он взвился; Все выше, дале вьется он, И вот ушел за небосклон. Природа-мать ему дала Два мощных, два живых крыла — А я здесь в поте и в пыли, Я, царь земли, прирос к земли!.. Это могут быть и большие произведения, состоящие из двух контрастных частей, например, «Деревня» Пушкина. В первой части описывается «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», во второй — ужасы крепостного права. Граница противопоставляемых частей нередко обозначается противительным союзом «но» («Но мысль ужасная здесь душу омрачает...»). Композиционная уравновешенность членов сравнения или противопоставления, симметричное расположение одинакового количества стихов или строф, как в стихотворении Баратынского «Чудный град порой сольется...», совсем не обязательны. В приведенном стихотворении Тютчева теме коршуна отведено шесть стихов, теме человека — два. Когда сочетается прямое и обращенное сравнение, развернутость одного образа при афористической сжатости другого, чаще в концовке, может быть очень выразительна. Так построено стихотворение Пушкина «Эхо»: Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом — На всякий звук Свой отклик в воздухе пустом Родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов, И гласу бури и валов, И крику сельских пастухов — И шлешь ответ; Тебе ж нет отзыва... Таков И ты, поэт! В двух шестистишиях десять стихов изображают эхо, откликающееся на разнообразные проявления жизни. Одиннадцатая неожиданно вводит вторую примету эха: ему, откликающемуся на все, нет отзыва. После паузы, обозначенной многоточием, в конце стиха, образуя сильный перенос и поэтому заметно выделяясь, стоит сравнительное слово «таков». Короткий последний стих называет, наконец, предмет сравнения: поэт. Теперь читатель в воображении как бы перечитывает стихотворение, относя к поэту все признаки эха: и радость творческого отклика на все столь различные явления жизни, и трагедию одиночества и непонятности; именно теперь, когда назван поэт, по-настоящему осмысляются слова «Тебе ж нет отзыва...». 30 Композиция контраста тоже может быть усложнена. «Толпе тревожный день приветен, но страшна | Ей ночь безмолвная» — так отчетливо обозначается контраст в первых строках стихотворения Баратынского. Но дальше оказывается, что главный контраст гораздо сложнее. Толпе, любящей ясный день и боящейся таинственных видений ночи, противостоят поэты, любящие «легкокрылые грезы» и боящиеся «видений дня». Если раньше мы сталкивались с двойным сравнением, прямым и обращенным, то здесь стихотворение строится на двойном противопоставлении — прямом и обращенном, если позволительно применить по аналогии такой термин к контрасту. При таком усложнении сопоставления двух тематических образов, прямого и обращенного, рождается перекрещивающаяся система ассоциаций. Толпе приветен день, но страшна ночь; поэтам приветна ночь, но страшен день. Перекрестное расположение двух параллельных и двух контрастных рядов возможно потому, что объектов со- и противопоставления всего лишь два (толпа — поэты) и сополагаются они всего по двум признакам (приветен — страшен). При такой композиционной схеме рождается богатство оттенков мысли и ассоциаций. Она может иметь множество вариантов; они часто встречаются у Гейне и его подражателей (ср. ниже, с. 30). Удачную пародию на варьирование этой композиционной схемы написал поэт-сатирик шестидесятых годов XIX века Н. Л. Ломан: СТИХОТВОРЕНИЯ В ГЕЙНЕВСКОМ ДУХЕ I (С саркастическим оттенком) Я верю: меня ты любила, Да я-то тебя не любил; Меня ты еще не забыла, Тебя я давно позабыл. II (С оттенком иронии) Меня ты когда-то любила, Тогда я тебя не любил; Теперь ты меня позабыла — И что ж? я тебя не забыл. III ( Ординарное ) Ты меня любила, Я тебя любил; — Ты меня забыла, Я тебя забыл. Ассоциативность — общее свойство образного мышления. С особой силой проявляется она в стихотворной речи благодаря «тесноте стихового ряда», по известному определению Ю. Н. Тынянова 14, и прежде всего в том случае, если лирическое стихотворение представляет собой развернутое сравнение или метафору. Когда они развертываются в целую самостоятельную картину, грань между ними провести порой трудно — и вряд ли это нужно, так как содержание их одинаково (внеш. ним признаком отличия может служить наличие или отсутствие сравнительныхслов «как», «будто» и т. п.). Хрестоматийный пример развернутого сравнения в «Мертвых душах» —сопоставление лая собак в усадьбе Коробочки с хором певчих. В подобных случаях образ (то, с чем сравнивается предмет) может обрастать самостоятельными деталями, далеко уходящими от общего признака обоих членов сопоставления, названного в сравнении и подразумеваемого в метафоре. Так, хриплый лай старого дюжего пса 31 сравнивается с голосом баса-октавы (общий признак), приседающего от натуги и засунувшего небритый подбородок в галстук (самостоятельные детали, немыслимые у собаки). Развертывание сравнения в картину — это один путь повышения ассоциативности в сравнении или метафоре. Другой — в подборе определенного ряда предметов или явлений, с которыми сопоставляются объект, что создает целую систему образов — однородную, однонаправленную цепь ассоциаций. Приведем простейшие примеры. Как известно со времен Аристотеля и пишется во всех учебниках, сравнение или метафора возможны тогда, когда у двух сопоставляемых предметов есть общий признак. Так, о светлой блондинке говорят, что у нее волосы цвета льна. Сравнение возможно потому, что льняная пряжа (именно она метонимически заменена словом «лен») похожа по цвету на светлые волосы (общий признак). Это банальное сравнение считается красивым и поэтическим. Однако, если сказать светлой блондинке, что у нее волосы цвета пакли, то она несомненно обидится, хотя пакля, т. е. очесы льняной пряжи, того же цвета, что и сама пряжа. Следовательно, наличие у двух предметов общего признака необходимо для возникновения сравнений (метафор), но недостаточно для их понимания и оценки. Дело в том, что за общим признаком тянется шлейф ассоциаций, связанных с тем предметом, с которым сопоставляется объект сравнения. В приведенном примере: лен — шелковистый, мягкий, опоэтизированный в фольклоре лен-ленок; пакля — жесткая, колючая, употребляется как ветошь и для конопатки. Поэтому сравнение со льном возвышает, поэтизирует цвет волос (а значит и их обладательницу), а с паклей — снижает, прозаизирует, создает комический оттенок. То же видим в стихотворении Гнедича «Амбра». При всей его лаконичности и простоте композиционной схемы поэтическая идея не сводится только к простому сравнению: поэзия предохраняет от забвенья, как амбра — от тленья. За первым сравнением следует второе: без поэзии сановитость людей — блеск метеора, добыча забвенья. Но амбра в этом стихотворении предохраняет от тленья мух и червей. И шлейф ассоциаций рождает новое сопоставление, не высказанное прямо, но несомненно присутствующее в тексте: сановитые люди — мухи и черви, метеором блестящие при жизни, заслуженно становящиеся после смерти добычей забвенья; истинное величие и право на бессмертие дает поэзия, т. е. творчество. Сопоставление дерзкое в первой трети прошлого столетия (вспомним гнев Бенкендорфа, когда Краевский осмелился в некрологе назвать Пушкина великим). Таким образом, шлейф ассоциаций придает определенный экспрессивный ореол сравнению или метафоре. Явление это аналогично по своей функции экспрессивному ореолу слов-синонимов: спать — нейтрально, нежиться в объятиях Морфея — поэтично, дрыхнуть — грубо и т. д. --------------------14 Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965, с. 95 и сл. Если в стихотворении и лексика, и тропы, и синтаксическая структура характеризуются родственностью экспрессивных ореолов, мы говорим уже не об отдельных «вспомогательных» образах, а о некоей системе образов, создающих в совокупности тематический образ. Очень отчетливо, как заданное наперед нормативной поэтикой, это видно в системе стилей классицизма. Высокие жанры требуют «высокого штиля», возвышенных тропов, риторической синтаксической структуры. Так, например, в «Вечернем размышлении о божием величестве при случае великого северного сияния» Ломоносова не только лексика «высокая» (славянизмы, отсутствие прозаизмов), но и синтаксический строй изобилует риторическими фигурами, и все тропы возвышенны: космическое явление, предмет сам по себе «высокий», еще более возвышается метафорами: «Не солнце ль ставит там свой трон, | Не льдисты мещут огнь моря?» и подобными. Напротив, в иронической притче «Случились вместе два астронома в пиру...», в соответствии с канонами «низкого» стиля, 32 столь же высокие космические понятия Ломоносов снижает сугубо прозаической метафорой: «Кто видел простака из поваров такого, | Который бы вертел очаг кругом жаркого?» (здесь жаркое — земля, очаг — солнце, повар — сам бог, что воспринималось в те времена, вероятно, как кощунство). В травестийных жанрах канон выворачивался наизнанку. В «ирои-комической» поэме единство стиля нарушалось нарочитым смешением высокого и низкого. Фонвизин уже в заглавии своего послания указывает на его травестийность, «ирои-комический» характер: послания со времен Сумарокова были высоким жанром, трактовали о высоких материях и либо не имели названного адресата (например, две «епистолы» Сумарокова— о языке и о стихотворстве), либо адресовались лицам сановным. Фонвизин адресует послание «слугам моим, Шумилову, Ваньке и Петрушке». Высокая тема о смысле и цели жизни толкуется бурлескно, что создает нужный поэту сатирический эффект. Соответственно нарочито сочетаются слова с противоположными экспрессивными ореолами («Наморщились его и харя, и чело»), тропы встречаются то высокие, то низкие, то сочетающие в себе эти противоположные свойства («...большая голова, | Малейшего ума пространная столица»). Так умышленное сталкивание противоположных стилей создает своеобразное парадоксальное единство травестийного «ирои-комического» стиля, последовательно проведенную систему образов. Г. А. Гуковский показал, что в элегическом стиле романтизма такая система образов создается не столько логической связью слов, сколько родственностью их экспрессивных ореолов15, рождающих порою смутные, но эмоционально однородные ассоциации, связывающие разрозненные образы в композиционное единство. Это легко увидеть в стихотворении Жуковского «Весеннее чувство». В нем однородны по характеру экспрессии изображаемые явления и предметы: легкий ветерок; сладко, тихо веешь; очарованный поток; милый голос старины; скрытый край желанного; очарованное Там... Следовательно, система образов и ассоциаций — важный момент в композиции лирического стихотворения в любом литературном направлении — и при любой композиционной схеме. Своеобразный вариант развернутой метафоры, составляющей основу композиции,— реализация метафоры, чаще встречающаяся в поэзии XX века, как во фрагментах лирических поэм, так и в самостоятельных стихотворениях. Вспомним два известных примера. Языковая метафора «нервы расходились» реализуется в «Облаке в штанах» в целую картину: один нерв спрыгивает с кровати, прохаживается, бегает, потом уже три «мечутся в отчаянной чечетке», да так, что «рухнула штукатурка в нижнем этаже». Целое стихотворение того же периода творчества Маяковского «Вот как я сделался собакой» представляет собой реализацию сравнения «зол, как собака»: поэт сначала не может ответить человеческим языком на приветствие, потом у него вырастают собачьи клыки, затем — большой собачий хвост, наконец, он садится и лает. Столь же распространен, как сопоставление двух тематических образов, и столь же -------------------15 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. многообразен второй основной тип лирической композиции: развитие и трансформация одного тематического образа. Очень часто этот тип композиции встречается в стихотворениях романсного строя и им подобных16. Рассмотрим его на примере известного стихотворения Фета. Я пришел к тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало, Что оно горячим светом По листам затрепетало; Рассказать, что лес проснулся, 33 Весь проснулся, веткой каждой, Каждой птицей встрепенулся И весенней полон жаждой; Рассказать, что с той же страстью, Как вчера, пришел я снова, Что душа все так же счастью И тебе служить готова; Рассказать, что отовсюду На меня весельем веет, Что не знаю сам, что буду Петь, — но только песня зреет. Здесь четыре строфы — четыре ступени в развитии одного тематического образа, каждая следующая ступень — новая, более напряженная модификация той же основной темы, фиксация моментов развития чувства под влиянием одного события («солнце встало»). Этот тип композиции можно определить как композиционную градацию, усиление, эмоциональное нагнетение. Логическая связь строф не обязательна, усиление лирического напряжения — непременное условие такой композиции. Назовем ее композицией градации, или ступенчатой. В первой строфе возникает образ встающего солнца, горячего света, трепещущего (в последнем стихе четверостишия) на древесных листах. Листы — композиционный мостик к следующему перевоплощению тематического образа: под горячим светом солнца весь лес проснулся, «каждой птицей встрепенулся и весенней полон жаждой». Весенняя жажда (т. е. жажда любви) в конце второй строфы — мостик к следующему перевоплощению: «Я» пришел к «тебе» с той же страстью, душа готова служить «счастью» и «тебе»; эти два разнородных понятия грамматически и эмоционально сливаются в одно и составляют мостик к последнему перевоплощению тематического образа: отовсюду (это итог всех предыдущих строф) «весельем веет» — и так «зреет» песня. Композиционная схема: восход солнца, горячий свет — пробуждение леса и весны — любовь, счастье — рождение песни. Каждая следующая ступенька экспрессивно выше предшествующей. Ступенчатое нагнетение чувства и трансформация тематического образа могут развиваться вне пространства и времени. «Я пришел» неизвестно в какое место, хотя известно к кому: к тебе; пришел «рассказать» — одномоментно. Но то, о чем рассказывается, развивается во времени: встает солнце, потом пробуждается лес, затем лирический персонаж («Я») приходит к «ней». Течение времени может быть ясно обозначено, а может только угадываться в смене картин. Так, в стихотворении Фета «Шепот, робкое дыханье...» развития лирического сюжета во времени нет, однако в начале стихотворения названы «ночные тени», в конце — «в алых тучках пурпур розы» (край неба алеет), вслед за этим — «отблеск янтаря» — и «заря, заря». -------------------------Подробно о романсной интонации и композиции см.: Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха. Пб., 1922 (вошла в кн. Эйхенбаум Б. О поэзии. Л„ 1969). 16 Но развитие во времени характерно для сюжетного построения с цепью событий. И не случайно именно при ступенчатой композиции нередко встречается изображение цепочки событии; иногда она лишена конфликта, составляющего самую суть сюжет намечен как бы пунктиром, угадывается читателем по намекам в тексте, иногда отчетливо— тут встречается много переходных форм от бессюжетной лирики к сюжетной. Примером переходной формы может служить ставшее популярным романсом стихотворение Тургенева «(В дороге)». 34 Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые, Нехотя вспомнишь и время былое. Вспомнишь и лица, давно позабытые. Вспомнишь обильные страстные речи, Взгляды, так жадно, так робко ловимые, Первые встречи, последние встречи, Тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, Многое вспомнишь родное, далекое, Слушая ропот колес непрестанный. Глядя задумчиво в небо широкое. После типичного лирического зачина, ничуть не похожего на сюжетную экспозицию, навевающего печальные воспоминания, вырисовывается данный отдельными штрихами сюжет: движение от робко ловимых взглядов к страстным речам — и к непонятной, необъясненной разлуке. Временной последовательности в событиях нет, что не удивляет читателя, так как события протекают в воспоминаниях; впрочем, и в эпических произведениях фабульная последовательность часто не совпадает с сюжетным расположением эпизодов (это даже норма для романа тайн и детектива). Сюжет хотя и дан пунктиром, недосказан, но угадывается – и все же не он определяет композицию, чисто лирическую, ступенчатую: от печального зачина к ступенчато развивающемуся воспоминанию о сильной, но заглушенной несчастной любви. Общий тип композиции тот же, что в стихотворении Фета «Я пришел к тебе с приветом», но ясны и различия. У Фета есть временная последовательность, но нет сюжета – у Тургенева сюжет есть; у Фета эмоциональное напряжение стремительно возрастает от начала до конца и столь же стремительно разрешается в последних двух стихах — у Тургенева тихо нарастает до середины стихотворения и с третьего стиха второго четверостишия («Первые встречи, последние встречи») тихо опускается к печальной концовке. Сюжетное построение не движет развитие тематического образа, а подчиняется чисто лирической композиции, в данном случае — ступенчатой. Даже там, где сюжет более отчетлив, он подчинен лирической композиции — в разных жанрах по-разному. В пору стремительного развития «натуральной школы» и жанра очерка в России Некрасов создал новый стихотворный жанр — миниатюрный лирический или лирико-сатирический очерк. Замечательный образец его — лирикосатирический цикл 1850 года «На улице», состоящий из четырех стихотворений. В этом цикле есть и типичные для очерков жанровые сценки, таково короткое стихотворение «Гробок»: Вот идет солдат. Под мышкою Детский гроб несет, детинушка. На глаза его суровые Слезы выжала кручинушка. А как было живо дитятко, То и дело говорилося: «Чтоб ты лопнуло, проклятое! Да зачем ты и родилося?» Композиция типично лирическая, на контрасте двух тематических образов, но угадывается чуть намеченная поэтом сюжетная основа. Стихотворение «Вор» уже построено на последовательно развивающейся сюжетной жанровой сценке: вор крадет калач, за ним гонятся, ловят, городовой его допрашивает — «И вора повели торжественно 35 в квартал». Сюжет налицо, с завязкой и развязкой — и все же не он определяет композицию. Во-первых, поэт сосредоточивает внимание не на событии, а на его социально-психологической мотивировке. Вор украл не деньги, а калач; во время бегства он успел откусить кусок («Закушенный калач дрожал в его руке…»); «Он был без Сапогов, в дырявом сертуке» - и социальные причины кражи ясны; «Лицо являло след недавнего недуга, | Стыда отчаянья, моленья и испуга» — и читатель догадывается, что вор только что вышел из больницы, что он не профессионал — те не стыдятся. Ясны и психологические мотивы преступления: голод, победивший страх и стыд. Но еще важнее в композиции стихотворения сатирическая рамка, в которую заключена сюжетная часть стихотворения: Спеша на званый пир по улице прегрязной, Вчера был поражен я сценой безобразной… Такова на первый взгляд типично очерковая экспозиция, рисующая обстановку, которая должна прояснить жанровую сценку. Однако с развитием сценки она оборачивается лирико-сатирическим зачином (званый пир – и голодный вор), к которому вновь возвращает читателя концовка: Я крикнул кучеру: «Пошел своей дорогой!» И богу поспешил молебствие принесть За то, что у меня наследственное есть… (На этом примере хорошо видно, что повествовательное или лирическое «Я» не всегда можно отождествить с автором; особенно часто их расхождение в сатире.) Во многом сходно построение «Стихов о советском паспорте» Маяковского. Сценка, лишенная развязки, но с двойным сюжетным ходом (отношение к советскому паспорту «жандармской касты» и носильщика) заключена в рамку — только не сатирическую, как у Некрасова, а лирико-патетическую; при этом четверостишие начала буквально повторено в конце, Но его содержание, неясное в зачине, обретает глубокое значение и ведет к патетической гражданской концовке: «Читайте, завидуйте, я — гражданин | Советского Союза». Всегда отчетлив сюжет баллады. Ее справедливо определяют как жанр лироэпический, в котором сжато изображенный, драматически напряженный, часто зловещий сюжет может быть очень важен в композиции, особенно, если баллада велика по объему, как, например, большинство баллад Жуковского. Однако баллада не просто эпична, а лиро-эпична, и лирическое начало в ней очень важно, прежде всего нагнетение напряжения, как в ступенчатой лирической композиции. Это хорошо видно в балладе Пушкина — одной из самых коротких в русской поэзии. Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: Ворон! где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать? Ворон ворону в ответ: Знаю, будет нам обед; В чистом поле под ракитой Богатырь лежит убитый. Кем убит и отчего, Знает сокол лишь его, Да кобылка вороная. Да хозяйка молодая. 36 Сокол в рощу улетел, На кобылку недруг сел, А хозяйка ждет милого, Не убитого, живого. Замедленное начало выполняет функцию экспозиции, но прежде всего это лирический зачин, нарастание ожидания чего-то недоброго, начиная с первого слова: ворон — птица зловещая, питающаяся трупами, предсказывающая в фольклоре гибель героя. И это страшное слово повторяется в первых пяти стихах семь раз, нагнетая напряжение, а чаемый воронами обед оказывается убитым богатырем. Вторая половина баллады повествует о событиях не прямо, а прозрачными намеками, соблюдая фольклорный закон тройного числа и сюжетной градации. В третьем четверостишии читатель узнает, что о причинах гибели знают три близких богатырю существа: сокол, кобылка, молодая хозяйка. Последнее четверостишие рассказывает об измене всех троих, опять же с нарастанием гнусности предательства: сокол улетает в рощу, кобылка позволяет сесть на себя убийце, которого ждет жена-сообщница. Такое же нарастание экспрессии характеризует и балладу Козлова «На погребение английского генерала сира Джона Мура» (только двухчастную, с двумя последовательными волнами подъема) и «Свиданье» Лермонтова. Близко к балладе и стихотворение Некрасова «Зеленый Шум», но лирическое начало проявляется в его композиции еще отчетливее. Радостный весенний пейзаж зачина контрастирует с мрачным началом сюжетной коллизии, а рефрен «Идет-гудет Зеленый Шум, | Зеленый Шум, весенний шум!» определяет противоположный традиционному поворот темы: «нож валится из рук», доброе чувство побеждает желание мести. Сохраняя балладный характер сюжета, Некрасов неожиданной развязкой противостоит всей балладной традиции, пишет своеобразную антибалладу, если можно употребить такое слово. Нам важно подчеркнуть здесь, что мотивировано это чисто лирической композицией— мрачной зиме, нашептывавшей «Убей, убей изменницу!», противопоставлена изображенная подробнее поэтичная, светлая картина весны с повторяющим заглавие рефреном. Сюжетное (в подлинном значении слова) развитие и здесь подчинено лирическому сюжету. В длинных балладах и элегиях первой половины XIX века ступенчатое нагнетение экспрессии нередко создавалось перечислением подобных деталей в какой-либо части стихотворения. Примером может служить отрывок из баллады Жуковского «Замок Смальгольм, или Иванов вечер», в котором описывается вооружение Смальгольмского барона: Но в железной броне он сидит на коне; Наточил он свой меч боевой; И покрыт он щитом; и топор за седлом Укреплен двадцатифунтовой. Самый простой тип композиции— это логическое развитие темы, как в риторической или публицистической прозе: посылка, рассуждение, вывод. Этот тип можно встретить в публицистической и философской лирике, хотя в чистом виде он довольно редок и присущ более науке, нежели поэзии. На нем построены отдельные части «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» Фонвизина; но эта композиционная основа осложнена ступенчатым нарастанием логического содержания и в трех последовательных ответах слуг, и внутри самих ответов. Примером чисто логического развития темы может послужить коротенькая духовная ода Сумарокова «Последний жизни час»: 37 Я тленный мой состав расстроенный днесь рушу. Земля, устроив плоть, отъемлет плоть мою, А, от небес прияв во тленно тело душу, Я душу небесам обратно отдаю. Первый стих здесь — посылка, остальные три — рассуждение и вывод, построенные по всем правилам христианского богословия, согласно которому тленное тело — прах, земля (из которой бог слепил первого человека — Адама) — лишь временное прибежище бессмертной души. До сих пор говорилось об основных типах композиции. Они могут усложняться, особенно в больших по размеру стихотворениях (но не только в больших). Так, каждая из двух сопоставляемых или противопоставляемых частей может развиваться по законам ступенчатой композиции. Пример — «Деревня» Пушкина. Первая часть — похвала «приюту спокойствия, трудов и вдохновенья». При описании природы («Люблю сей темный сад», луг, озеро, холмы, нивы и т. д.) каждый образ присоединяется к предыдущему, создавая эмоционально нарастающий ряд; затем еще подъем: от прекрасной природы — к мудрым уединенным трудам, чтению, творчеству. Так же нарастает контрастный ряд — изображение ужасов крепостного права: невежества губительный позор, барство дикое, рабство тощее, девы, цветущие для прихоти злодея... Заметим, что подобную композицию (впрочем, как и любые другие композиционные формы) можно встретить и во фрагментах лирических или лироэпических поэм. Так, например, построено бессюжетное вступление к «Медному всаднику». Сначала («...Стоял он дум великих полн») рисуется по принципу нарастающего перечисления картина диких, необжитых берегов Невы, затем еще одно нарастающее перечисление — мечта Петра о будущем городе. Потом, контрастом («Прошло сто лет...»), так же нарастает восторженное перечисление красот «юного града», великолепная ода, складывающаяся, как мозаика, из отдельных картин. Они не развиваются ни во времени, ни в пространстве. Смена картин не мотивирована ни логически, ни топографически. Картины зимы и лета, бег санок вдоль Невы и парад на Марсовом поле Пушкин мог, если б захотел, поменять местами, и читатель этого бы не заметил. Здесь важно другое: каждая следующая картина усиливает эмоциональное напряжение, восторг поэта, а значит, усиливает и контраст первой и второй части вступления в поэму. Замечательный пример короткого стихотворения с усложненной композицией, комбинирующей оба основных ее типа, встречаем у Лермонтова. 1 Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит. 2 В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом... Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем? 3 Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть! 4 Но не тем холодным сном могилы... Я б желал навеки так заснуть, 38 Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 5 Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной чтоб вечно зеленея Темный дуб склонялся и шумел. Зачин, первые два стиха, на первый взгляд — просто пейзаж. Но все же смутно ощущается его необычность: дорога — где она, куда ведет? Неизвестно и не нужно поэту. Во втором стихе конкретная дорога превращается уже в отвлеченный путь — начинает предощущаться переносное, символическое значение пути. Выхожу один, путь кремнистый, сквозь туман — так появляется, еще едва слышный, печальный мотив одиночества, трудности и неясности пути (заметим, что стихотворение написано пятистопным хореем с необычной цезурой на третьем слоге, и слова, резделенные цезурой, поэтому слегка акцентированы). В следующих четырех стихах печаль исчезает — и нарастает в медленной ступенчатой композиции грандиозная космическая картина торжественно-прекрасных небес и спящей в голубом лунном сиянии земли (теперь раскрывается зрительный образ зачина: путь блестит сквозь туман). И тут наступает внезапный перелом: Что же мне так больно и так трудно? (Теперь проясняется и мотив одиночества, и эпитет кремнистый путь.) Начинается ступенчатое развитие второго контрастного тематического образа. Но при этом происходит нечто необычное: резкий контраст в этом развитии не усиливается, а смягчается, и от безнадежного начала третьей строфы совершается переход к мечте о воплощении свободы и покоя — вечном живом сне (и здесь вспоминается чудный сон земли в сияньи голубом), о сладком голосе, поющем о любви. Второй тематический образ все более сближается с первым, и концовка замыкает круг: опять появляется светлый образ природы — склоняющийся над спящим поэтом темный дуб. По глубине поэтической мысли, перекличке образов, рождающих многочисленные ассоциации, силе чувства, красоте величавых картин это стихотворение, конечно, принадлежит к шедеврам Лермонтова. И это в значительной мере объясняется совершенством композиции. Приведенные типологические схемы не исчерпывают всех возможностей лирической композиции. Особо надо остановиться на композиции крупных лирических стихотворений. Развивая какую-то одну тему или соположение двух, они в большинстве случаев делятся на части, каждая из которых строится по обычным законам лирики. Таковы прежде всего огромные, в сотни стихов, торжественные оды XVIII века. Основное чувство, выражаемое одой — восторг: «Восторг внезапный ум пленил»,— так начинается первая ода Ломоносова, и этот стих великолепно характеризует и жанр оды, и ее композицию: плененный восторгом ум не подчиняется строгим законам разума, и торжественная ода должна быть композиционно нестройной, с картинами, перемежающимися отступлениями, с нагнетанием подобных образов, с внезапными контрастами. Композиция оды, жанра гражданского, риторического, во многом ближе к Композиции похвальных прозаических «слов», нежели к обычной лирической. Композиция духовных од, т. е. стихотворений философских, обычно строже. Своеобразны дружеские послания, популярные в первой четверти XIX века. Они тоже часто были достаточно длинны, например, «Мои пенаты. Послание к Жуковскому и Вяземскому» Батюшкова — триста шестнадцать стихов (для сравнения заметим, что в поэме Пушкина «Братья-разбойники» 235 стихов, в «Домике в Коломне» — 320). Такие послания — непринужденная «болтовня» с прихотливыми, свободными переходами от темы к теме. Но внутри отдельных тематических кусков встречается либо обычная лирическая композиция, либо описательные картины; логика последних — перечень 39 деталей, создающих в совокупности образ «убогой хижины» поэта, сельский пейзаж и т. п. Важнейший элемент композиции лирического стихотворения— его концовка. Следует напомнить, что концовку не следует отождествлять с развязкой сюжетного произведения, как зачин — с завязкой. Развязка — разрешение конфликта, движущего события (например, в любовной интриге герой женится или стреляется, в борьбе с соперником побеждает или гибнет и пр.). Лирическая концовка — это разрешение нараставшего эмоционального напряжения, вывод из размышления, обобщение частного случая, из которого вырастала лирическая коллизия. Можно сказать, что все движение мысли и чувства в стихотворении стремится к концовке, что она, как в фокусе, собирает всю образную энергию стихотворения, которое как бы для нее и пишется. Хорошо об этом написала Т. И. Сильман: «Эмпирический элемент, элемент живой действительности, является основой, иногда подспудной, но тем не менее несущей на себе всю конструкцию... Возникающие же на этой основе эмоция и мысль... нарастая в глубине и силе, все вместе движутся к финалу. Развитие стихотворения, таким образом, в самом схематическом виде есть развитие от частного к общему»17. Концовки стихотворений могут быть самыми разнообразными в зависимости от жанра и характера выражаемого чувства. В гражданской лирике это часто призыв, лозунг, вопрос, восклицание, обращение и т. п. «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный | И рабство, падшее по манию царя, | И над отечеством Свободы просвещенной | Взойдет ли наконец прекрасная заря?» (Пушкин). «Сейте разумное, доброе, вечное, | Сейте! Спасибо вам скажет сердечное | Русский народ...» (Некрасов). «Левой! | Левой! | Левой!» (Маяковский). Формально (обычно в жанре послания) такой призыв может быть адресован одному человеку, но, по существу, это всегда — обращение ко всем читателям, например знаменитая концовка послания «К Чаадаеву» Пушкина: Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! В лирике интимной это тоже обобщающий финал. «И лобзания, и слезы, | И заря, заря!..» (Фет). «И сердце вновь горит и любит — оттого, | Что не любить оно не может» (Пушкин). И чем шире обобщение, чем глубже мысль, тем большее философское значение она может приобрести, поэтому границу между интимной и философской лирикой порой провести трудно, и к той, и к другой относятся такие концовки, как «О ты, последняя любовь! | Ты и блаженство и безнадежность» (Тютчев). Широкая обобщенность символических стихотворений, а следовательно и их концовок, очевидна, достаточно вспомнить одну: «А он, мятежный, просит бури, | Как будто в бурях есть покой!» (Лермонтов). Иногда концовка — не просто вывод, а сжато, порой афористически выраженный тематический образ: «...Таков | И ты, поэт!» в пушкинском «Эхо». Интересный пример неожиданной концовки в довольно сложной композиции находим в коротком стихотворении А. К Толстого: Острою секирой ранена береза, По коре сребристой покатились слезы; Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй! Рана не смертельна, вылечится к лету, Будешь красоваться, листьями убра́на... Лишь больное сердце не залечит раны! 40 Поначалу перед нами композиция сравнения: бегущий по коре березовый сок — слезы раненой березы; далее с обоими первыми стихами, со всем сравнением, контрастирует обращение поэта к березе: не плачь, вылечишься. И лишь последний стих, концовка, проясняет основной композиционный контраст: больное сердце не залечит раны. Особо следует выделить один вид концовок, часто называемый многозначным французским словом пуант (pointe — точка, острое слово): неожиданный, парадоксальный конец, иногда острота, каламбур. Такая концовка часто вызывает комический эффект, поэтому ---------------------------------17 Сильман Тамара. Указ. соч., с. 76. встречается в юмористических или сатирических стихотворениях, но не только в них. Романтическая ирония может быть печальной, скорбной. Концовку-пуант любил Гейне — и в саркастической сатире, и в щемящей интимной лирике. Не верую я в небо, Ни в новый, ни в ветхий завет. Я только в глаза твои верю, В них мой небесный свет. Не верю я в господа бога, Ни в ветхий, ни в новый завет. Я в сердце твое лишь верю, Иного бога нет. Не верю я в духа злого, В геенну и муки ее. Я только в глаза твои верю, В злое сердце твое. (Перевод Ю. Н. Тынянова) В первом четверостишии контраст двух половинок (Не верую — верю) оказывается мнимым, это по сути сравнение: ты — мое небо. Второе четверостишие синонимично (небо и бог, глаза и сердце) и создает эффект ступенчатого нарастания (оно усилено рефреном). Контрастный образ возникает в третьей строфе; третий стих, рефрен, возвращает к первым строфам — и оба контрастных образа (бог и небо — дьявол и ад) неожиданно объединяются в пуанте последнего стиха. Но все же этот тип концовки чаще встречается в сатире, например в стихотворении Саши Черного «Все в штанах, скроенных одинаково...». Сатирический персонаж, «Я» стихотворения, говорит о своем отвращении к городу, о желании убежать от обезличивающей культуры в лес, на лоно природы, в гости к герою популярного в начале XX века романа Гамсуна «Пан» отшельнику Глану. Гротескная преувеличенность, почти абсурдность рождает нарастающее ироническое отношение к «Я» стихотворения, и все же концовка поражает неожиданностью: Только пусть меня Глан основательно свяжет, А иначе — я в город сбегу. В лаконичной эпиграмме пуант является почти обязательным признаком жанра, очень устойчивым на протяжении долгого времени. И. И. Дмитриев в 1803 году перевел с французского эпиграмму Лебрена: «Я разорился от воров!» — «Жалею о твоем я горе». — «Украли пук моих стихов!» 41 — «Жалею я об воре». Через полтора столетия С. Я. Маршак пишет эпиграмму совсем другого характера: Писательский вес по машинам Они измеряли в беседе: Гений — на «зиме» длинном, Просто талант — на «победе». А кто не сумел достичь В искусстве особых успехов, Покупает машину «москвич» Или ходит пешком. Как Чехов. При всем различии обеих эпиграмм в них есть общее: пуант — это даже не последний стих, а последнее слово в стихе, парадоксально проясняющее смысл целого. А последнее слово в стихотворении подчеркнуто особенно сильно: оно заканчивает стих, строфу, произведение, наконец, оно выделено рифмой, завершая звукоряд. Поэтому не удивительно, что эпиграмматисты проявляли особое внимание к характеру рифмы в концовке, так что не только вещественное содержание последнего слова, но и заключительная рифма часто была неожиданной, эффектной, иногда каламбурной. При этом каламбур нередко выражал самую суть эпиграммы. Таковы излюбленные концовки сатирика и эпиграмматиста середины прошлого века, «короля рифм» Д.Д. Минаева, например: Я не гожусь, конечно, в судьи, Но не смущен твоим вопросом. Пусть Тамберлик берет do грудью, А ты, мой друг, берешь do носом. Один из способов создания неожиданной концовки — это эффект обманутого ожидания. Он может достигаться различными средствами и достигать разной степени интенсивности — от едва ощутимого до очень сильного. Так, например, выделить концовку может изменение способов рифмовки в строфе: ряд строф с перекрестным чередованием рифм абаб, в конце — охватное абба или наоборот: строфы абба завершаются четверостишием абаб. В обоих случаях выделяются два последних стиха, обычно наиболее значимых. Так Лермонтов выделил концовки стихотворений «Когда волнуется желтеющая нива...», «Пророк», «Договор» и др., Пушкин — «Приметы», «Желание», «Аквилон» и др. Сильнее, чем изменение порядка рифм, выделяет концовку изменение длины последнего стиха, реже — удлинение, чаще — сокращение. Бодрый туман, мутный туман Так густо замазал окно — А я умываюсь! Бесится кран, фыркает кран... Прижимаю к щекам полотно И улыбаюсь. Здравствуй, мой день, серенький день! Много ль осталось вас, мерзких? Все проживу! Скуку и лень, гнев мой и лень Бросил за форточку дерзко. Вечером вновь позову... 42 (Саша Черный «Утром») Читателя сразу поражает первый стих: туман обычно связывается с отрицательными эмоциями, здесь он — «бодрый». И все стихотворение развивается в мажорном тоне. Оба шестистишия строятся по одной схеме: пара трехстиший с убывающей длиной стиха — четырех-, трех- и двустопной. Последний стих — пуант: неожиданно резко меняется настроение, теперь соответствующее привычным ассоциациям со словом «туман», тем самым концовка опровергает мажорный зачин; последний, столь важный стих подчеркнут изменением длины: трехстопный вместо ожидаемого двустопного. Еще резче выделяется концовка, если после ряда длинных стихов стоит заключительный короткий. Подруги милые! в беспечности игривой Под плясовой напев вы ре́звитесь в лугах. И я, как вы, жила в Аркадии счастливой, И я, на утре дней, в сих рощах и лугах Минутны радости вкусила: Любовь в мечтах златых мне счастие сулила: Но что ж досталось мне в сих радостных местах? — Могила! (К. Н. Батюшков «Надпись на гробе пастушки») Но особенно резко подчеркнута концовка при изменении количества стихов в последней строфе, скажем, после ряда четверостиший — пятистишие, трехстишие, двустишие. Читателя, успевшего привыкнуть к ритмической и рифмической инерции, поражает и останавливает лишний стих или его нехватка. Такую же функцию выполняет изменение стихотворного размера в концовке 18: Что ты, сердце мое, расходилося?.. Постыдись! Уж про нас не впервой Снежным комом прошла-прокатилася Клевета по Руси по родной. Не тужи! пусть растет, прибавляется, Не тужи! как умрем, Кто-нибудь и об нас проболтается. Добрым словцом. (Н. А. Некрасов «Что ты, сердце мое, расходилося...» В последнем стихе — дактиль вместо анапеста) Наконец, надо учесть, что самое положение последних строк, самый факт окончания стихотворения заставляет читателя воспринять концовку как обобщение, как нечто значительное — завершение темы. В школьных хрестоматиях «Весенняя гроза» Тютчева («Люблю грозу в начале мая...») печатается без конечной четвертой строфы, и заключительный стих «Все вторит весело громам» воспринимается как концовка, хотя на самом деле обобщение всей очень конкретной картины стремительно налетающей и проносящейся грозы дано в последнем, лишенном чувственной конкретности четверостишии: Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила. Когда Тургенев редактировал стихотворения Фета, изданные отдельной книгой в 1856 г., он у четырнадцати стихотворений отрезал последние строфы — и читатели этого 43 не заметили, хотя сам Фет считал, что «издание из-под редакции Тургенева вышло... изувеченным»19. До сих пор речь шла о развитии тематических образов, их движении от зачина к концовке, и лишь попутно упоминались членение на строфы, стихотворный размер, цезуры, переносы, т. е. приметы стихотворной речи. Но ведь поэты не случайно пишут лирические произведения стихами; стихотворения в прозе — крайне редкие исключения, лишь подтверждающие правило. Стихотворная речь подчиняется, конечно, общеязыковым законам, но вдобавок еще своим, только ей присущим закономерностям, и нельзя понять образно-тематическую композицию лирического стихотворения, если игнорировать композицию чисто стиховую. Что же входит в понятие стиховой композиции? Тут много компонентов. Это стихотворный размер, прежде всего — длина стиха: короткие, средние, длинные строчки, -----------------------------Подробнее о многообразных способах выделения концовки см.: Холшевников В. Е. Перебои ритма. — В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969, с. 175—179. 19 Фет А. А. Поли. собр. стихотворений (Б-ка поэта, большая серия). 2-е изд. Л., 1959, с. 709. 18 одинаковые или различные, чередующиеся упорядочение или свободно. Это соотношение синтаксического членения речи и метрического: совпадение синтаксического отрезка речи (синтагмы) и стиха или их расхождение, появление внутристиховых пауз и переносов неоконченной синтагмы в следующий стих. Это строфическая организация стихотворения: астрофическая (нестрофическая) структура, в которой стихи объединяются в более крупные единства только по семантико-синтаксическим признакам, при этом законченные по смыслу группы могут объединять разное количество стихов, или структура строфическая, в которой стихи выстраиваются в отчетливо отделенные друг от друга строфы с равным количеством стихов, законченные синтаксически. Это наличие или отсутствие рифм и способы рифмовки. Это интонационно-ритмическая организация речи: стих напевный, легко ложащийся на музыку (песня, романс), и говорной, передающий различные оттенки речи от ораторской декламации до непринужденного разговора. Это специфически стиховой синтаксис: синтаксический параллелизм стихов и строф, организованная система повторов на более или менее строго определенных местах стихов и строф — анафоры, эпифоры, подхваты, рефрены, кольцевое (охватное, обрамляющее) строение строф и целых стихотворений. Некоторые из этих компонентов стиховой композиции независимы и могут сочетаться в любой последовательности, некоторые часто выступают комплексно. Так, например, напевный стих тяготеет к строфичности, при этом в песне обычна симметричная семантико-синтаксическая структура строфы, в романсе часто встречается анафорическая композиция и строгая синтаксическая организация строф (например, стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» — это одно сложное предложение: три строфы начинаются словом «когда», каждая состоит из одного придаточного предложения, заключительная начинается словом «тогда» и составляет главное предложение). Здесь нет возможности подробно рассмотреть все элементы стиховой структуры, остановимся лишь на тех, которые наиболее важны в композиции, касаясь остальных лишь попутно. В литературоведении строфическая20 и интонационно-ритмическая21 композиция исследована гораздо лучше, чем образно-тематическая. Основа стихотворной речи — ритмичность, повторность. Повторяются в более или менее строгом порядке стихотворные строки, т. е. стихи. Разделение на соизмеримые строки, заданное поэтом,— это общий признак стихотворной речи у всех народов. Каждый стих обладает (или, во всяком случае, может обладать) какой-то внутренней 44 мерой, связанной с особенностями того языка, на котором пишутся стихи; в русском языке— четырехстопный ямб, трехдольник и пр. В принципе, каждый стих — это группа слов, произносящаяся одним дыханием, тесно связанная по смыслу, т. е. некая обособленная синтаксическая единица, синтагма (это может быть простое предложение, деепричастный оборот, распространенное дополнение и т. п.). В конце синтагмы и в прозе обычно есть более или менее отчетливая пауза, в стихотворной речи она сильнее, так как граница синтаксического ряда совпадает с границей ряда метрического. Совпадение стиха и синтагмы — обязательный закон в фольклоре (в былине, песне) и в русском стихе XVII века. В новой поэзии, начиная с XVIII века, это не обязательный закон, а преобладающая норма, отступление от которой— перенос — ощущается как некий перебой, нарушение ритмической инерции, поэтому является сильным средством смыслового выделения словосочетания, разделенного границей стиха22. Таким образом, стих, как правило,— основная, наименьшая композиционная единица стихотворной речи. --------------------------Ж и р м у н с к и й В. М. Композиция лирических стихотворений. Э й х е н б а у м Б. М. Мелодика русского лирического стиха; Жирмунский В. М. Мелодика стиха (вошла в кн.: Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977); Холшевннков В. Е. Типы интонации русского классического стиха.— В кн.: Слово и образ. М., 1964. 22 Подробно о смысловой и эстетической функции переносов см.: Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, с. 43— 48 386—404. 20 2 При перекрестной рифмовке, самой популярной в русской лирике, отчетливо замечается тенденция к попарному объединению стихов, особенно если рифменные пары различаются по клаузулам (ритмическим окончаниям) — дактилические рифмы (с ударением' на третьем с конца слоге), женские (с ударением на предпоследнем слоге), мужские (с ударением на последнем слоге) чередуются в определенном порядке, например, АбАб (строчными буквами принято обозначать мужские клаузулы, прописными — женские, прописными со штрихом — дактилические). Еще отчетливее объединение в пары, если стихи нерав-ностопны (разностопны), т. е. урегулированно отличаются по длине. Например, в «Казачьей колыбельной песне» Лермонтова стихи отличаются и по длине (чередование четырехстопных и трехстопных хореев), и по клаузулам АбАб: Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю. Тихо смотрит месяц ясный В колыбель твою. Такие пары (ритмические периоды) часто объединяются и по смыслу, образуя интонационно-ритмические периоды, т.е. композиционные единицы большие, чем отдельный стих. В симметрических шестистишиях такие периоды могут состоять из трех стихов: На полосыньке я жала, Золоты снопы вязала — Молодая; Истомилась, разомлела... То-то наше бабье дело — Доля злая! (М. Н. Соймонов «Бабье дело») Интонационно-ритмические периоды объединяются в композиционные единицы высшего порядка — строфы, в которых регулярно повторяются количество стихов, их 45 размер, порядок рифм. Строфы могут быть симметричными, как в приведенных примерах, и не симметричными. Асимметричность может создаваться при перекрестной рифмовке абаб изменением длины последнего стиха, обычно укороченного, например со стопностью 4443 или 6664 (такие четверостишия любили Батюшков и Жуковский). Со времени Ломоносова популярно шестистишие абабвв, а Жуковский и особенно Пушкин сделали популярной октаву — восьмистишие с чередованием рифм абабабвв. В этих и им подобных строфах изменение длины стиха или порядка рифм в конце подчеркивает их завершенность и композиционную выделенность, автономность. Но даже во внешне совершенно симметричных строфах, например четверостишиях А'БА'Б одного размера, внутренняя семантическая и синтаксическая структура может быть и симметричной, и асимметричной. Сравним два четверостишия из стихотворения Блока «На железной дороге»: Но даже во внешне совершенно симметричных строфах, например четверостишиях А'БА'Б одного размера, внутренняя семантическая и синтаксическая структура может быть и симметричной, и асимметричной. Сравним два четверостишия из стихотворения Блока «На железной дороге»: Так мчалась юность бесполезная, Да что́ — давно уж сердце вынуто! В пустых мечтах изнемогая... Так много отдано поклонов, Тоска дорожная, железная Так много жадных взоров кинуто Свистела, сердце разрывая... В пустынные глаза вагонов... Первое отчетливо делится на два периода (2 + 2); композиция второго иная (1+3), членения на подобные периоды нет. В стихе напевном обычна симметричная структура, в говорном, как в приведенном примере, свободно чередуются симметричные и асимметричные строфы. В лирике преобладают малые строфы, от четырех до восьми стихов, наиболее популярны четверостишия. Но и в малых, и в больших строфах отчетлива тенденция к смысловой и синтаксической завершенности строф; в их конце обычно стоит точка, вопросительный или восклицательный знак. Строфические переносы встречаются гораздо реже, чем строчные (из стиха в стих), это очень сильное средство выделения слов, разделенных переносом, например известный перенос в третьей главе «Евгения Онегина»: ...И задыхаясь, на скамью XXXIX Упала... Менее сильный, но композиционно важный строфический перенос встречаем в лирическом стихотворении Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (см. с. 104—105). Итак, строфа — это единица высшего порядка и в образно-тематической, и в интонационно-ритмической, и в звуковой (рифменной) композиции лирического стихотворения. Объединение стихов в строфы отнюдь не обязательно. Если поэт дорожит композиционной свободой, он пользуется астро-фическим стихом, часто с вольной рифмовкой, т. е. не заданным (как в строфе) чередованием смежной, перекрестной, охватной рифмовки, их комбинаций и усложнений. В астрофическом стихе вольной рифмовки тематически завершенные куски могут то совпадать с рифменными цепями, то не совпадать, что придает стиху подчеркнутую свободу и прекрасно выражает дух дружеских посланий первой половины XIX века с их нарочитой композиционной небрежностью и свободой переходов от темы к теме («болтовней»); в астрофических элегиях (особенно, если они написаны лирическими воль46 ными ямбами) такая композиция столь же соответствует прихотливому движению лирических ассоциаций; наконец, она, начиная с Пушкина, обычна в поэме. Выбирая строфическую форму, поэт накладывает на себя дополнительные ограничения — необходимость вложить нужную мысль в заранее заданное количество стихов определенной структуры, зато выигрывает в мерности, экспрессивности речи, отчетливости композиции, часто — в напевности, «музыкальности» стиха. Разумеется, между свободной астрофической и строгой строфической формой имеются, как обычно, различные переходные формы, подробный анализ которых выходит за пределы нашей темы; для примера назовем нетождественные строфы, скажем, четверостишия, в которых может меняться порядок рифм (АБАБ и АББА и т. д.) или их ритмическое строение (АбАб и А'бА'б и т. д.), наконец, количество стихов в строфе, например пятистишие среди четверостиший. Особый вид нетождественных строф — так называемые полиметрические композиции, в которых чередуются строфы (или, в астрофическом стихе, неравные «куски») разных стихотворных размеров, а иногда и разных моделей (т. е. с разным, количеством стихов и разных способов рифмовки). Иногда такое чередование может быть строго упорядоченным, в таком случае каждый размер обычно развивает свою тему, например в стихотворении Баратынского «Последний поэт». Иногда чередование не упорядочено, как в стихотворении Саши Черного «Все в штанах, скроенных одинаково...»: два четверостишия пятистопного хорея, 8 строф четырехстопного анапеста. Но и здесь граница, разделяющая строфы разных размеров, совпадает обычно с тематическим переломом, как и в астрофических полиметрических композициях. Своеобразна композиция александрийского стиха, очень популярного в XVIII веке и постепенно отодвигавшегося на задний план в XIX: это шестистопный ямб с цезурой на третьей стопе, смежной рифмовкой и непременным чередованием мужских и женских пар рифм. В принципе это стих астрофический, в котором фразовое единство может занимать произвольное количество стихов. Однако в XVIII веке перенос в нем считался «пороком», поэты его избегали, и, как это отмечалось в литературе, была ясно выраженная тенденция к смысловой замкнутости зарифмованных пар, т. е. к скрытой строфичности, не обозначенной пробелом. Примером такой стиховой композиции может послужить «Послание к слугам моим...» Фонвизина. Но надо прибавить, что это не отчетливая строфа-двустишие, синтаксическая замкнутость рифменных пар может нарушаться, что в XVIII веке наблюдалось чаще в драматургии, в коротких репликах, а в XIX постоянно встречается и в лирике, например в известной «Элегии» Некрасова: Пускай нам говорит изменчивая мода, Что тема старая «страдания народа» И что поэзия забыть ее должна, Не верьте, юноши! не ста́реет она. О, если бы ее могли состарить годы! Процвел бы божий мир!... Увы! пока народы Влачатся в нищете, покорствуя бичам, Как тощие стада по скошенным лугам, Оплакивать их рок, служить им будет Муза... и т. д. Это — подлинно астрофический стих, в котором новая тема может разрезать рифменную пару, чередуются фразы разной длины, появляются внутристиховые паузы и переносы. Близко примыкают к строфам так называемые твердые формы: сонет, рондо и другие. Возникли они в Италии и Франции в эпоху Возрождения и стали достоянием всей европейской культуры. Это стихотворения с заранее заданным количеством стихов и расположением рифм. Особенно популярным в России стал сонет. Первый расцвет сонета 47 — пушкинское время, второй — первая четверть XX века, третий — последние два десятилетия. Сонет — стихотворение из четырнадцати стихов, состоящее из двух катренов (четверостиший) и двух терцетов (трехстиший). В сонетах строго выдержанной формы первый катрен дает тему, второй развивает ее, оба синтаксически закончены; в терцетах — «нисхождение» темы и концовка. Оба катрена пишутся на одну пару рифм, чаще охватных, в терцетах предпочтительнее три пары рифм, порядок их свободнее. В русской поэзии сонеты писали пятистопным или шестистопным ямбом, другие размеры уже нарушают строгость формы23. Повторы различных типов имеют огромное значение в строфической композиции стихотворений, в_особенности напевной интонации. Как упоминалось в начале этой статьи, "строфическая композиция подробно анализируется в небольшой книге В. М. Жирмунского «Композиция лирических стихотворений», не потерявшей значения за шесть с лишним десятилетий после первого издания 1921 года. Так как работа эта доступна (вошла в книгу В. М. Жирмунского «Теория стиха», изданную в 1975 г.), к ней может обратиться читатель, желающий детально ознакомиться с этой темой. Здесь же можно ограничиться основными положениями. Повторы крайне редки в речи деловой, чаще встречаются в художественной прозе и ораторской патетике и очень часты и разнообразны в стихах, особенно в лирике. Возникает естественный вопрос: почему в небольшом лирическом стихотворении, где каждое слово на счету, поэты не только не жалеют места на повторения, но часто строят на многочисленных повторах целые стихотворения? Для ответа надо остановиться на значении и функции повторов. Как уже говорилось, в слове заключено его вещественное содержание плюс экспрессивный ореол, более или менее сильно выраженный. Очевидно, что при повторении содержание вещественное (предметное, понятийное, логическое) не меняется, зато заметно -----------------------23 Подробнее о сонете см.: Гроссман Л. Поэтика сонета.— В кн.: Проблемы поэтики/Под ред. В. Я. Брюсова. М.; Л., 1925. усиливается экспрессия, даже нейтральные слова становятся эмоциональными. Начав читать, мы еще не знаем, какое слово или словосочетание повторится, поэтому повторенное эмоционально сильнее первого; при повторном чтении мы уже ждем этого эффекта. Поэтому повторенное слово всегда экспрессивно сильнее предыдущего, создает эффект градации, эмоционального нагнетения, столь важный в композиции как целого лирического стихотворения, так и его частей24. Еще больший эффект создает синонимический повтор, при этом второй синоним обычно экспрессивно сильнее первого: Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?.. Еще большее композиционное и экспрессивное значение имеет повтор в более или менее точно фиксированном месте стихотворения. Это прежде всего рефрен и анафора, затем эпифора, подхват (стык), так называемая амебейная композиция и кольцевое строение строф и целого стихотворения. (Разумеется, эти виды повторов могут по воле поэта варьироваться и комбинироваться в самых различных сочетаниях.) Рефрен ведет происхождение от песенного припева (французское refrain и значит припев). Но в книжной, произносимой, а не поющейся поэзии рефрен — это повторяющийся стих (или два, четыре, иногда часть стиха), который стоит чаще в конце строфы, но может стоять и в начале ее, и в середине. Рефрен усиливает деление стиха на строфы, четче отделяет их друг от друга; если он стоит не в каждой строфе, а в паре, 48 тройке, то тем самым создает более крупную композиционную единицу. При наличии рефренов тематическая (композиционная) замкнутость строфы усиливается. В астрофическом стихе рефрены не столь строго прикреплены к определенному месту, но так же композиционно важны. В элегии Пушкина «Погасло дневное светило...» рефрен из двух стихов («Шуми, шуми, послушное ветрило, | Волнуйся подо мной, угрюмый океан») повторен трижды: после двух первых стихов, затем после десяти, затем в конце после следующих двадцати двух. Рефрен делит стихотворение на неравные тематические куски и возвращает к кругу ассоциаций предыдущей части. Рефрен может повторяться точно или с вариациями, наконец, могут повторяться не слова, а синтаксические конструкции, но в любом случае он схватывается слухом безошибочно — если бы этого не было, то композиционное его значение ослабело или совсем исчезло. Рефрены чаще всего встречаются в напевной лирике (здесь сказывается их происхождение от припевов), но не столь редки и в патетическом ораторском стихе (известный пример — «Левый марш» Маяковского с рефреном: «Левой! Левой! Левой!»). Замечательный образец соединения рефренов разных типов встречаем в лицейском стихотворении Пушкина «Певец»: Слыхали ль вы за рощей глас ночной Певца любви, певца своей печали? Когда поля в час утренний молчали, Свирели звук унылый и простой Слыхали ль вы? Встречали ль вы в пустынной тьме лесной Певца любви, певца своей печали? Следы ли слез, улыбку ль замечали, Иль тихий взор, исполненный тоской, Встречали вы? --------------------------24 О семантике повторов см.: Л о т м а н Ю. М. Лекции по структуральной поэтике. Вып. I. Введение. Теория стиха. Тарту, 1964, с. 79. Вздохнули ль вы, внимая тихий глас Певца любви, певца своей печали? Когда в лесах вы юношу видали, Встречая взор его потухших глаз, Вздохнули ль вы? Второй стих повторяется совершенно точно во всех строфах; короткие концевые стихи образуют рефрен по синтаксическому подобию («Слыхали ль вы?», «Встречали вы?», «Вздохнули ль вы?»). Рефрены, с одной стороны, способствуют четкому разделению строф, с другой — связывают их, развивая основной тематический образ. Анафора — единоначатие, повтор в начале строф, периодов, стихов. Как и в рефрене, повторы могут быть буквальными или с небольшими вариациями. Анафорическая композиция популярна в европейской поэзии, особенно при ступенчатой композиции, в стихах романсного типа, так как способствует нагнетенью экспрессии. Выше приводились примеры анафорических цепей типа: когда, когда, когда — тогда («Когда волнуется желтеющая нива...»); рассказать, что — рассказать, что... («Я пришел к тебе с приветом...») и им подобных. Поэтому здесь нет нужды вновь подробно разбирать эти или им подобные стихотворения. Но важно отметить, что анафорическая 49 композиция — один из способов смысловой и эстетической организации речи, развития тематического образа. Анафора тесно связана с синтаксическим параллелизмом, настолько тесно, что иной раз трудно ответить на вопрос: следствие она синтаксического параллелизма или сама его порождает? Первые два стиха и концовка каждой строфы «Певца» прекрасно показывают такую связь (образуя вдобавок кольцо строфы). Еще отчетливее это в следующем стихотворении Фета: Только в мире и есть, что тенистый Дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый Детски задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый Милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый Влево бегущий пробор. Занимая почти весь первый стих каждой пары, анафора входит в достаточно полный синтаксический параллелизм, подчеркнутый однозвучными грамматическими рифмами. Анафорическая связь — отнюдь не внешняя, не простое украшение речи. Структурные связи (повторы синтаксические, интонационные, словесные, звуковые) выражают и скрепляют смысловые связи стихов и строф, именно они в ступенчатой композиции заставляют нас понять, что перед нами не простой калейдоскоп отдельных образов, а гармоническое развитие темы, что последующий образ вытекает из предыдущего, а не просто соседствует с ним. Повторы могут стройно располагаться не только в начале синтаксического или метрического ряда (там, где стих насыщен повторами, эти понятия, как правило, совпадают): не менее заметен конец стиха. В русской традиции он большей частью отмечен рифмой, т. е. звуковым повтором, имеющим композиционное значение — связывающим стихи друг с другом, а при строфической композиции определяющим строфу25. Но повтор слов и словосочетаний в конце строк и строф — эпифора — встречается преимущественно как рефрен или кольцевая композиция (о ней — ниже). Это совершенно иная структура, нежели эпифора в древней персидской или арабской поэзии; там эпифора (по-арабски — редиф) следовала как повторяющееся слово или группа слов вслед за рифмой (холостые стихи не имели ни рифмы, ни редифа). -----------------------------25 Жирмунский В. М. Теория стиха, с. 246. Пускай ты прожил жизнь без тяжких мук, — что дальше? Пускай твой жизненный замкнулся круг, — что дальше? Пускай, блаженствуя, ты проживешь сто лет И сотни лет еще — скажи, мой друг, что дальше? (Омар Хайям. Перевод О. Румера). К фольклору восходит своеобразная форма повтора — подхват, или стык: повторение конца стиха в начале следующего. Что же ты, лучинушка, не ясно горишь? Не ясно горишь, не вспыхиваешь?.. В книжной поэзии подхват довольно редок, встречается преимущественно у поэтов, культивировавших напевный стих, например у Бальмонта: Я мечтою ловил уходящие тени, 50 Уходящие тени погасавшего дня, Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня. Естественно, что при таком построении стихи объединяются попарно. К древним временам восходит так называемая амебейная композиция — регулярное и симметричное чередование двух голосов или двух тем. Исток ее — хороводное пение-игра. Хор девушек поет: А мы просо сеяли, сеяли, Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли! Хор юношей отвечает: А мы просо вытопчем, вытопчем, Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем! и т. д. В книжной поэзии такая композиция встречается редко, чаще в фольклорных стилизациях, но иногда и в стихотворениях, далеких от фольклора, построенных в форме композиционно симметричного диалога, например у Брюсова: — Каменщик, каменщик в фартуке белом, Что ты там строишь? Кому? — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, Строим мы, строим тюрьму. — Каменщик, каменщик с верной лопатой, Кто же в ней будет рыдать? — Верно, не ты и не твой брат, богатый. Незачем вам воровать, и т. д. Два голоса сменяют друг друга в каждом четверостишии, делящемся пополам. Отголоски такой композиции можно встретить в стихотворениях и не диалогических, если в строфах, симметрично чередуясь, развиваются две темы. Так построен, например, «Парус» Лермонтова; первые два стиха каждого четверостишия изображают парус в море, следующие два очеловечивают неодушевленный предмет, превращают его в символ: Белеет парус одинокий... — Что ищет он в стране далекой? Играют волны — ветер свищет... — Увы! он счастия не ищет... Под ним струя светлей лазури... — А он, мятежный, просит бури... Частый вид повтора в лирике — кольцевое строение строфы или целого стихотворения, т. е. повторение в конце строфы первого ее стиха, точное или с вариациями, а в конце стихотворения — первой строфы или ее части, тоже либо точное, либо с вариациями. Вот пример кольца строфы из Бальмонта: Вы умрете, стебли трав, Вы вершинами встречались, В легком ветре вы качались, Но, блаженства не видав, Вы умрете, стебли трав... При кольцевой композиции не только усиливается экспрессия, как при обычном повторе, но уточняется, а иногда даже и меняется семантика. В утверждении «Вы умрете, стебли трав» еще не известно, печально или радостно это событие (может быть, травы умрут, превратившись в душистое сено), что ему предшествовало и т. д. Повторенный в 51 конце стих вбирает в себя семантику всей строфы. В еще большей степени это относится к кольцу стихотворения. Вот стихотворение Фета «Певице»: Уноси мое сердце в звенящую даль, Где как месяц за рощей печаль; В этих звуках на жаркие слезы твои Кротко светит улыбка любви. О дитя! Как легко средь незримых зыбей Доверяться мне песне твоей: Выше, выше плыву серебристым путем, Будто шаткая тень за крылом. Вдалеке замирает твой голос, горя, Словно за морем ночью заря,— И откуда-то вдруг, я понять не могу, Грянет звонкий прилив жемчугу. Уноси ж мое сердце в звенящую даль, Где кротка, как улыбка, печаль, И все выше помчусь серебристым путем Я, как шаткая тень за крылом. Заключительное четверостишие вобрало начало первой и конец второй строфы и сконденсировало два сплетающихся тематических образа: «звенящая даль» голоса певицы и летящее в эту даль воображение поэта, разбуженное песней. Таким образом, кольцевая композиция стихотворения подчеркивает концовку и одновременно связывает ее с зачином, рождая ряд ассоциаций. Нередко встречается скрытая кольцевая композиция стихотворения: повторения строф или отдельных стихов нет, но в концовке возвращается, уже обобщенная всем содержанием стихотворения, тема зачина. Примером может послужить приводившееся выше стихотворение Тургенева «(В дороге)». Начинается оно печальным дорожным пейзажем («Утро туманное, утро седое...»), навевающим грустные воспоминания, незаметно возвращающиеся в конце к дорожному пейзажу («...Многое вспомнишь родное, далекое, | Слушая ропот колес непрестанный, | Глядя задумчиво в небо широкое»). Такую композицию можно назвать тематическим кольцом, или тематическим обрамлением. Разнообразны виды повторов, но значение их в конкретных произведениях во сто крат разнообразнее. Повторение одного и того же слова в различных контекстах может обладать прямо противоположным значением: «Пора, пора! рога трубят...» в начале пушкинского «Графа Нулина» звучит мажорно, а начало стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» очень печально. Справедливо пишет В. М. Жирмунский: «Для художественного восприятия поэтической речи существенны не повторения и параллелизмы как таковые («поэзия грамматики», по выражению Р. О. Якобсона), а функция их как выразительных средств художественной коммуникации, которую содержит поэтическое произведение. Все элементы языка, в том числе и грамматические, должны рассматриваться в стихотворении как явления стиля и служить тем самым выражению его идейно-художественного содержания»26. Заметную роль в композиции стихотворения может играть звуковая инструментовка стиха: ассонансы — повторы гласных, прежде всего ударных («О, весна без конца и без краю— | Без конца и без краю мечта!» — Блок), аллитерации — повторы согласных («Легкий лист, на липе млея, | Лунный лик в себя вобрал...» — Бальмонт) и их сочетания («Где он, | бронзы звон | или гранита грань?..» — Маяковский). Ассонансы и 52 аллитерации, пронизывающие все стихотворение, очень редки, чаще они выделяют, подчеркивают важные для поэта, опорные в тематической композиции части стихотворения. В истории русского стиха отношение к звуковым повторам менялось. В XVIII веке урегулированному, организующему композицию ряда стихов концевому повтору, рифме, уделялось значительное внимание; напротив, неурегулированные звуковые повторы внутри стиха считались недостатком, их избегали, за исключением стихотворений комических. В первой трети XIX века уделяется большое внимание гармонии стиха — и смысловой, и композиционной, и звуковой. Поэты избегают в лирике скопления неблагозвучных согласных звуков, но редко специально подбирают слова с одинаковыми или близкими звуками27. Поэты XX века, начиная с символистов и до наших дней, напротив, уделяют звуковой организации стиха пристальное внимание; звуковые ассоциации могут иногда иметь такое же значение, как и метафоры,— например у Хлебникова, Маяковского, Асеева, Вознесенского28. Привыкли в наши дни к семантической важности звуковых повторов и читатели, и исследователи. И здесь при анализе стихотворений первой трети XIX века таится опасность модернизации, подгонки поэтического мышления поэтов прошлого под мерки настоящего: выискивается якобы семантически важное нагнетенье одинаковых или подобных звуков там, где оно мнимое, где поэт просто избегает неблагозвучного скопления согласных29. Усиленное внимание к звуковой инструментовке стиха заметно приблизительно со второй трети XIX века, естественно, у разных поэтов по-разному. Одно из первых имен здесь — Фет. *** Действительность всегда богаче любой схемы, любой модели. Во-первых, рассмотренные здесь типы композиции могут сочетаться между собою в самых разных комбинациях; во-вторых каждый тип композиции может воплощаться в тысячах вариаций. ----------------------26 Жирмунский В. М. К вопросу о стихотворном ритме.— В кн.: Историко-филологические исследования: Сборник статей памяти академика Н. И. Конрада. М., 1974, с. 36. 27 Надо всегда помнить, что в поэзии важны звуки, а не буквы. Нередко, к сожалению, можно встретить статьи, в которых подсчитываются мнимые ассонансы, например, на «о», в которых отождествляются как ударные (звук «о»), так и безударные (звук «а»); то же — с мнимыми аллитерациями: «вой волков»—якобы три «в», хотя последняя буква обозначает звук «ф» и т. п. 28 Но и здесь не обходится без преувеличений. Например, В. В. Ковалевская в серьезной статье «Композиция фонологической системы в лирике Блока», приведя подсчет гласных в стихотворении «Муза»—тридцать четыре «а», двадцать три «е»,— пишет: «Двумя основными, чаще всего встречающимися гласными организуются две точки зрения на Музу, два ее восприятия... Первая точка зрения (курсив автора.— В. X.) образуется словами, имеющими ударный «а» и т. д. (Вопросы сюжетосложения, вып. 4. Сюжет и композиция. Рига, 1976, с. 132—133). «Две точки зрения на Музу» образуются все-таки не гласными звуками, а словами поэта, ассонансы же лишь усиливают, подчеркивают слова. 29 Подробнее об этом сказано в статье о стихотворении Пушкина «На холмах Грузни лежит ночная мгла...». Присмотримся к композиции Михайлова. Во сне неутешно я плакал: Мне снилося — ты умерла. Проснулся; а все по ланитам Слеза за слезою текла. небольшого Во сне неутешно я плакал: Мне снилось — забыт я тобой. 53 стихотворения Гейне в переводе Проснулся; но долго катились Горючие слезы рекой. Во сне неутешно я плакал: Мне снилось — мы вместе опять. Проснулся; а слезы все льются, И я не могу их унять. Стихотворение построено на сложной системе повторов и полном синтаксическом параллелизме. Первый стих, начало второго и третьего — точно повторяемые рефрены. Вторая половина каждого второго стиха объясняет нам причину слез: ты умерла, забыт я тобой. Конец третьего и четвертый стих — повторы синонимические: поэт продолжает плакать наяву. Почти все стихотворение состоит из повторов, рефренов разного вида, нагнетающих чувство, как обычно в ступенчатой композиции. Изменяется в каждой строфе короткая фраза о причине слез во сне: ты умерла, забыт я тобой. Нарастает грусть во второй строфе, в начале третьей, и вдруг, при внешнем сходстве — неожиданный контраст: Мне снилось — мы вместе опять. Теперь мы понимаем, что сон второй строфы был явью, что никогда больше наяву они не будут вместе, и вот почему поэт плакал, проснувшись. Ступенчатая композиция развитой системы параллелизмов достигла вершины — и обернулась композицией контраста в этом миниатюрном шедевре Гейне. Иногда поэт как бы обманывает читателя: зачин и первоначальное развитие образа опровергается концовкой — это встречается в разных типах композиции. Вот пример ложного сравнения — «Тучи» Лермонтова. Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужного Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные... Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания. В первой строфе тучки уподобляются поэту-изгнаннику, во второй уподобление усиливается, тучки совсем очеловечиваются,— но третья строфа разрушает образ: у вечно холодных туч нет родины, не может быть и изгнания. Сравнение опять обернулось скорбным контрастом с поэтом, у которого есть родина и горько изгнание. Замечательный образец ложного логического развития образа — короткое стихотворение Тютчева: Природа — сфинкс. И тем она верней Своим искусом губит человека, Что, может статься, никакой от века Загадки нет и не было у ней. Короткий в полстиха зачин — логическая посылка, тезис (миф об Эдипе и сфинксе, загадывающем загадку и губящем тех, кто не может ее отгадать, был настолько известен, 54 что образ сфинкса стал почти термином). Следующие строки как бы развивают посылку — и концовка неожиданно, с печальной романтической иронией, опровергает ее. Насколько непохожими могут быть стихотворения одного типа композиции, видно из сопоставления стихотворений Лермонтова «Поэт» и «Во весь голос» Маяковского (последнее является сложной композицией; для сопоставления берется его часть, обладающая некоторой тематической самостоятельностью, от слов «В курганах книг, похоронивших стих...» до «...застыла кавалерия острот, поднявши рифм отточенные пики»). Оба текста — это развернутое сравнение или метафора; оба относятся к разряду высокой гражданской лирики; более того, оба развивают одно и то же сравнение: поэзия — оружие (очевидных и весьма существенных отличий в содержании мы здесь касаться не будем). Но развивается это сравнение совсем различно. (Оба произведения приводятся в отрывках: оба велики — и общеизвестны.) В зачине у Лермонтова уже намечено противоречие, контраст, который будет композиционным костяком стихотворения: Отделкой золотой блистает мой кинжал; Клинок надежный, без порока... Золотая отделка — и надежность клинка. Следующие три четверостишия развивают — в прошедшем времени! — тему надежного боевого оружия: Не по одной груди провел он страшный след И не одну прорвал кольчугу... ………………………………………… В те дни была б ему богатая резьба Нарядом чуждым и постыдным. Последние два стиха — переход к контрастному тематическому образу: Теперь родных ножон, избитых на войне, Лишен героя спутник бедный; Игрушкой золотой он блещет на стене — Увы, бесславный и безвредный! Так завершается тема: кинжал прежде — и теперь. Затем начинается вторая часть стихотворения, отделенная чертою от первой; кинжал оказывается образом, раскрывающим глубинную, основную тему; предмет сравнения с кинжалом — поэзия, и воображение читателя переносит на нее все то, что сказано о кинжале: В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, Свое утратил назначенье, На злато променяв ту власть, которой свет Внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы... …………………………………………. Но скучен нам простой и гордый твой язык... Так развивается тема. Сначала все о кинжале: клинок прежде — и теперь. Потом все о поэте, но в более сложном порядке: теперь — прежде — теперь... И концовка объединяет оба тематических образа этого «декабристского» по духу стихотворения Лермонтова с почти лозунговой прямотой, что характерно для гражданской лирики. Здесь впервые сливаются «поэзия» и «оружие», но метафора уже ясна: Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк? 55 Иль никогда на голос мщенья Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья? Сравнение «поэзия — оружие» совсем иначе развивается у Маяковского. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупывайте их, как старое, но грозное оружие. Здесь предмет и образ неразрывно слиты, воображение читателя воспринимает их одновременно. Условимся все, что связано с темой оружия, называть словом «оружие», все, связанное с темой поэзии, словом «поэзия», и посмотрим, как строится четверостишие, стих, фраза. «В курганах (оружие) книг - (поэзия), похоронивших (оружие) стих (поэзия) железки (оружие) строк (поэзия)... вы с уважением ощупывайте их...» И возникает вопрос: кого их? Железки? — Их можно ощупать буквально, но железок, как таковых, у Маяковского нет, есть железки строк. Предмет (что́ сравнивается) и образ (с че́м сравнивается) слились в метафоре воедино, их не разделить. И тематический образ развивается и далее в этой неразделимой метафоре, и главная метафора рождает последующие. Если поэзия—оружие, то выставка Маяковского «Двадцать лет работы»— парад войск: «Парадом (оружие) развернув моих страниц (поэзия) войска (оружие), я прохожу по строчечному (поэзия) фронту (оружие)». Но если стихи — войска, то жанры — роды войск: поэмы — артиллерия («Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий»), сатира-— кавалерия. Дальше метафора опять ветвится, развивая основное сравнение: «Оружия любимейшего род... застыла кавалерия острот, поднявши рифм отточенные пики». Развитие одинакового образа у Лермонтова и Маяковского не имеет, кажется, ни одной общей черты, хотя образ в основе один. Последние примеры подтверждают то, что уже говорилось вначале. Нет волшебных слов «Сезам, откройся», при помощи которых можно легко, не задумываясь, анализировать любое лирическое стихотворение. Каждое — особый мир, и исследователь должен подобрать к нему ключ, спрятанный в нем самом. Знание основных типов образно-тематической, строфической, метрической композиции, анализ стиля и «вспомогательных» образов помогут найти этот ключ, глубже понять художественную идею и эстетическую красоту лирического стихотворения. 56 Статья В.Е.Холшевникова «Перебои ритма как средство выразительности» печ. по изд.: Холшевников В.Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991. С. 209-224. В.Е.Холшевников ПЕРЕБОИ РИТМА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ Ритмические перебои в поэзии нашего времени встречаются постоянно — у одних поэтов чаще, у других реже, иные их избегают, но само по себе это явление в поэзии XX в., в особенности у Маяковского и после него, стало обычным и достаточно распространенным. Однако прежде чем говорить о нем, надо уточнить, что разумеется под терминами «ритм» и «перебой ритма». Ритмом мы называем регулярно повторяющееся чередование каких-либо элементов, непосредственно улавливаемых чувствами2, во времени (музыка, стих), пространстве (орнамент) или одновременно во времени и пространстве (пляска). Таких элементов должно быть как минимум два (усиление — ослабление, удар — пауза и т.п.), но может быть и больше (например, сложные танцевальные па). Определенные комбинации этих элементов составляют повторяющуюся ритмическую единицу. Такие единицы могут, в свою очередь, объединяться в комплексные единицы высшего порядка, те — в еще более крупные (например, стопы, полустишия, стихи, периоды, строфы). Тождество повторяющихся элементов присуще только простейшим механическим ритмам, таким, как качание маятника, тиканье часов и т.п. Искусства (музыка, поэзия) обращаются к ритмам более сложным и тонким. При этом тождество повторяющихся элементов встречается весьма редко и лишь в части целого, например, в рефренах; достаточно подобия, иногда более, иногда менее близкого, чтобы слух уловил отчетливую ритмичность. Так, для узнавания стихотворного размера достаточно определенного расположения ударных и безударных слогов, качество гласных безразлично, согласные же могут различаться и по качеству, и по количеству. Повторность полностью тождественных элементов достижима лишь при повторении того же звука или звукосочетания, что практически возможно разве что в бое барабана или в колыбельной «баю-бай, баю-бай...». Таким образом, ритм в искусстве — в частности, стихотворный — предстает как единство в многообразии. Ритмические системы (например, стихотворные размеры) могут быть более или менее строгими. Так, в трехсложных силлабо-тонических размерах промежутки между метрически сильными ударными слогами только двусложны; в дольниках они варьируются в узких пределах, чаще всего от одного до двух; в акцентном стихе они неопределенны, их амплитуда шире. Чем строже система, тем большее количество элементов ее образует и тем выше уровень их упорядоченности. Соответственно изменение междуударного интервала на один слог в трехсложном размере будет очень резким метрическим перебоем; то же в дольнике будет ощутимой ритмической вариацией размера, не ломающей его структуры; в акцентном стихе различие на один безударный слог будет лишь тонким нюансом ритмического рисунка. Ощущение перебоя размера может возникнуть лишь в том случае, когда изменяется формообразующий, структурный элемент. Ритмичность присуща многим элементам природы и, что для нас особенно существенно, многим сторонам жизни человека. Ритмичны многие внутренние процессы (дыхание, сердцебиение); ритмичность облегчает многие проявления жизнедеятельности человека (ходьба, трудовые движения и пр.). Объективно полезное часто становится 2 Поэтому здесь исключаются явления с длительной периодичностью: смена дня и ночи, времен года и т.п. 57 субъективно приятным; это относится и к области ритма. Ритмичность движений и звуков становится приятной и может приобрести эстетическую функцию. В некоторых случаях даже трудно провести границу между наслаждением чисто физиологическим и эстетическим (например, в танце или детском беге вприпрыжку). Если ритм облегчает повторяющиеся движения и доставляет удовольствие, то нарушения ритма, напротив, их затрудняют и создают ощущение чего-то досадного, раздражающего. Каждый знает, что идти по неравномерно положенным шпалам не только утомительно, но и очень неприятно. Нарушение привычного ритма — очень сильный раздражитель, именно поэтому в поэзии оно может быть сильным выразительным средством, ритмическим курсивом, выделяющим важное для поэта слово, строчку, строфу. Наш слух очень быстро схватывает ритм. Мы подсознательно ожидаем повторения уже узнанного ритмического движения: за четырехстопным ямбом — четырехстопного же; если два стиха неравны — повторения такой же пары; созвучия А — б — А вызывают ожидание замыкания звукоряда — рифмы б; вслед за первым перекрестным четверостишием мы ожидаем следующего такого же — и так далее. Повторность в стихе не ограничивается рамками размера — повторяются рифмы, интонационно-ритмическая структура, строфическая композиция. Каждый повтор создает эффект удовлетворенного ожидания, существенного для восприятия эстетической структуры стиха. Важно отметить, что это происходит интуитивно. Если ставший привычным повтор любого элемента стихотворной структуры не наступил, то создается ощущение ритмического перебоя. Последние обычно рассматриваются суженно, только как внезапное изменение стихотворного размера. Изучались они преимущественно в стихотворной практике Маяковского. В поэзии XIX в. обычно указывались ставшие хрестоматийными примеры из Тютчева («Silentium!», «Последняя любовь»). Но ритмические перебои такого типа — лишь частный случай более общего явления, наблюдаемого и в фонической, и в строфической, и в интонационно-синтаксической структуре стихотворной речи. Нарушение ритмической инерции любого повторяющегося элемента создает сходный эффект — эффект обманутого ожидания. Рассмотрим, как он проявляется в различных повторяющихся единицах, начнем с самой крупной — строфы. Эффект обманутого ожидания (для краткости будем обозначать его в дальнейшем словом «перебой») может вызываться в строфе тремя способами: изменением порядка рифм, изменением длины стиха, изменением количества стихов в строфе. Первый — самый слабый, второй заметно сильнее, третий — очень резкий и заметный. Начнем с первого. Перебой ощутим в том случае, когда ритмическая инерция уже сложилась, в строфической композиции он ощутим не ранее третьей строфы. Если стихотворение состоит из двух строф разного строения (например, «Если жизнь тебя обманет...» Пушкина: за четверостишием с охватной рифмовкой следует четверостишие с перекрестной), то это различие, несомненно, воспринимается слухом, но восприятие это — особого рода: слуху неясно, свободная ли это строфическая форма с колеблющейся рифмовкой (а таких у Пушкина немало, например, «Друзьям» — неупорядоченное чередование охватных и перекрестных четверостиший) или перебой. Поэтому здесь рассматриваются стихотворения, состоящие минимум из трех строф. Если изменение рифмовки в строфе наступает в начале стихотворения (первая строфа одного строения, остальные — другого, как, например, в стихотворении Саши Черного «Анархист»: первое четверостишие охватное, остальные — перекрестные), то наш слух воспринимает изменение ритмического движения, но о перебое здесь говорить нельзя: ритмическая инерция еще не установилась. Перебой ощутим не ранее третьей строфы и на практике чаще всего оттеняет заключительную. Обычно это встречается в четверостишиях перекрестного и охватного строения. Так как первые два стиха в обеих 58 формах однотипны (аб..), то ощущение перебоя возникает с третьего, выделяя, подчеркивая два последних стиха (..ба вместо ..аб или наоборот), т.е. именно концовку стихотворения, его лирическую вершину. (О значении концовки и способах ее семантического подчеркивания говорилось в предыдущей главе). В классической русской поэзии подобные примеры встречались не часто, но многие из них очень выразительны. Для строфики Пушкина, например, характерны четверостишия либо неизменного строения, либо с неупорядоченной, свободной рифмовкой, в которой ритмическая инерция не успевает установиться. Но в нескольких стихотворениях переход от перекрестных четверостиший к охватному («Желание», «Аквилон», «Приметы», «Ода VI (из Анакреона)») или от охватных к перекрестному («Баратынскому», «Кто, волны, вас остановил...», «Ты богоматерь, нет сомненья») отчетливо выделяет концовку, заключение лирической мысли и чувства. Для примера приведем «Приметы». Я ехал к вам: живые сны За мной вились толпой игривой, И месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь: иные сны... Душе влюбленной грустно было; И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши Так предаемся мы, поэты; Так суеверные приметы Согласны с чувствами души. Во всех названных стихотворениях, как и в «Приметах», концовка так или иначе противопоставлена предыдущим строкам: как вывод, контраст и т.п. Во всех этих случаях композиционный, смысловой курсив концовки усилен курсивом ритмическим. У Лермонтова стихотворений подобной структуры еще меньше, чем у Пушкина («Эпитафия», 1832; «Великий муж! здесь нет награды...», 1836; «Когда волнуется желтеющая нива...», 1837; «Договор», 1841; «Пророк», 1841), но почти все они относятся к периоду зрелого творчества, половина их — программные. Вот их концовки, говорящие сами за себя: ...И счастье я могу постигнуть на земле И в небесах я вижу бога!.. (Когда волнуется желтеющая нива...). ...Была без радости любовь, Разлука будет без печали. (Договор). ...Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его! (Пророк). Изменение порядка рифм в строфе — перебой отчетливый, но сравнительно слабый; сильнее эффект изменения ставшей привычной длины стиха. 59 Подруги милые! в беспечности игривой Под плясовой напев вы резвитесь в лугах. И я, как вы, жила в Аркадии счастливой, И я, на утре дней, в сих рощах и лугах Минуты радости вкусила: Любовь в златых мечтах мне счастие сулила: Но что ж досталось мне в сих радостных местах? — Могила! (Батюшков. Надпись на гробе пастушки). В поэзии XIX в. подобные перебои редки, в XX в. встречаются гораздо чаще. Очень любил этот тип перебоя Маяковский. Он часто помещал важное для него слово в качестве отдельной короткой строчки в конец четверостишия, а первые три стиха делал длинными, добиваясь сильного ритмико-смыслового эффекта. Так, например, в первом четверостишии стихотворения «Сергею Есенину» выделено знаменитое «Трезвость»: вольные хореи располагаются по схеме 6-5-5-1. В стихотворении «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», написанном тем же размером, контраст в первой строфе еще резче: 6-6-8-1 — выделена впервые упоминаемая в этом стихотворении фамилия Нетте; в этом случае строфический перебой усилен еще переносом. По подсчетам Л.И.Тимофеева, таких строфических перебоев у Маяковского более ста3. В приведенных им примерах встречается усиление концовки и отдельных строф, и целых стихотворений. Но особенно резко подчеркнута концовка при изменении количества стихов в последней строфе, скажем, после ряда четверостиший — пятистишие, трехстишие, двустишие. Читателя, успевшего привыкнуть к ритмической и рифмической инерции, поражает и останавливает лишний стих или их нехватка. Смолкли честные, доблестно павшие, Смолкли их голоса одинокие, За несчастный народ вопиявшие, Но разнузданы страсти жестокие. Вихорь злобы и бешенства носится Над тобою, страна безответная, Все живое, все доброе косится... Стышно только, о ночь безрассветная! Среди мрака, тобою разлитого, Как враги, торжествуя, скликаются, Как на труп великана убитого Кровожадные птицы слетаются, Ядовитые гады сползаются... (Некрасов). Такую же функцию выполняет изменение стихотворного размера в концовке. Что ты, сердце мое, расходилося? Постыдись! Уж про нас не впервой Снежным комом прошла-прокатилася Тимофеев Л.И. Из наблюдений над поэтикой Маяковского // Творчество Маяковского: Сб. статей. М., 1952. С. 170. 3 60 Клевета по Руси по родной. Не тужи! пусть растет, прибавляется, Не тужи! как умрем, Кто-нибудь и про нас проболтается Добрым словцом. (Некрасов. — В последнем стихе — дактиль вместо анапеста). Очень сильный строфический перебой — неожиданное исчезновение рифмы, в особенности в концовке. Саша Черный очень эффектно заканчивает таким перебоем стихотворение «Переутомление», изображающее муки бездарного поэта, «истратившего до конца» все рифмы: Нет, не сдамся... Папа — мама, Дратва — жатва, кровь — любовь, Драма — рама — панорама, Бровь — свекровь — морковь... носки! Все эти типы строфических перебоев могут комбинироваться друг с другом, вызывая усиленный эффект. Примером такого сочетания может служить стихотворение Блока «Я сегодня не помню, что было вчера...»: Я сегодня не помню, что было вчера, По утрам забываю свои вечера, В белый день забываю огни, По ночам забываю дни. Но все ночи и дни наплывают на нас Перед смертью, в торжественный час. И тогда — в духоте, в тесноте Слишком больно мечтать О былой красоте И не мочь: Хочешь встать — И ночь. До сих пор рассматривались перебои в концовках стихотворений и строф. В произведениях крупного размера (поэмы, большие лирические стихотворения) нередко ритмически выделяются важные для поэта места и в середине текста. Так, например, в стихотворении Маяковского «Сифилис» после четырнадцати перекрестных четверостиший появляется неожиданное пятистишие, а за ним идет еще десять четверостиший: Луна в океан накидала монет, хоть сбросся, вбежав на насыпь! Недели ни хлеба, ни мяса нет. 61 Недели одни ананасы. Опять пароход привинтило винтом. Следующий — через недели! Как дождаться с голодным ртом? — Забыл, разлюбил, забросил Том! С белой рогожу делит! Подчеркнутые строфическим перебоем два последних стиха лирически насыщены и важны для последующего поворота темы — они объясняют психологически, почему верная жена Тома, которую прогнали с плантаций за отказ «платить натурой», смогла продать свое тело сифилитику Свифту. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Саша Черный, Маяковский — яркие и несхожие индивидуальности разных эпох и направлений. Но в приведенных примерах легко улавливается общая черта. Различные по характеру и интенсивности перебои подчеркивают наиболее важные для поэта места стихотворения. Таким образом, мы имеем полное право говорить о смысловом значении перебоев. Но семантика эта — особого рода. В наши дни, кажется, стала уже (или, во всяком случае, должна бы стать) вполне очевидной бесплодность поисков собственного постоянного значения стихотворных размеров («веселые хореи», «печальные анапесты»), семантики звуков (радостные «а», заунывные «у») и т.п. Как резонатор, сам не будучи источником звуков, усиливает их, так и перебой, не имея собственного постоянного значения, выделяет, подчеркивает строки, а следовательно, и смысл содержащихся в них слов. (Конечно, при этом следует помнить, что смысл в поэзии — не только логическое, но и экспрессивно-эмоциональное содержание слов и словосочетаний). Сказанному, казалось бы, противоречит приведенный выше пример: концовка стихотворения Саши Черного «Переутомление». Исчезновение рифмы в конце не только подчеркивает смысл последних слов, но и логически завершает тему стихотворения. Однако противоречие здесь мнимое: перед нами редкий случай — рифма в этом стихотворении не только, как обычно, один из признаков стихотворной формы, но и тема стихотворения. Весьма своеобразны такие интонационно-ритмические перебои, как перенос и внутристиховая пауза. Как и строфический перебой, перенос может подчеркнуть концовку небольшого лирического стихотворения. Так, стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом...», типичное для романсной композиции, построено очень симметрично: интонационно законченные стихи строятся в пары и четверки, скрепленные анафорами; лирическое напряжение возрастает от пары к паре, от четверостишия к четверостишию, разрешаясь в последней паре, неожиданно подчеркнутой сильным переносом: Что не знаю сам, что буду Петь, — но только песня зреет. 62 Нередко, особенно в крупных произведениях, перенос, как и неожиданная внутристиховая пауза (эти явления тесно связаны), может подчеркнуть важные для поэта слова в любом месте стихотворения, не только в концовке. ...Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнанником два года незаметных. Уж десять лет ушло с тех пор — и много Переменилось в жизни для меня... Л.И.Тимофеев писал о психологической содержательности пауз в реплике Сальери: Постой, постой! Ты выпил!.. Без меня?4 Вопрос об экспрессивной роли переносов и пауз достаточно изучен5, поэтому здесь можно ограничиться сказанным. Вероятно, самый сильный ритмический перебой — это внезапное изменение стихотворного размера. Встречается он в двух основных видах. Первый — включение в более или менее пространный монометрический текст стиха иного размера. В этом случае резко выделяется иноразмерный стих, контрастирующий с однородным общим фоном. Второй вид — столкновение в пределах одного стихотворения или главки в поэме небольших отрывков (одна строфа или небольшое их число), написанных разными, контрастирующими размерами. В этом случае выделяется граница между размерами, подчеркивающая обычно тематический или экспрессивный перелом. Между этими типами может не быть резкой границы, встречаются переходные формы, которые с равным основанием можно отнести к обоим типам (например, включение в монометрический текст не одного стиха, а строфы или более). Второй тип очень характерен для поэзии XX в., в которой развиваются и усиливаются полиметрические композиции. Если разноразмерные отрывки будут увеличиваться, то резкость переломов ослабеет и совершится переход к близкой, но не тождественной форме: произведению из обособленных главок, написанных разными размерами. В XIX в. перебои обоих типов встречаются реже. В поэзии господствует монометрия; иноразмерные вставки — это чаще всего «вставные номера» типа «Песни девушек» в «Евгении Онегине». Особенно редок первый тип — именно поэтому исследователи так часто приводят одни и те же примеры. Особенно часто, что вполне естественно, привлекали внимание «Silentium!» и «Последняя любовь» Тютчева: ...Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне... («Silentium!»). О как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней... («Последняя любовь»). Перебои здесь (строка амфибрахия в первом случае, лишний слог во втором) особенно резки, потому что разламывают самый традиционный, а следовательно, самый консервативный размер — четырехстопный ямб, составляющий основу обоих стихотворений. Тимофеев Л. И. Число и чувство меры в изучении поэтики // Слово и образ. М., 1964. С. 279. 5 Тимофеев Л.И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. С. 43—48. 4 63 Очень интересны перебои размера у Некрасова. Все они очень экспрессивны потому, что встречаются как редкие исключения в пространных текстах, но мотивированы они различно. «Генерал Топтыгин» написан чередующимся четырех- и трехстопным хореем. В двух коротких строках встречается так называемая синкопа — перенос ударения с первого ударного слога стиха на второй. Заворочался в санях Михайло Иваныч... Прибежали той порой Ямщик и вожатый... Этот ритмический ход, встречающийся в русской поэзии только в хорее, восходит, несомненно, к фольклору; им нередко пользовались Кольцов и Шевченко, от последнего он перешел к Багрицкому, широко применившему его в «Думе про Опанаса»: По откосам виноградник Хлопочет листвою... Замечательны дольниковые и даже тактовиковые строки среди трехсложников Некрасова. Дольники: Бедных, богатых не различающий («Пожарище»), Колокола-то, колокола («Деревенские новости»); в «Псовой охоте» дольники мотивированы синтаксическим параллелизмом в двухчастном стихе: Что твой Россини! что твой Бетховен!; Здесь он не струсит, здесь не уступит; Много травили, много скакали. В «Песне убогого странника» из «Коробейников» в каждом трехстишии третий стих — тактовик; в одном трехстишии он сочетается с дольником первого стиха: Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь? С холоду, странничек, с холоду, С холоду, родименький, с холоду! Редактор первого посмертного издания сочинений Некрасова С.И.Пономарев самовольно поправлял мнимые ошибки поэта. Чернышевский справедливо писал: «Обыкновенно повод к поправкам подает ему "неправильность размера"; а на самом деле размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трехсложными стопами; когда это делается так, как делает Некрасов, то не составляет неправильности. Приведу один пример. В "Песне странника" Некрасов написал: Уж я в третью: мужик! Что ты бабу бьешь? В "посмертном издании" стих поправлен: ...что ты бабу-то бьешь? Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною: это дает особую силу выражению. Поправка портит стих»6. Перебои размеров второго типа (частая смена размеров в небольших фрагментах), складывающиеся еще в XIX в. (самый яркий пример — «Современники» Некрасова), стали особенно популярными начиная с Блока, Хлебникова, Маяковского, Цветаевой. Этот тип перебоев изучен достаточно хорошо, поэтому на них можно не останавливаться. 6 Че 5 Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1939. С. 751. 64 До сих пор говорилось о перебоях стихотворных размеров. Возникает вопрос, могут ли стать перебоями изменения ритмических вариаций одних и тех же размеров, а если могут, то какие именно. Этому вопросу посвящена изобилующая интересными наблюдениями и мыслями (хотя во многом спорная) статья С.П. Боброва7. Однако автор анализирует тонкие ритмические нюансы, воспринимаемые воспитанным, изощренным слухом. Нас же здесь интересуют достаточно резкие ритмические контрасты, создающие ощущение перебоя; они возможны при столкновении привычных ритмических форм стихотворного размера с очень редкими, экзотическими. Как известно, в трехсложных размерах пропуски метрических ударений (трибрахии) в XIX в. были неупотребительны. У большинства поэтов XIX в. трибрахии не встречаются совсем, у нескольких они единичны, только у Некрасова их целых пятнадцать: три в дактиле: Полная духа античеловечного («Литература с трескучими фразами...»), Лаяли, злились до самозабвения («Пожарище»), Имя ей Тарбагатай («Дедушка»); один в амфибрахии: Той благословляющей песни («Княгиня Волконская»); одиннадцать в анапесте: И родню свою длиннобородую («Современная ода»), Где с полугосударства доходы («Убогая и нарядная»), Русокудрая, голубоокая («Рыцарь на час»), Десятипудовый генерал («О погоде»), Стройно шествовал кордебалет («Притча о киселе»), Появляется кордебалет («Балет»), Слышал, как князь NN говорил, Подкосила их ликантропия, Наезжали к нам славянофилы, Я, душа моя, славянофил («Недавнее время»), Предприятъя железнодорожные («Современники»). Как видно из этого перечня, стихи с трибрахиями встречаются у Некрасова в качестве сильного ритмического курсива на протяжении всего творчества. (Заметим в скобках, что Некрасов до сих пор недооценен как смелый стихотворец-новатор.) У поэтов XX в. трибрахии встречаются чаще, но все же относительно редки и ощущаются как перебой, ритмический курсив. Больше всего их у Пастернака: в дактиле 20, анапесте 63, амфибрахии целых 123, всего — 206. Трижды у него находим даже по два трибрахия в одном стихе: Расскалъзывающаяся артиллерия («Дурной сон»), О, вольноотпущенница, если вспомнится («Душа»), Захлебывающийся локомотив («Город»). В ямбах ощущение некоторого перебоя создают спондеи, особенно когда подряд идут три ударения («Вон, пес! Вот до чего меня доводит...»). Еще гуще скапливал ударения Державин: «Ров крав, гром жолн и коней ржанье» и даже единственное в русской поэзии «Где ж он? — Он там. — Где там — Не знаем» — с шестью ударениями подряд. Но и обычные в двусложниках пиррихии могут создавать перебои при скоплении редких ритмических форм, особенно в четырехстопном ямбе — редчайшая V форма ППЯЯ и сверхэкзотическая одноударная VIII ПППЯ. В отличие от XIX в., в XX в. некоторые поэты хотя и крайне редко, но все же пользовались V формой. Рекорд и здесь поставил Пастернак, у него есть целых девять строк V формы. В «Высокой болезни» идут подряд два стиха этой формы, создавая сильный перебой. Бряцанье шпор ходило горбясь, Преданье прятало свой рост За железнодорожный корпус, Под железнодорожный мост. В стихотворении «Музыка» редкие формы количественно преобладают, в их числе — две V. У Кушнера встречается пятистопный ямб с тремя пиррихи-ями подряд: Поэзия, ты непереводима (Стихотворение «Где улица?..»). У Евтушенко мы услышим и два трибрахия в одном стихе. 7 Бобров С. Синтагмы, словоразделы и литавриды// Рус. лит. 1965. № 4; 1966. № 1. 65 Я в трущобы входил. Две креольских наяды Были телохранителъницами со мной... («Фуку»). и даже почти неправдоподобную VIII форму четырехстопного хорея: Он остался чистым-чистым Интернационалистом. («Допотопный человек»). Правда, до него Сельвинский в «Записках поэта» столкнул два стиха VIII формы четырехстопного ямба, но это было не в «нормальном» стихотворении, а в нарочитом эксперименте: Я человеконенавистник И не революционер. Подобные строки среди обыкновенных ямбов и хореев звучат ощутимым перебоем. Даже тот ограниченный материал, которого удалось здесь коснуться, подтверждает правильность высказанного ранее положения: чем строже стиховая система, тем сильнее воспринимается даже незначительное нарушение ритмической инерции; чем свободнее система, тем сильнее должны быть изменения, которые заставят читателя услышать перебой. В четком строфическом стихе изменение порядка рифм очень заметно, а в нестрофических поэмах Пушкина прихотливо чередующиеся рифмы создают общий фон свободной системы. Так же соотносятся стих мерный и изобилующий переносами, силлабо-тоника и акцентный стих и т.д. Чистые, отчетливо выраженные формы ясны и не введут исследователя в сомнение. Иное дело — переходные формы, которых в литературе великое множество и перечесть которые нет возможности. К ним относятся, например, неуравновешенные, асимметричные строфы, такие как пятистишия. При первом чтении такая строфа производит впечатление слабого ритмического перебоя, когда после двух стихов с рифмами аб ожидается повторение аб, а наступает ааб или абб. Тут, правда, необходима поправка на традицию: привычная форма, хоть и несимметричная, с самого начала не вызывает ощущения перебоя. Так, четверостишие на одну рифму с третьим холостым стихом для русского слуха экзотично, а в восточной поэзии — традиционное рубай. Зато непривычная асимметричная строфа вызывает сильный эффект, ослабевающий по мере ее повторения, но не совсем исчезающий. Мастером подобных неожиданных, «обманных» строф с необычайным расположением холостых стихов был Саша Черный. Во имя чего уверяют, Что надо кричать: «Рад стараться!»? Во имя чего заливают Помоями правду и свет?.. («Во имя чего?..». — Схема бхбх вместо обычной обратной — хбхб). Окруженный кучей бланков, Пожилой конторщик Банков Мрачно курит и косится На соседний страшный стол... 66 («Страшная история». — Второе двустишие неожиданно холостое). В некоторых случаях границу между ритмическим перебоем и очень свободной системой с широкой амплитудой колебаний провести просто невозможно, а пожалуй, и не нужно. Такая неустойчивая гибкая система создает своеобразный эстетический эффект, несхожий с впечатлением от полярных форм, между которыми она располагается. Сравним в этом плане поэмы «Человек» Маяковского, «Ладомир» Хлебникова и «Торжество земледелия» Заболоцкого. В «Человеке» совмещаются резко контрастные размеры — от четкого ямба (преимущественно отрывки в 2—3 четверостишия) до акцентного стиха и даже прозы. Переходы от одного размера к другому ясно мотивированы тематически, обычно контрастны, иногда даже графически обозначены пробелами. Замкнуло золото ключом глаза. Кому слепого весть? Навек теперь я заключен в бессмысленную повесть! Долой высоких вымыслов бремя! Бунт муз обреченного данника. Верящие в павлинов — выдумка Брэма! верящие в розы — измышление досужих ботаников!.. Совсем иная картина — в «Ладомире». Его основа — ямб (473 строки — 84%), в основном четырехстопный (411 строк). 33 строки — амфибрахий, почти весь трехстопный, 31 строка — хорей, почти сплошь четырехстопный, 10 строк анапеста, почти целиком трехстопного, 1— трехстопный дактиль, 18 стихов безразмерных или сомнительных. Так как трехстопные трехсложники по слоговой длине близки к четырехстопным двусложникам, то контраст размеров умеряется сходством стихов по длине. Основа поэмы — четырехстопный ямб, встречающийся большими тирадами до 34 стихов, но чаще — от 5 до 10. Большое количество относительно длинных пассажей устанавливает инерцию основного размера, что делает перебои ясно ощутимыми — но не так, как у Маяковского. В то же время тематические переломы не всегда ясны, порой даже внутри одного предложения происходит смена размеров, контраст метрический не совпадает с тематическим, что создает ощущение зыбкого, текучего, прихотливо меняющегося размера. Вот два примера: В день смерти зим и раннею весной Нам руку подали венгерцы. Свой замок цен, рабочий, строй Из камней ударов сердца... Колено ставь на грудь, Будь сильным как-нибудь. 67 И ветер чугунных осп иди Под шепоты «господи, господи»...7 ------------------------------------Первым смелым экспериментатором в этой области задолго до Хлебникова был недооцененный в этом плане поэт — А.И.Одоевский. Если бы его стихотворение «Брак Грузии с русским царством» включить в сборник произведений Хлебникова, то читатель, недостаточно знакомый с творчеством обоих поэтов, мог бы не заметить вопиющего анахронизма. 7 «Торжество земледелия» и по теме (что неоднократно отмечалось критикой), и по стиховой композиции перекликается с «Ладомиром». В поэме Заболоцкого — тоже пестрый метрический состав, хотя и отличающийся от хлебниковского. Из 799 стихов — 437 ямбов (из них четырехстопных 414), 340 хореев (из них четырехстопных 335), 22 стиха — прочие размеры. Основной фон — четырехстопные ямб и хорей. Кроме одной главы (сплошь хореической «Битвы с предками»), как и у Хлебникова, ритмическое движение строится на перебивах. Как и у Хлебникова, есть и дробные перебивы, и одноразмерные пассажи: хорея до 33, ямба — до 29 стихов (одна тирада — 91 стих). Но при всем внешнем сходстве есть и существенные отличия от Хлебникова. При общей неуравновешенной и зыбкой основе (ямб непривычно совмещается с хореем) у Заболоцкого чаще встречается тематическая мотивировка контрастных переходов, что сближает его в этом плане с Маяковским. Так, в прологе четким перебоем выделена концовка: после 5 четверостиший четырехстопного хорея (среди них оказался один ямбический стих) — три строки четырехстопного ямба и заключительная безразмерная строка. А над ним на небе тихом, Безобразный и большой, Журавель летает с гиком, Потрясая головой. Из клюва развивался свиток, Где было сказано: «Убыток Дают трехпольные труды». Мужик гладил конец бороды. В главе I «Беседа о душе» каждая новая реплика крестьян отмечена ритмическим переломом, большей частью сильным. Меня, милую, берите, Скучно мне лежать одной. Хоть со мной поговорите, Поговорите хоть со мной. «Это бесконечно печально!» — Сказал старик, закуривая трубку... Из сказанного видно, как сложны и многообразны бывают даже внешне схожие перебои размеров (как и вообще ритмические перебои всех видов). За внешним сходством чередования размеров могут скрываться значительные функциональные различия, а схожие функции могут осуществляться очень несхожими формальными приемами. Как и вообще в искусстве, здесь каждая истина конкретна, каждое произведение — свой особый мир, и писателя надо судить по законам, им самим над собою признанным. 68 Ритмическими перебоями как сильным выразительным средством пользовались очень непохожие поэты разных времен, и характер этих перебоев был различен. Очевидно, что и эту особенность стихотворной формы надо изучать исторически, и это требует подробного исследования. Здесь пунктирно намечены лишь основные типы перебоев. М.Л. Гаспаров СИНТАКСИС ПУШКИНСКОГО ШЕСТИСТОПНОГО ЯМБА «Hugo с товарищи, друзья натуры, его гулять пустили без цезуры»,— писал Пушкин в отброшенных строках «Домика в Коломне» о французском александрийском стихе. Конечно, он понимал, что выражается не вполне точно. Французские романтики отменили в александрийском стихе не цезуру как таковую: словораздел в середине строки, после 6-го |слога, продолжал соблюдаться неукоснительно вплоть до прихода Вердена и Рембо. Французские романтики отменили только синтаксическое главенство словораздела после 6-го слога: прежде он должен был быть сильнее, чем предшествующие и последующие словоразделы в строке, теперь он мог быть и слабее их. До сих пор 12сложный стих со словоразделами после 4, 6 и 8-го слогов фразировался только как 6+6, теперь он мог фразироваться и как 4+4+4 («александрийский триметр»). Во французском языке с его господством фразового ударения словоразделы ощутимы на слух только тогда, когда они подчеркнуты синтаксически. Поэтому разрушение синтаксической цезуры во французском александрийце казалось разрушением цезуры вообще — это и выразилось в терминологии тогдашней критики, которой последовал и Пушкин. И в «Домике в Коломне», и в одновременной заметке об Альфреде де Мюссе («Между тем, как сладкозвучный, но однообразный Ламартин...») Пушкин писал о романтических экспериментах с александрийским стихом с нескрываемым одобрением. Напрашивается вопрос: не делал ли сам Пушкин аналогичных опытов ослабления синтаксической цезуры в стихе 6-ст. ямба? И здесь сразу привлекает внимание одно из поздних пушкинских произведений — поэма «Анджело» (1833). Ослабление синтаксической четкости в ней отмечали еще К. Тарановский и В. Сечкарев; В. Викери убедительно показал в ней прямое влияние «Испанских сказок» Мюссе и связал это с общей историей ритмического и синтаксического расслабления цезуры в русском допушкинском 6-ст. ямбе8. Но сделанные наблюдения демонстрировались только на примерах или на статистическом прослеживании эволюции отдельного, изолированного признака. Вписать их в более широкую картину соотношения сильных и слабых словоразделов в стихе мешала общая неразработанность проблемы стихотворного синтаксиса. Здесь, однако, в последнее десятилетие наметились некоторые сдвиги, позволяющие перейти к вопросу о синтаксической роли цезуры еще раз. «Более сильный» словораздел — это тот, который разделяет слова, слабо связанные синтаксически; «более слабый» — тот, который разделяет слова, тесно связанные синтаксически. Иерархия сравнительной силы синтаксических связей — вопрос, в грамматике почти не исследованный. Применительно к стиху едва ли не первым поставил его Б. И. Ярхо в заметках 1920-х гг.; его предположения и наблюдения получили Vickery W. N. Pushkin's Andzhelo: a problem piece — «Mnemozina»: Studia literaria Russica in honorem Vs. Setchkarev, p. 325—339; Он же. Русский 6-ст. ямб и отношение его к французскому александрийскому стиху — American Contributions to the 7th International Congress of Slavists, The Hague: Mouton, 1973, II, p. 505—527; здесь же ссылки на прежнюю литературу. Ср.: Он же. К вопросу о ритме цезурного 5-ст. ямба Пушкина — IJSLP. 14, 1971, р. 134—175. 8 69 подтверждение и развитие в исследованиях последнего времени на материале различных размеров русского и английского стиха. На опыт этих исследований мы и опираемся9. Подступать к проблеме приходится логически. Естественно полагать, что наиболее тесные синтаксические связи соединяют слова внутри одного члена предложения; менее тесные — внутри группы подлежащего и внутри группы сказуемого; еще менее тесные — между группой подлежащего и группой сказуемого; еще более слабые — между предложениями в составе сложного предложения; совсем слабые — между самостоятельными предложениями; и предельно слабые — между сверхфразовыми единствами (абзацами, репликами). В эту иерархию можно внести еще одну ступень: как интуитивное ощущение, так и статистическая проверка свидетельствуют, что синтаксические связи внутри группы подлежащего (определительные) ощущаются более тесными, чем внутри группы сказуемого (дополнительные и обстоятельственные). Кроме того, следует выделить синтаксические связи при обособленных оборотах (причастный и деепричастный обороты, обращение, обособленное приложение) и между однородными членами предложения. Связи при обособленных оборотах, как показывает анализ, по своим позициям и частотам в стихе сближаются со связями между предложениями в составе сложного предложения и могут рассматриваться вместе с ними. Связи между однородными членами предложения по своей позиции в иерархии не так ясны и должны рассматриваться отдельно; может быть, среди них окажется целесообразным выделить разные подвиды. Наметившиеся таким образом категории межсловесных синтаксических связей можно для простоты сгруппировать в пять групп с постепенным убыванием тесноты связи: А, Б, В, Г и Д. В дальнейшем мы будем оперировать почти исключительно этими обобщенными пятью степенями тесноты связи. Вот примеры объединяемых ими словосочетаний (все — из полустиший 6-ст. ямба поэмы «Анджело»). А) Связь между частями составного подлежащего или дополнения: ...Гаруну аль Рашиду; Был некто Анджело...; между частями составного сказуемого: И странно было бы...; ...наместником нарек; между количественным числительным и существительным: Я тысячу молитв...; между определяемым и согласованным определением: Усердною мольбой...; Но власть верховная...; между определяемым и несогласованным определением: Молитвами любви...; В искусстве властвовать... Б) Связь между глаголом и глагольным дополнением: Решилась утолить...; между глаголом и прямым именным дополнением: ...страдальца утешал; Свой долг исполнила...; между глаголом и косвенным именным дополнением: Потворствовать греху...; Согбенный старостью...; между глаголом и обстоятельством: Носиться в пустоте...; Я проще изъяснюсь... В) Связь между подлежащим и глагольным сказуемым: Закон не умирал...; Старик доказывал...; между подлежащим и неглагольным сказуемым: Иль будешь — ничего...; Они не суетны... Г) Связь между однородными членами предложения: Тут милость, а не грех...; Подумай и смирись...; Но мыслит, молится... Д) Связь между обращением и предложением: ...Помилуй, государь; Послушай, воротись...; между вводными словами и предложением: К тому ж, и без речей...; между 9 См. Гаспаров М. Л. Работы Б. И. Ярхо по теории литературы — «Семиотика», 4, Тарту, 1969, с. 506—507. Он же. Ритм и синтаксис: происхождение «лесенки» Маяковского— Проблемы структурной лингвистики—1979. М.: Наука, 1981, с. 148—168. Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Ритм и синтаксис свободного стиха — Очерки языка русской поэзии XX в.: грамматические категории, синтаксис текста. М.: Наука, 1993. На английском материале: Tarlin-skaja М. Rhythm — Morphology — Syntax — Rhythm - «Style», 18, 1984, I, p. 1—26; Id. Rhythm and Meaning: Rhythmical Figures in English Iambic Pentameter — «Style», 21, 1987, 1, p. 1—35; Id. Formulas in Russian and English Verse.— Russian Verse Theory, Columbus: Slavica, 1989, p. 419—439; Скулачева Т. В. К вопросу о взаимодействии ритма и синтаксиса в стихотворной строке: английский и русский 4-ст. ямб — ИАН ОЛЯ, 48, 1989, 2, р. 156—164. 70 сравнительным оборотом и членом предложения: ...спокойно, как на ложе; ...скорее, чем душою; между причастным или деепричастным оборотом и предложением: Несчастный, выслушав...; ...Заплакав, Изабелла; между подчиненным предложением и главным: И требовал, чтоб ты...; Бог видит: ежели...; между сочиненными предложениями: Что хочешь, говори, не пошатнуся я; между самостоятельными предложениями: Ты думаешь? Так вот...; Представился. В цепях...; между репликами и главами: Ах, Изабелла'. — Что?..; А ныне!.. II. Размышлять... Разумеется, возможны и случаи, когда между словами в полустишии нет никакой синтаксической связи — они не объединены в словосочетание: И часто утешать (несчастного ходила); Он ей свидание (на утро назначал). Но их сравнительно немного: в «Анджело» — не более 2% от всех двухсловных полустиший. Все приведенные примеры подобраны из двухсловных полустиший, в которых, понятным образом, возможна только одна межсловесная синтаксическая связь. Таких полустиший в русском 6-ст. ямбе большинство (в 500 строках «Анджело» — 66%). Однако кроме них имеются и однословные и трехсловные полустишия (соответственно 3% и 31%). Однословные (В уединении...), разумеется, никаких междусловесных связей внутри полустишия не содержат. Трехсловные, наоборот, могут содержать и по две межсловесные связи, которые могут располагаться между начальным словом (Н), серединным (С) и конечным (К) различным образом: а) связи НС и СК, узел связей — среднее слово: Народ любил его...(НС — связь В; СК — связь Б); ...предобрый старый Дук (НС — связь Г; СК — связь А); Так точно. Средство есть... (НС — связь Д; СК — связьВ); б) связи НС и НК, узел связей — начальное слово: ...спасаю многих я (НС — связь Б; НК — связь В); ...угодных небу дев (НС — связь Б; НК — связь А); ...навел невольно дрожь (обе связи — Б); в) связи С К и НК, узел связей — конечное слово: Представят твой донос... (СК — связь А; НК — связь Б); Пришла другая весть (СК — связь А; НК — связь В); Романы он любил... (СК — связь В; НК — связь Б); кроме того, конечно, возможны случаи, когда отсутствует одна из этих связей (Нередко добрый Дук...) или даже обе (Пред светом снова к ним...). Тип (а) составляет в «Анджело» 48% всех трехсловий, тип (б) — 12%, тип (в) — 19%, неполносвязные типы — 21%. Когда полустишия сочетаются в стих, то между их словами перекидываются новые синтаксические связи. Они могут соединять начальные слова полустиший (НН), конечные слова (КК), начальное с конечным (НК), конечное с начальным (КН), реже — серединные слова. Примеры: а) НН: Народа своего / отец чадолюбивый (связь А); Стеснивший весь себя / оградою законной (связь Б); Но власть верховная / не терпит слабых рук (связь В); б) НК: За брата своего / наместника молила (связь Б); И мысли грешные / в ней отроду не тлели (связь В); Склонилась перед ним и прочь идти хотела (связь Г); в) КН: А сам, докучного / вниманья избегая (связь А); Лишь только Анджело / вступил во управленье (связь В); Все к лучшему придет; / послушна будь и верь (связь Д); г) КК: Младых любовников / свидетели застали (связь Б); Когда-то властвовал / предобрый старый Дук (связь В); И в ужас ополчил, и милостью облек (связь Г); д) СН: Да, так..: и страсти в нем / кипят с такою силой (связь В); С К: Народ любил его / и вовсе не боялся (связь Г); НС: Что хуже дедушек / с дня на день были внуки (связь А); КС: Отшельница была / давно знакома с ней (связь А); СС: Из гроба слышу я / отцовский голос. Точно...(связь Б); 71 кроме того, конечно возможны случаи, когда из полустишия в полустишие перекидывается не одна, а две синтаксические связи (Предайся ж ты моим / советам. Будь покойна — связи НН и КН; Немедля узника / приказывал казнить — связи НК и КК), а изредка — наоборот, ни одной связи (Но дева скромная / и жарче и смелей...). Тип (а) составляет в «Анджело» 5% строк, тип (б) — 6%, тип (в) — 57%, тип (г) — 12%, тип (д) — 4%, многосвязные строки — 13%, несвязные — 3%. Наконец, кроме связей между словами в полустишии и полустишиями в стихе следует учитывать и связи между стихами — те, которые приходятся на конец строки. Конечно, здесь преобладают самые слабые связи — типа Д: А доброте своей он слишком предавался. (Д) Народ любил его и вовсе не боялся... Но возможны здесь и более сильные связи: Народа своего отец чадолюбивый, (Г) Друг мира, истины, художеств и наук; Младая Изабела (В) В то время с важною монахиней сидела; Закон сей изрекал (Б) Прелюбодею смерть. Такого приговору...; и даже: Влюбленный человек доселе мне казался (А) Смешным, и я его безумству удивлялся. (Необходимая оговорка. Во всех приводимых примерах и во всех нижеследующих подсчетах учитывались синтаксические связи только между словами, занимающими обычные ударные позиции в стихе. Кроме них, как известно, в стихе имеются и слова сверхсхемные, находящиеся на безударных позициях, но часто играющие важную синтаксическую роль; Друг мира, истины...; Дук это чувствовал...; Бог дал ее речам...; Я Клавдио сестра... Несмотря на их синтаксическую важность, мы их не принимали во внимание: в этих четырех полустишиях отмечались только синтаксические связи Г, Б, Б, А. Ритмическая подчиненность сверхсхемных слов, по нашему ощущению, заставляет их и синтаксически ощущаться на особом, подчиненном уровне; соотношение этой навязанной подчиненности с реальной значимостью открывает возможности сложной художественной игры, подробности которой будут очень интересны для исследования. Но сейчас, при первом подступе, отвлекаться на это нет возможности.) Исследования синтаксических связей в других размерах (в русском 4-ст. ямбе, 3-ст. амфибрахии, дольнике, свободном стихе, в английском 4-ст. и 5-ст. ямбе) показали две общие закономерности. Во-первых, синтаксическая теснота стихового ряда нарастает к концу строки. Это выражается в том, что к концу стиха межсловесных связей становится больше, и они становятся теснее. Тенденция к этому имеется уже в синтаксисе колонов русской прозы и, видимо, является следствием предпочитаемого русским языком порядка слов; стих лишь усиливает эту общеязыковую тенденцию. Во-вторых, синтаксическая теснота стихового ряда ослабевает в середине строки, как бы разламывая стих синтаксической цезурой. Взаимодействием этих двух тенденций определяется синтаксический рисунок стиха. 6-ст. ямб — это размер с ритмической цезурой, которая служит хорошей опорой для синтаксической цезуры и тем усиливает вторую из названных тенденций. Этим он и интересен для анализа. Материалом для обследования послужили два корпуса стихов Пушкина: вопервых, 500 строк (из 535) поэмы «Анджело», и, во-вторых, 500 строк из стихотворений 1817—1824 гг.: «К Жуковскому», «Безверие», «К Чаадаеву», «К Овидию» и подражания древним («Дорида», «Дориде», «Нереида», «Муза», «Редеет облаков...», «Красавица перед зеркалом», «Приметы», «Умолкну скоро я...», «Мой голос для тебя...», «Ты вянешь и молчишь...»). Как вспомогательный материал был взят 3-ст. ямб — размер, строение которого аналогично строению полустишия 6-ст. ямба: 400 строк подряд из стихотворений «К моей чернильнице», «Фавн и пастушка», «К Дельвигу» и дополнительно 223 трехсловные строки из стихотворений «К Галичу», «К Батюшкову», «К Пущину», «Погреб», «Городок» (1814-1821). Внутри этого материала раздельно подсчитывались: 1) синтаксические связи внутри полустиший, 2) синтаксические связи между полустишиями и 3) синтаксические связи между стихами (на концах строк, «кц»). Для синтаксических связей внутри полустиший подсчитывались раздельно: а) трехсловия (так называемая I ритмическая 72 форма: Предобрый старый Дук), с выделением связей НС, СК и НК; б) двухсловия с ударностью последней стопы (так называемые I и III ритмические формы: Прелюбодею смерть... Законы поднялись...); в) двухсловия с пропуском ударения на последней стопе (только для I полустишия — так называемая IV ритмическая форма: Но власть верховная...). Для синтаксических связей между полустишиями выделялись связи на позициях НН, НК, КН, КК; прочие (СН, СК и др.) по крайней их малочисленности не учитывались. Синтаксические связи между полустишиями в стихах с дактилической цезурой (т. е. с IV ритмической формой в первом полустишии) подсчитаны также и отдельно. Для каждой категории этого материала рассчитывался основной показатель — пропорция синтаксических связей А:Б:В:Г:Д. По нему и проводилось сопоставление. Разновидности связей, входящие в каждую группу (например, в группе Б — между глаголом и прямым дополнением, косвенным дополнением, обстоятельством...), как сказано, не учитывались: чрезмерная дробность материала делала бы ненадежными статистические показатели. Даже сейчас некоторые группы материала опасно невелики; но проверка по отдельным сотням позволяет надеяться, что основные закономерности достаточно устойчивы. Все показатели пропорций А:Б:В:Г:Д (в процентах, с округлением до целых процентов) представлены в таблице. В конце каждой строки — абсолютное число учтенных межсловесных связей. Связи внутри полустиший полустишиями 1-е полустишие А: Б: В: Г: Д Связь между 2-е полустишие число связей А: Б: В: Г: Д число связей А: Б: В: Г: Д число связей Ранние стиха 1 ф. НС 25 23 СК 50 27 НК 15 46 II-III ф. 37 43 IV ф. 58 23 «Анджело»: I ф. НС 16 35 СК 32 31 НК 07 73 II-III ф. 34 45 IV ф. 48 28 19 18 15 03 04 03 01 22 08 04 30 04 02 09 11 72 106 41 176 130 18 21 20 08 11 06 04 00 03 03 25 12 00 10 10 110 103 41 159 110 45 23 17 02 13 99 64 19 14 02 01 132 37 46 14 03 00 91 56 31 03 07 03 310 ------------------------13 30 19 08 30 113 32 31 17 06 14 126 15 63 15 00 02 48 33 40 08 10 09 307 -------------------------- Трёхстопный НН НК КН КК кц 06 14 13 33 00 51 51 30 42 10 20 25 08 13 08 20 09 10 09 15 03 01 39 03 67 66 73 204 144 500 НН 09 72 09 10 00 47 НК 06 76 14 04 00 50 КН 10 17 03 09 61 324 КК 19 49 25 07 00 90 кц 01 16 10 14 59 500 Связи между полустишиями при дакт. Цезуре ямб: I ф. НС 23 30 15 09 23 208 СК 57 22 13 03 05 331 НК 29 53 16 01 01 156 115 II-III ф. 41 36 09 07 07 229 Ранние стихи: НН 00 58 21 21 00 24 НК 13 54 19 11 03 37 КН 25 22 11 11 31 67 «Анджело»: 08 69 15 08 00 13 14 71 14 00 00 14 15 16 03 09 57 КК 44 32 10 06 02 50 19 68 13 00 00 31 Рассмотрим, какие тенденции обнаруживают два крайних типа синтаксической связи: самый тесный А и самый слабый Д. 73 Самый тесный тип связи А (преимущественно определительные связи) варьирует следующим образом. а) Внутри полустишия выше всего процент связи А в двусловиях ГУ ритмической формы (Но власть верховная...). В двусловиях II—III ритмических форм (Усердною мольбой...) доля ее уменьшается, и она по большей части уже не преобладает над другими. В трехсловиях она меньше на позиции НС и больше (почти вдвое) на позиции СК: синтаксическая теснота нарастает к концу полустишия. Там, где доля связи А сильно понижается, за ее счет повышается следующая по тесноте степень связи — Б (сильнее всего — на позиции НС в трехсловиях «Анджело»). б) Из двух полустиший в раннем стихе тесные связи А заметно больше места занимают во втором: синтаксическая теснота нарастает не только к концу полустишия, но и к концу стиха. В стихе «Анджело» эта тенденция исчезает, степень тесноты в обоих полустишиях уравнивается. в) Между двумя полустишиями тесные связи А сильнее всего на позиции КК — т. е. опять тяготеют к концу полустиший и стиха. Эта тенденция заметнее в раннем стихе и опять-таки бледнеет в «Анджело». Вообще от раннего к позднему стиху нелинейные связи НН и КК, подчеркивающие параллельность, самостоятельность полустиший, становятся реже, а линейная связь КН, подчеркивающая их слитность,— чаще. Соотношение КН:(НН+КК) в раннем стихе — 5:5, в «Анджело» — 7:3. Наконец, между двумя стихами (в конце строки) тесные связи неуместны, и доля их, разумеется, ничтожна. г) От раннего стиха к «Анджело» доля тесных связей убывает почти во всех сравнимых случаях. Можно предположить, что это связано с общим убыванием прилагательных от статичных ранних стихотворений к динамичному «Анджело»: в «К Овидию» и «К Жуковскому» их по 78—79 на сотню стихов, в «Анджело» — 56 на сотню в повествовании и 48 в диалоге. За счет этого нарастает обычно следующая по тесноте степень связи — Б; вместо строк типа Народа своего отец чадолюбивый... (с определениями) учащаются строки типа Его приветствуют, перебирая четки... (с дополнениями и обстоятельствами). Стих становится как бы расслабленным, причем равномерно расслабленным. Цезурная позиция не составляет исключения: связь КН между полустишиями отнюдь не становится тесней. Сейчас мы увидим, что даже наоборот. Самый слабый тип связи Д (преимущественно — между предложениями и оборотами) варьирует следующим образом. а) Внутри полустиший выше всего процент связи Д в трехсловиях, на позиции НС, т. е. ближе к началу стиха. Фразирование Что делать? Долго Дук... встречается чаще, чем Ваш брат в тюрьме.— За что?..— вдвое чаще в «Анджело», всемеро и выше — в раннем стихе. То есть, как и в других размерах, стих предпочитает нарушить ровность своего течения в начале, чтобы успеть восстановить ее в сознании читателя к концу; в ранних стихах забота об этом проявляется больше. В двухсловиях (Несчастный? почему?..) ощущение начала и конца полустишия размыто, поэтому они меньше притягивают к себе паузы Д. Опятьтаки синтаксическая теснота нарастает к концу полустишия (а в 3-ст.ямбе — строки). б) Из двух полустиший к таким синтаксическим рассечениям склоннее первое — во всяком случае, в раннем стихе. (Опять-таки синтаксическая теснота нарастает к концу стиха.) В «Анджело» эта разница между полустишиями сглаживается: если в раннем стихе в начале первого полустишия паузы Д были так же часты, как тесноты-А, то в начале второго полустишия тесноты А решительно преобладали,— то в «Анджело» паузы преобладают над теснотами в начале обоих полустиший и вдобавок начинают повышаться даже в конце обоих полустиший. 74 в) Между двумя полустишиями синтаксическое рассечение Д, разумеется, царствует на ритмической цезуре — на позиции КН. В раннем стихе оно там составляет две пятых всех межсловесных связей, в «Анджело» — три пятых; таким образом, между полустишиями не только исчезают другие позиционные типы связей (НН, НК, КК — см. выше), но и ослабляется эта, основная. Другая позиция, где синтаксическая пауза Д естественно господствует,— это, конечно, межстиховая, конец стиха. Любопытно, что здесь она в «Анджело» по сравнению с ранним стихом даже убывает (как будто в виде компенсации усилению цезуры): учащаются анжамбманы (Влюбленный человек доселе мне казался / Смешным...). Но этот сдвиг сравнительно невелик. г) От раннего стиха к «Анджело», таким образом, доля синтаксических разрывов Д нарастает почти во всех сравнимых случаях. Фразировка становится отрывистой, рубленой. Можно предположить, что это связано с общим укорочением фраз в динамическом диалоге: в двух ранних посланиях на сотню стихов приходится 47—54 предложения, в «Анджело» — 48 в повествовании и целых 122 в диалоге. Больше всего это нарастание дробности — на цезуре, самом привычном для этого месте стиха; но отсюда она проникает и внутрь полустиший, начиная с их зачинов. Из двух тенденций синтаксической организации стиха первая, к нарастанию тесноты в конце, как мы видели, от раннего стиха к позднему не усиливается; вторая же, к ослаблению тесноты на середине, как мы видим, усиливается, и весьма заметно. Взаимодействие этих двух изменений и определяет перестройку синтаксиса пушкинского 6-ст. ямба от ранних стихов к «Анджело». Что касается остальных типов межсловесных связей (Б, В и Г), то о них можно сказать немногое. Роль связей Б (дополнительных и обстоятельственных) сводится, повидимому, к тому, что с падением определительных связей А именно связи Б принимают на себя роль главных носителей синтаксической тесноты. Связи В (предикативные) обнаруживают удивительную устойчивость, они почти не меняются ни в каких рубриках нашего материала: они как бы лежат на золотой середине между тесными связями А, Б и слабыми связями Д. Связи Г (между однородными членами предложения) сравнительно немногочисленны, и природа их остается неясной. Установив, таким образом, что от раннего пушкинского 6-ст. ямба к «Анджело» синтаксическая дробность усиливается, и при этом в первую очередь на цезуре, мы приходим к любопытному психологическому парадоксу. Параллельно с этой синтаксической эволюцией стиха шла другая, ритмическая: нарастание дактилической цезуры, т. е. пропусков ударений в конце первого полустишия. Традиционная мужская цезура ритмически разламывала стих на две двухвершинные половины: В одном из городов / Италии счастливой... Развивающаяся дактилическая цезура ритмически сливала стих в единую трехвершинную плавность: ...Когда-то вла/ствовал предо/брый старый Дук/... Эти два звучания соотносятся совершенно так же, как во французском стихе «классический» александриец 6+6 и «романтический» 4+4+4; только во французском стихе определяющей является сила словоразделов, а в русском — сила ударений. Вот этуто последнюю разницу и оказалось нелегко почувствовать при интуитивном восприятии. Ритмическую слитность хотелось принять за синтаксическую. Такой крупнейший стиховед, как К. Тарановский, предположил, что ритмическое слияние полустиший в позднем 6-ст. ямбе сопровождается синтаксическим слиянием, и подкрепил это подборкой примеров из «Анджело». В. Викери усомнился в этом и предположил, что нарастание ритмической слитности, наоборот, компенсируется синтаксической расчлененностью; он подкрепил это статистикой расположения определительных конструкций в 6-ст. ямбе XVIII в. от Тредиаковского до Озерова. Наше более систематическое обследование синтаксиса пушкинского 6-ст. ямба полностью подтверждает предположение Викери: ритмическая и синтаксическая плавность стиха не параллельны друг другу, а 75 компенсаторны: чем больше первая, тем меньше вторая. На слух, до статистических подсчетов уловить это оказалось невозможным. Последние сомнения здесь устраняет подсчет синтаксических связей между полустишиями в стихах с дактилической цезурой: из таблицы видно, что они почти не отличаются от суммарных данных. Больше того: если взять раздельно показатель синтаксического разрыва Д на цезуре КН в стихах с мужской и дактилической цезурой, то для раннего стиха он будет равняться соответственно 43 и 31%, а для «Анджело» — 63 и 57%: синтаксический разрыв на дактилической цезуре действительно несколько слабее, чем на мужской, но разница эта в раннем стихе как раз сильнее, а в «Анджело» сглаживается. В заключение — неизбежный вопрос: насколько типичен стих «Анджело» для позднего 6-ст. ямба Пушкина в целом? В. Викери настаивал, что он нетипичен: «Анджело» — уникальный синтаксический эксперимент, вдохновленный французским романтизмом. Это преувеличение. Для сравнения мы обследовали 300 строк из мелких стихотворений Пушкина 1830-х гг. («Из Пиндемонте», «Отцы-пустынники...», «Когда за городом...», «Мирская власть», «Как с древа сорвался...», «Полководец», «Странник», «И дале мы пошли...», «Пора, мой друг, пора...», «Нет, я не дорожу...», «Ответ анониму»). Из прилагаемой таблицы видно: основной признак, доля синтаксических разрывов Д, дает на цезуре (позиция КН) показатель в точности средний между ранним стихом и «Анджело», а на конце строки — показатель, более близкий к «Анджело», чем к раннему стиху. Что касается пропорций А:Б:В:Г:Д в остальных сравнимых случаях, то расхождения замечаются лишь в соотношении связей А (определительных) и Б (дополнительнообстоятельственных); и здесь из 12 случаев поздний стих 4 раза сближается с «Анджело», 4 раза с ранним стихом и 4 раза занимает промежуточное положение. Видимо, приходится считать, что описанные нами сдвиги в синтаксическом строении 6-ст. ямба — общая тенденция позднего пушкинского стиха, и в «Анджело» она лишь доходит до предела. Насколько характерна такая эволюция для всего русского 6-ст. ямба XVIII—XIX вв.— это можно будет сказать лишь после более широких обследований и сопоставлений. Поздние стихи: Связи внутри полустиший 1-е полустишие 2-е полустишие А: Б: В: Г: Д число связей Связь между полустишиями А: Б: В: Г: Д число связей А: Б: В: Г: Д число связей Ранние стиха 1 ф. НС 24 28 СК 36 35 НК 28 36 II-III ф. 21 47 IV ф. 44 22 22 21 28 07 09 02 00 08 08 10 24 08 00 17 15 46 63 25 88 81 28 34 10 08 22 50 52 18 16 12 02 91 20 60 12 08 00 40 52 27 08 09 04 173 ------------------------- 76 НН НК КН КК кц 06 15 11 21 00 62 45 32 50 12 13 18 06 08 11 13 25 02 05 16 06 00 49 16 61 47 40 144 103 300 Б. В. Томашевский СТИХ И ЯЗЫК <...> Различие между стихом и прозой заключается в двух пунктах: 1) стихотворная речь дробится на сопоставимые между собой единицы (стихи), а проза есть сплошная речь; 2) стих обладает внутренней мерой (метром), а проза ею не обладает. Я ставлю эти два пункта именно в такой последовательности, так как, по крайней мере для современного восприятия, первый пункт значительнее второго. В самом деле: стихи без всякой внутренней меры мы считаем стихами. Таковы строки Блока: Когда вы стоите на моем пути, Такая живая, такая красивая, Но такая измученная, Говорите все о печальном, Думаете о смерти, Никого не любите И презираете свою красоту — Что же? Разве я обижу вас? Между тем метризованная проза А. Белого все же воспринимается только как проза. Например: «Другие дома не доперли; лишь крыши кривые крыжовниковых красно-ржавых цветов, в глубине тупиков проваляся, трухлеют под небом; а дом Неперепрева прет за заборчик; из сизо-серизевой выприны «сам» пятипалой рукою с блюдечком чайным из окон своих рассуждает. Напротив заборчик, глухой, осклабляяся ржавыми зубьями, сурики, листья сметает; подумаешь — сад». Следовательно, признак раздельности речи на отрезки-стихи существеннее признака наличия в строе речи «метра» (выражаемого здесь в системе чередований ударных и неударных слогов). Но уже тот самый факт, что приходится ставить вопрос, какой признак важнее, показывает, что оба признака не абсолютны и не дают математически точного определения отличия стиха от прозы. В этом мы убедимся, проанализировав точнее смысл обоих критериев. Здесь же методологически важно остановиться на другом вопросе: о разграниченности явлений стиха и прозы. Вопрос этот имеет гораздо более общее значение, чем данная частная проблема разграничения двух основных форм литературной речи. Этот же вопрос возникает и по отношению к границам любых литературных жанров. Нет таких жанров, которые бы, подобно математическим понятиям, сводились к единому определяющему признаку. Всякий жанр есть явление живое, историческое, представляющее собой систему соединения различных признаков, в слабой степени обусловленных друг другом. Каждый жанр есть своего рода «наречие», характеризуемое своеобразием различных признаков. Каждый диалект обладает своеобразным словарем (то есть наличием в нем многих характерных слов), своеобразным произношением, своим 77 строем речи, своеобразным сказом (интонацией); представление о наречиях достаточно прочно. Однако ни одно наречие не имеет точных границ. У каждого признака — свои границы. Каждое слово имеет свою область распространения. Границы этих областей («изоглоссы») иногда совпадают, чаще расходятся. Границы наречий — это не математические линии, а довольно широкие полосы. Обычно в этих полосах «изоглоссы» сгущаются, но некоторые изоглоссы прихотливо режут области сложившихся наречий далеко от их границ. Точно так же в воображаемой географической карте литературных форм границы жанров вовсе не являются точно очерченными линиями. Существуют области «переходных жанров», как и области «переходных говоров». Стих и проза — тоже не две замкнутые системы. Это два типа, исторически размежевавших поле литературы, но границы их размыты и переходные явления неизбежны. Если в классическую пору их было мало, то лишь потому, что классики тяготели к чистым типам литературных жанров, избегая «неясных» явлений, вроде «кадансированной прозы» или «прозаических стихов». Характерно мнение Вожла (Vaugelas), высказанное им в его «Замечаниях о французском языке» (1647): «Следует тщательно избегать рифм в прозе, где они составляют недостаток не меньший, чем их достоинство в поэзии, одним из главных украшений которой они являются». «Я не сомневаюсь, что если бы рифма не была уделом нашей поэзии, запрещенным для прозы, отделенной от поэзии значительными преградами, разделяющими их как смертельных врагов, как называет их Ронсар в своем «Поэтическом искусстве», — мы бы искали вместо того, чтобы ее избегать». «Необходимо признать, что по своей природе рифма не порочна и звук ее не оскорбляет уха, напротив, она приятна и очаровательна, но дух нашего языка ее отдал, так сказать, во владение поэзии, а потому нестерпимо, чтобы проза на нее покушалась и переходила границы, предписанные для этих двух дочерей языка, настолько противоположных друг другу, что язык их разделил и не желает, чтобы у них было что-нибудь общее. И это заметнее еще в стихотворном размере, который составляет основную красоту поэзии и в то же время является величайшим пороком прозы». Эти строки Вожла сочувственно излагает другой законодатель французского языка Буур (P.Bouhours) в своих «Разговорах Ариста и Евгения». Для теоретиков классического периода проза и поэзия были не формами языка, узнаваемыми по определенным признакам, а априорными данностями, имевшими свою речевую телеологию; признаки поэзии, вроде рифмы и меры стиха, не определяли различия между стихом и прозой, а служили средством для разграничения этих двух областей жизни языка. Самый принцип строгого разграничения прозы и стиха заимствован французами из античных риторик, у Аристотеля и Цицерона. Касаясь вопроса о ритмическом строе в ораторском искусстве, Цицерон писал: «Едва ли не важнее всего отметить здесь следующее: если в прозе в результате сочетания слов получится стих, то это считается промахом, и тем не менее мы хотим, чтобы это сочетание наподобие стиха обладало ритмическим заключением, закругленностью и совершенством отделки» («Об ораторе», III)10. В романтический период нарушения иерархической системы жанров, наоборот, было тяготение к пограничным формам, когда появились «стихи в прозе» и орнаментальная проза. Если мы будем ходить по этим пограничным областям, у нас никогда не будет твердой уверенности, в какой сфере мы находимся — в сфере стиха или в сфере поэзии. Естественнее и плодотворнее рассматривать стих и прозу не как две области с твердой границей, а как два полюса, два центра тяготения, вокруг которых исторически расположились реальные факты. Нам не важно, существует ли граница между стихом и прозой; нам важно, что существуют два явно выраженных типа речи — стихотворная и 10 См. сборник: Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. С. 243. 78 прозаическая, и отдельные факты располагаются так, что они примыкают либо к типу стихотворному, либо к типу прозаическому. В некоторых случаях удобнее пользоваться терминами «стих» и «проза» (как названиями относительных признаков) и определять их в порядке сравнения одного явления с другим. Поговорка и присказка в сравнении со сказкой — стих, но в сравнении с лирической песней — проза. Сказ раешника по сравнению с бытовым рассказом — стих, но по сравнению с ямбической поэмой — проза. Стихии поэзии и прозы (в узком смысле этих слов) могут в разных дозах входить в одно и то же явление. Законно говорить о более или менее прозаических, более или менее стихотворных явлениях. С этой точки зрения вряд ли оправдан спор о том, является ли «Сказка о попе и работнике его Балде» Пушкина стихом или прозой. Надо договаривать: по отношению к чему и в каком именно отношении. Конечно, с точки зрения метрической организации строки это менее стих, более проза, чем, например, «Сказка о золотом петушке» или даже «Сказка о рыбаке и рыбке». Но с точки зрения употребления рифмы, четко организующей речь и интонацию, «Сказка о попе» более стих, чем «Сказка о рыбаке и рыбке», совсем не имеющая рифмы. «Изоглоссы» здесь расходятся. А так как разные люди обладают различной степенью восприимчивости к отдельным приметам стиха и прозы, то их утверждения: «это стих», «нет, это рифмованная проза» — вовсе не так противоречат друг другу, как кажется самим спорщикам. Из всего этого можно сделать вывод: для решения основного вопроса об отличии стиха от прозы плодотворнее изучать не пограничные явления и определять их не путем установления такой границы, быть может мнимой; в первую очередь следует обратиться к самым типичным, наиболее выраженным формам стиха и прозы, относительно которых не может быть сомнений в их природе. <...> 4 <...> В подлинном художественном произведении интонация, вызываемая смыслом и строем речи, согласована с ритмическим членением стиха. Поэт как бы ставит задачей «оправдать ритм». Это выражается в том, что самая структура стиха (грубо говоря, «размер» его) выбирается адекватной выражению, а самый строй речи отсеивается в процессе творчества так, что он естественно осуществляет этот «размер». Это выдвигает две проблемы. Первая связана с аффективным смыслом размера. Все размеры в какой-то мере выразительны, и выбор их не безразличен. Бывают более тесные размеры, пригодные для передачи эмоций ограниченной области (сложные строфические построения, применяемые в коротких лирических произведениях); другие размеры более «гибки» и позволяют поэтому менять тон своей речи (таким размером для поэзии пушкинской эпохи был четырехстопный ямб); но, несомненно, каждый размер имеет свой «ореол», свое аффективное значение. Вторая проблема связана с тем, что называют «ритмизуемым материалом» (греческое «rhythmizomenon»). Этот ритмизуемый материал слагается не просто из звуков, производимых органами человеческой речи, а из самой речи, со всеми ее выразительными средствами. Вообще говоря, абстрактно мыслимо искусство «чистых звуков», лишенных значения. Наряду с искусствами тематическими существуют искусства «орнаментальные», которые не сочетаются с тем, осмыслен ли их материал или нет. Звуки музыки, геометрические формы линейного орнамента или пространственных архитектурных украшений не имеют вещественного «смысла», и, однако, их воздействие — вне сомнений. Можно было бы думать, что простая комбинация звуков речи, лишенная смысла, не подчиненная художественному заданию, могла бы существовать как особая форма искусства. Неуспех заумной поэзии приводит к убеждению, что стихи оперируют не просто звуками человеческой речи, но всем богатством этих звуков в их естественной 79 выразительной функции. К этому выводу мы неизбежно придем, даже совершенно устранив вопросы, которые связаны с оправданием или осуждением определенных поэтических школ. В пользу заумной поэзии приводились многочисленные примеры, свидетельствующие будто бы о том, что возможна поэзия, в которой воздействие ритма разобщено со смыслом; но все эти примеры в действительности говорят о том, что поэзии нужны звуки, слагающиеся в слова, во фразы, звуки, обладающие всеми свойствами человеческой речи; а эти свойства выработались только в результате того, что речь служит средством общения. Возьмем стихи: От Рущука до старой Смирны, От Трапезуняа до Тульчи... Можно говорить о том, что эти стихи имеют силу художественного воздействия и для тех, кто не очень силен в географии и в истории и для кого эти имена не вызывают каких-либо ассоциаций. Но нельзя отрицать, что эти стихи обладают всеми свойствами осмысленной речи, хотя бы и не вполне понятной. Это не чистый орнамент звуков. Поэзия же заумная, в которой звуки лишены этой функции общения, обычно разрушает не только смысл, но одновременно и художественную форму. Художественный материал стиха состоит не из суммы звуков, а из системы человеческой речи, не существующей вне осмысленности (что не надо смешивать с элементарной «понятностью»). Отсюда следствие: ритмизуемый материал по природе своей национален. Живопись, музыка национальны лишь в той мере, в какой творческая мысль художника складывается под воздействием исторических культурных путей развития народа, которому он принадлежит. Но средства музыки и живописи международны. Поэзия же — народна по самому своему материалу. Поэзия в этом отношении гораздо национальнее прозы, которая в значительной степени является простой формой сообщения мысли, а мысль вообразима и вне рамок национальной культуры. В прозе словесная форма не является в такой степени ощутимой материальной сущностью искусства, как в поэзии. В поэзии же ощутима самая плоть слова, и она-то и служит материалом искусства. Об этом очень хорошо сказал первый теоретик русского стиха В.Тредиаковский: «В поэзии вообще две короткие вещи надлежит примечать. Первое: материю, или дело, каковое пиита предприемлет писать. Второе: версификацию, то есть способ сложения стихов. Материя всем языкам в свете общая есть вещь <...> Но способ сложения стихов весьма есть различен по различию языков» («Новый и краткий способ к сложению российских стихов», 1735 г.). И когда В.Тредиаковского упрекали за то, что он пользуется французскими терминами в своем учении о русском стихе, он отвечал: «Подлинно, почти все звания, при стихе употребляемые, занял я у французской версификации; но самое дело у самой нашей природной, наидревнейшей оных простых людей поэзии. И так всякий рассудит, что не может в сем случае подобнее сказаться, как только, что я французской версификации должен мешком, а старинной российской поэзии всеми тысячью рублями. Однако Франции я обязан и за слова; но искреннейше благодарю россиянин России за самую вещь». Ритмический закон стиха, конечно, не вытекает механически из свойств языка; иначе все бы говорили и писали стихами. Но он и не является чем-то чуждым языку и приложенным к языковому материалу. Природа этого закона определяется сферой его применения, то есть языком. Поэтому следует ограничить всякие аналогии стиха с музыкой. Генетически поэзия возникает из песни. Естественно, что у поэзии с музыкой должны быть некоторые точки соприкосновения, восходящие к отдаленному прошлому. Но метрические формы современной поэзии сложились уже в эпохи, когда поэзия и музыка были двумя самостоятельными искусствами. Поэтому ритмические свойства стиха и музыки возникли 80 на разных основах. Нельзя изучать ритм стиха, отвлекаясь от материала стиха. А этим материалом является речь в ее выразительной функции. 5 До сих пор речь шла о структуре стиха в целом. Единство стиха определялось единством интонаций. Теперь коснемся вопроса о втором признаке стиха, о его внутренней мере, о том, что именуется метром в узком смысле слова. Задача метра — измерить стих и определить, какое сочетание слов годится в качестве стиха для данного размера и какое не годится. Это критерий отбора форм речи, совместимых в данной стихотворной структуре. В некоторых частных формах строфическая единица слагается из стихов разных метров в определенном их сочетании. Для простоты в дальнейшем я рассматриваю случай, когда стихотворения состоят из стихов одинакового метра. Отсюда можно заключить, что метром называется минимум условий, необходимых для стиха данного вида. Если стих есть интонационное целое, то есть фраза, то дробными частями его являются слова. Поэтому метр определяется теми свойствами языка, которые связаны с формой слова. Исторически два фактора определяют метр: литературная традиция и формы языка. В силу литературной традиции в определенных исторических условиях метрические формы, занесенные извне, могут и не соответствовать свойствам языка. Но, как правило, стихотворная система основывается на свойствах родного языка. Каждый язык обладает своей просодией. Слово это употребляется в двух значениях. Иногда его употребляют как синоним метрики или вообще стихосложения. Я здесь имею в виду другое его значение: свойства самого языка, выражающиеся в структуре слова и связанные с количественными элементами звука (высотой тона, длительностью и силой). Просодия выражается в расположении «акцентов» внутри слова и характере этих акцентов. Обычно наиболее мелкой просодической единицей является слог. В разных языках бывает разное противопоставление слогов, разные формы акцента. Например, в языках Дальнего Востока наблюдается мелодический акцент: там можно изменить значение слова, произнося его с повышением тона. Возможно противопоставление долгого слога краткому. Для современных европейских языков обычным оформителем слова является ударение. Всякий акцент следует рассматривать не с точки зрения наличия его в механизме речи, а с точки зрения его выразительной функции. Действительно реальным акцентом является тот, который служит для образования значения слова. И в этом отношении ударение может быть таким средством. Так обстоит дело в русском языке. Переставляя ударение в слове, мы либо меняем его значение, либо превращаем в бессмысленный набор звуков. Если в слове «руки» поставить ударение на первый слог, мы получим именительный падеж множественного числа; с ударением на последнем слоге — это родительный падеж единственного числа. В данном случае изменилось грамматическое значение. Для слова «замок» подобная операция изменяет вещественное значение. Для большинства слов перестановка ударения превращает слово в бессмысленное сочетание звуков. Я оставляю в стороне редкий случай акцентных дублетов типа «высо́ко» и «высоко́», «уда́лый» и «удало́й». Эти дублеты обладают всеми свойствами синонимов, то есть отличаются либо разным употреблением в разных сочетаниях, либо оттенками значения, либо стилистически. Отсюда следствием является то, что в русском языке ударения чрезвычайно заметны, и слоги, естественно, противопоставляются по признаку ударности или неударности. Недаром еще Тредиаковский в указанной выше статье, определив, что такое ударение, добавлял: «Сие <...> всякому из великороссиян легко, способно, без всякия трудности, и, наконец, от единого только общего употребления знать можно». Ломоносов, внося поправки в теоретические рассуждения Тредиаковского, этот пункт сформулировал так же: «В российском языке не только 81 слоги долги, над которыми стоит сила; а прочие все коротки. Сие самое природное произношение нам очень легко показывает» («Письмо о правилах российского стихотворства»). В русском языке выразительная роль ударения двояка: с одной стороны, ударение оформляет слово, противопоставляя в нем ударный слог неударным, а с другой стороны, ударение оформляет фразу и является элементом интонации. Если мы подходим к стиху как к интонационному отрезку, мы легко обнаружим это фразовое ударение: оно приходится на рифму (либо на последнюю стопу, что является более общим признаком и распространяется на стихи без рифм). Следует подчеркнуть отмеченное Ломоносовым резкое противопоставление ударного слога неударному. Реальное распределение силы произношения по различным слогам слова представляет вообще сложную картину. Мы можем наблюдать и ударения разной силы и среди неударных слогов градацию отчетливости произношения (вплоть до появления так называемых побочных ударений или полуударений). Но эта сложность не отменяет основного противопоставления, и для русской метрики важно только наличие явно ударных слогов на фоне безударных, вне зависимости от интенсивности ударения. Этого нет в ряде языков, где наблюдается связанное ударение, прикрепленное к определенному слогу и не допускающее перестановки. В таких языках ударение не участвует в образовании значения слов и превращается в автоматическое сопровождение произношения. Только фразовое ударение учитывается в системе таких языков. Им соответствует силлабическое стихосложение, построенное на счете слогов, с прикреплением ударения (фразового) только к концам стихов или полустиший (интонационных единиц). В ряде европейских языков (южнороманские, германские и др.) мы наблюдаем промежуточное состояние ударений между тем, что наблюдается в русском языке, и тем, что наблюдается во французском. Они обладают свободой передвижения ударений (например, в итальянском а́nсога — якорь, и anсо́nга — еще), но в них доминирует типичное положение ударения в слове. Это, например, отразилось в испанской орфографии, где существуют строгие правила, определяющие нормальное и ненормальное положение ударения. Знаком ударения отмечаются случаи ненормального положения ударения, и знак этот употребляется редко, так как в подавляющем большинстве случаев ударение соблюдает норму. Тем самым и роль ударения в метрической системе каждого языка своеобразна. Не следует думать, что языки, пользующиеся одинаковой номенклатурой в своем стихосложении, действительно обладают одинаковыми системами стиха. Каждый язык имеет свой особенный ритмизуемый материал, и поэтому в каждом языке вырабатывается своя метрическая система. Факт международного обмена литературной традицией может содействовать сближению этих систем, но никогда не стирает существенного различия между ними, возникающего из различий самого языкового материала. <...> 6 <...> Общее у стиха и у тактовой музыки то, что размер стиха (и соответственно музыкальный счет) определяет меру времени стиха или мелодической фразы. Речь идет, конечно, не о физическом, а о ритмическом времени, свойство которого состоит в том, что измеряемый период разбивается на определенное число равноценных интервалов (условно именуемых «изохронными», хотя абсолютного изохронизма они достигают только при исполнении вещи под метроном). Если для простоты представить, что ритмико-мелодическая единица совпадает с тактом (или определенным одинаковым числом тактов), то смысл музыкального ритма сводится к тому, что такой такт распадается на мелкие слоговые группы, приравниваемые друг к другу и следующие друг за другом в одинаковом числе. 82 В этом аналогия между музыкой и стихом. <...> Различия же между ритмом музыкальным и ритмом стихотворным возникают в силу разной природы ритмизуемого материала. 1. Звуки музыки бесконечно дробимы. В простейших ритмах четверть делится на две восьмые, которые, в свою очередь, делятся на шестнадцатые, тридцать вторые и т.д., и деление это ограничено пределами различения отдельных звуков человеческим слухом. Дробимость звуков стихотворной речи ограничена пределами слога. Конечно, разные слоги в пределах метра могут расцениваться как единицы разной длительности, но в очень ограниченных пределах, и вообще тяготеют к изохронизму. В стихах равносложных они вообще могут рассматриваться как единицы ритмически равноценные. 2. В музыкальном счете учитываются наравне с долями такта, заполненными звуками, также и доли молчания, паузы. Если внутри такта на три счета ввести паузы длительностью в одну четверть, мы получим такт в четыре четверти, то есть такт другой ритмической структуры. В стихах счет идет только тогда, когда произносится звук. В случае паузы мы прерываем счет и ждем продолжения стиха. Так можно с глубокими паузами прочитать следующие стихи Пушкина: Был вечер. Небо меркло. Воды Струились тихо. Жук жужжал. Уж расходились хороводы... Несмотря на паузы, все это стихи четырехстопного ямба, и ни одна пауза не увеличивает стиха до пятистопного, равно как и Пушкин, делая эти паузы в четырехстопном ямбе, не уменьшал числа слогов в соответствующих стихах. 3. Музыкальный счет непрерывен на протяжении всего произведения. Стихотворный размер ограничен пределами строки. Если стихи вполне замкнуты, пауза между ними иррациональна и может быть определена только для декламации. Счет фактически прекращается и начинается с новой строки. Этим объясняется, почему в данных стихах свободно объединяются женские десятисложные и мужские восьмисложные стихи. Счет прекращается на последнем ударении. Слоги, следующие за последним ударением, падают в область иррациональной паузы между стихами. Поэтому характер окончания одного стиха не предопределяет начала другого. Все стихи начинаются как бы снова, и форма их начала однообразно ямбическая. Все эти отличия обусловливаются природой звука, художественно оформляемого. Они имеют источником то, что в стихах мы оперируем не абстрактно музыкальным звуком («музыка стиха» — конечно, метафора), а осмысленными звуками человеческой речи, существующими лишь как сигналы значения и только с этой точки зрения воспринимаемыми. Самый процесс восприятия музыки и стиха различен. Звуки музыки не принадлежат к сфере нашей повседневной деятельности; звуки стиха — это звуки нашей собственной речи, и в восприятии стиха мы гораздо более активны. Так называемое благозвучие стиха определяется двумя факторами: теми представлениями, какие эти звуки в нас вызывают (как знаки речи), и физическим процессом произнесения. Часто акустические явления играют относительно незначительную роль. Поэтому в каждом языке свои законы благозвучия, и стих на совершенно чуждом языке вообще никак не воспринимается либо воспринимается совершенно искаженно, переосмысленным по законам родного языка. Но, так или иначе, для истолкования метрических форм нет никакой необходимости прибегать к аналогиям с музыкой. Если ритм стиха и ритм музыки различны, эта аналогия вредна. Если же ритм стиха и ритм музыки одинаков, она излишня: можно анализировать стих, не выходя за его пределы. Хотя суждение по аналогии, вопреки известной французской пословице, и является одним из основных 83 средств наших рассуждений, однако его можно избежать, по крайней мере, в порядке изложения результатов анализа. Говоря о стихотворных размерах, мы не должны подменять языкового материала музыкальным, не должны выходить за пределы языка. 84 4-б. Карта обеспеченности литературой по дисциплине Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами Образовательная программа ОП-02.01 – Русский язык и литература Наименование дисциплин, входящих в образовательную программу 1 ДПП.В.02 Теория и практика стиха Кол-во экземпляров в библиотеке УГПИ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 2 3 8 Основная 2 2 1. Холшевников, В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение./ В.Е. Холшевников. – М., 2004. 2. Илюшин, А.А. Русское стихосложение / А.А. Илюшин. – М., 2004. 1. Федотов, О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2 кн./ О.И. Федотов. – М., 2002. 85 4-в. Список имеющихся демонстрационных, раздаточных материалов, оборудования, компьютерных программ и т.д. Тексты художественных произведений для анализа на экзамене. 86