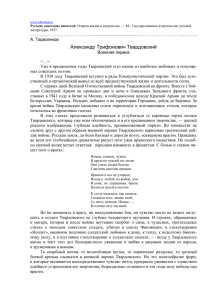Исследования:
advertisement
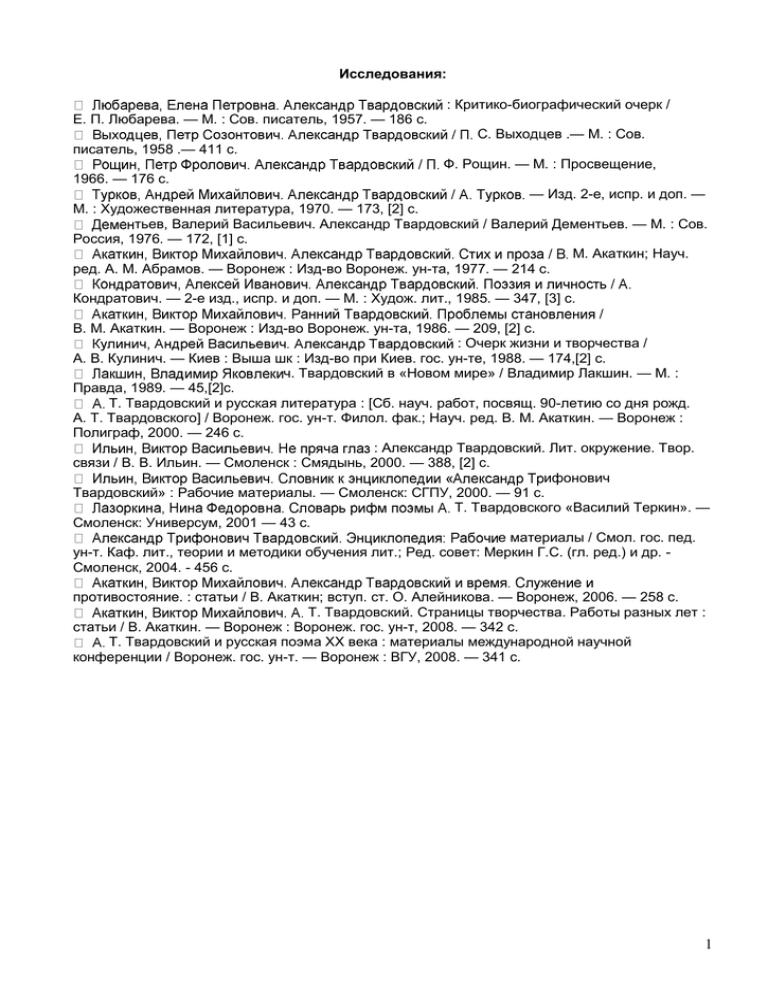
Исследования: : Критико-биографический очерк / Е. П. Любарева. — М. : Сов. писатель, 1957. — 186 с. С. Выходцев .— М. : Сов. писатель, 1958 .— 411 с. Ф. Рощин. — М. : Просвещение, 1966. — 176 с. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Художественная литература, 1970. — 173, [2] с. тьев, Валерий Васильевич. Александр Твардовский / Валерий Дементьев. — М. : Сов. Россия, 1976. — 172, [1] с. М. Акаткин; Науч. ред. А. М. Абрамов. — Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. — 214 с. Кондратович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Худож. лит., 1985. — 347, [3] с. В. М. Акаткин. — Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. — 209, [2] с. : Очерк жизни и творчества / А. В. Кулинич. — Киев : Выша шк : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1988. — 174,[2] с. ч. Твардовский в «Новом мире» / Владимир Лакшин. — М. : Правда, 1989. — 45,[2]с. Т. Твардовский и русская литература : [Сб. науч. работ, посвящ. 90-летию со дня рожд. А. Т. Твардовского] / Воронеж. гос. ун-т. Филол. фак.; Науч. ред. В. М. Акаткин. — Воронеж : Полиграф, 2000. — 246 с. : Александр Твардовский. Лит. окружение. Твор. связи / В. В. Ильин. — Смоленск : Смядынь, 2000. — 388, [2] с. ифонович Твардовский» : Рабочие материалы. — Смоленск: СГПУ, 2000. — 91 с. Т. Твардовского «Василий Теркин». — Смоленск: Универсум, 2001 — 43 с. е материалы / Смол. гос. пед. ун-т. Каф. лит., теории и методики обучения лит.; Ред. совет: Меркин Г.С. (гл. ред.) и др. Смоленск, 2004. - 456 с. противостояние. : статьи / В. Акаткин; вступ. ст. О. Алейникова. — Воронеж, 2006. — 258 с. Т. Твардовский. Страницы творчества. Работы разных лет : статьи / В. Акаткин. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2008. — 342 с. Т. Твардовский и русская поэма XX века : материалы международной научной конференции / Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж : ВГУ, 2008. — 341 с. 1 Истоки Детство и отрочество имело все признаки крестьянской жизни тех лет, но, кроме того, «многое в нашем быту было «не как у людей» («Автобиография»). В это «не как...» входило весьма разное, даже противоположное. Отец был прежде всего хозяином и тружеником своей земли и кузницы, старался выбиться к достатку и, как вспоминает брат поэта, «постоянно желал чем-то выделяться»; вместе с тем был любителем книг, даже «начитанным по-деревенски». У него была небольшая домашняя библиотека, включавшая в себя сочинения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина, Ершова, Кольцова, Гоголя, Тютчева, Фета, также Г. П. Данилевского, Мордовцева и др. Устраивались семейные читки, и Твардовский посвятил специальную заметку-воспоминание роли «заветной книги» — сочинениях Некрасова в их семье, его детстве. Большую роль сыграли впечатления от личности матери. Уже в первых стихах Твардовского о матери мы видим се заботливость, материнскую самоотверженность, чуткость, и поэт находит выразительные детали. Своеобразной и яркой фигурой был дед по отцу Гордей Васильевич. С ним связаны впечатления сердечности, доброты, силы, некоторой необычности, и первое впечатление от смерти, воспроизведенное через много лет в стихотворении «Мне памятно, как умирал мой дед» (1951). И там же говорится: «Мы с ним дружили. Он любил меня». Дед Гордей был в прошлом николаевский солдат, затем — безземельный крестьянин, мастеровой; прошел трудную жизнь. По записи Лакшина, Твардовский говорил про него: «Был он человек — бесстрашный, и в холеру, когда вповалку лежали по избам, ходил помогать больным». Спасался от заразы тюрей с водкой (с этим связан мотив в «Стране Муравии» — «Сорок лет тому назад» и т. д.). Умер дед Гордей осенью 1917 года. Дед Гордой особенно любил маленького Сашу, выделял его среди других детей, называл «ШурилкаМурилка», часто рассказывал ему истории из солдатской жизни, любил петь песни, шутить с ним. Иван Твардовский вспоминает и о бабушке Зинаиде Ильиничне, жене Гордея Васильевича, ее редкой доброте. Более сложными были отношения с отцом. Отец «не щадил на работе ни себя, ни других». Но любил также чтение, а иногда и пел песни, например, «Коробейники» Некрасова. И хотел дать старшим сыновьям — Константину и Александру — образование, даже пытался отдать их на обучение в Смоленскую гимназию в 1919 году, но гимназия была скоро расформирована, и они поступили в том же году в сельскую школу в Ляхове. Писать Твардовский начал, как он говорит в «Автобиографии», очень рано, «до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников — разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения». И Твардовский приводит первые образцы своего детского творчества, с характерной для этого возраста конкретностью. А. Н. Седакова, которая училась с Твардовским в одном классе Ляховской 2 начальной школы, пишет, что «среди других учеников Саша обращал на себя внимание выразительным взглядом своих голубых глаз, напряженной внимательностью ко всему окружающему, всегда опрятный и аккуратный... выделялся способностями, особенно умением читать и декламировать стихи... Говорил сам как-то красиво, мог подбирать к словам рифмы». А. Седакова воспроизводит и отрывки некоторых детских стихов Твардовского. Например, «Вы ракиты, густые, большие, // Принимайте под тенью, друзья. // А поля и луга золотые, // Полюбите навеки меня...» И. П. Иванов вспоминает, как белокурый восьмилетний Санька Твардовский, вместе со своим другом Колей Долгалевым, впервые пришли к нему в школьную библиотеку и спросили «Конька-Горбунка». Вспоминает, как мальчик Твардовский затем регулярно приходил за книгами в библиотеку Белкинского Народного дома, помогал также писать лозунги, выпускать стенгазеты, заполнять каталожные карточки. А когда библиотека переехала на станцию Пересня, гораздо дальше от дома Твардовских, «прямой дорогой через три больших болота — Саша Твардовский и Коля Долгалев — ходили в библиотеку за восемь километров. В летнее время — босиком». В Переснянской библиотеке было около семи тысяч книг. И в рукописных воспоминаниях Иванов добавляет: «Санька днями сидел около полок, глаза разбегались. Он готов был читать все подряд, пришлось определить систему чтения, составить план». Иванов вспоминает и большой список читавшихся мальчиком Твардовским книг. А летом— обычная жизнь крестьянского мальчика. В частности, пастушество, о котором рассказывает Иван Твардовский. И отмечает: «Брат Шурка любил общаться со сверстниками, иногда даже и со старшими ребятами». Вот в таких занятиях и чтениях формировалось детское творчество Твардовского. И быстро происходило общее духовное созревание. Твардовский вспоминал, как со своей любовью к чтению ранним стремлением к творчеству он не во всем подходил к тому, что требовалось от обычного крестьянского сына, рассказывал, как он, «Шурка», топил подосин и в то же время усердно читал. Причем одно время читал не только книги, которые ему давал И. II. Иванов, но и религиозные; в 12 лет даже хотел стать священником, а в 13 —стал отчаянным атеистом (вспомните, и стихах он говорит о себе как раз того времени,—«я, суровый атеист»). Но к сожалению К. Т. Твардовского, занятия в Ляховской школе «пришлось прекратить после 4-го класса», но, по договоренности с отцом, «Александра включили в небольшую группу учеников, которых обучали отец и сын Поручиковы Илья Лазаревич и Иван Ильин — учителя соседней Егорьевской школы, квалифицированные и гуманные». Русский язык и литературу преподавал Иван Ильич, — он оказал большое влияние на Александра, поощрял его стихотворные опыты. В 1923—1924 годы Твардовский один год учился в «девятилетке» в Белом Холме. Школа помещалась в трехэтажном старинном помещичьем доме, с примыкающим большим фруктовым садом, нарком, липовой аллеей. При школе была неплохая библиотека. Школа обслуживала район радиусом в тридцать километров. 3 Саша Твардовский жил в пришкольном общежитии, а по воскресеньям приходил домой. В стихотворении «Память Ленина» (1948—1949) Твардовский описывает себя в начале 1924 года так: «Тринадцатилетний, далекий // Теперь от меня человек,— // В ушанке, в суконной поддевке, // Расчетливо сшитой на рост». Смерть Ленина он тяжело пережил. По воспоминаниям В. Т. Сиводедова, быт в общежитии был организован на коллективных и трудовых началах. Сиводедов запомнил эпизоды бытового поведения Саши Твардовского, в которых проявились его чувство товарищества, готовность помочь, в том числе и физической работой, и домашними продуктами. Жизнь Саши Твардовского в Белом Холме протекала не во всем гладко. Был инцидент, в результате которого его хотели исключить из школы. В. Сиводедов отмечает, что во время школьного «суда» над Твардовским «он вел себя так, как будто все происходящее относилось к кому-то другому». Проявил «уникальную способность страдать молча», сохранять «чувство собственного достоинства» в трудных ситуациях. В том же 1924 году Твардовский вступил в комсомол, стал активным деревенским общественником, селькором. С 1924 года «начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет» (так в «Автобиографии»; Р. М. Романова уточняет, указывая 1925 год). «Изредка заметки печатались. Это делало меня, рядового сельского комсомольца, в глазах моих сверстников и вообще окрестных жителей лицом значительным. Ко мне обращались с жалобами, с предложениями написать о том-то и том-то, «протянуть» такого-то в газете... Потом я отважился посылать и стихи». 4 1925-1927 гг. Эти годы можно считать «ранним Твардовским» в строгом смысле этого понятия, так как его тогдашние стихи в основном имели еще ученический характер, хотя уже пробивались ростки будущего Твардовского. В это время он жил в деревне, иногда выезжал в Смоленск — на селькоровские конференции, в конце 1927 года — на Первый губернский съезд пролетарских писателей. Возможно, в этом году он впервые побывал и в Москве. Твардовский не закончил девятилетку в Белом Холме из-за ее расформирования в 1925 году, а учиться в другой школе не было средств. Около трех месяцев в 1925 году работал (по устному сообщению К.Т.Твардовского) секретарем сельсовета, остальное время помогал по хозяйству, но все больше занимался стихами и селькоровской общественной работой. Содержание корреспонденции, очерков, рассказов Твардовского в эти годы тесно связано с повседневной конкретностью деревенской жизни, культурно-просветительской деятельностью; работа сельскохозяйственных кружков; повышение «квалификации девушек» (специальная заметка!); строительство и работа школ; распространение газет, книг (это тема первого «очерка»); успешный опыт посева корнеплодов, местная сельскохозяйственная выставка; работа сельсоветов; перевыборы кооперации, комитетов взаимопомощи; активность комсомольцев, их субботники и т. д. И стихи тесно связаны с этими «селькоровскими» мотивами. Характерно первое стихотворение в печати — «Новая изба». Стихотворение похоже на многие стихи начинающих поэтов того времени; но что-то от будущего Твардовского проглядывает в конкретности деталей (запах смолы), стремлении дать точное определение — не просто желтые степы, а «желтоватые». В следующем 1926 году последовали три стихотворения, также еще слабые, но с зародышем развитого впоследствии Твардовским жанра социально-психологического портрета в стихах. Это — «Селькор», «Селькорскос», «Селькорке». В этих еще наивных, примитивных строчках возникает уже образ человека — труженика, бойца, человека, желающего помочь людям, который проходит через все творчество Твардовского. И конкретные «очерковые» детали, и уже технически грамотный дольник, широко распространенный в тогдашней поэзии. Напомню, что селькоры в то время были важными фигурами новой деревни, что только в Смоленском уезде в 1926 году насчитывалось тысяча селькоров, их работа требовала подчас большого мужества и упорства. Почти одновременно возникает вторая тематическая линия — стихи о радости и напряженности крестьянского труда, ассоциирующегося и с красотой родной земледельческой природы — «Сенокосное» и «Урожай». «Урожай» Твардовский даже включил в первый том своего четырехтомника. В обоих стихотворениях изображен труд во всей его напряженности, фигурирует «пот» и в прямом смысле, как реальный пот косаря и «пропотевшей бабы», и метафорической пот «запотелых» овсов (утренняя роса сравнивается с каплями пота). И начинают появляться пластические детали: «желтогривые» овсы, колючее жнивье, блестящая коса, овсяной «говор», жаркий пот, темная крыша гумна, звяканье цепов... «отдыхающие» в 5 скирдах снопы,— наряду с красивостями из есенинского арсенала. В стихотворении «Родное» опять изобразительные детали — запахи («тягучий запах конопли... пахнет залежью пеньки»), звуки. К «Родному» примыкает серия стихов, которую можно назвать «очерки деревенского быта» («Посиделки», «Как умерла гармошка» и др.). И в разных вариациях продолжаются тема и пафос «Новой избы» — противопоставление старого и нового в деревенской жизни (ср.: «Две избы», 1927; «Развалились старые саран», 1927). «Я хочу, чтобы пришел к Вам, // Поскорее гул машинный» («Я хочу...» — «Красноармейская правда», 1926, № 263, 13.XI, с. 3). Это была прямая перекличка со стихами тех лет Исаковского. Напомню, что в том же 1926 году появилась поэма П. Доронина —«Тракторный пахарь». И мотив трактора стал одним из отличительных знаков перспектив новой жизни в деревне. Прямолинейный пафос технического преобразования как стержень общего обновления у молодого Твардовского постоянно сопровождается пафосом роста благосостояния в противовес прежней бедности. Например, «О непокрытых крышах» (1926, ноябрь): «Взялась, взялась деревня обрастать, // На крышах хат все меньше дыр мохнатых. // — Ах, скоро, скоро будут нас встречать // Железом крытые, большие хаты». Но мечты о будущем не сопровождаются отрывом от реальности настоящего. Отсюда — «Глухая сторона» (конец декабря 1926), «Почта» и «В глуши» (1926—1928). II Твардовский находит первые типичные для него психологические «поведенческие» детали-метафоры: «Перебираю письма до конца, // Растерянно и нервно беспокоясь. // Так тяжело бывает встретить поезд, // Не отыскав знакомого лица». Это уже было непохоже на стихи, заполнявшие тогда литстраницы газет, и вообще на весь основной литературный поток поэзии деревни — ни связанный с Есениным, ни «антиесенинский»... Нечто общее чувствовалось только с Исаковским. В частности, с его более ранним (1925) стихотворением под тем же названием «В глуши». Исаковский также находит выразительные детали, окрашивая их специфическим «исаковским» юмором. Но Твардовский намечает более сложную характеристику человеческого поведения, настроения. В конфликте старого и нового шестнадцатилетний Твардовский иногда выходит за рамки собственной — и тысяч таких же молодых людей — прямолинейности. И в некоторых стихах появляется нотка жалости к уходящему старому. Вот — «Тихий дом» (1926, декабрь), «Суровый атеист» писал: Тихий дом в запущенном саду // С серыми ушами-ставнями... // Вот ушли и больше не придут // Жители его недавние. // Тихий попик, сивый и больной, // Выехал кудато и не стало. // И теперь вместила шум иной // Тихая и маленькая зала». Или «В старом доме» (1927) с более сложным двухплановым построением. В брошенном бывшем барском старом доме «кто-то плачет, // Старый барин не иначе». Но якобы призрак сбежавшего от погрома бывшего барина оказывается бездомным «заблудшим псом», которого рассказчик от испуга застрелил. «Барин бедный», — говорит дальше семнадцатилетний юноша, деревенский комсомолец, конечно далекий от сочувствия убежавшим барам. Зато в другом 6 стихотворении — «У барского дома» — ясно отмежевывается от этой жалости: «...Жалейте о прошлом, // Кто прошлого сын». В стихотворении «Отцу-богатею» (1927) возникает тема двух путей к зажиточной жизни, которая проходит через следующий период творчества Твардовского. Появляются и первые опыты собственно пейзажной лирики родных мест — «Весенние строчки» и «Родная картина»; включающие в себя и элементы «есенинской» метафоричности, и зародыши самобытного искусства реалистической детали, психологизма. Характерны и стихотворения о «конях», которые были тогда основой благополучия крестьянского хозяйства и в то же время одной из близких и, так сказать, наиболее поэтических фигур деревенской природы, жизни («Кони», «Рожь стоит в допоясном поклоне», 1927; и «Конь»,1927). Продолжалась и линия социальных портретов в стихах. Теперь в качестве героя выступает председатель сельсовета, характерный представитель новой деревни («Бывал в плену, отравлен газом», 1927). В том же году намечается и психологическое углубление этих стихов-портретов. В «Ночном стороже», в «Перевозчике» (см.: Собр. соч., т. 1, 1976) серии поведенческих деталей передают психологические состояния и судьбы людей, хотя и не намечают определенных индивидуальных характеров. Так же как в стихотворении о председателе сельсовета, возникают живые разговорные, как бы недоговоренные фразы, типичные и для будущего Твардовского. «И старость... Скоро, может быть, // Его никто не дозовется». И в обоих стихотворениях выражено столь характерное для Твардовского чувство особого внимания к рядовому человеку труда, к его внешне «бесследной» жизни, которая, однако, имеет свою поэзию. А в «Перевозчике» впервые возникает более широкая тема смысла и следа прожитого времени, жизни и тема человека, кончающего жизнь, — у 17-летнего поэта! В 1927 году возникли и темы, которые можно отнести к любовной лирике. Однако они представлены невыразительными образцами «лирики другого человека» («Невеста», «Девичье»). И даже в стихотворении «Любимой М. Радьковой» только первое четверостишие что-то говорит о самой любви, причем и в этом любовном объяснении упоминается любовь к матери как высшая форма любви. А первой лирической удачей стали два одноименных стихотворения: «Матери» («Я помню осиновый хутор и детство...») и «Матери («Было время —забавляла цацей...»)» В обоих слышен прямой голос лирического «я», в обоих имеются точные автобиографические реалии, и оба начинают историю того образа русской матери-крестьянки и материнской любви, который затем проходит через все творчество Твардовского. И эта тема связана с другой сквозной темой Твардовского — поэзией воспоминания, памяти, в свою очередь неотделимой от поэзии родных мест, истоков человека и его целостности, связи времен, связи поколений. Тема памяти раскрывается в определенном движении лирического сюжета. В первом стихотворении — воспоминания о том, как каждое утро мать пасла корову вместо мальчика. И 7 с какой зоркостью уже подмечает юноша-поэт те детали, которые косвенно характеризуют человеческие отношения! «Мальчик спал, улыбаясь, с сухим армяком и головах». Сухим! Эпитет дополнительно выявляет любовную заботливость матери, благодаря которой сынишка, вместо того чтобы пасти коров, спит или дома, или в каком-то защищенном от росы уголке. Во втором стихотворении мотивы памяти связываются с мотивом будущего расставания с деревней, мечтой о московской жизни, причем эта будущая жизнь дана через цепь деталей истории материнского подарка, а заключительные строчки подчеркивают устойчивость, постоянство на всю жизнь исходного чувства и перекличку образа матери с обликом родной природы — отсюда заключительное сравнение матери с «русскою березкою в лесу». ... Вот так начиналось превращение загорьевского мальчика в поэта, и в течение трех лет уже стал намечаться его контур. Подлинный Твардовский еще был впереди. Много было еще наивно описательного или декларативного, ученического. Можно говорить о некотором влиянии Кольцова, Никитина, Некрасова, иногда — очень косвенно и редко Маяковского, в двух-трех стихотворениях— Есенина. В широком смысле именно в этом периоде проявилось влияние Исаковского. Но, в общем, поражает даже в самых слабых стихах именно отсутствие определенных литературных источников, конкретность контакта с действительностью в её реальной новизне и зародыши ряда основных мотивов будущего Твардовского. 8 1928-1933 гг. В январе 1928 года Твардовский переезжает в Смоленск. Пять лет жизни в Смоленске характеризуются резким изменением и бытового уклада, и окружения поэта. Здесь начинается новый период творчества. С первых же месяцев Твардовский стал профессиональным литератором, лишь эпизодически выполняя какие-то литературные работы, иногда занимал должности в местных органах печати. Жилось нелегко. В ранней профессионализации — с 17-ти лет — были большие трудности, опасности; но было и другое — свободное время, необходимое для сосредоточения на основной литературной работе, и новые возможности человеческих контактов, необходимые для расширения «площадки действительности». Примерно с 1931 года, после женитьбы на М.И.Гореловой, наладился и постоянный быт; образовалась новая семья, твердое чувство опоры на близкого, преданного человека. Это был второй устойчивый «дом» на его дороге. И возникали новые дороги — и в поэтическом и прямом смысле: летом 1928 года ездил в Севастополь, в 1929 — 1930 году несколько месяцев провел в Москве, много ездил по Смоленщине и Брянщине. Это был продуктивный и самый «экспериментальный» отрезок пути Твардовского. 9 1933-1939 гг. Почти все критики и литературоведы именно этот период считают первым периодом уже зрелого творчества Твардовского и начинают его, исходя со слов самого Твардовского, со «Страны Муравии» (1934—1935). А.И. Кондратович начинает его со стихотворения «Полет» (1934). Однако уже в 1933 году появились стихотворения «Гость», тесно связанное со «Страной Муравией», и «Братья», еще более тесно связанное с лирикой последующих лет и отмеченное уже всеми признаками полного расцвета мастерства. Это обосновывает принятый нами хронологический рубеж, хотя 1933 год еще во многом имел переходный, переломный характер. Центральной остается тема преобразования деревин и первых шагов колхозной жизни, новых форм отношений людей. С ней сопрягается — нередко в одном и том же стихотворении — и ряд других тем, на которые часто не обращалось внимания при анализе этого этапа пути Твардовского. Тема коллективизации остается непосредственно главной только в поэме «Страна Муравии», законченной в основном к концу 1935 года, и в нескольких стихотворениях 1933 — 1935 годов. При этом проблемы внутри-колхозной жизни изображены как в главном решенные. Трудности огромного исторического перелома теперь сфокусированы во внутренних колебаниях, смятениях людей, типа Моргунка, отставших от хода истории. И более косвенно в таких стихах, как «Хозяин» (1934), или «Счастливая, одна...» (1934), или «Прошло пять лет» (1936), «А ты, что множество людей...» (1937) — разные варианты дорог вне коллективизации или ухода от нее. После 1935 года эти проблемы как особые темы отодвинуты, хотя иногда всплывают воспоминания о доколхозных иллюзиях («На хуторе в Загорье»). А в таких стихах, как «Дед» (1934), как цикл о деде Даниле, всё больше выступает и мотив преемственности старого и нового трудового начала деревенской жизни. Но нигде поэт не идеализирует прошлое. На контрасте с плохим прошлым, с «горькой жизнью тон» построены такие стихотворения, как «Песня» или «Смоленщина». Но дед Данила и Ивушкапечник, дед Гордей, другие «родители» дают нам почувствовать и связь времен, поколений. Твардовский вновь и вновь возвращается к своему исходному дому на дороге, из которого он ушел, от которого даже резко оттолкнулся, — к тому «чудному нарочному», «хутору- хуторку» своего детства, со всеми его иллюзиями, ложными надеждами, бедностью, противоречиями между отцом и детьми и проч., и в этих возвратах все же сквозит и чувство коренного родства, и чувство остроты потери и присутствия чего-то неповторимо родного, своего, коренного. Тема перестройки деревни в целом разрабатывается в поэзии Твардовского 30-х годов как тема продолжающегося движения, продолжающегося вступления на новую дорогу — в ее реальных связях с прошлым и ростках будущего. Прежде всего обогащается и продолжается тема и пафос «семьи», семенного начала человеческой общности. И она становится гораздо более многосторонней, многоповороткой и 10 обычно переплетается с другими излюбленными мотивами-темами домов и дорог Твардовского. Этой теме целиком или частью посвящено более четверти всех стихов этого периода; существенно, хотя и в подчиненном размере, затронута она и в «Стране Муравии». А сплетаются с ней обычно воспоминания о детстве или о более отдаленном прошлом семьи и других людей, проблемы соотношений старого и нового, новой и старой трудовой общности. Чаще говорится о преемственности в семье, но не раз и о разрывах внутри нее. Главную роль играет образ матери и материнского начала, в котором воплощаются единство семьи и ее нравственное существо. Непосредственно теме матери посвящено семь стихотворений, а те или иные связанные с ней мотивы проходят через множество других. Обычно фигурирует, по крайней мере, два лица. Мать и сын. Мать и дочь. Другая частая пара — муж и жена. Затем отец и сын или отец и дочь. Но скрыто или явно основным источником света любви, связи времен, человеческих ценностей является мать, материнская деятельная любовь. Продолжается тот ключевой образ, который возник еще в стихах 17-летнего Твардовского. В этом периоде с ним также связаны некоторые высшие достижения лирики Твардовского — «Песня» (1936), «Матери» («И первый шум листвы...», 1937). В другой группе семейных мотивов — мотивов «мужа и жены» — носителем нравственного начала также обычно является жена как мать и хозяйка. Теперь, в ходе общих изменений деревни, часто — и как носитель новых трудовых ценностей. Раскрывается рост се человеческого достоинства, самостоятельности; возникает тема жены, обогнавшей своего мужа и в труде и в общественном резонансе («Встреча», «Что он делал»). Иногда в качестве контрастного оттенка продолжается и традиционный мотив крестьянской жизни — мотив сварливой и властной жены-старухи, с которой в конце концов муж все-таки примиряется («Еще про Данилу») или, наоборот, как-то себе ее подчиняет («Рассказ председателя колхоза»); но даже в этих сварливых старухах всегда видна сила общности с мужем, детьми. Есть и подтема равноценной взаимной любви («Семейный спор», 1938). А в мотивах отец — сын или отец — дочь самые разные варианты: взаимная любовь, преемственность и уход сына от отцовской жизни и даже конфликт с отцом. И особый вариант — лирика непосредственного отцовского чувства. Частью несомненно автобиографическая: «Растет ребенок, преодолевая...» (1934), «Дождь надвигается внезапный» (1936), «Сын мой уснул, разметавшись...» (1938), с прямым высказыванием лирического чувства. Отцовское начало проявляется и в стихах о других детях, и это одни из важных элементов «лирики другого человека» в этот период. Проявляется и в стихах, с любовью описывающих детскую психологию, детские занятия, зародыши будущего в растущем ребенке. Отсюда стихотворение «Строитель», в котором ребенок изображен как трудовой, творческий маленький человек. И наконец — в опытах создания стихов для детей — две книжки и ряд стихотворений, включенных в учебное пособие для детей. Эти опыты не дали больших художественных достижений, но в них также проявилось стремление поэта выразить семейное начало особой темой и жанром. С темой «отец — дети» связана и тема братьев, которая дала одно из самых замечательных стихотворений Твардовского («Братья», 11 1933), прозвучала и в других стихах («На хуторе в Загорье» и др.). И тема «деда» и «дедов», которая прослеживается в ряде стихотворений и переходит в тему большой семьи, представляет истоки и преемственность всей семейной линии. Обычно «деды» и «старухи» — это носители лучшего трудового начала и связи поколений. Но есть и образы стариков, отставших от жизни или представляющих прошлую темноту, отсталость, отчужденность. Эпизодически возникают и другие мотивы родства, например, свата и друга в «Стране Муравии». Теперь, перечитывая все эти стихи, поражаешься, как в рамках общей ясной социальной направленности Твардовского тех лет вырос этот особый пафос кровной близости, родства. Тут сказалось традиционное семейное начало, играющее такую большую роль в русской деревне. В 30-е годы оно подвергалось большим испытаниям и ударам: тысячи семей раскалывались, разбредались, и это также отразилось в ряде стихотворений и поэме Твардовского тех лет, вплоть до истории кулака Бугрова, бросившего своего сына, чтобы украсть коня. Но в разных формах происходило и расширение семейного начала за рамки традиционной деревенской семьи; выходцы из одной и той же семьи уходили из нее в самые разные сферы деятельности, как в «Семье кузнеца», но в той или иной мере сохраняли семейные корни, связи. И внутри семьи развивались более равноправные, достойные отношения. В сочетании этого расширения семейного начала с тенденцией сохранения семейной общности Твардовскому виделось одно из поэтических начал времени, и он старался его художественно закрепить. Напомню для сравнения, что в творчестве многих крупнейших советских поэтов того времени — Багрицкого, Сельвинского, даже отчасти Светлова — семейное начало, традиции часто изображались как нечто, требующее преодоления или даже отрицания. К «семейному» кругу мотивов примыкает круг стихов о девушках-невестах, об отношениях жениха и невесты и вся любовная лирика Твардовского, в которой также проглядывает принцип доминирующего семейного начала. Отсюда стихи о невестах, о свадьбах («Семейный спор»). В стихах о любви преобладает повествовательно-сюжетная «лирика другого человека». Но имеются и стили, близкие к любовной лирике в традиционном понимании — «Размолвка», «Звезды, звезды...», «Мы на свете мало жили...». В этих стихах образ любящего совпадает с образом автора, лирического «я», хотя опять-таки нельзя вполне отождествлять это «я» с «я» биографическим. Мотивы любви присутствуют и в некоторых стихах с внешне совсем другой тематикой, иногда как второй текст или подтекст (например, в лирическом пейзаже «Ледоход», 1936, и др.). Любовная лирика Твардовского очень своеобразна. Нет ни одного стихотворения, которое содержало бы обычное для поэзии прямое объяснение в любви. Это чувство высказывается системой косвенных деталей, ассоциаций, соотнесений с поведением других людей. Чувство всегда очень чистое, но и очень сдержанное. Ни намека на любовь-страсть. В одном из лучших стихотворений о любви это прежде всего любовь девушки-невесты, будущей жены, в 12 которой «Столько нежности подруги // Столько гордости жены». И в этой любви нечто материнское: «Вся ты им живешь и дышишь, // Вся верна, чиста, как мать». И при всей сдержанности любовь у Твардовского — полнота самоотдачи другому человеку. Тут ведь заключается суть «вопроса» в таком редком для Твардовского образце «чисто» любовной лирики, как «Звезды, звезды...». Звезды, звезды, как мне быть, Звезды, что мне делать, Чтобы так ее любить, Как она велела? Вот прошло уже три дня, Как она сказала: — Полюбите так меня, Чтоб вам трудно стало. Чтобы не было для вас Все на свете просто, Чтоб хотелось вам подчас Прыгнуть в воду с моста. Чтоб ни дыма, ни огня Вам не страшно было. Полюбите так меня, Чтоб я вас любила. (1938) А примирение любящих в прекрасном стихотворении «Мы на свете мало жили» наступает именно от того, что и в момент разрыва любящая женщина подумала не о себе, не о своем уходе, уже как будто решенном, а о том, как на прощанье печку затопить, для того, с кем она хочет порвать. И тогда родились «настоящие слова». Благородство любви доходит у Твардовского до того, что и отвергнутый любящий желает любимой прежде всего счастья с другим («Невесте», 1936). Это благородство тем более благородно, что не претендует на благородство и выражено самой обычной разговорной, даже просторечной и простодушной речью. Мотив очень редкий в мировой лирике. Один необыкновенный предшественник у Твардовского был — это Пушкин, с его словами: «Как дай Вам бог любимой быть другим!» Но у Пушкина вместе с тем — полнота любви, страсти именно от этой полноты, преодолевающей ревность, преодолевающей эгоистическую сторону любви. А здесь скорее особое чувство товарищества в самой любви и в отношениях к другим людям, и примирение с необходимостью: «Ничего тут не попишешь, // Да и нечего писать». Может быть, отсутствием в любовной лирике Твардовского непосредственно страстного, сосредоточенного на самой любви чувства объясняется и еще одна ее особенность. В ней 13 скорее больше первых проявлений зарождающейся любви («Случай на дороге», «Шофер», «Про теленка»), иногда только намеков да ее возможность. А с другой стороны, особенно сильно то, что непосредственно готовит к семейному началу. Но оборотной стороной этой благородной и чистой и вместе с тем очень по-новому конкретной, психологически богатой любовной лирики является чрезмерность самой этой сдержанности. Любовь часто изображается как некий душевный запрос или вопрос о том, как надо или можно любить. И любовь эта обычно спокойная, далее чуточку рассудочная. Поэтому так спокойно протекает и размолвка в стихотворении «Размолвка». В стихотворении от имени влюбленной девушки, обращающейся к любимому, эта влюбленная не забывает ему напомнить: «Милый мой, не зазнавайся, // Не один на свете ты». И начинается стихотворение словами: «Погляжу, какой ты милый». Хотя есть в этом своеобразном любовном объяснении-нравоучении и подлинное чувство. И везде поэт больше зоркий наблюдатель, чем участник. Любовной лирике не хватает иногда непосредственной эмоциональности, но есть подлинные открытия новых форм душевного благородства и чистоты любви. И с удивительной тонкостью и наблюдательностью была подмечена и описана бытовая реальность, даже как бы деловитость любовных отношений в различных жизненных ситуациях, всегда связанных с трудовыми делами и отношениями. Образы-мотивы женщины-матери, жены, невесты, возлюбленной часто сопрягаются у Твардовского с изображением женщины-работницы, мастерицы («Встреча», «Что он делал...», «Подруги», «Катерина», «Мать и дочь» и др.), подобно героиням очерков, о которых говорилось в предыдущей главе (сравни «Рассказ Матрены», 1937, и «Софья Лобасова», 1936). И женщины — трудовой подруги, иногда даже руководительницы («Катерина»). И суммируя эти мотивы, возникает другая большая тема у Твардовского этого периода: женской доли, ее исторических изменений. Одно время Твардовский даже собирался писать об этом поэму или большой цикл стихов. В стихах Твардовского нет отрицательных женских образов. Много внимания уделяется различным мотивам женского несчастья, горя — неудавшейся, несостоявшейся любви, неудавшейся жизни, — обычно с конкретной, социально-исторической мотивировкой этих женских судеб. Социальная мотивировка пронизывает и описание новых возможностей женщины в нашем обществе. Отсюда своеобразный пафос нового женского равноправия, подъема женского человеческого достоинства одновременно с сохранением женской скромности. Появляются и образы женщин, которые стали знаменитыми колхозницами, и стихотворение о бывшей птичнице, ставшей знаменитой летчицей («Полина», 1938). Семейные и «женские» мотивы переплетаются с другими мотивами человеческих контактов, общностей, товарищества, дружбы, даже просто соседства, землячества, даже только «сверстничества» («Здравствуй, сверстница»). Отсюда такие стихи, как «Товарищу», «Друзьям», «Легко бывает вспоминать», и др. Все это сливается в теме новой человеческой общности, родства в широком смысле слова, сочеловечности людей. И в этой новой общности 14 — преодоление разъединенности, частнособственническим свинством, отчужденности, стяжательством, эгоизма, которые недоверием, порождены злобой. Крайним проявлением опять-таки является потеря кулаком Бугровым элементарного чувства отца к сыну. Но Твардовский описывает и менее резкие формы искажения собственническим началом нормальной человеческой общности. Так, в сдержанно-драматическом, горьком стихотворении «Выезжали ночью в холодок» (1934) ребенок боится отца, который приказал ему следить, чтобы кнут не потерялся, и потеря кнута становится трагическим детским переживанием. Ласкательное обращение мальчика — «бать» звучит как горькая ирония, — но все же напоминание о силе семейной связи имеется и здесь. Все эти мотивы зародились в прошлом периоде, но теперь они в известной мере освобождаются от напряженного социологизма. Лирическое начало, непосредственно личное и личностное по-прежнему для Твардовского четко социально мотивировано. Но присутствует и как естественное проявление нормальных человеческих чувств и свойств возникающей новой человеческой общности и лучших традиций прошлого. *** Почти все эти разнообразные темы, мотивы возникли, как мы видели, еще у раннего Твардовского 1925—1932 годов, особенно 1926—1932 годов. Их круг теперь даже больше сосредоточился. И не продолжались те первые опыты изображения людей чисто городского труда, от уборщицы в учреждении до нового работника суда, которые мы видели у раннего Твардовского. Не продолжились и проблемы таких стихотворений, как «Доклад» или «Зеленый город». Но произошло и существенное обогащение, расширение, переосмысление ряда тем, только намеченных в предыдущем периоде, их более конкретно-личностное развитие. Отсюда усиление мотивов семьи, дружбы, человеческой общности, ростков новых человеческих отношений. И часто в одном и том же стихотворении сплетались пучки нескольких тем, а самым общим явился пафос новой действительности, стремление найти ее целостный образ. В этом пафосе были иллюзии, но была и реальная основа. Назревало и предчувствие новой гигантской трагедии истории. И реальный порыв к новой лучшей жизни, ее новой конкретности и преемственность этого порыва с исконными ценностями трудового человека — народа, а также с исконными противоречиями человеческой жизни. 15 Обновление поэтики Сам Твардовский в «Автобиографии», говоря о переходе от своих ранних стихов к «Стране Муравии», писал: «Пристальное знакомство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и прозы подарило мне еще такое «открытие», как законность условности в изображении действительности средствами искусства. Условность хотя бы фантастического сюжета, преувеличение и смещение деталей живого мира в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, противоречащими реализму изображения. А то, наблюденное и добытое из жизни мною лично, что я носил в душе, гнало меня к новой работе, к новым поискам». И преодоление чрезмерной прозаизации, и дальнейшее углубление в реальность действительности осуществились в лирике даже раньше, чем в поэме, как это видно, например, в стихотворении «Братья» и ряде других 1933—1934 годов. В большой поэтической форме это преодоление вполне четко наметилось и в незавершенной поэме «Мужичок горбатый», как это видно и по сохранившимся фрагментам. Но решающим скачком была действительно «Страна Муравия». И на этом скачке большую помощь оказало новое обращение к опыту Некрасова. У Некрасова в это время Твардовский учился искусству соединить разговорное и мелодическое начала, искусству превращать «снижение» в новое возвышение и соединять событийность, сюжетность (в поэтическом, а не прозаическом понимании сюжета) с лирической эмоциональной наполненностью. Это было и продолжение общей связи с некрасовской традицией. Народность и реализм Некрасова, внимание к конкретному народному человеку, демократизация литературного героя — все это связывало Твардовского с традицией Некрасова. Но с той коренной разницей, что у Твардовского не могло быть разрыва между личностью демократического интеллигента и низового трудового человека. Основным носителем душевного богатства, многообразия человеческой психологии становился сам массовый народный человек, прошедший через опыт революции к новой народной интеллигентности. И это создало основу поиска синтеза более смелой, даже подчас как бы разорванной ассоциативности сознания человека XX века с его особым чувством новизны, даже парадоксальности и катастрофизма исторического процесса, и чувства преемственности, поиска устойчивого целого. Отсюда и еще более далеко идущий, чем это было возможно во времена Некрасова, сдвиг к прозаизации стиха, использованию еще более последовательно опыта прозы, — и художественной, и деловой, и еще более смелые поиски поэзии самой этой прозы. Отсюда и кардинальное преодоление «литературности», и вместе с тем выработка нового поэтического языка, новой более синтетической интонации, нового более «объективного» лиризма, нового человеческого многоголосья в поэзии. Это выразилось и в дальнейшей разработке жанровых характеристик. 16 Как и в предыдущем периоде, с точки зрения соотношений в стихе авторского «я» и вне авторской действительности, субъективного и объективного, выделялось четыре группы стихотворения. Первая — собственно сюжетно-повествовательная или очерковая, где авторское «я» целиком остается за сценой, выражается лишь образами людей и ситуаций, которые он изображает. Это — рассказы в стихах. К этой группе стихотворений принадлежат такие достижения, как «Гость», «Бабушка», «Хозяин», «Прошло пять лет», «Встреча», «Что он делал», «Прощание», «Ивушка», весь цикл о Даниле, «Ленин и печник». Стихи этого типа составляют около одной трети общего количества стихотворений и несколько более половины количества написанных в эти годы Твардовским строк. И в рамках этой группы стихотворений можно выделить более крупный повествовательный жанр — рассказы в стихах: «Рассказ председателя колхоза» (1935—160 строк), «Рассказ Матрены» (1937—140 строк), «Еще про Данилу» (1938 — 300 строк), «Про теленка» (1938—160 строк), «Ленин и печник» (1938—1940—164 строки). И жанр коротких повествовательных стихотворений, размером обычно от 30 до 70-ти строк, продолжавших жанр «Гостеприимства». Один из лучших и первых образцов этого жанра — «Гость» (1938 — 64 строки). К этому жанру относятся и лучшие стихи в цикле о Даниле. Большая часть стихов этой группы имеет центрального персонажа (например, «Рассказ председателя колхоза»), но чаще рассказ ведет или некий рассказчик, не совпадающий ни с автором, ни с персонажем-героем («Ленин и печник»), или просто «автор» («Гость» и мн. др.). Такие стихи, как «Прошло пять лет», «Сын», «Счастливая, одна из всех сестер», и другие несколько отличаются более акцентированным авторским голосом (в форме оценочных эпитетов, косвенной речи). Другая группа стихотворений — также сюжетно-повествовательные или дневниковоописательные стихи, но с более ясным активным присутствием, непосредственно высказывающимся лирическим «я» — чаще всего в форме обращения от имени этого «я» к главным персонажам или их судьбам. Из лучших стихов этих лет сюда относятся — «С одной красой пришла ты в мужний дом...», «Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой...». Некоторые из этих стихов тесно связаны с лирикой прямого высказывания о себе, споем, только, так сказать, без названия, таково стихотворение-обращение к матери ребенка «Ты робко его приподымешь». Но авторское «я» все же здесь остается неопределенным, может звучать и «как лирика другого человека». Третья группа — «лирика другого человека». Сюда относятся — «Катерина», «Невеста», «На свадьбе», «Соперники», «Погляжу, какой ты милый» и др. В качестве другого человека — лирического героя — здесь могут выступать и мужчина, и женщина, и целый коллектив людей — некие «мы» («Катерина»), люди разных профессий и положений, но всегда чем-то близкие автору по своей психологии, люди из народа и обычно представители конкретного дела. И, наконец, четвертая группа, в которой прямо выступает лирическое «я», и его высказывание составляет основную ткань стихотворения или, во всяком случае, играет в нем решающую 17 роль. Высказывание или в форме комментария-добавления при описании, или рассказе (например, ряд стихов-воспоминаний и т. д.), или — реже — в форме прямого высказывания или размышления, не ограниченного какой-либо отдельной картиной или впечатлением. К этой группе вместе с пейзажной лирикой относится почти половина всех произведений Твардовского этого периода, не считая «Страны Муравии». Ряд важнейших ключевых стихотворений «Рожь отволновалась», «Братья», «Я иду и радуюсь...», «Кружились белые березки», «Путник», «Матери», «Мы на свете мало жили», «Сельское утро», «Звезды, звезды...», «Сын мой уснул...», «На хуторе Загорье», «Поездка в Загорье» и др. Соотношения объективного и субъективного в лирическом событии — переживании — размышлении и здесь сильно варьируют. Большей частью имеется четко определенный лирический сюжет: например, в «Братьях» — история семьи, ее судьбы, лирический рассказ с прямым высказыванием от имени лирического «я»; «На хуторе Загорье» и «Поездка в Загорье» — лирический отчет и очерк о своей поездке в родные места. В других стихотворениях какие-то картинки, описательные, высказывания — бытовые «Сельское или утро». смешанные В-третьих — природно-бытовые, без некие по малые, но прямого существу многозначительные, существенные микрособытия — переживания, моменты личной жизни (например, «Путник», «Я иду и радуюсь...»), стихотворения наиболее сосредоточенные непосредственно на самом себе, хотя и соотнесенные с отдельными ситуациями и деталями объективного мира. В самых повествовательных стихах проявлялось лирическое начало — спецификой лирической интонации и лирического времени. И в поэме «Страна Муравия» повествовательное начало тесно сплеталось с лирической окраской отдельных кусков и цепью непосредственных лирических высказываний — или прямо от автора, или через косвенную речь, сливающую голос автора и персонажа. Таким образом, во всех жанрах поэзии Твардовского этого периода мы имеем дальнейшее продолжение событийности, сюжетности классической русской реалистической лирики, но дополненное новыми лирическими возможностями, порожденными действительностью XX века, действительностью наших 30-х годов, а также личной судьбой Твардовского, стремлением сблизить разнопластовые и разномасштабные явления в едином лирическом событии, движении человека и его памяти. То «сопряжение далековатых идей», которое всегда было присуще поэзии, доходит в поэзии XX века до небывалого размаха дальнодействия и разноразмерности. Если у Блока поездка на рысаке превращалась в поездку над бездонным провалом в вечность, то у этого, более деловитого юноши 30-х годов, веточка двурогая сирени, которую он мимоходом подержал и обронил, также дальнодействует с огромными переживаниями о далеком, безвестном друге, о его смерти за славные дела и т. д. И соответственно дальше разрабатывается та новая структура лирического времени, первые контуры которой мы видели в «Докладе» и других стихах предыдущего периода. Времени 18 многопланового, разного для разных персонажей и для лирического «я» и все же совмещенного в одном, однократном времени-высказывании. Так, в стихотворении «Песня» время обращения лирического «я» к матери, его настоящее время, удвоено совместным слушанием с матерью песни. А в этой песне, проигранной на пластинке, всплывает целый поток и одна конкретная ситуация давно прошедшего времени и переживается заново, как если бы она была сейчас. И затем наступает третье время, многозначительное молчание «старухи матери», заключающее стихотворение, — совместный безмолвный комментарий и лирического «я» и матери. А время, вспоминаемое матерью, включает дополнительное обращение к ней сына. Такие конструкции времени, как мы уже отмечали в первой главе, отсутствовали в лирике XIX века и даже в лирике Бунина и возникли только в лирике Мандельштама, но у Твардовского получают дополнительное развитие, за счет увеличения многоголосия самого времени и персонажей. Другой пример — возникновение мотива будущего воспоминания о своем настоящем в конце стихотворения «Ты робко его приподымешь», — о том, как мать будет вспоминать, как кормила своего ребенка, и вспоминать вместе с его дальнейшей жизнью, и все это в форме переживания-размышления сейчас, теперь лирического «я», его обращения к женщине — матери ребенка. Отсюда и новая поэтика памяти, также наметившаяся в предыдущем периоде. Память совмещает разновременные пласты, вплоть до воспоминания о будущем и воспоминания в будущем о настоящем. Но мало того, находит сейчас в настоящем — в настоящем лирического «я» некоторые материальные детали или приметы самого процесса этого совмещения разных пластов времени, например, прошедшего в настоящем. Вспомним ту оставшуюся от заброшенного хутора печку, ее трубу... Или: И первый шум листвы еще неполной, И след зеленый по росе зернистой, И одинокий стук валька на речке, И грустный запах молодого сена, Всего приурочены у Твардовского, с одной стороны, к наиболее напевным по интонации стихам, с другой, некоторым наиболее непринужденно-разговорным. Конкретные ритмические группы внутри метрических еще более ясно связаны с интонационно-тематическими группами. Например, выделяется разговорно-мелодический тип хорея цикла стихов о Даниле и «Ивушке» — тип ритмической структуры, получившей продолжение в «Василии Теркине» и ряде других стихотворений военного времени. Общая тенденция к мелодизации проявилась в дальнейшем развитии систем повторов, лейтмотивов, параллелизмов. Например, в «Ивушке» разговорная интонация сочетается с трехкратным повтором в «речи» Ивушки: «А за печку мой ответ: // Без ремонта двадцать лет». Широко развиты и разнообразные повторы внутри и в начале строк — типа анафор, подхватов, внутренних рифм и ассонансов. Например, в стихотворении «Кто ж тебя знал...» пятикратное начало строк словами «Только всего», дважды — обращение «Кто ж тебя знал», 19 трижды— «знать» и т. д. И несмотря на разговорную лексику, синтаксис, стихотворение становится отчетливо, даже настойчиво, щемяще певучим. Точно так же характерно сочетание самой традиционной строфической схемы — замкнутых четверостиший с перекрестной рифмовкой, с возникающими на определенных смысловых, интонационных узлах хода стихотворения двустишиями с параллельной рифмовкой и другими, более сложными типами строф, например, пяти- и шестистрочных, с разнообразными чередованиями рифм. В основном это те же схемы, которые выявились уже в стихах 1928— 1929 годов, но Твардовский пользуется ими теперь с еще большим разнообразием вариаций и большим искусством. В общей системе рифмовки также проявилась тенденция к более строгой организованности, и отсюда — резкое сокращение процентного содержания неточных рифм. По подсчетам М. Гаспарова (в его докладе на совещании «Твардовский, Исаковский, Рыленков», Смоленск, 1978), в лирике 1935—1938 годов неточных мужских 3 процента против 22 процентов в «Пути к социализму», неточных женских — 32 процента против 39 процентов. В целом по сравнению с поэтикой предыдущего периода: а) увеличивается богатство конкретных поведенческих и других бесценных подробностей, их сочетаний с обобщенными, укрупненными формулировками; б) происходит дальнейшее психологическое углубление и в индивидуальное, и в совместное коллективное переживание; в) дальнейшее развитие синтетических напевно-разговорных и других сложноразговорных (реже с ораторскими элементами) интонаций и, в общем, явно усиливается напевное, музыкальное начало; г) дальнейшая разработка искусства психологического контекста и отбора максимально точных деталей-определений психологии и поведения. *** Поэзия Твардовского 1933—1930 годов на фоне советской поэзии этих лет выделяется и своими индивидуальными особенностями и группой признаков общих с несколькими другими поэтами вполне сложившейся в эти годы «смоленской школы». «Школа» была представлена, кроме Исаковского и Твардовского, прежде всего Рыленковым, затем Дворецким, Фиксиным, отчасти Курдовым, Лютовой, с середины 30-х также Грибачевым. Главным общим был тот пафос новой конкретности, новой стадии развития нашей действительности, общества, человека, о котором говорилось в первой главе этой книги. И отсюда стремление создать, разработать новые типы «сюжетных» и «портретных» стихотворений, «лирики другого человека», синтеза разговорной, напевной и, отчасти, ораторской интонации на базе конкретной языковой стихии. Вместе с тем ясно определились индивидуальные отличия. В стихах Исаковского, а с середины 30-х годов отчасти также Рыленкова особенное развитие получило стремление к синтезу мелодического, напевного и разговорно-бытового начала с преобладанием напевного. У некоторых представителей «смоленской школы» были особенно 20 развиты элементы производственно-профессионального портрета (Дм. Дворецкий), у других — стихотворного очерка. Основные тенденции «смоленской школы» выразились и в общем потоке стихов, печатавшихся в журнале «Наступление» и других местных изданиях. С другой стороны, другие участники «смоленской школы» не проходили такой стадии предельной прозаизации, как Твардовский, и некоторые из них относились к этой стадии отрицательно. В частности, Рыленков на всех этапах своего развития стремился сохранить единство разговорного и напевного начала, и его отношение к «литературности» было другим, чем у Твардовского. И, кроме того, у Рыленкова большую роль играла любовная и пейзажная лирика. Его развитие было теснее связано с литературными влияниями. Но это органически совмещалось в нем с крепкими крестьянскими корнями, с тем же, как у Твардовского, у Исаковского, чувством родной местности, почвы, коренного трудового человека. За пределами Смоленска также наметилась литературная линия, близкая «смоленской школе». Наиболее близкой по основным признакам поэтики была талантливая поэма или, точнее, своеобразный рассказ в стихах Николая Дементьева «Мать» (1933), которая и сразу же после своего появления, и позже высоко оценивалась и самим Твардовским. В «Матери» проявился и «некрасовский» принцип соединения бытовой конкретности, разговорной интонации и внутренней мелодичности стиха. Сближались с Твардовским и тема преемственности и разрыва поколений, старого и нового; и пафос душевного богатства, красоты коллективного переживания трудовых людей, соприкоснувшихся с судьбой и этой матери, и своего начальника, с ними кровно связанного; тема новой человеческой общности; и особенно тема мать — сын и тема близости жизни и смерти в самой полноте жизни, проявления в столкновении со смертью человеческой общности. И общее сочетание в этой поэме многоголосой разговорности, слияния «мы» и отдельных людей, в это «мы» входящих, и основной душевной поэтической мелодии. Но образы людей в поэме Дементьева все же гораздо более суммарны, конкретные подробности не играют такой роли, — не говоря уже об отличии недеревенской темы и облика главного персонажа от главных персонажей — героев поэзии Твардовского. Итак, с одной стороны, была группа поэтов в Смоленске и за его пределами, во многом очень близких Твардовскому, а с другой стороны, и наиболее близкие были чем-то не близкими, и в каком-то отношении он был уникальным явлением. Прежде всего отличали его от всех углубленный психологизм, новое чувство времени и памяти, новая многослойность поэтического сознания. Вместе с тем и Твардовский, и вся «смоленская школа» не были чемто обособленным от основного потока советской поэзии тех лет; есть множество перекличек Твардовского с поэтами, очень от него как будто далекими. Прежде всего отметим контраст и параллелизм с эволюцией Заболоцкого в это же время. Заболоцкий также создавал нового типа сюжетно-повествовательную лирику; также разрабатывал новые принципы темы и поэтики памяти, времени, жизни и смерти; также искал новый синтез разговорности и музыкальности поэтического слова, классического и 21 современного в поэзии, хотя у Заболоцкого этот синтез и гораздо большей степени включал в себя музыкально-ораторское, подчас «одическое» начало. И также к этому новому повороту Заболоцкий пришел, пройдя стадию предельной прозаизации и нелитературности. Некоторые общие тематические и жанровые тенденции, например, тенденции к созданию стихотворных портретов, «обнаженных биографий» (выражение Рыленкова), проблематика обновления человеческих чувств, преемственности и разрыва поколений и времен; проблематика соединения многоголосья «мы» и отдельного человека; разработка новых интонаций; соединение разных форм бытийной конкретности, разговорной, ораторской или соединение эпического и лирического начал — все это в разных формах проявлялось и в творчестве Багрицкого, Тихонова, Луговского, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Ярослава Смелякова, отчасти даже у Светлова и др. В «деревенской» тематике Бориса Корнилова имеются и более прямые тематические переклички и жанровые параллели с Твардовским, переклички и с тематикой жизни и смерти, памяти, родных и дальних мест. Но еще более развились, определились и особенности всей «смоленской школы», и творческой личности Твардовского, наметившиеся к 1929 году, обогащенные новыми достижениями углубления психологической конкретности и синтетической многоголосной интонации, включающей и более мелодическое начало. В 1934 году Твардовский был принят в члены Союза писателей и избран в число делегатов от Западной области на Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Одновременно в 1932 году поступил в Смоленский педагогический институт, успешно сдав, уже в институте, и экзамены за курс средней школы. Учение совмещалось с исключительно интенсивной творческой работой. Однако, несмотря на эти сдвиги и отчасти именно в связи с ними, возобновились и даже усилились нападки на него группы местных рапповцев. И прекратились только в 1936 году после явного успеха «Страны Муравии» и переезда Твардовского в Москву. И все же было и другое, главное: сознание творческой зрелости, найденности пути. Семья. Друзья. Поездки в деревни, новые жизненные впечатления. После переезда и Москву в 1936 году поэт поступил и МИФЛИ и успешно окончил его в 1939 году. В 1938 году вступил в партию. В 1939 году был награжден орденом Ленина за выдающиеся литературные заслуги, а в 1941 получил Государственную премию второй степени за «Страну Муравию». Начался период общего признания критикой и общественностью, новых поисков, которые дали «Ленина и печника». 22 Поэма «Путь к социализму» Первая поэма Твардовского им самим и всеми исследователями его творчества оценивалась как совершенно слабый, неудачный опыт. Однако иначе оценивал ее Эдуард Багрицкий. Критикой она была сначала почти не замечена, а затем оценивалась очень противоречиво. Сейчас эта поэма действительно всеми воспринимается еще как первый опыт. Но во многом удачный. Поэма написана в апреле — августе 1930 года воистину по горячему следу первого года массовой коллективизации. И эта оперативность совмещается с небывалой для поэзии о деревне тех лет конкретностью и многоплановостью. Внешнее движение, фабула поэмы предельно просты: несколько эпизодов жизни только что организованного колхоза — от подготовки весеннего сева (эпизод, в котором колхозники хотят разобрать ссыпанный в общую кучу первый колхозный семенной овес) до первой уборки коллективного урожая и проводов председателя, переброшенного в другой колхоз. И в конце коллективное «слово» колхоза о войне, о готовности защищать социализм и строить его. Эпизоды внутренней жизни колхоза сопоставлены с историей жизни соседнего кулака Ермака Кулагина и ее кульминацией — сценой конфискации его имущества, в том числе сельскохозяйственных машин, которые тут же передаются колхозу. Внутри другого эпизода вставлен лирический рассказ женщины-колхозницы об одном из случаев ее прежней, еще дореволюционной жизни. А с другой стороны, в ходе освоения колхозной жизни у тех самых колхозников, которые только что собирались разобрать по домам коллективный семенной овес, возникает мысль о совсем новом будущем общеколхозном деле — строительстве плотины на местном ручье, создании колхозного пруда-озера. Этот мотив вновь возникает в очерке «Озеро» (1932) и в стихотворении «Новое озеро» (1934). Так сопоставлены три пласта времени. Хроникальная структура осложнена неравномерностью хода поэтического времени, его разрывами. Сюжет связан не с какой-то неповторимой личной судьбой, а с судьбой именно колхоза как коллективного героя, его первого становления как новой человеческой целостности. В ходе поэмы происходит как бы зародышевое выделение отдельных личностей. Но сначала это только имена без лиц: «Люди без шапок // Идут посмотреть овес // В ночную позднюю пору. // Василии Алексеевичи, // Иваны какие-нибудь Митрофановичи, // Григории, там, Андреевичи, // Григории, скажем, Ивановичи // И все остальные граждане // Спят в одиночку, // Каждый в своем углу». Их собирательность подчеркнута коллективной «поведенческой деталью»: все идут без шапок. Почему без шапок? На первый взгляд непонятная или лишняя подробность. Но она показывает внутреннюю неуверенность, даже боязливость назревшего желания и его напряженность, общность. Много выразительных деталей найдено и в четвертом эпизоде первой части — описании норного тракторного выезда. Например, «обходят люди трактор, // Точно нагруженный воз». Сравнение вскрывает и типичное для крестьянина поведение — обходить нагруженный воз, и типичное для этих первых колхозников поведение, которые первый трактор обходят осторожно. Выразительна и 23 деталь — сравнение в заключительных строчках сцены: «Интернационал, // Интернационал! Здесь пели // Точно в первый раз на этом свете». Есть и зародыши индивидуализации, хотя строго социологически обусловленной. Например, в изображении кулака Кулагина. Советскую власть уважая, Газеты читал, Украинские урожаи Свои собирал. Как веточку с ягодкой ранней, Жене дорогой, Он колос носил на собранья Породистый свой. Бывало, сидит на крылечке, Покончив дела. Мечтает: если бы речка Вблизи текла. Краса! Водопой и купанье, И рыба в обед. Придумывал речке названье Несколько лет. И был человек доволен Декретами круглый год. Ходил у него на воле Премированный скот. Но при всей конкретности многих деталей в целом путь колхозников показан упрощенно — все оказывается благополучным в течение одного неполного земледельческого года, хотя на горизонте еще маячат те единоличники, которых этот первый успех не вполне убедил… И все же в ряде кусков поэмы выступает и неприкрашенная реальность. Колхозники ходят за Михайловым «как малые дети», но не раз мучительно обдумывают возможности выхода из колхоза. И толкают их к этому реальные факты, правдиво воспроизведенные поэмой. В поэме достигло максимума стремление к «прозаизации» стиха. И сам Твардовский цитировал в «Автобиографии» начало «Вступления» к ней («В одной из комнат бывшего барского дома» и т. д.) как пример прозаизации и сравнивал с ездой со спущенными вожжами. Эта прозаизация, как и в 1929 году, не была единичным явлением в поэзии. Например, Н. Дементьев в рассказе в стихах «Город» (1931—1932) еще более прозаизировал: «Вместо 24 того, чтобы пасти овец и впроголодь питаться кислым сыром и салом, // Вы будете работать у машин и есть вкусные обеды из трех блюд» и т. п. Твардовский выделялся не степенью прозаизации стиха, а иным ее типом: связью с деревенской языковой стихией, богатством «поведенческих» деталей. Своей системой звуковой организации и разного рода синтаксических и смысловых параллелизмов, перекличек, повторяющихся мотивов (например, повторяющийся исходный мотив «биографии» Кулагина: «Сидел человек на усадьбе»). Повторяющиеся элементы обычно сочетаются с новыми, мотивы превращаются в лейтмотивы, с вариациями и дополнительными мотивами (например, ступенчатое нарастание мотива создания запрудыозера). Характерно также повторение отдельных ключевых слов-скреп (как и в «Зеленом городе»). Аналогичная система прослеживается и в ритмике поэмы, в ее дольнике — близким к дольнику других стихов этого года. Таким образом, точнее говорить не о «спущенных вожжах», а о поиске нового типа «вожжей» — в смысле новой поэтической структуры самого ультраразговорного прозаизированного потока стихотворной речи, поиска с преувеличением и неудачами, но и действительными зародышами новой поэтики, развитой последующими произведениями. Дальнейший ход наиболее ясно наметился в эпизоде с тракторным выездом, который сам Твардовский, начиная с 1931 года, в переработанном виде включал во все последующие собрания своих стихов, хотя больше не возвращался к остальному тексту поэмы. 25 Поэма «Страна Муравия» История написания этой поэмы рассказана Твардовским и авторами комментария к последнему переизданию поэмы. Дополнительные сведения дают некоторые варианты и наброски из рабочей тетради Твардовского 1934 — 1935 годов. Одной из заготовок к «Стране Муравии» можно считать стихотворение «Печник». В этом стихотворении (написано другим размером, но, по-видимому, было одним из набросков гл. XIV) есть реминисценция одной из тем «Братьев»: «А обапол садятся сыны — // Сын с одной стороны, // Сын с другой стороны». Но сообщается об этом от имени отца-печника о незадачливых, неудавшихся детях. Из этих публикаций видно, что вначале поэт хотел больше показать, так сказать, предысторию путешествия Моргунка. Два стихотворения, возможно, не были набросками поэмы, но косвенно связаны. Многое с тех пор изменилось. Но когда Твардовский уже летом 1970 года вновь перечел поэму, готовя издание стихов и поэм для «Библиотеки всемирной литературы», он сказал В. Лакшину: «Знаете, как опасно перечитывать старые свои сочинения: все не так, все не нравится. Но вот «Муравия», такая молодая ведь, на многое я смотрю сейчас иначе, а почему-то ничего не стыдно. Ничего не стыдно», — повторил он, чуть помолчав, крепко и твердо, и стал цитировать 7-ю главу поэмы: Нет, никогда, как в этот год, В тревоге и борьбе, Не ждал, не думал так народ, О жизни, о себе... Этой цитатой Твардовский указал, в сущности, на то, что он в 1970 году считал главным в поэме: тревогу, борьбу, ожидания, размышления народа в тот крутой, переломный период, «год» его истории. И в 1980 году, перечитывая поэму, можно с этим согласиться... Критическая литература о «Стране Муравии» очень обширна, и много написано верного, начиная с первых откликов на нее М. Серебрянского, Е.Усиевич и др. Наиболее существенное — в книгах В. Александрова (1950), Е. Любаревой (1957), П. Выходцева (1958, 1960), А. Туркова (1960, 1970), А.Кондратовича (1978), замечания в статьях Ю. Буртина (1970, 1976). Все критики определяют пафос поэмы как пафос социалистической перестройки деревни, пути крестьянина от иллюзий мелкого собственника к признанию коллективного пути — и к зажиточной жизни, и к выявлению своей личности. Но в рамках этого общепринятого понимания делаются разные акценты. Одни подчеркивают «благовест» в честь коллективизации (С.Наровчатов), другие — что Твардовский «не сгладил той ожесточенной не на жизнь, а на смерть борьбы, которая шла тогда в деревне, не преуменьшил сил и страстной убежденности ни одной из спорящих сторон» (С. Маршак). Некоторые критики еще в 30-е годы ставили вопрос об идеализации колхозной жизни в поэме (позже — Е. Любарева, А. Макаров, 26 Ю. Буртин и др.). Эта идеализация связывалась или со сказочными (Любарева), или романтическими (В. Овечкин), или обобщенно-фольклорными элементами в поэме; отмечалась как ее недостаток или, наоборот, восхвалялась. Общепризнано, что поэма до сих пор представляет собой единственное поэтическое произведение о коллективизации, которое выдержало проверку временем. Ю. Буртин (1970) отметил и элементы рассудочной заданности, подталкивания движения героя автором. Многие отмечали особое значение мотива дороги, путешествия: и его значение, как пути крестьянина в колхозы, и более обобщающее значение, как «дороги жизни, которая тем самым может быть близкой всем и каждому» (Е. Любарева). Почти во всех работах о поэме подчеркивалась ее непосредственная связь с некрасовской традицией (в частности, «Кому на Руси жить хорошо») и с фольклором. Позже отмечались связи с более широкой традицией поэм-путешествий типа «Дон-Жуана» Байрона и др. В то же время еще Чуковский в книге о Некрасове отметил и некоторые отличия от некрасовской традиция не только по тематике и общей идейной позиции. Отметил, что, в отличие от Некрасова, Твардовский использовал частушечный, современный фольклор. М. Гиршман (1965) указал на большую «интонационную подвижность» поэмы Твардовского. Но недавно В. Кожинов (1978) подчеркнул зависимость поэмы от некрасовских интонаций. В отличие и от предыдущих и от последующих поэм в «Стране Муравии» имеется не только ясно очерченный поэтический хронотоп, но и повествовательная конструкция поэтического события — сюжет в более узком или внешнем смысле (поиски легендарной «страны Муравии», где нет колхозов, но есть крестьянское счастье своей земли и самостоятельного труда на ней; кража и поиски коня в этой дороге). Есть и другой, более внутренний сюжет — психологического движения и главного персонажа, и коллективного героя-народа в момент крутого исторического поворота, кризисной ситуации. Путешествие Моргунка к мнимой стране счастья — это и путешествие его к подлинным критериям и путям счастья, и вместе с тем путешествие к правде, к выбору между иллюзией и действительностью, к обоснованию и оценке мечты. В ходе пути происходит перевертывание,— то, что герою казалось ценностью, оказывается антиценностью; уважаемый сосед, с которым хотелось быть наравне, оказывается жуликом и негодяем; вороватые цыгане оказываются тружениками и мастерами своего дела. И вместе с тем утверждение исходной главной ценности — трудового начала и права выбора. В поэме есть начало типа введения или увертюры. С первой же главы — путь. В главе всего 52 строки. Но уже ее зачин создает настрой не только главы, но и всей поэмы. С утра на полдень едет он, Дорога далека. Свет белый с четырех сторон, И сверху — облака. Тоскуя о родном тепле, Цепочкою вдали Летят — а что тут, на земле. Не знают журавли. У перевоза стук колес, Сбой, гомон, топот ног. Идет народ, ползет обоз, Старик паромщик взмок. Бросается в глаза разномасштабность зрения поэта. И весь «свет белый» и детали быта. В последующих строфах еще ряд таких совмещений. И совмещение мотивов дороги и 27 переправы, двух ключевых образов всего Твардовского, и попутный образ перевозчика, также один из сквозных персонажей его поэзии. Первая строчка — точка отсчета во времени. Сам путник еще не назван, это только «он». Но следующая строчка уже указывает на размах предстоящего путешествия, и само небо присутствует в его начале и небесные путники — облака, журавли. А их «не знают» вызывает некое чувство ожидания, неясности предстоящего путешествия и чувство масштаба (сопоставление с небом). И вдруг — в девятой строчке резкий скачок с неба на землю. «Стук колес». От журавлей и облаков, от всего света белого — к малой земле, этому конкретному перевозу, паромщику. И дальше следует зарисовка сцены перевоза (цитирую только начало), насыщенная разнообразными звуковыми и зрительными образами, и первыми поведенческими деталями; и даже в нескольких строчках — пунктиром намечена галерея разных путников и разных скоростей их движения; ползет обоз, паром идет, спешит уполномоченный, быстро течет речка, а раньше еще быстрей летели журавли. И сразу же дан и первый образ конкретного труда, ведь старик паромщик — «взмок». Труда дороги. И первый собирательный образ — «народ». И коллективная фигура — какая-то плотничья артель. И о ней также сообщается дополнительная подробность —она везет гармошку. Затем — опять скачок масштаба. Везет гармошку очень далеко, «на край страны». И все это движется — и малое, и большое. В следующих строфах движение продолжается после перевоза и конкретней выступает облик самой дороги: «Гудят над полем провода, // Столбы вперед бегут». Бег столбов подводит к расширительному образу движения: «Гремят по рельсам поезда, // И воды вдаль текут». Опять резкое изменение масштаба, ощущение размаха движения. И вместе с тем возврат к исходному образу дороги. А дальше — первый взгляд в сторону, окружающий пейзаж. «И шапки пены снеговой // Белеют у кустов, // И пахнет смолкой молодой // Березовый листок». Обратный скачок в размерности: от «поездов» и всей страны — к микродетали. И новый элемент в чувственном богатстве картины — первый запах, после того, что мы слышали и видели. Эту малую деталь, конечно, едущий, «он», сам не может чуять. Это уже глаз и обоняние наблюдателя — автора. Он едет вместе со своим персонажем, ведет дневник, как это мы часто уже наблюдали в стихах Твардовского. Зрительные детали, с одной стороны, помогают конкретизировать время, определенный хронотоп: дорога, весна, уже начали распускаться березовые почки. Но, с другой стороны, в хронотопе есть противоречивые черты или он отвечает несколько необычной ситуации самой природы. Ибо обычно почки распускаются уже после того, как везде сошел снег. Возможно, что речь шла об остатках «пены снеговой», нанесенной половодьем (так трактуют эти строчки А.Кондратович, Вик. Смирнов), что также редко совпадает с появлением березовых листьев. Возможно — другое, просто небольшое отступление от фенологической точности, сознательное или бессознательное, благодаря чему в одном хронотопе совмещены два разных, хотя и близких времени весны. И, наконец, третье — действительное наблюдение, связанное с необычным ходом весны. 28 В следующей строфе — опять резкий переход к большому обобщению («И в мире тысяча путей» и т. д.). Здесь один из ключевых образов поэмы и всего Твардовского — и здесь впервые главный герой назван по имени и по фамилии, выделен из безымянного потока. И после этого — новый скачок масштаба, переход к более близкой конкретности, бытовой, зримой, как в описании перевоза, но сконцентрированной на главном персонаже. Но и тут сначала не он сам непосредственно описывается, а его дорожное снаряжение, то, что ему заменяет дом, что едет с ним. И мы видим, как «бредет в оглоблях серый конь» (дальше в поэме мы узнаем еще, что он «копейчатый») «Под расписной дугой, // И крепко стянута супонь // Хозяйскою рукой». Обычной для Твардовского системой косвенных «метонимических» деталей мы узнаем первую черту нашего героя — он заботливый хозяин. А конь — это ведь второй герой поэмы, единственный, кроме самого Моргунка, кто проходит всю ее дорогу. И другие черты: опрятный («умытый в бане, наряжен»), сознающий значительность своего путешествия. И два последовательных поведенческих сравнения: первое — «как будто в город, на базар» и второе— усиливающее первое — «как будто в гости едет он // К родне на пироги». Оба сравнения отражают и две формы крестьянского нормального быта, содержат и смутный намек на будущие встречи Моргунка (такие и совсем не такие) и некоторый контраст с теми действительными трудностями и действительной длительностью его пути, в котором быстро порыжеет его пиджак. Следующая строфа вновь возвращает к образу самой дороги, бегущим столбам, и впервые упоминается, что оставлено: двор далеко за спиной, родная хата, не видать уже ни крыши, ни трубы. И после паузы, акцентированной многоточием, заключительная строфа главы-увертюры, — опять деталь сопутствующего пейзажа, аккомпанирующая, настроенческая: «По ветру тянется дымок // Ольхового куста». И за ней — с еще одним резким пере¬ходом — заключительные две строчки главы, где впервые дана прямая речь Моргунка: «Прощайте, — машет Моргунок, — // Отцовские места». Слова одним штрихом вскрывают и сдержанную боль прощания, и решимость ее преодолеть. В одном из первоначальных набросков эта сцена была усилена тяжелой сценой прощания с собакой, увязавшейся за хозяином. Но Твардовский убрал ее, решил сделать первую главу сдержаннее, лаконичнее и вместе с тем более многосоставной. В первой главе сразу же твердо выявляется и господствующая интонация всей поэмы. Дальше она будет сплетаться, оркестроваться с другими, но останется господствующей. Дневниковая запись, сдержанно взволнованная, неторопливая, но местами с более учащенным дыханием; типично разговорная, с тире и многоточиями, с назывными предложениями — и одновременно очень певучая. Но автор дневника еще большей частью остается за сценой. Вновь возникает принцип движущегося настоящего, который мы видели уже в «Гостеприимстве», но теперь удивительно обогащенный совмещением разных масштабов конкретности описания и мастерством то скрытого, то более явного мелодического начала, причем оно в основном общей схемой движения ритма и системой параллелизмов и меньше — набором звуковых конторок. Намечается в первой главе и общий основной 29 композиционный принцип поэмы. Чередование кусков с непосредственным действием персонажа или встречных ему людей, и кусков, описывающих самый путь, попутные картины пейзажа, быта и более отдаленные ассоциации. В последовательное движение вкраплены более детальные поведенческо-психологические наблюдения. И сразу же подчеркнута населенность дороги другими людьми, которые также имеют свои пути. Таким образом, выступает и слитный образ самой дороги, ее множественности и целостности. Следующие главы поэмы чередуются по тому же принципу — более динамические с более определенным фабульным действием и более «описательно-настроенческие», иногда с лирическими отступлениями самого героя и дополнительными рассказами или высказывания¬ми встречных персонажей. Внутри отдельных глав намечается аналогичное чередование, но обычно более сложное, чем в первой главе. Чередование идет со своеобразным, спиральным нарастанием неизбежного краха иллюзий Моргунка и реальной необходимости выбора, решения. Конец все же сохраняет элемент незаконченности, недосказанности. Поэма начинается дорогой и кончается дорогой. Но в пределах этого незавершенного путешествия имеется четкая структура. В этой структуре есть аналогии со структурами сказочных реалистического путешествий, познания, с серией но имеете случайных с тем но это вместе — с структура тем четкого, художественно обусловленных эпизодов, нанизанных на основной сюжетный стержень. С четкой мотивацией поступков, поведений; случайность встреч усиливает впечатление естественности потока жизни, событий. И все привязано к определенному, совсем не сказочному, как бы задокументированному хронотопу, месту времени и совсем не сказочным бытовым персонажам. Точнее говорить не о сказочных элементах поэмы, а о ситуациях, заостренных до анекдотичности, о слиянии гротеска, квазиочерковой повествовательной и описательной точности, анекдота и психологически-бытовой повести. Изображение колхозного благополучия сосредоточено в последних трех главах поэмы, сделано по принципу изображения будущего в настоящем, идеального в по¬вседневной реальности. И здесь опять неожиданная перекличка с «Торжеством земледелия» Заболоцкого. Но Заболоцкий забегает очень далеко вперед, а современные фигуры у него подчеркнуто условно-символические. Твардовский, в соответствии со своей поэтикой, пытается изобразить лучшее будущее самого бегущего дня в этом же бегущем дне. Забегая вперед, Твардовский все время сохраняет границу реально возможного. Изображает то, что было или могло бы быть, хотя оставалось за сценой и другое, что также было. Внутренний сюжет неотделим от внешнего, движется вместе с ним, но не строго с ним совпадает, и в его движении роль особых узловых моментов играют отдельные афористические формулировки. Путником этого пути является Народное Сознание, а конкретное путешествие Моргунка в его видимом хронотопе выступает как метафора-символ (но не аллегория). Пути, Переправы, Перепутья. И движение в пространстве выступает как реализация движения во времени, трудностей этого движения. Характерно сочетание 30 множественности персонажей и выделенности главного героя. У Твардовского система путей — всегда система путников. Но в этой поэме его пути впервые становятся такими густонаселенными, а путники, даже эпизодические, впервые получают такие конкретные при¬меты. Твардовский неповторимым умеет поведенческим самых или мимоходных языковым персонажей штрихом. обозначить Например, каким-то встреченного предсельсовета — одной его фразой: «Ну что ж, понятно в целом». Это голоса с многообразными интонациями, часто — певучие; разговор местами нечувствительно переходит в нечто песенное, как в диалоге-дуэте Моргунка с другом-сватом в главе третьей, или в женской песне в конце главы четырнадцатой. Иногда — это голос героя, разговаривающего с собой; или даже и сам авторский голос; изредка своеобразное слияние этого голоса с голосом героя, как в гимне-обращении к Земле в главе четвертой. Своеобразными персонажами являются и бессловесные существа. Например, любимый конь, который путешествует со своим хозяином. Тут — отражение особой роли лошади в крестьянском хозяйстве и сознании. Вспомним стихи «о коне» раннего Твардовского. Но при всем мастерстве изображения всех этих многочисленных путников их приметы скорее выражают некоторую бытовую или социальную общность, чем неповторимую индивидуальность. Имеются и подчеркнуто собирательные персонажи, продолжающие собирательные образы ранних поэм и ряда стихотворений. Например, весь цыганский колхоз. Или тот народ, который бочком стоял на пароме. Или даже базарная площадь: Площадь залита народом, Площадь ходит хороводом, Площадь до краев полна, Площадь пляшет, как волна. Опять перекличка и контраст с собирательными персонажами Заболоцкого. Структура внутреннего сюжета включает в себя совместное движение всех этих персонажей, разной степени индивидуализации и коллективности. Именно в этой поэме впервые развернулась многосторонность и движения народного сознания, и средств его воспроизведения поэтом. Правда, есть и элемент рассудочного подталкивания. Но есть и подлинное собственное движение разных психологии, их оркестровки. Подчас углубленное проникновение именно в данный характер, а точнее — психологическое состояние. Обычно это проникновение осуществляется не путем изображения переживаний человека изнутри, в его собственной рефлексии, а как бы извне, исходя из того, что можно заметить снаружи. И тут опять Твардовский умеет находить неожиданные озаряющие и проникающие детали. «Переобулся Моргунок, // И легче на душе» (конец гл. 8). Кто бы это мог подметить, кроме Твардовского. Самый простой процесс сосредоточения на каком-то малом и нужном деле при¬носит душевное облегчение в момент крайнего напряжения, изнеможения, отчаяния, и 31 это характерно именно для этого хозяйственного, терпеливого, внутренне душевно стойкого человека, крестьянина, мечтателя Никиты Моргунка. Но отчасти и для каждого человека в такие кризисные минуты. Дальше, в главе 11 выразительность деталей усиливается искусством контекста, изображением предшествующего бега, изнеможения, перевернув¬шейся вверх головами травы и кустов, и последующей естественной и как бы незначительной репликой мальчика, его словесным жестом — «Дядь, вставай, а дядь! Вставай, пойдем». В поэме происходит расширение самого круга психологического анализа путем анализа контекста, сопряженности движения переживаний, поведения всех лиц и главного героя. Конфликт социальных сил, принципа собственности и принципа коллективности выступает в поэме и как конфликт добра и зла, нравственного и безнравственного, мира и антимира. Кулаки — это Грачевы, это «подлый класс», движение поэмы состоит и в моральном разоблачении кулачества и всего старого антимира, включая и того внешне безобидного, но по существу также бессовестного и бездушного «последнего попа». А Фролов и другие люди, представляющие новую коллективность, — носители нравственного начала и подъема чувства личности на неэгоистической основе. А какова же роль автора во всем этом многоголосии и что он делает как путник и поводырь? Здесь он более активен, чем в первых двух поэмах, хотя и менее актином, чем в некоторых лирических стихотворениях того же времени, чем в стихотворении «Путник». Но это несомненно тот же самый путник, хотя не только по веселым дорогам он движется. Большей частью он просто наблюдает и сообщает то, что видит. Иногда его голос слипается с голосом Моргунка, с его внутренним голосом. Нo иногда вносит элемент иронии над тем голосом, с которым он сливается: «И всем крестьянским правилам // Муравия верна. // Муравия, Муравия! // Хорошая страна». Хотя в той же главе его голос совершенно в унисон звучит с голосом Моргунка в гимне-обращении к Земле. А иногда он прямо вплетается в разговор как самостоятельный голос, хотя и короткими репликами или обращениями. Вернемся к главному путнику, Моргунку. Уточним его социологическую характеристику, его биографические приметы. Они совсем не сказочные и далеки от фольклорной обобщенности и неподвижности, а, наоборот, характеризуются очерковой квазидокументальностью. А раньше мы узнаем, что ему 38 лет, и еще раньше — и конце главы третьей, что «семнадцати лет // Оженился Никита. // На хутор пошел, // Отделился Никита. // В колхоз не желаю, — // Бодрился Никита. // До синего дыма // Напился Никита. // Семейство покинуть // Решился Никита». Кое-что в этой биографии дано с иронической обобщенностью — родился «у батьки, у матки». И семья его не описана. Кроме того, что есть у него «баба», о которой он однажды вспоминает. Но в то же время — точные вехи жизненной хронологии, места и времени проживания и даже крещения; точные справки об экономическом положении, — кстати сказать, скорее бедняцком, чем середняцком. И его собственничество нуждается в некотором уточнении. Это прежде всего мечта о самостоятельности, о независимости: и хотя мечтал 32 когда-то сравняться с Бугровым, он никогда не стремился быть кулаком, иметь свою лавку или тем более батраков. Сравняться хотел хозяйской самостоятельностью, чтобы «под ручку» с ним хлеба ходить смотреть. И с какой охотой этот мелкий собственник участвует в коллективном труде, в колхозе, как гость, без всякой корысти! И опять-таки как бескорыстно берет он на свое иждивение того мальчика. «Но — конь!» Конь для него не просто собственность. «Но копь, а человек». Исконный друг крестьянина. А про другую собственность он и не вспоминает. Вообще в чувстве собственности Моргунка есть то, что мы называем теперь чувством личной собственности, в отличие от частной собственности. Стремление иметь самим, своим трудом заработанное и самому своим трудом, жизнью распоряжаться, «никого не спрашивая». С другой стороны, если сравнивать с Дон Кихотом, то он более благоразумен, практичен, осторожен, при всей доверчивости. И у него есть элементы здравого смысла Санчо Пансы. Это уточнение его характерологических признаков позволяет лучше понять и способы его изображения. Той заостренной социальной типизации, стремления выделить господствующую социально-обусловленную черту личности характера, о которой писали исследователи поэмы. Конечно, Моргунок тоже человек «идеи», как Василий Петров. И тоже стремится быть сам себе агроном. Но его характер гораздо более сложный и многосторонний. Его пафос включает в себя и то, что как будто с этим пафосом не вполне сходится, и сама социальная обусловленность его пафоса более сложна, даже отчасти парадоксальна. Отсюда и в самой типизации, способе изображения характера Моргунка также есть своеобразное сочетание условности и безусловности, обобщенности и точной квазидокументальной конкретности, широты границ признаков типа и ясной индивидуальной обозначенности. Крестьянин нормальный и разумный, который запряг себя в телегу вместо украденного коня, и многими днями так едет, — конечно, совершенно исключительный случай, анекдот, — но гораздо менее условный и гротескный, чем мелкий дворянин XVII века, вообразивший себя странствующим рыцарем и сражающийся с ветряными мельницами. Соединение умеренного гротеска и бытового правдоподобия проходит через всю поэтику поэмы. В отличие от героев классического эпоса Моргунок шире своего пафоса. И все-таки, как и те герои, неотделим от него. Да, он честен. Правда, есть момент, когда он собирается даже украсть коня у цыган, но это отклонение от собственной нравственности также вытекает из его пафоса и отчасти из «перевертывания» традиционного отношения крестьян и цыган. Но в остальном — он всегда прямодушен, лоялен, трудолюбив, добросовестен, добр, незлобив, великодушен, отходчив, подчас благороден (его поступок с мальчиком — сыном Бугрова). Есть в нем и некоторая стеснительность, даже деликатность, он — человек неодинокий, незамкнутый. У него есть друг-свояк, с которым он душевно откровенен. Он неговорлив, но охотно беседует и нигде не уходит в свою скорлупу. Он идет своей дорогой, и очень настойчиво, и в то же время думает о том, как о нем другие могут подумать, и хочет быть «не хуже всех людей». Он упрям, даже фанатичен в осуществлении своей основной идеи, решается на то, на что редко решается 33 крестьянин; но не теряет рассудка, самоконтроля, способности критически к себе относиться. И в своем чудачестве старается быть расчетливым и даже осторожным, у Бугрова на базаре все-таки берет в залог шапку. А когда его опять подло обманули — не поддается ни злобе, ни отчаянию, а стремится извлечь урок. Преданность основной идее, мечте совмещается с элементами рефлексии, самоанализа, хотя лишь косвенно показанного автором. Мечтательность — с обычной крестьянской деловитостью. Таким образом, это прежде всего сложный и многосторонний характер, личность, с элементами даже парадоксальности. И в его пафосе принцип личной собственности, самостоятельности труда совмещается с принципом артельности, товарищества, добрососедства. И когда он войдет в колхоз, то со своим конем, чтобы быть не хуже всех людей, и работать тоже, конечно, не хуже, наверняка лучше многих. Характеры представителей антимира сделаны по принципу более элементарно и однолинейно господствующей социально-обусловленной черты, но также конкретно. Поэма сочетает с небывалым до того богатством оркестровки бытовое, непосредственно конкретное и бытийное, наиболее обобщенное и даже символически конкретное. В этом сочетании также виден жизненный и литературный опыт человека XX века, с его принципиально более смелой ассоциативностью, соединением того, что казалось ранее несоединимым; и конкретный опыт нашего человека 30-х годов. Отсюда и новая, при всей связи с традицией русского реализма, система художественного мышления. Совмещение разных масштабов, сплетенность очень разных дорог и лиц, сочетание парадоксальности и правдоподобия, точности и ассоциативного размаха. Хорошо прослеживаются эти черты поэтики во всей системе языка поэмы. Прежде всего в сочетании точных бытовых деталей и явных и скрытых метафор, символов. Вся поэма представляет собой огромную метафору-символ. И все элементы ее имеют двойное содержание — точного описания неповторимо конкретной ситуации или поведения и скрытых или явных ассоциаций с чем-то далеко выходящим за рамки этого описания. Можно отметить и некоторые особенности метафор Твардовского. Многие основаны просто на точном сопоставлении каких-то признаков, зримых или слышимых. Но обычно метафоры содержат динамический элемент. Характерно сопоставление даже неподвижных предметов с движением: «Навстречу шло // Золотоглавое село». Часто метафоры разрастаются в олицетворения с дополнительными ассоциативными «поведенческими» значениями. «Дождь поспешный, молодой // Закапал невпопад». Иногда простейшая поведенческая деталь содержит в себе поведенческое же сравнение, которое раскрывает его неожиданный смысл и перекликается с, казалось бы, совершенно другими поведенческими деталями другого ряда явлений. «И по-ребячьи Моргунок // Вдруг протянул ладонь. // И голову склонивши вбок, // Был строг и грустен конь» (гл. 3). И жест, и сравнение «по-ребячьи» бросают свет на особое душевное состояние, которое очень приближенно можно определить, как сочетание чего-то весеннего, наивного, детского и некоторого ожидания, неясности и все-таки надежды. А контрастно параллельное в той же строфе поведение коня, как человека, ассоциируется с 34 тем, что в дальнейшем будет сильно противоречить ребячьим надеждам Моргунка. Есть и отдельные типичные ассоциативные метафоры: «Голос тянется неспешный, // Как шаги издалека» (гл. 6). Сходство как будто совершенно несопоставимых впечатлений подмечено очень точно, и дополнительно обосновывается контекстом этой метафоры, — обстановкой неспешного ночного разговора случайно встретившихся, далеких друг от друга людей. Местами — целые цепочки метафор, которые в совокупности образуют еще более сложный ассоциативный ряд. «Конь выходит из станка // Гладкий, точно птица. // Конь невиданной красы, // Уши ходят, как часы. // Конь хорош, и что хорош, // Сам об этом знает» (гл. 10). Сначала немного странное сопоставление «гладкости» коня с гладкостью птицы, которое, однако, обосновывается ассоциацией между впечатлением от гладкой кожи здорового, чистого коня с гладкостью перьев птицы, и дополнительной, более отдаленной ассоциацией, между способностью птицы к полету и способностью этого прекрасного коня к быстрому движению. Следующее сравнение хода ушей с ходом часов усиливает впечатление здоровья (и является его конкретной приметой), размеренности, стройности этого коня и неожиданно подводит к особому чувству времени, с ним связанному. А «поведение коня», который, как человек, знает сам, что он хорош, завершает особой квазипсихологической метафорой ход двойного впечатления от этой образцовой лошади в сознании потерявшего своего коня крестьянина и сознании наблюдателя. Такие метафорические комплексы тесно связаны с многосторонним ассоциативным мышлением поэзии XX века и уже очень далеки от поэтики Некрасова, хотя и продолжают его наиболее смелые метафорические линии. Метафоричность сочетается с еще более развитой метонимичностью, на которой не буду здесь специально останавливаться. Именно в этой поэме уже достигнута максимально богатая их гармоничная оркестровка, унаследованная и следующими поэмами Твардовского. Эта оркестровка проявляется и в многоголосии интонаций. В сочетании индивидуальных, коллективных голосов, повествовательного, разговорного описательного, и песенного начала вопросительного, и самого разнообразного восклицательного, с самыми разнообразными переходами в пределах одной и той же главы и перекличками в разных главах. По сравнению со всеми предыдущими работами Твардовского, прежде всего увеличивается многообразие и разнообразие переходов и резко увеличивается мелодическое, песенное начало, но всегда в сочетании с разговорной интонацией. В общем интонацию поэмы можно определить как многоголосую, напевно-разговорную; лишь в отдельных кусках вкраплены элементы ораторской интонации в сочетании с напевностью. И есть господствующая эмоциональная окраска — сдержанно-взволнованного обращениярассказа невидимому слушателю и своим персонажам. Одним из важных элементов интонационного мастерства является искусство вариаций основной строфической схемы — четверостиший с перекрестной рифмовкой, ямбическим или хореическим четырех- и трехстопным метром, с многообразными отклонениями от этой системы— главным образом использованием двустиший с параллельной рифмовкой, иногда 35 переходами в более разностопные хореи и ямбы и др. Это строфическое мастерство обобщает систему строфики, разработанную в лирике 1928—1934 годов. Но исчезают дольники, как самостоятельный метрический тип. Главным новым элементом является большое разнообразие вариаций и более сложная оркестровка уже разработанных звуковых структур. Если теперь вернуться к вопросу о литературных традициях поэмы, то можно согласиться с присутствием непосредственных связей прежде всего с Некрасовым, но только в самом общем, указанном выше смысле. И прежде всего в многогеройности, реалистическом изображении народных характеров, сочетании напевности и разговорности. Но дневниковое время поэмы, размах и теснота многоголосья, смелая ассоциативность, совмещение, наложение разных масштабов изображения друг на друга и другие описанные выше особенности поэмы уже мало общего имеют с Некрасовым. В какой-то мере тут использован опыт метафоричности и ассоциативности русской поэзии XX века — Блока, Есенина, косвенно даже, может быть, Маяковского, Багрицкого, Пастернака, но также лишь в смысле самой общей и отдаленной переклички. Резко отличается от всех традиций психологическая усложненность того, что раньше казалось элементарным, однотипным; слияние насыщенности бытовой прозаической конкретности с анекдотичностью, гротесковостью, многозначной символикой; соответственно и новое сочетание многоплановой повествовательности и сдержанно лирического начала, сосредоточенности на центральном персонаже и полифоничности сопутствующих голосов. Все это выражает небывалое напряжение народного самосознания, подъем чувства коллективной личности, народной мечты, стремление к ее реализации; народного процесса выбора. Но в поэме выразились и социологизм сознания 30-х годов, некоторые упрощенные, отчасти даже иллюзорные схемы того времени. Поэтому, с одной стороны, достигнут небывалый синтез богатства, свободы воображения и стройной организованности, целенаправленности, а с другой, есть ограничение этого синтеза рассудочной тенденциозностью. ...Много прошло времени с тех пор, как появилась эта поэма. Многое изменилось, и многое оценивается иначе, чем тогда. Но поэма осталась как память накала того исторического порыва, перелома в сознании и жизни, как изображение того, что уже выходит за рамки любого отдельного текущего исторического события. Это соотношение человека и общества, крах одной мечты и замена ее другой, человек и его мечта, человек и его иллюзии. Многообразие путей и необходимость выбора. Нравственные проблемы на пути. Колебания, сомнения, ожидания, тревоги. У каждого человека — своя «страна Муравия», свои пути, распутья, тупики и новые пути, мечты, разочарования, приход к реальности. И остается эта совсем особая поэма. Поэма процесса выбора и критериев выбора. Места «своего» пути среди тысяч других путей, и связь своего со всем этим множеством. Поэма пути как распутья. 36 1940-1945 гг. Этот второй, по общепринятой периодизации, а точнее уже третий этап творческого пути Твардовского характеризовался новым крутым подъемом. Были созданы «Василий Теркин», ряд других замечательных произведений, и Твардовский достиг небывалого всенародного признания и близости к миллионам читателей. Это не означает, что только теперь он стал подлинно народным поэтом, с чувством личной ответственности, или что лишь теперь пробудилось в нем подлинное лирическое начало. Суть обновления состояла не столько в изменении соотношения лирического и повествовательного начал, сколько в их общем взаимном обогащении, усилении и в общей их перестройке. Но несомненно, что огромность нового исторического события, народного бедствия и народного героизма, всемирно-исторический размах битвы за жизнь на земле вызвали и новую силу отклика в поэте. Небывалую напряженность чувства и коллективной, и личной ответственности за свою страну словами главного героя: «Мы с тобой за все в ответе». Лирическое начало стало вместе с тем эпическим, ибо являлось выражением героического пафоса всенародной борьбы. Отсюда — и новые черты лиризма, и в еще большей мере новые черты, достижения большой повествовательной поэзии. Нового типа эпическая поэма «Василий Теркин», в которую включено и новое лирическое начало, и нового типа лирическая поэма — «Дом у дороги». И все это в небывало трагической ситуации гигантского исторического кризиса, народной трагедии. Это трагическое начало в соединении с эпосом и лирикой создает особый размах, синтетизм работы Твардовского в эго время. Его реализм становится воистину героическим синтетическим народным реализмом, в самом непосредственном и самом глубоком значении этого слова, тем более героическим, что героизм изображается с последовательностью реалистического изображения, реалистической конкретности. Наметившийся на предыдущем пути синтез бытия и быта, «генерализации и мелочности», используя знаменитые слова Л. Толстого, достигает именно максимальной бытийности, исторического величия. Это определило собой и возможности создания впервые в истории эпоса «бегущего дня», и возможность создания небывалого народного трагического лиризма. Художественное качество стихов и прозы Твардовского этого времени — более пестрое, чем в 30-е годы, так как условия войны часто требовали такой быстроты оперативного отклика, что приходилось и кое-чем жертвовать в его качестве. Но и две основные поэмы, и десятки стихотворений принадлежат к вершинам творчества Твардовского и всей нашей поэзии. И, в общем, военный Твардовский представляет собой при всем разнообразии и даже пестроте жанров, тематики, манеры, степени отработки и некоторое целое, которое можно назвать единой дневниковой Книгой. Она отличается от предыдущей работы Твардовского, естественно, прежде всего новой главной темой — войной, которая проходит буквально через все стихи и прозу. Твардовский еще больше, чем в предыдущие периоды, остается художником исключительно современности, огневого вала бегущего дня. И вместе с тем имеется и ясная преемственность, хотя не так бросающаяся в глаза. Продолжаются все 37 основные мотивы его поэзии 30-х годов и даже возрождаются некоторые мотивы поэзии конца 20-х годов. Сохраняется сосредоточение на психологии, труде, быте рядового трудового человека, народа по всей его новой конкретности. Даже некоторые характерные профессиональные персонажи — кузнецы, плотники, шоферы и др. И пафос мастерства трудового человека, в котором молодой рядовой Василий Теркин и многие другие персонажи поэм и лирики непосредственно перекликаются и с дедом Данилой, и с другими героями предыдущего периода. В первые годы войны Твардовский написал даже несколько стихотворений, в которых продолжал действовать дед Данила. Такое простое продолжение оказалось малоплодотворным, Твардовский быстро от него отошел, но возникли новые трансформации персонажей и мотивов того же ряда. Главное — общая преемственность и трансформация человека-работника и путника в человекаработника-путника и воина. «В лесу возле кухни походной, // Как будто забыв о войне, // Армейский сапожник холодный // Сидит за работой на пне... // Орудует в поте лица». Более того, солдат у Твардовского становится самым универсальным работником. Накопленный жизненный трудовой опыт даже концентрируется, расширяется, укрепляется в огне войны, «кровавой страды». Аналогично продолжаются и трансформируются другие основные темы — мотивы предыдущего периода. Темы и пафос семьи, товарищества, землячества, всех форм человеческой общности. Малой и большой Родины. Связи времен, памяти. Отношения человека к природе. Жизни и смерти. Всего, что входило в дома и дороги. Смерть воплощена в фашизме, фашизм — это враг всего домашнего, родного, человеческого, живого. Это — антидом, антидорога, антимир. Немецкий солдат — «бродяга полумира», чужой, «немой». Фашисты — «нелюди». И противоположность людей — нелюдям отодвигает все остальное. Поэтому тема множества путей и своего пути, возможные расхождения отдельных путей и общего пути, которая была одной из главных тем «Страны Муравии» и всего предшествующего Твардовского, трансформируется в тему и пафос общности главного пути. Количество и разнообразие путников, домов резко увеличивается. Происходит гигантское расширение «площадки действительности». Даже в чисто географическом смысле — вплоть до дороги на Берлин. И еще многомасштабнее. Вся страна, и даже вся жизнь на Земле, — и «населенный пункт Борки», и некая литовская усадьба. И огромная галерея самых разнообразных людей, характеров. Но все это множество объединено поразительным единством фронтовой всеобщности народной битвы, дороги, цели — освободить страну свою, защитить дома свои, спасти семью свою. Объединились пути Никиты Моргунка и Фроловых, но и пути того подкинутого кулацкого мальчика, который брел за телегой Моргунка. И даже иногда пути бугровых, бывших врагов, которые оставались с народом и вместе с ним боролись с немцем. И тем более теперь объединились пути тех братьев и того отца... Борьба с фашизмом была общенародной «великой правотой», по выражению Пастернака. Она объединила весь народ и всю поэзию советскую — от Ахматовой до Исаковского. Твардовский не забывал, что есть и люди, враждебные этому единству, предатели, изменники, есть люди недостойные его. В его 38 «Балладе об отречении» есть тема дезертира, человека, который уклонился от общего долга и заслуживает самого сурового наказания. И грандиозность основного конфликта между Родиной и захватчиками, между жизнью и смертью показала, обнажила, укрепила исходные, коренные ценности родной жизни, создала особое повое пограничное состояние человека между жизнью и смертью — и особую напряженность, силу жизни в этом состоянии. «Когда пройдешь путем колонн... // Тогда поймешь, как сладок сои, // Как радостен ночлег», «Как хлеб хорош // И как хорош // Глоток воды сырой». «Как дорог дом, // Как отчий угол свят», «Как дорог друг, // Как дорог каждый свой». И вот новый конкретный пафос семьи и дома: Живем, не по миру идем, Есть, что хранить, любить, Есть где-то, есть иль был наш дом А нет — так должен быть! Из новой силы основных, исходных, коренных ценностей вырастают и самые высшие нравственные ценности жизни, «отвага, долг и честь». Борьба за жизнь, за ее простые начала — дом, семью, родную сторону — превращается и в борьбу за Добро против Зла. Вслед и рядом с этой поэмой — эпосом народной бытии — «Василием Теркиным» создается «Дом у дороги». Поэма семьи и дома. Но семья и дом проходят и через «Василия Теркина» — в разных формах, прямо или косвенно. Весь путь войны обозначается как «дорога к дому»: «. . .путь-дорога //. На родную сторону // Прямиком через войну». И в другом месте: ...Где б ни бил ты в огне передних линий — Идешь ты нынче к дому своему, Идешь с людьми в строю необозримом, — У каждого своя родная сторона, У каждого свой дом, свой сад любимый, А Родина у всех у нас одна. Как и раньше, любое «свое», свой малый дом, не должны ни на минуту заслонять или отодвигать главный, общий дом, родину, которая у всех одна. И отсюда — беспощадное отречение родителей от сына-дезертира в «Балладе об отречении», и отсюда неоднократный мотив: отказ солдата хотя бы на время из-за соблазнов любой домашней жизни отойти от своего воинского долга. А с другой стороны, свой отчий угол движется с бойцом в самой войне. С удивительной силой Твардовский показывает способность коренного народного человека-труженика создавать себе дом в любой дороге, в любом «бездомном» фронтовом пути. «Разулся, ноги просушил, Согрелся на ночлеге, // И человеку дом тот мил, // Неведомый вовеки» («Ночлег», 1944). Даже в природе во время войны глаз поэта замечает теперь прежде 39 всего те «дома», которые создает себе жизнь. Та ласточка в «Стихотворении неизвестного бойца» и в очерке «Ласточка». И та «правильная птица» - скворец в другом стихотворении, который и во время войны «в садике горелом... починяет домик свой». А ядро дома — семья, исходная человеческая общность, которую выявлял, воспевал Твардовский и на предыдущем отрезке своего пути, именно во время войны и в исходном смысле, и в новом, очень расширительном смысле усиливается и раскрывается с новой полнотой. Семья как опора и фронтовой всеобщности. Мать и сын. Отец и сын. Мать и дочь. Жена и муж. Брат. Семья как целое. Как нравственное начало. В самых разных вариантах, сочетаниях — это сквозные мотивы ряда стихотворений, очерков, обеих поэм. И путь домой через войну — это путь «к матерям и женам». Возникают и нового типа семейные связи. Например, полк, усыновивший мальчика. Расширяется самый смысл семьи. Семья — это все фронтовое братство. Семья — это вся страна, отец — это весь народ. Мать — это и вся Родина, Россия, она тоже именуется — «мать-старуха». И вся страна. И вся земля — «матьземля». А что в семье главное? Любовь. И новая жизнь мотива любви проходит через военное творчество. Любовь прежде всего матери к детям, жены к мужу. В «Доме у дороги» это центральная тема. В «Василии Теркине» есть специальная глава «О любви». «Да, друзья, любовь жены, — //Кто не знал, проверьте, — //На войне сильней войны // И, быть может, смерти». Жена обычно изображается как мать, мать детей любимого человека. Женский образ выступает в своей повседневной, прозаической, подчас суровой жизни, помноженной на тяготы военного времени. Боец, получив письмо, видит облик прежде всего даже не лица, не глаз, а «тех далеких рук, // Дорогих усталых рук // В трещинках по коже». Рук не женывозлюбленной, а жены-подруги, трудовой женщины, хозяйки, матери. Это сочетание любви со всей неприкрашенной конкретностью труда и забот, в военное время особенно тяжелых, поновому раскрывает благородство, силу чувства. Но есть и тема судьбы тех молодых людей на войне, которые еще не знают другой любви, кроме материнской или сестринской. И вот — полушутливый, но глубоко сердечный призыв: «Полюбите вы его, // Девушки, ей-богу. // Полюбите молодца, // Сердце подарите. // До победного конца // Верно полюбите!» Мотивы семьи расширяются в мотивы дружбы, товарищества, землячества, фронтового братства. Солдатскому товариществу, солдатской дружбе в той или иной мере посвящено большинство стихотворений, они проходят через обе поэмы. Ибо ведь в бою взвод солдат — это «сорок душ — одна душа»; а еще большая общность — вся полковая часть. Как пишет Теркин, «покуда что» — «родная часть» «Для меня — солдата // Все на свете, // Все сполна: // И родная сторона, // И семья, и хата». Фронтовое братство также изображено с той же деловитой конкретностью. Прежде всего — взаимная выручка, помощь, особенно — любому раненому товарищу. (Например, в стихотворении «Давай-ка, товарищ, вставай, помогу».) Но и товарищество бытовое, трудовое и просто товарищество разговора, совместного отдыха, 40 даже совместного мытья в бане, так поэтично описанного в последней главе «Василия Теркина». Собственно личная дружба, имярека с имяреком, хоть, вероятно, и существует, ничуть не ослабевает, но как-то растворяется в общенародном товариществе. Нет темы отдельного личного друга, хотя много друзей. Рядом с Теркиным есть другой Теркин, вce разные, и все сходные. И сегодняшний случайный попутчик в походе, или в отступлении, или в какой-то другой передряге, или, наоборот, в отдыхе, в радости становится на этот момент близким и остается в памяти как свой. А с другой стороны, и та основная исходная кровная близость людей, внутри семьи в самом узком, тесном смысле слова — она также приобретает черты нового, более широкого, подчас даже фронтового товарищества. Отсюда тема стихотворения «Отец и сын» («Быть может, все несчастье...», 1943). Дети становятся не просто детьми, а «сынами... отчизны родной», как говорится в еще одном стихотворении. Вспомните для сравнения буквально ту же формулу отца-хуторянина в «Братьях». Поучительное переосмысление темы! И появляется еще одна подтема этой семейной темы: дети на войне. Дети и как жертвы войны, и как ее участники, и как проявление силы жизни, ее продолжения, несмотря ни на что. О детях, как жертвах, особенно сильно сказано в двух почти одновременно написанных стихотворениях 1943 года «Две строчки» и «В пилотке мальчик босоногий». А дети в «Доме у дороги», в том числе мальчик, только что родившийся в неволе,— это символ и слабости, и победоносности жизни, права жизни быть жизнью, права человека быть «жителем» этого мира. Гак в разных формах человеческой общности — семьи, товарищества, фронтового братства, землячества, общего для всех патриотического единства — отстаивает себя, свой дом и дороги, жизнь на земле. И —перекликается с другими формами жизни, с тем скворцом и его скворчатами. С той ласточкой. С тем петухом, который никак не хотел помирать («Со слов старушки»), И даже с тем жеребенком, который во время финской войны «от своих отбился где-то» и прибился к нашим фронтовым кухням. Со всей жизнью природы. «Только теперь, кажется, научился любить природу, не только загорьевскую, смоленскую, не только даже русскую, а всю, какая есть на божьем свете. Любить, не боясь в чем-то утратиться, не изменяя ничего и не томясь изменой, — свободно». Так писал о себе Твардовский в годы войны в очерке «По литовской земле». Все-таки на первом плане его родная, среднерусская природа — «сторона моя лесная», где «каждый кустик мне родня». Но действительно взгляд на природу становится более свободным, широким, ассоциативным, обостренным. И в этом взгляде также проявляется война. Вот «Ноябрь» (1943)—очень конкретная и точная зарисовка, предельно лаконичная (шесть строчек), с некой новой суровой наблюдательностью: «Обдутый изморозью золкой, // Дрожит, свистит лозовый куст», и со своеобразной психологической поведенческой метафорой: «В лесу заметней стала елка, // Он прибран засветло и пуст». Отблеск переживаний военного времени здесь проявляется и в самом отборе пейзажа, необычном для Твардовского,— угрюмый, осенний, обдутый суровым 41 холодным ветром лес. И напоминании, что этот лозовый куст — «забитый грязью у поселка». Сама поэтика изображения к обычной уже в пейзажной лирике Твардовского динамической сосредоточенности, искусству отбора выразительных деталей добавляет более напряженную метафоричность, ассоциативность, психологическую глубину. Явления природы часто сопоставлены с войной — как жизнь на земле с антижизныо. Или как элемент воспоминания о родной стороне. Или как фон, аккомпанемент военной жизни, быта или боя (например, — в «Переправе»). И характерен мотив искореженной, «изувеченной», «оскорбленной» войной природы: «Под вражьим тяжким колесом // Стонала мать-земля». Или в другом варианте — «трава, сожженная живьем». Или в очерке «В краю опустевших лесов». И в третьем варианте — контраст и параллель с земледельческим пейзажем Твардовского 30х годов — «густая, дремучая трава», «уставшая думать о косе». И мучительный стон материземли прямо перекликается с муками первых мучеников войны и горем старухи матери. Как и в предыдущие периоды, Твардовского не занимают внутренние антагонизмы жизни природы. Но взаимодействие природы и человека изображено более сложным, даже трагическим. Ибо, кроме нормальных людей, есть «нелюди», которые губят и людей, и природу. Ведь действительно что-то страшное есть и в том контрасте между расцветающими вновь на пожарищах садами и обгоравшими деревьями и рядом — типичным бытовым пейзажем войны — «Кирпичи, столбы, солома, // Уцелевший угол дома, // Посреди села — дыра,— //Бомба памяти дала» («И цветут — и это страшно», 1942). Но сквозь страшное проглядывает реальная жизненная сила. Контраст между жизнью природы и войной, как смертью, выступает в форме своеобразной антисимметрии. Так оправдалась «отцов и прадедов примета» — особая сила жизни природы проявилась именно и лето начала войны («Отцов и прадедов примета»). Народная примета подкреплена скрытой поэтической .аналогией — с жарой перед грозой. Это писалось в 1942 году, через год после начала войны. А в 1945 году, сразу же после ее окончания: «Перед войной, как будто в знак беды, // Чтоб легче не была, явившись в новости, // Морозами неслыханной суровости // Пожгло и уничтожило сады». Причем именно «избранные, лучшие // Постиг деревья гибельный удар». Здесь уже не антисимметрия, а диссимметрия, — подобие и отличие судеб человека и природы. И эти судьбы уже освещены воспоминанием, движением времени. «Прошли года» — и «деревья умерщвленные // С нежданной силой ожили опять». Но параллелизм более сложен, ибо осталась неутешная материнская память, неожиданно возникшая в заключительной строчке — «А ты все плачешь, мать». Природа предстает и как жизнеутверждающее начало, возрождающееся после любого удара, и как сопутствующая человеку жизнь, страдающая вместе с ним и от «нелюдей», и от стихийных бедствий. И как нечто более загадочное, таинственное, полное контрастно-параллельных человеку сил, своеобразных предчувствий. И как некое стихийное движение, возвратное и поступательное. В отличие от человека — забывающее о пережитом. Но есть общая память матери-Родины, и отца-народа, и поэта народа — Твардовского, которая их 42 объединяет. Как и раньше, есть в природе у Твардовского некое домашнее и трудовое начало, и теперь, пройдя через трагизм войны, это начало должно отстаивать себя вместе с человеком и его памятью. Свойство памяти как глубочайшей формы человеческой общности и связи времен теперь продолжается и усложняется. И как серия воспоминаний во время войны о том, что было до нее — о мирной жизни, доме, семье, труде и т. д. И как память уже во время войны о самой войне — новый мотив «жестокой памяти», возникающей уже в первые годы, как память о погибших. Как память о том мальчике-бойце, погибшем на «войне незнаменитой» («Две строчки»); как память о других погибших бойцах в ряде других стихотворений. И как воспоминания о погибших семьях, возникновение темы «солдата-сироты». И горькая авторская память о самой памяти, той безвозвратно утраченной светлой памяти, о всем том, «чего я вспомнить снова, не вспомнив немца, не могу». И внутри этой главной, жестокой памяти — все же мотивы светлой памяти, не только о довоенном прошлом, но и о радостях, человеческих отношениях самого военного времени. В поэтику памяти, как движения времени, включены и мечты о будущем. О возвращении домой. О послевоенной жизни после победы. И в этом будущем — опять возникает мотив памяти. Будущей памяти самого героя, автора или потомка о войне, о пережитом («Здесь немцы были», 1944, и др.). А самый процесс памяти становится еще более многосоставным. Появляются стихотворения, в которых память, воспоминание выступают как особый миг, мгновенная вспышка, освещающая большое пространство личной и народной жизни, судьбы, истории. Например, в том же стихотворении «Две строчки». Такие миги могут многократно повторяться, ведут за собой цепочки ассоциаций, переживаний прошлого и настоящего, в их слитности. Таков лейтмотив-воспоминание «Коси, коса, пока роса» в «Доме у дороги». Возникает и новое чувство ответственности живых людей перед мертвыми, перед памятью о них. Чувство, проходящее далее через все творчество Твардовского. Так опять осуществляется связь времен. Поэтическое время остается хроникальным, «фронтовая хроника» продолжает и сменяет «сельскую хронику». Но еще больше подчеркнуто движение времени, как «теперь», сейчас прослеживаемого, и поэтому впервые может возникнуть поэма, начатая с середины и кончающаяся серединой. И в разорванное и ускоренное войной движение настоящего времени включаются потоки разных времен, разных людей и событий. И впервые резко выступает время высказывания и воспоминания авторского «я», — его соотнесенность с другими персонажами, событиями, временами. И все формы памяти, времени превращаются в мотив жизни на земле, ее стойкости, героизма, — общности людей в борьбе против нелюдей. Продолжается и расширяется тома жизни и смерти, самая вечная тема во всей сегодняшней конкретности этой теперешней битвы. Тема, как мы видели, возникла у Твардовского очень рано. А теперь соприкосновение жизни и смерти проходит через каждый бегущий день, даже час, миг. Максимальное напряжение жизни и максимальное напряжение смерти. Идет «смертный бой не ради славы, 43 ради жизни на земле», и это — «смертельная страда». И не только в боях. Впервые появляется и обобщающий образ самой Смерти, воплощенный в некой особой фигуре, как бы личности, в знаменитой главе «Василия Теркина» «Смерть и воин». Если раньше у Твардовского смерть всегда была безликой и единичной, то теперь она получает черты собирательной антиличности, воплощенного антимира. Мы ее слышим; мы слышим, как она говорит с живым человеком; слышим ее вкрадчивую, как бы рассудительную, как бы убедительную, как бы даже жалостливую речь. Мы ее не видим прямо в этой сцене, она не имеет зримого облика, хотя может не только говорить, но и двигаться, идти следом за бойцом. Но она может принимать и вполне зримую, ощутимую человекоподобную форму того фашистского солдата, который спокойно, не торопясь, застрелил старуху крестьянку («Рассказ старика»); того, другого фашистского солдата, сытого, береженого, который подло и злобно дрался с Теркиным. И главное в Смерти — пустоутробие, мнимость. Ложь и злоба в форме правды и жалости. Безликость и в форме псевдоличности. Однако в одном Смерть в этом разговоре с Теркиным правдива — она не соглашается допустить его к человеческой общности хотя бы на один день, о чем просит ее Теркин. Смерть может дать только одиночество. Отметим, что и в эту сцену входит мотив дома, словами одного из бойцовспаситеей: «...живой спешит до места, — //Мертвый дома — где ни есть». Смерть — это одиночество и бездомность. А жизнь — это общность, конкретность человеческой связи и вместе с тем — свое «место», свой дом, свое личное. «И подумала впервые // Смерть, следя со стороны: // «До чего ж они, живые, // Меж собой свои — дружны. // Потому и с одиночкой // Сладить надобно суметь, // Нехотя даешь отсрочку». // И, вздохнув, отстала Смерть». Товарищество живых — главная сила, противостоящая смерти, фашизму, войне. Ибо жизнь на земле — это мир и труд, сочеловечность. Мир вынужден отстаивать себя в противоположной себе форме, на войну отвечать войной, на смерть—смертью тем, кто несет смерть. «Я — любитель жизни мирной // На войне пою войну». Но нигде Твардовский не впадает в так называемую романтику войны. Война — ужасна, «жесточе нету слова». Война только неизбежная «работа». Она требует подвига за правое дело, за мир, потому и «святее нету слова», чем война, потому и нет ничего святей и чище, чем дружба воинов мира. В каждом подвиге есть романтика, но это романтика именно подвига, самоотверженности, общности людей, а не самой войны. И в подвиге Твардовский прежде всего подчеркивает его суровую, без прикрас, необходимость, даже подчас, так сказать, деловитость, и его массовость, ибо подвиг совершается ради человеческой общности человеческой общностью. Тема подвига, героизма — в разных формах проходит и через ряд стихов Твардовского предыдущего периода. Но теперь подвиг стал повседневным условием и обязанностью жизни, ее труда. Подвиг в самом полном своем проявлении, включая отдачу своей жизни ради победы жизни над смертью других. Рядовой шофер Артюх совершил подвиг, требовавший исключительной храбрости и самоотверженности, человек шел па почти верную смерть и 44 победил. И совершил подвиг по собственной инициативе. «Для такого дела // Нужен был герой». И герой нашелся. Заметьте, подвиг — это дело. Выжил Артюх только благодаря своей храбрости, смутившей врага. Но когда после подвига его спрашивали: «Что ж, не страшно было? // — Страшно,— говорит. // — Страшно, только нужно... // И об этом смолк. // Служба— это служба, // Подвиг — это долг». И все стихи и проза Твардовского этих лет — это небывалый в истории литературы эпос и лирика подвига, как именно самого массового, всенародного, непреодолимо нужного дела, труда, долга жизни. Но Твардовский показывает, что подвиг стал не только долгом, что он стал бытом. Тема подвига как труда и быта была темой не только Твардовского, а всей военной поэзии и прозы. Можно отметить великолепное стихотворение А. Гитовича «Разведчик», изображающее подпит как труд в его неприкрашенной реальности. Но Твардовский, как никто, сумел показать соединение в подвиге и самого прозаического, и самого поэтического, и самого великого в том, что объединяет это величие с любым настоящим человеком. Тема и пафос массового героизма у Твардовского усиливают тему и пафос самоценности каждого отдельного человека, того безвестного бойца-парнишки, который погиб на «войне незнаменитой». Именно не безликость, не простая суммарность, а конкретная многоликость массового героизма является огромным достижением военного творчества Твардовского. Даже многие безымянные персонажи не безлики, а многие и многолики, многосоставны, как тот, например, «солдат-сирота». Это соединение индивидуальности и всеобщности и в коллективных, собирательных, и в отдельных персонажах Твардовского представляет собой дальнейшее развитие патетических характеров, в понимании этого термина Гоголем и Белинским, о которых говорилось выше. Их пафос становится еще более многосоставным. И еще более глубинным, напряженным, широким. В некоторых очерках Твардовского даже подчеркивается, как основной патриотический пафос может овладевать и некой, казалось бы, далекой от патетического начала личностью, вроде той, продувной, хотя, в сущности, и доброй «бабы»— тети Зои. Теснота и сложность человеческих взаимодействий вместе с размахом их далей во много раз увеличиваются. И в лирике, и в поэмах, и в прозе. Сами способы типизации и персонификации становятся более разнообразными. Появляются, с одной стороны, совсем условные, обобщенные, символические, и вместе с тем разномасштабные персонажи — и та Смерть, которая разговаривает с Теркиным, и тот новорожденный мальчик, который произносит как бы целую речь о своем праве на жизнь при своем появлении на свет. Одним из главных персонажей становится и само авторское «я». В нем нет признаков особого лирического героя, отличающегося от автора. Наоборот, стихи и проза становятся даже более автобиографически достоверными, чем раньше. И это «я» гораздо более активно, более прямо участвует в движении поэтического события. Твардовский возрождает и расширяет свое раннее авторское «я» периода еще 1928—1930 годов, расширяет тему и активность того «я», которое выступало в таких стихотворениях 30-х 45 годов, как «Путник» или «Я иду и радуюсь». Авторское «я» теперь непосредственно выступает и в крупных повествовательных произведениях, особенно в некоторых военных очерках, в резком отличии от очерков 30-х годов. Увеличивается и амплитуда наборов признаков всех персонажей, включая авторский образ. И главного многостороннего героического, «святого и грешного» народного характера. И вместе с тем увеличивается сосредоточенность всего этого многообразия в основном всеобщем массовом Деле, массовом подвиге. Небывалое внимание уделяется и неповторимости каждого отдельного участника подвига, и самой цене подвига. И стихи, и проза переполнены смертями, страданиями, в соответствии с действительностью этой войны, самой страшной в истории человечества и по количеству жертв, и по бездушию, свирепости врага. Твардовский, однако, обходит тему, которая впоследствии разрабатывалась нашей послевоенной прозой о войне — все ли жертвы и страдания были необходимыми, нужными? Чуть-чуть касается Твардовский этих вопросов лишь в некоторых местах своих карельских дневников. С точки зрения основной всеобщей цели, ее правоты ему не представлялось нужным касаться этих вопросов. Главным было именно воспроизвести массовость героизма во всей реальности и пережитых народом жертв, страданий и реальности единой веры и воли к победе. И впервые сам воюющий народ выступил как коллективное собирательное лицо, народный герой и заговорил о себе языком не только хотя бы и самой великолепной прозы, а языком собственно поэзии, языком стиха, впитавшего и язык прозы. 46 Черты поэтики Новое огромное историческое событие, необходимость изображения проверили и развили возможности поэтики Твардовского предыдущих периодов. В частности, подтвердились возможности сочетания сюжетности лирического стихотворения и его психологического богатства; прозаизации и высокого героического пафоса, краткости и обстоятельности «бесценных подробностей». Основные отличия от поэтики предыдущего периода определились скачкообразным расширением «площадки действительности» и усилением ее конфликтности, напряженности всех ситуаций, судеб и концентрации всего этого вокруг основной темы — конфликта, темы и пафоса битвы за жизнь на земле человека с нелюдьми. Отсюда и увеличение разнообразия всех художественных средств и вместе с тем еще большая сосредоточенность в стержневом направлении. Отсюда соответственно еще более смелое совмещение и одном авторском высказывании, иногда даже отдельной строфе, строчке очень разных и даже контрастных фактов, переживаний, лексических пластов, интонационных движений, но попрежнему в определенных рамках ясной общей направленности, без игры отстранениями, без гротеска, хотя с еще более широким применением условных и символических приемов, еще более смелым сочетанием конкретности и обобщенности. Небывалая резкость переходов, совмещений далекого и близкого, большого и малого, событийности и психологического анализа. Поэт движется в главной стремнине потока, жизни, события, в самой густой его гуще; и ведет при этом на ходу, в спешке, но вместе с тем с дотошной внимательностью, дневники эпохи и самого себя, записную книжку. И непосредственность дневниковой записи перерастает в грандиозное обобщение, вплоть до огромных исторических символов. И, таким образом, рождается новая символическая конкретность стиха и прозы. Одной из внешних примет расширения «площадки действительности» и пространства поэзии явилось увеличение жанрового разнообразия. «Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки — все». К этому списку, естественно, добавились обе поэмы. Контрастно увеличилась роль и наиболее крупных повествовательных форм, к которым, кроме поэм, нужно отнести и ряд больших повествовательных стихотворений размером от более ста до почти трехсот строк, — и самых кратких стихотворений, по 6—8 строчек, как бы фрагментарных, отрывочных записей. Сохранились все жанры работы Твардовского предыдущих периодов и появились новые. Например, своеобразные очерки-корреспонденции в стихах, иногда непосредственно выраставшие из газетной заметки или прозаического очерка или параллельные с ними — главным образом описания отдельных героических поступков, подвигов конкретных героев войны. Ряд стихов с преобладанием ораторской интонации, в наибольшей мере перекликавшихся с традиционным жанром «оды»; эти военные «оды» включали в себя и опыт песенных, разговорных жанров. Много стихов-«посланий» и «писем». Есть стихи, совмещавшие в себе признаки «оды», «послания» и резко выраженные песенные 47 элементы — таково сильное стихотворение «К партизанам Смоленщины» — лучший образец ораторской, хотя с элементами разговорной и напевной интонаций, лирики Твардовского. Часто «ода» сочеталась и с признаками «медитативной элегии» («Возмездие»). И развился далее жанр «стихов из записной книжки». С точки зрения степени прямой активности авторского «я», по-прежнему занимают большое место повествовательно-сюжетные стихи, но гораздо большее развитие, чем в предыдущих периодах, получают смешанные лирико-повествовательные и повествовательно-лирические (с элементами также драматизации). «Лирика другого человека» представлена меньшим количеством специально ей посвященных стихотворений, но широко развита как лирические проявления персонажей поэм и стихотворений. Среди собственно повествовательносюжетных стихов теперь выделяется жанр, который сам поэт обозначил термином «баллада». Это, в сущности, аналог рассказов в стихах 30-х годов сходной или несколько большей размерности (например, «Баллада об отречении»— 152 строки, «Баллада о Москве» — 192 строки, «Баллада о товарище» — 232 строки), но с более драматическим, подчас патетическим и трагическим содержанием. Кроме того, есть стихотворения, так и обозначенные, как рассказ в стихах, например, «Рассказ старика», «Рассказ танкиста». Такие повествовательные стихи, иногда имеющие характер военной корреспонденции-очерка о том или ином событии, подвиге, происшествии, в сущности мало отличаются от «баллад» Твардовского этого времени, но имеют элементы сказовости или еще более насыщены бытовыми подробностями. А среди стихов с наиболее активным проявлением лиризма также возникает новый жанр — короткие размышления в стихах, почти афористические, например, известное шестистрочное стихотворение «Война, жесточе нету слова» (1944), — жанр, тесно связанный с жанром «стихов из записной книжки». Все авторы работ о Твардовском подчеркивают усиление активности авторского «я», лирического начала в творчестве поэтов военного времени — и Твардовского в том числе. С этим можно согласиться, но со сделанной выше оговоркой о том, что вместе с тем усилилось и эпическое начало, а усиление лирической активности у Твардовского не означало, что она только теперь у него возникла. Более того. В самом прямом авторском высказывании преобладает высказывание не прямо о себе, а о себе в связи с чем-то или кем-то другим. Все биографическое и автобиографическое в стихах и прозе, с одной стороны, более непосредственно проявляется, а с другой стороны, — и это несколько парадоксально — даже больше отодвигается, ибо «дневниковость» подчинена колоссальному дневнику коллективного участника войны. В поэмах прямое высказывание автора выходит на авансцену, но роль своей личности автор везде ограничивает положением комментатора, свидетеля и спутника. Только в прозе этого периода автор выступает как участник описываемого события, но не как действующее лицо, в отличие, например, от прозы Симонова. 48 Основное отличие авторского «я» этого периода от «я» предыдущих этапов пути Твардовского заключается в самом расширении субъективности, кругозора личного начала, его многоголосия, в появлении новых тематических мотивов, переживаний, непосредственно связанных с войной и с усилением чувства ответственности личности перед лицом врага. В связи с этим несколько меняется и структура лирического высказывания. Оно теперь обращено к более конкретному собеседнику или слушателю; часто «я» непосредственно беседует со своими персонажами, иногда даже обращается к конкретным адресатам. Появляется в числе этих собеседников и сам автор, возникает разговор с самим собой, хотя он предпочитает говорить о себе со стороны. Вообще в каждом стихотворении и в обеих поэмах явно или скрыто происходит некий диалог — «я» и «ты», или «я» и «вы» (эти «вы» часто имеют более конкретные определения — например, «друзья» и т.д.), иногда «мы» и «вы», «мы» и «ты». И этот «ты» часто представляет собой персонаж — индивидуальный или коллективный,— связанный с авторским «я» и некой обратной связью. Это — соотношение, которое было редким в стихах Твардовского предыдущих периодов, теперь становится самым обычным. Товарищество становится принципом изображения. И отсюда в самой лексике во много раз учащается употребление личных и притяжательных местоимений, по сравнению со всем предыдущим творчеством, хотя в указанных рамках, с указанной объективностью самой субъективности. С этим многообразием и единством разных «я», «ты», «мы», «вы», «они» связано дальнейшее развитие интонационного многоголосия. Как и раньше, в стихах почти всех жанров преобладает естественная разговорная речь, даже в ораторских, одических. Но в этом разговоре резко усилились непосредственный пафос обращения, страстного высказывания, любви и гнева, подчас настоящей ораторской эмфазы, подъема. Довольно часто эта эмфаза переходит в простую риторику. Но в лучших стихах — и во всем «Василии Теркине» — ораторский пафос и страстное высказывание вырастают из непринужденного, без всякой внешней приподнятости, разговора о самом важном, волнующем с живыми собеседниками, на равных. И в этой разговорности обычно сохраняются элементы напевности, продолжается та слитная напевно-разговорная интонация, которую с таким блеском и глубиной разработал Твардовский в стихах предыдущего периода и в «Стране Муравии». Появляются и стихи с новой предельной разговорностью, без всякой напевности, с некой, как бы сбивчивой затрудненной речью, но и в этих стихах не возвращается ультрапрозаизация; сохраняется определенное мелодическое начало подлинно поэтического разговора. В упомянутой серии стихов нового жанра «Записной книжки» (и в меньшей мере в стихах других жанров) разговорная интонация приобретает новые черты — одновременно и большей непринужденности, свободы и большей затрудненности, выражающей именно эту свободу. Язык становится более прерывистым; нарушается его обычная последовательность, стройность высказывания. А вместе с тем — просторечие, с точными приметами просторечия именно тех лет: «бомба памяти дала». Опять много тире, многоточий; отрывистых, назывных, 49 иногда незаконченных предложений. Неравномерен и синтаксис, меньше становится тех стройных синтаксических параллелизмов, которые были так характерны для большинства стихов 30-х годов и которые теперь еще более распространены в медитативных и ораторских стихотворениях. В некоторых стихотворениях свободно совмещаются отрывистые, короткие и распространенные фразы; повторы и нарушения обычной синтаксической последовательности, например, в стихотворении «Две строчки». Вновь возникают длинные фразы некоторых стихотворений и отрывков поэм 1929—1931 годов. Теперь появляются еще более длинные, развернутые сложные периоды, с системами параллельных предложений, начинающихся «что», «когда», «чтоб», «где», «и», «как» и т. п., ораторские периоды, охватывающие до восьми—десяти и даже до шестнадцати строк. Но эти периоды и в поэмах и в некоторых стихотворениях непосредственно переходят в синтаксические конструкции совершенно другого типа. Например, в стихотворении «Партизанам Смоленщины» — длинное — одиннадцать строк — сложноподчиненное предложение, с серией «чтоб… чтоб... чтоб...», с резкой сменой интонации переходит в краткую восклицательную фразу без подлежащего и сказуемого — «чтоб под каждою машиною // Рухнул мост и — аминь!». Границы строф и строк теперь часто не совпадают с границами синтаксических единиц, что было очень редко в стихах 30-х годов. И увеличивается разнообразие типов строф. Сверх того разнообразия, которое наметилось уже с 1928—1929 годов (путем сочетания четверостиший и двустиший, а также в ряде случаев пяти- и семистиший), возрождается и развивается подвижная, текучая строфика «Зеленого города» и первых двух поэм, но в сочетании с более выраженными напевными и ораторскими субинтонациями в разговорной интонации. Такая подвижная строфика появляется уже в лирике 1942 года, в стихотворении «И цветут — и это страшно». В дальнейшем (и одновременно уже в первых главах «Василия Теркина»), кроме пяти- шести- семистрочных строф, по схемам типа ааавваввав и др., часто также с теневыми рифмами, связывающими отдельные элементы этих конструкций, которые мы наблюдали уже во «Вступлении», теперь появляются более сложные строфы —до одиннадцати и даже семнадцати строк в одной строфе, а некоторые стихотворения целиком сложены восьмистишиями, например, «Бойцу Южного фронта» (1941). Еще более разнообразна шестнадцатистрочная строфа со схемой рифмовки авававаBaBcdcdcd в начале «Василия Теркина». Ряд менее сложных, но также многосоставных, и гибких строфических единиц характерен и для таких стихотворений, как «За Вязьмой», «Ноябрь», «Две строчки». Количественно все же и теперь в строфической системе резко преобладает традиционная куплетная схема с перекрестной рифмовкой, но она часто осложнена разностопностью, вклиниванием строф с парной или более сложной рифмовкой. А общую поэтическую систему в значительной степени определяют именно систематические нарушения этой господствующей традиционной строфики, которые в сочетании с указанными новыми особенностями языка определяют новую интонационную гибкость, свободу лучших стихотворений и обеих поэм. 50 Метрический репертуар мало меняется по сравнению с предыдущим периодом. Дольники встречаются еще реже. Как и в предыдущем периоде, преобладают ямб и хорей, но их соотношение несколько меняется. Важнейшая и самая большая по размеру поэма «Василий Теркин» написана целиком хореем, кроме небольшой вставной песни. Но в лирике преобладает ямб (почти 50 процентов) — против Целиком ямбом написан и «Дом у дороги». 23 процентов, написанных хореем. Среди остальных размеров преобладает амфибрахий — около 19 процентов, затем анапест. Общие метрические признаки не имеют, как всегда, определенной корреляции со стилистикой, но все же можно отметить, что амфибрахий и пятистопный ямб тяготеют к наиболее медитативным интонациям, а внутри тех же метрических схем новое разнообразие ритмов создается главным образом новой подвижной строфикой и синтаксической свободой, разнообразием. Аналогичным образом развивались и другие элементы поэтики Твардовского этих лет — по тому же принципу концентрического расширения, увеличения амплитуды и свободы вариантов при сохранении основного движущего принципа. В частности, продолжаются способ изображения главного, существенного через внешне незначительные или не имеющие к нему отношения детали или языковые жесты и способ изображения многослойного содержания совместным движением подводного и надводного хода темы (например, некоторые слова солдата в стихотворении «В пути», мальчика в стихотворении «В пилотке мальчик босоногий», подводный ход стихотворения «Перед войной, как будто в знак беды»). И происходит дальнейшая разработка психологической многозначности деталей-сигналов в более широком контексте движения индивидуального и коллективного сознания, трагически заостренного движением основного конфликта времени, войны. Показательный пример — поэтическая функция совсем малой детали быта — звук полета майского жука в главе «Кто стрелял?» «Василия Теркина». Глава начинается описанием пейзажа, изуродованного войной,— майского или ранне июньского «вечера дивного», который идет по «полям пустым», когда «от окопов пахнет пашней, // летом мирным и простым», среди земли, «рябой от рытвин, // рваных ям, воронок, рвов», опаленных «смертным зноем жаркой битвы». И вдруг: «И откуда по пустому // Долетел, донесся звук, // Добрый, давний я знакомый, // Звук вечерний. Майский жук». Звук выступает как некий символ мирного летнего вечера. Но тут же двойственное восприятие его бойцами: «И ненужной горькой лаской // Растревожил он ребят, // Что в росой покрытых касках // По окопчикам сидят. // И такой тоской родною // Сердце сразу обволок!» И второй резий переход смысла: «Фронт, война, а тут иное: // Выводи коней в ночное, // Торопясь на «пятачок», // Отпляшись, а там сторонкой // Удаляйся в березняк, // Провожай домой девчонку, // Да целуй — не будь дурак. // Налегке иди обратно, // Мать заждалася...» Деталь игает роль сигнала, вызывающего поток памяти, воскрешающего утраченное время. Вспомним стихотворение «Матери» (1937), о котором говорилось в предыдущей главе. Но, в отличие от прустовских деталей-сигналов, деталь-сигнал у Твардовского имеет дополнительные психологические и поведенческие определения и даже 51 переходит в некое существо, самостоятельное бытие, а не только бытие знака. И это бытие непосредственно сопряжено с одновременным контекстом. Есть некоторое отличие и от поэтики детали-сигналов в «Матери»: здесь сигнал становится однократным, точно прикрепленным к одному месту и времени движущегося настоящего, и вместе с тем более многокомпонентным. Это целый самостоятельный эпизод, микрорассказ, наплыв прошлого в настоящее. Звук жука выделен крупным планом, только звуковым, а не зрительным. А соотнесенное с всплывшим воспоминанием настоящее время (столь малое) время полета этого майского жука имеет сложное, многоплановое строение. Сопровождается и сложным, противоречивым переживанием: «ненужная» горькая ласка и, наоборот, родная тоска, каждое из которых, в свою очередь, содержит противоположный себе элемент. Сложное, как бы двухступенчатое сочетание, сопоставленное также (метафорически и метонимически) с многоступенчатым, многосторонним контекстом, обстановкой и в ней — сложной детальюсигналом. Но эпизод с майским жуком этим наплывом воспоминания не кончается. После завершающего воспоминание-наплыв полустишия идет многоточие, пауза и затем в той же строчке, с некоторым скачком и несовпадением ритмической, строфической и синтаксической границ: «И вдруг— // Вдалеке возник невнятный, // Новый, ноющий, двукратный, // Через миг уже понятный // И томящий душу звук». Следующий миг — и второй сигнал-звук опять чего-то летящего, но резко противоположный предыдущему: и по размерности, и по продолжительности, и по психологическому воздействию. И затем эта деталь-сигнал развертывается в более сложный и более напряженный, трагический образ. Две строфы «поясняют», что за звук, поясняют также отражением в человеческом переживании, поведении — но уже через ближайшую память самой войны. Таким образом, звук майского жука получает дополнительную сигнальную функцию — как контрастная параллель этому звуку войны, этому второму сигналу, сигналу смерти, противостоящему сигналу жизни, весны, молодости. И в развернутом описании-комментарии передается опять во всей правде сложность коллективного переживания — и страха, и мужества бойцов, «ребят». И связи с этим несколько меняется интонация, появляются элементы прямой речи, а звук самолета нарастает, переходит в «страшный рев». А дальше идет неожиданное, но поэтически и в высшей степени логичное отступление — размышление автора, передающее и размышления самих бойцов, сливающееся с их мыслью, чувством, — о смерти на войне, об ее постоянной близости, немножко на первый взгляд странный при этом «разбор» вопроса о том, «в какое время года // Легче гибнуть на войне?». Горький трагический юмор этого «разбора» содержит в себе и нарастающее мужество, преодолевающее ужас. Движение как бы рассуждения, отвергающего смерть с полным сознанием страха перед ней, завершается естественным переходом в интонацию прямого обращения автора к одному из лежащих во время атаки с воздуха бойцов, — обращения, в котором с предельной лирической силой передан весь трагизм войны, — и нечто, преодолевающее трагизм самой его полнотой: 52 И какой ты вдруг покорный На груди лежишь земной, Заслонясь от смерти черной Только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка, Двадцати неполных лет. Вот сейчас тебе и крышка, Вот тебя уже и нет. Но именно в эти минуты вновь вспоминается, но уже только автором, соприсутствующим, сопереживающим, то, что тогда вспоминалось при звуке полета майского жука. Вспоминается, как «забывание»: Ты прижал к вискам ладони, Ты забыл, забыл, забыл, Как траву щипали кони, Что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках, И далек, далек, далек Вечер тот и та девчонка, Что любил ты и берег. И друзей и близких лица. Дом родной, сучок в степе... С поразительной силой в этом отрывке соединяются деловая точность описания с мелкими поведенческими деталями («прижал к вискам ладони»), конкретность подробностей воспоминания («как траву щипали...»), забытого пареньком, но повторенного и даже дополненного авторским «я», в паренька вселившимся, и резко контрастный образ — «смерть грохочет в перепонках». И неожиданная заключительная малая подробность всего этого своеобразного воспоминания через то, что человек забыл — тот сучок в стене родного дома, та деталь, которая вдруг всплывает или может всплыть в памяти в этот предельный, пограничный со смертью миг жизни человека. Опять характерное для Твардовского превращение самой как будто мелкой подробности в самый емкий образ — символ самого главного, важного. (Вспомним «желуди» в «Братьях».) А перекличка этого отрывка с тем воспоминанием (авторское воспоминание о воспоминании) с удивительной психологической глубиной удваивает и расчленяет память, переживание. Исходная малая деталь-сигнал, звук майского жука приобретает еще одно, третье, художественное значение. Удваивает и совмещает утраченное 53 и обретенное время, удваивает и совмещает контрастирующее с ним теперешнее, военное время. Время самой минуты воспоминания и время воспоминания сливаются в едином движении четырьмя планами — двумя настоящего, двумя прошлого, с четырьмя поворотами, совмещением и несовместимостью с собой. Опять создается то, что можно назвать сложной диссимметричной и антисимметричной структурой. Все это сосредоточено в одном месте и времени, в нескольких минутах одного майского вечера, и естественно подготовляет еще один и важнейший заключительный поворот. Поворот к решающему преодолению страха, к победе жизни над смертью («Нет, боец, ничком молиться // Не годится на войне» и т. д.). И развертывается следующая сцена этого вечера, «малого сабантуя». Поворот к форме своеобразного вопроса — прямой речи автора к самому себе: «Ну-ка, что за перемена? // То не шутки — бой идет. // Встал один, и бьет с колена // Из винтовки в самолет». И попадает в самолет, сбивает его — случай редкий, почти чудо, но в редкости и реальности этого случая — заостренный символический и гиперболический образ торжества мужества над смертью, над отчаянием, над покорностью. Превращение парнишек в героев. Сначала через одного из них. Л затем опять точное, как в военной корреспонденции, описание падения самолета. И тончайший по психологической проникновенности штрих: «Сам стрелок глядит с испугом». Испугом! Он победил — отчего же с испугом?! Но именно так может проявляться и высшее удивление человека перед неожиданностью, размером удачи в почти безнадежной ситуации — «что наделал — невзначай», и так оттеняется облегчение от только что пережитого и преодоленного смертельного страха. Дальше с большим тактом действительности вслед за этой строчкой идет краткая, как бы деловая информация о конечной судьбе вражеского самолета, об его признаках, контрастирующих с малостью винтовки в руках одного человека — «скоростной, военный, черный...» и т. д. Отметим здесь также перекличку эпитета «черный» с определением смерти как «черной». И затем сообщается, как он «ухнул в землю, завывая» — конечная деталь истории этого второго сигнала-звука смерти, ворвавшегося в тот дивный майский вечер. Но здесь этот сигнал уже сопровождается победоносной иронией, одновременно фиксирующей и силу врага, силу носителя смерти, и полноту его гибели: «Шар земной пробить желая, // И в Америку попасть». Это слова автора, но и слова бойцов, ибо они продолжают их репликами: «Не пробил, старался слабо. // — Видно, место прогадал». Трагическое противоборство жизни со смертью, жизни человека, как будто только одной спиной, тонкой кожей заслоненного от мощи наступающей смерти, разрешается этой победоносной иронией. Но победа — не безлична. И естественно следует последняя сцена главы, отвечающая на вопрос ее заглавия: «Кто стрелял?» Этот вопрос задает телефонный голос из штаба сразу же после того, как упал вражеский самолет. И для усиления вопрос повторяется трижды: «Адъютанты землю роют, // Дышит в трубку генерал. // Разыскать тотчас героя. // Кто стрелял? // А кто стрелял?» Ирония над врагом сменяется и чувством победоносного юмора, дружеского юмора и по отношению к самим себе. Героем оказался, понятно, Теркин. И торжество героизма также описано без 54 малейшего приподнимания разными голосами-репликами, включая даже чуть-чуть завистливую реплику сержанта и немедленную ответную шутку-«сдачу» героя: «... не горюй, у немца этот — не последний самолет». И тем сильней изображен акт героизма, что заканчивается он шуткой-поговоркой, с которой «перешел в герои Теркин». Перешли в герои и он сам, и все то товарищество, которое он собой воплощает. Так кончается судьба и второго сигнала-детали в главе и судьба всего этого рассказа-дневника о подвиге, борьбе человека и со смертью, и со страхом смерти. Эпизод (как и ряд других мест поэмы, и ряд стихотворений) концентрирует в себе не только поэтику конкретного и вместе с тем многосторонне-знакового, символического изображения, развитую Твардовским в этот период, но и ряд других характерных элементов дальнейшего развития его поэтики. Прежде всего характерной для Твардовского многоплановой социальнопсихологической конкретности, синтеза повседневного и героического, детализации и «генерализации», новой структуры поэтического времени в условиях предельного напряжения, экстремальной ситуации жизни народа и отдельного человека. Отсюда и дальнейшее расширение и заострение интонационного многоголосия, размаха смелости, свободы системы слитных метонимических и метафорических образов, наметившейся в предыдущем периоде. В искусстве метафор, с одной стороны, продолжаются те простейшие формы точных уподоблений, большим мастером которых уже был к этому времени Твардовский. В этих уподоблениях так или иначе входит контекст войны. Орудийные стволы — «как стволы дубов мореных». И, наоборот, оглобли поднимаются, как зенитки. Другая, более косвенная связь с настроениями и событиями военного времени проявляется в таких сравнениях: «снег жесткий, как песок». Одновременно продолжается система очеловеченных психологизированных сравнений: «говор мокрых бревен» («У Днепра»); «рябая» земля, разрытая взрывами, «шепелявый» визг дивизионного снаряда или более сложное поведенческое сравнение: «... топит провод, точно в воду». Полнота значений этих уподоблений всегда усиливается их метонимическим контекстом. Наряду с этим сравнительно простым типом метафор, обогащенных новыми ассоциативными связями, при сохранении их полной зрительной, или слуховой, или поведенческой точности, существенно увеличивается роль наиболее сложных психологизированных и поведенческих метафор-сравнений, — вроде того сравнения капли смолы на стволе дерева в жаркий летним день в лесу со слезой во сне — сравнения, о котором уже упоминалось в первой главе этой книги. Еще больше, чем в период «Страны Муравии», применяются разнообразные олицетворения — гиперболические, шуточные (иногда с трагическим, а иногда непосредственно жизнеутверждающим вторым планом), сложнопсихологизированные. Многие поведенческие сравнения сделаны по принципу, который можно обозначить термином — «похожая непохожесть». Например, в бане человек идет в парную— «так ступает, точно лед // Под ногами тонкий». И далее: «Будто делает с трудом // шаг...» Тут же — пар «бодает в 55 потолок». Такие оксюморонные образы применяются и при изображении самых главных переживаний и ситуаций. Вспомним образы «живой смерти» или «кровавой страды». Метафорические, сопоставляющие психологическое и предметное, сравнения-эпитеты соединяются с метонимическими деталями — «сиротливые дымы» («В наступлении»), «немыслимая тропа» и т. д. Некоторые метафоры превращаются в сложные системы смыслов, лейтмотивов, повторяющихся в разных контекстах и поворачивающихся, раскрывающихся разными сторонами своего поля значений. Например, образ битвы, как «сабантуя» в «Василии Теркине» или сравнение «пушки к бою едут задом» — там же. В этом сравнении есть принципиальная недосказанность, элемент народного присловия-загадки и в то же время ясная символика необходимости памяти в самом настоящем, сопоставлении с прошлым в битве за будущее. А образ «сабантуя» был, как рассказывает сам Твардовский, развернут из языковой горько-шуточной метафоры, созданной самими солдатами. В ткани поэмы Твардовского эта перекодировка расширилась. И метафора становится многозначным символом концентрации и движения человеческих сил в наиболее кризисной ситуации, максимального напряжения как бы «полевых работ» войны, работ «кровавой страды»; изменения и обогащения этого напряжения в ходе битвы за жизнь на земле, за мирный труд, за его действительное завершение, трагической иронии и мужественного юмора. Аналогично развивается и метонимическая стихия языка Твардовского. Некоторые метонимические образы также становятся более многозначными, емкими, афористическими и получают метафорический дополнительный смысл. Например: «... не гляди, что на груди, // А гляди, что впереди». Разобранные выше детали-сигналы имеют и метонимическое, и метафорическое поле значений. Показательно сопряжение точного описания с многоплановыми метафорическими и метонимическими связями в четверостишии: «Низкогрудый, плоскодонный, // Отягченный сам собой, // С пушкой, в душу наведенной, // Страшен танк, идущий в бой» («Теркин ранен»). Танк здесь имеет точные приметы и машины, неодушевленного предмета — «плоскодонный», причем со скрытым уподоблением лодке или кораблю, и живого существа — «низкогрудый». Исходное определение переходит в обратную связь свойства предмета с самим собой — как бы отражение свойства в его носителе («отягченный сам собой»). Это удваивает впечатление угрожающей тяжеловесности и агрессивности танка, с использованием дополнительного поля значения эпитета, и включает в метафорическое олицетворение элемент другого психологического ряда, самооценки и оценки со стороны. Третья строчка дает еще одну предметную деталь наступающего танка, усиливающую резкое ощущение прямой угрозы новым метафорическим поворотом. Атакующий танк нацеливает пушку не только на тело, но и на душу, устрашает само внутреннее «я» человека, и словно, «прямо» дополнительно подчеркивает эту угрожающую силу. А в следующей, последней строке уже не метафорическая, а непосредственная оценка завершает движение метафоры и вместе с тем точного описания наступающего танка, представляющего здесь собой и образ всего чудовища войны, смерти, страха. Метафора- 56 олицетворение движется вместе с танком, разворачиваясь, раскрываясь новыми сторонами, наращивая собственную силу, наводя ее тоже прямо в душу читателя. Это движение, его эмоциональный эффект подкрепляется и выражается также синтаксической, ритмической, звуковой организацией четверостишия: не просто метафора, а метафора в стихах, где сама стихотворная интонация становится ее частью. Отсюда это нарастающее повторение ударной гласной «о» в первом двустишии, подкрепленное внутренней рифмой-подхватом (плоскодонный — наведенный) и закрепленное богатой рифмой третьей строки и теневой рифмовкой всего четверостишия; параллелизм и нарастание смысла определенных эпитетов и синтаксических элементов (плоскодонный, отягченный, наведенный). В первой, третьей и четвертой строках появляется дополнительная огласовка четырьмя ударными «у», с внутренней рифмой уд-уш-душ-душ, подчеркивающей связь между движением предмета и его психологическим эффектом, усиливающей возникающее чувство ужаса. И хотя в четверостишии нет звукописи в обычном смысле этого слова, все же выделяется группа доминантных звуков, отвечающих и впечатлению от звучания грохочущего приближающегося танка и звучанию слов, ассоциирующихся с соответствующими переживаниями. Общая синтаксическая инверсия, благодаря которой подлежащее поставлено в конце фразы, также усиливает эффект движения метафоры-олицетворения. Некоторые стихотворения Твардовского этого периода являются еще более сложными динамическими метафорами-метонимиями. Как, например, отмеченные выше стихотворения с метафорическими и «метаморфическими» сложными сопоставлениями — перекличками судеб природы, человека, их параллелизмами и оппозициями («Отцов и прадедов примета», «Перед войной: как будто в знак беды», «И цветут — и это страшно»), причем везде характерны сочетания точности непосредственно конкретного описания и многозначности метафорического, ассоциативного движения. И в целом для творчества Твардовского этих лет характерна «точная и нагая» речь, очерк, дневниковая запись событий, переживаний, размышлений, прямых оценок и т. д., где главным изобразительным средством является точный отбор деталей, фактов или само движение ораторско-публнцистической интонации, авторского голоса. А с другой стороны, еще большее развитие свободной, многоплановой, многоконтрастной ассоциативности, метафоричности, наметившейся уже в предыдущий период, но получившей теперь новый размах и напряжение. Отсюда и больший размах всех сопоставлений, увеличение степенен свободы самой формы высказывания и еще большая целеустремленность, пафос этой свободы и еще большая строгость соотнесения творческого воображения с непосредственным ходом потока действительности, фронтовой хроники в ее новой трагической напряженности. Отсюда и дальнейшее расширение многоголосия стихотворной и прозаической речи, включая и более активную роль и большее многоголосие непосредственного вмешательства авторского голоса, вместе с его небывалой эмоциональной напряженностью, сосредоточенностью на главной 57 цели, страсти и личного, и коллективного переживания: «освободи страну свою». Все это выразило дальнейшее развитие народности творчества Твардовского. 58 Поэма «Василий Теркин» Это наиболее популярное и во многих отношениях вершинное произведению Твардовского. В данном разделе остановимся только на некоторых дополнительных вопросах понимания поэмы «Василий Теркин», относительно мало освещенных в литературе о Твардовском. По сравнению с предыдущими поэмами «Василий Теркин» резко отличается не только новой огромной темой битвы с фашизмом, но и принципиальным увеличением масштабности и многоплановости темы, события, идеи, всей системы поэтики и ее обновлением, созданием нового, небывалого в истории поэзии жанра. Но это также поэма Дома и Дороги, в условиях наиболее кризисной ситуации жизни народа и даже всего человечества,— поэма пути к Дому, защиты и утверждения высшей ценности человеческой общности в битве с врагами. Поэма битвы на переправе самого крутого хода истории. И в центре ее, как и в других поэмах и стихах Твардовского,— главные представители народной жизни в ее основах, в их преемственности и в их новых качествах и возможностях. Преемственность и отличия поэтики «Василия Теркина» и «Страны Муравии» ясно проявляются уже в начальных главах, «увертюрах» обеих поэм (в «Василии Теркине» — первое «От автора). Обе начинаются мотивами дороги. В обеих зачин вводит и ряд последующих мотивов, соединяет при этом разные масштабы изображения. Но теперь, с одной стороны, больше подчеркнуто, что начало — уже не начало, а середина происходящего. С другой стороны, на сцену сразу выступает автор как второй главный герой поэмы и ее создатель. Авторское размышление о главном в военной жизни, об исходных простых и важнейших ценностях жизни, товарищества, о том, что в эти ценности входит и шутка-«прибаутка», и вся «правда сущая». В этой авторской декларации сформулированы и признаки главного героя, и принцип художественного метода поэмы. Соединение шутки и полноты самой серьезной правды, «как бы ни была горька», прибаутки и трагического, эпического. Соответственно уже в зачине проявляется и отмеченное выше расширение интонационного многоголосия, с более активным участием прямого авторского голоса и более конкретных адресатов. Основной принцип разговорной интонации, включившей напевное начало, сохраняется, но она становится еще более непринужденной, свободной, что проявляется и отмеченной выше новой, более гибкой и сложной синтаксической и ритмической системностью. И эта вольность, свобода и многообразие движения речи сочетается с ее четкой организованностью, в частности системой повторов, сквозных рифм и т. д.2, единым напором, как бы единым дыханием — и единым временем движущегося настоящего. В зачине «Страны Муравии» это был момент выезда героя. Здесь движущееся начальное настоящее расширяется, связано с хронотопом всего начала войны и самого творческого акта автора, начала его разговора со своим героем и с временем «с середины». Общее построение поэмы сохраняет принцип хроникальности, дневникового времени, с ответвлениями в другие пласты времени, и принцип последовательности эпизодов, 59 объединенных судьбами одного центрального героя и других, более эпизодических персонажей. Но, кроме героев предыдущих поэм, появляется сквозной второй герой, описывающий сам себя, — автор. Он присутствует везде, говорит от своего имени, но местами и от имени героя. Это создает более сложное диссимметричное движение двух основных характеров, и личных, и надличных, которые то сливаются друг с другом, то отходят на некоторые дистанции в общем многоликом потоке людей и событий. Общепринято мнение, что в отличие от «Страны Муравии» «Василий Теркин» не имеет сюжета в обычном смысле этого слова. Это подчеркнуто самим Твардовским: «На войне сюжета нету». Но парадоксальный факт: несмотря на это, в конечном счете получилась стройная книга, со своей устойчивой системой, композицией, единым ритмом. Сам автор, как известно, добивался только внутренней законченности, стройности каждого отдельного эпизода. Эта внутренняя системность всех тридцати глав поэмы, в общем, однотипна системности глав «Страны Муравии»; также характеризуется контрастным чередованием более быстрого и более медленного движения, разных планов единой ситуации, объединенных сквозной, хотя и варьирующей, интонацией и единством основного события; но отличается большей контрастностью и напряженностью этого внутреннего построения, как это мы видели на примере главы «Кто стрелял?». Но, кроме этого, получилось и общее контрастно-параллельное чередование и построение всей поэмы. Ясно выраженное трехчастное строение, которое отвечает, в общем, трем естественным этапам истории самой войны: первая часть (события до конца 1942); вторая — (октябрь 1942 — май 1943) — главный переломный этап войны, начало общего контрнаступления; третья (февраль 1944 — май 1945)—завершающее наступление, победа. Первая и третья части имеют соответственно диссимметричное строение. Размер двух первых частей, хотя это получилось случайно и непроизвольно, почти одинаков, а третьей части — меньший, что создало, опять-таки непроизвольно, дополнительный художественный эффект ускорения, убыстрения движения к развязке. Критики уже давно отметили спиральное построение композиции (добавим, с более четкими «витками», чем в «Стране Муравии»). Имеются и переклички отдельных элементов этих витков. Первая глава «На привале» перекликается с последней «В бане», «Переправа» с «На Днепре», «Два солдата» с «Дед и баба». Перекликаются все четыре отступления-комментария «От автора» и включенное в центр второй части лирическое отступление «О себе». Имеются и более сложные переклички — глав «Поединок» и «Смерть и воин» в первой и второй частях. Эти переклички нанизаны на общую направленность хода движения, события и развития характера центрального героя. Теркин вначале просто веселый, удачливый, энергичный, неунывающий, очень умелый и находчивый человек в котором, как писал Твардовский, обдумывая первый вариант характера, «сочетается самая простодушная уставная дидактика с вольностью и ухарством». Но уже в первых главах поэмы характер Теркина выходит за рамки первоначального замысла и в дальнейшем перерастает в многостороннюю и в то же время патетическую, всеобщую 60 личность, о которой так много писали критики и литературоведы, говорилось раньше и в этой книге. Тут еще отметим, что его отличает от любого традиционного эпического и трагического героя не только соединение бытовой конкретности с героическим началом, но и соединение шутки и серьезности, хотя без всякой двусмысленности. Совмещаются черты традиционного и нового эпического героизма, и озорного героя солдатской сказки, и героев Рабле, и Тиля Уленшпигеля в гениальном романе де Костера (в котором также совмещались героизм и юмор), и героев толстовской прозы, и нечто лирическое, задушевное, песенное, и все это в новой полноте конкретности реального современного человека, советского человека. В ходе поэмы он эволюционирует. В конце поэмы, в главе «На Днепре», — это уже отчасти другой человек, тут он «в шутки не встрепал». Человек, который впитал в себя опыт войны, народной трагедии, испытал то, что не испытали другие. И отсюда неожиданный психологический поворот, который трудно перенести на язык логики, но в котором вскрывается и вся исходная глубина его характера, и его ионий духовный рост. Чувство вины перед землей родной, «смоленской родней», хотя «за что, не знаю». И еще одно чувство вины, еще менее как будто понятное, чувство вины за то, что почувствовал себя виноватым, за то, что вдруг заплакал в момент победоносного наступления. Твардовский не поясняет эти строчки, дает возможность самому читателю проникнуть в их недосказанный, по так сильно высказанный смысл. Ибо в этих неожиданных настроениях Теркина проявляется созревшее в нем еще более глубокое чувство ответственности каждого за все пережитое страной, за ее боль, страдания (в первоначальных вариантах ясно сказано, что это боль и от зрелища разоренной земли, и от того, что еще не кончена война: «Прощай, Ельня, прощай, Глинка. // Жив останусь — ворочусь»). И всплывшее в момент разрядки, победы воспоминание-переживание всего пережитого, и новое косвенное чувство вины всех оставшихся жить перед погибшими, то чувство, которое проходит через ряд стихотворений Твардовского. И, наконец, та высшая грусть, которая сопровождает высшую человеческую радость, если эта радость далась такой большой ценой и если она действительно высшая, по-настоящему человечная. Н. Долинина отметила связь этого чувства с народной совестью Теркина. Знаменательно, что этим «виноват!» кончается в «Книге про бойца» непосредственное присутствие Теркина. Дальше идет глава о судьбе другого солдата, безымянного, но из того же товарищества, — «солдата-сироты», глава, в которой конкретизируется наметившийся мотив жестокой памяти войны. А затем в «Дороге на Берлин» (антисимметричной дорогам отступления),— уже «вся Европа» «по домам идет». Грандиозность картины, ее одновременно и домашнего и всемирно-исторического смысла, оттенена одной из удивительных внутренне-контрастных деталей-метонимий-метафор Твардовского — «пух перин над ней пургой». Пух перин над всей Европой сопоставлен с пургой! И тут опять возникает Теркин, но уже как бы за сценой, невидимый, но ощущаемый и в двух своих формах: и как самый обобщенный образ русского солдата, и как более конкретный, хотя также лишь косвенно видимый солдат, может быть, сам Теркин, может быть, другой, но от его имени говорящий, — тот солдат, который 61 непосредственно действует в этой главе. Появление еще одного персонажа — женщины, крестьянки-матери, наряду с «отблеском» главного героя, опять-таки придает и этой главе ту двойную силу разномасштабного и многоголосого изображения, которая характеризует всю поэму, совмещает основные образы домов и дорог, войны и мира, жизни на земле. В заключительной главе Теркин, как тот индивидуальный Теркин, не представлен. Но он представлен как собирательный образ всего солдатского товарищества, совместного умывания в бане в чужом немецком городке, которая на чужбине выступает как «отчий дом» (сценой также и очень конкретной, и очень метафорической), и как тот выделенный автором несколькими штрихами неведомый один солдат, «все равно что Теркин». Заключительное как бы растворение образа главного героя к концу поэмы подчеркивает возникновение Теркина из многоликой народной стихии и его возвращение в нее при сохранении конкретности этой многоликости. И герой и его автор становятся, выражаясь словами Цветаевой, «всеми», и в этом становлении раскрывается богатство неповторимой личности не только героя поэмы, но и самого поэта, как воплощения всеобщей народной личности. Большинство других персонажей поэмы является, как и в «Стране Муравии», только эпизодически мелькающими спутниками, иной раз обобщенно коллективными, иной раз с дополнительными особенностями или единичными приметами. Выделяются два, хотя эпизодических, но дважды возникающих и в начале и в конце войны персонажа с более четкой индивидуализацией. Они перекликаются с характерами многих «дедов» и «старух» лирики Твардовского 30-х годов; имеют общие черты и с фольклорными стариками и старухами. По это и типические индивидуальности сегоняшнего дня, по-новому раскрывающиеся в предельной, пограничной между жизнью и смертью ситуации, и в своеобразных пересечениях с Теркиным, описанных Твардовским с штрихами любовного юмора. Так совмещаются в поэме древние традиции исторических ценностей народной жизни с новым историческим опытом, новыми ценностями. Это позволило создать небывалый синтез героического эпоса и точного воспроизведения текущей действительности по ее горячему следу, синтез героического и бытового, трагического и юмористического, дома и дороги в одном и том же человеке, одной ситуации, одной человеческой общности и одном и том же методе воспроизведения ее художником. Именно тут корень поэтического новаторства «Василия Теркина» в закрепление человеческого товарищества — основной ценности этой жизни на земле, ее дома и дороги и как принципа самого художественного метода, нового реализма, его народности. Делалось много попыток найти литературные параллели этой поэме — от древнего героического фольклора до Пушкина, особенно подчеркивалось появление в поэме «пушкинского» начала, в отличие от «некрасовского» «Страны Муравии». Все эти сопоставления, однако, лишь отчасти справедливы. Например, соединение героического общенародного и личного в «Полтаве» идет совершенно другим путем. Более реально выявлять некоторые традиции героического эпоса «Войны и мира», «Севастопольских 62 рассказов» Л. Толстого; однако о принципиальной разнице уже говорилось выше в главе 1. Автором этой книги (доклад на совещании в Смоленске, 1978) отмечались имеющиеся, хотя, вероятно, неосознававшиеся самим поэтом, переклички со «Словом о полку Игореве»; и относительная близость принципа эпоса бегущего дня, и соединение эпического, лирического, ораторского начал и др. По прежде всего нужно подчеркнуть, что «Василий Теркин» учитывает весь опыт литературы XX века, что это лирический и трагедийный эпос именно нашей эпохи; и в разборе главы «Кто стрелял?» мы видели даже неожиданные переклички с поэтикой, казалось бы, самых отдаленных от Твардовского мастеров литературы XX века, связанной с особенностями типа человеческой личности этого века, — переклички и вместе с тем дальнейшее резкое обновление поэтики. И в той же главе — с древнейшими фольклорными мотивами. Так же, как во многих «сквозных» образах поэмы — «кровавой страды», «сабантуя» и т. д. Вообще для поэтики поэмы особенно характерно удивительное слияние самых разно- и многовременных пластов народного сознания и его художественного выражения, в том числе наиболее древних архетипов и самой современной конкретности; самого мифологического и самого антимифологического, неповторимо индивидуального. Столь противоречивое и столь целостное сочетание создают небывалое жанровое своеобразие «Книги про бойца», которое сознавалось самим Твардовским, как он об этом позже рассказал в статье об истории создания «Василия Теркина», и которое обозначено самим этим подзаголовком. Не поэма, а «книга». Термин «книга» подчеркивает, в соответствии с принятым в народной среде пониманием, и значительность содержания, его широту, универсальность, и свободу от любых традиционных жанровых рубрик. Такое понимание также и вполне современное, и очень древнее: вспомним «Голубиную книгу». А добавление «про бойца» отражает и конкретность, и обобщенность, массовость, коллективность главного героя, что тоже и продолжает, и контрастирует о древним уносом. Напомню для сравнения, что величайший романа «Война и мир» не укладывался и жанровые рамки, и в дальнейшем его своеобразие литературоведы пытались определить термином «роман-эпопея». И «Василия Теркина» аналогично определяли как поэму-эпопею, даже с большим основанием, ибо в ней действительно в особой исторической ситуации временно возродилось то «эпическое состояние мира», которое, по Гегелю, выразилось в героическом эпосе. Но и это только отчасти так. Да, героический эпос, с унаследованными древнейшими мифологемами, героико-эпическими ассоциациями, патетическими характерами. Но и небывалый, совершенно новаторский эпос бегущего дня, без всякой эпической дистанции, движущееся незавершенное настоящее, как бы дневник-хроника самой войны и народа, и непринужденный рассказ очевидца, даже как бы просто репортаж, серия корреспонденции или очерков в стихах. И самые разнообразные высказывания, лирические излияния, размышления, песни, жалобы, призывы, гимны, разговоры, беседы автора и его героев с явными или подразумеваемыми собеседниками. 63 Присутствие этих собеседников резко отличает от «Страны Муравии», а характер беседы — и от поэм других поэтов военного времени. Часто это еще только подразумеваемый собеседник, как и в «Стране Муравии», без персонификации, но еще чаще более конкретный обобщенный или коллективно-личный. Поэт обращается к «друзьям» или к некоему отдельному, личному, но обобщенному «другу», «товарищу», «другу-товарищу». Еще более близкий собеседник — «брат», «братья», «братцы»; это те же друзья-товарищи, прежде всего — фронтовики, за ними — все советские люди. Или поэт говорит просто — «ты», «тобой», и обычно также подразумевается солдат-боец. Иногда друзья-собеседники имеют еще более определенный местный и временный облик, например, те друзья-солдаты, которые моются именно сейчас в этой бане, в это время, в конце великого общего похода («В бане»). А среди них выделяется «псковский, елецкий // Иль еще какой земляк», или даже только «елецкий», — по в этой же бане моется и совсем обобщенный «воин». В другом месте адресат — тот безымянный парнишка-солдат, «двадцати неполных лет», к которому лично и непосредственно обращается поэт в главе «Кто стрелял?», в самую критическую минуту его жизни. К адресатам друзьям-воинам примыкают их «жены, милые друзья» и просто «девушки», которых поэт призывает полюбить какого-нибудь солдата-пехотинца, «молодца» («О любви»). Кроме таких коллективных или безличных собеседников, имеются ясно персонифицированные, живые личности, носители пафоса. Прежде всего — главный герой, Теркин. Поэт обращается к нему не раз — и прямо его именуя, и только его подразумевая. Второй главный личный собеседник — сам автор, местами сливающийся с Теркиным. Так Твардовский впервые ясно вступает в диалог с самим собой. В этом диалоге еще нет спора и противоречий, которые появились в поэзии Твардовского позже (а намеками возникали в лирике 1928—1929 гг.). Местами он говорит с собой как будто с другим человеком, даже самостоятельным персонажем, но этот другой —это он сам, и они вместе — одно лицо, выражающее общий пафос поэмы, судьбы героев и всей страны, более того — всей жизни на земле. Возникают при этом и авторские обращения к собственным переживаниям и судьбам, своей «боли» и «отраде», такие строчки-обращения, как «подвиг мой — и отдых мой». Иногда говорит себе: «Стой-ка, брат. Без передышки // Невозможно. Дай вздохнуть». Появляются (особенно в конце поэмы) и такие обобщенно-персонифицированные адресаты, как «МатьРоссия», «Мать — земля моя родная» или географически конкретнее: «Мать — земля моя родная, // Вся смоленская родня», «Белоруссия родная», «Украина золотая» и т. д. Реже (и больше к концу книги) друзья-адресаты выступают и как читатели: «С кем я только не был дружен // С первой встречи близ огня, // Скольким душам был я нужен, // Без которых нет меня. // Скольких их па свете нету, // Что прочли тебя, поэт, // Словно бедной книге этой // Много, много, много лет». Характерно, однако, что читатель, как собеседник, на этой стадии пути Твардовского еще не конкретизируется как самостоятельная фигура и разговор с ним идет в косвенной форме или в третьем лице. В основном, это читатель-друг, но возникает, также в третьем лице, и некий «критик, умник тот, // Что читает без улыбки, // Ищет, нет ли где 64 ошибки,//Горе, если не найдет», — один из будущих персонажей «За далью — даль» и «Теркина на том свете». В опубликованных позже вариантах присутствовало и то «начальство», которое заранее все знает, все учло. Косвенная полемика с такими персонажами также входит в систему разговоров «Книги про бойца». «Книга» построена как совмещение дневника-рассказа и дневника-разговора с многоликим собеседником. Плюс разговоры персонажей друг с другом и рассказы их про себя. Плюс система лирических отступлений и автора, и персонажей. Но собеседники автора обычно только слушатели или адресаты, лишь иногда они отвечают краткими репликами. Вместе с тем, как известно, читатели поэмы из числа друзей-персонажей, их товарищей сыграли небывалую в истории литературы роль в создании поэмы, и исключительная сила резонанса в системе автора — герои — читатели также является ее небывалой жанровой особенностью. Для понимания места в сознании читателей военного времени «Василия Теркина» и тех качеств, которые определили это место, характерно высказывание одного из читателей. О «Переправе»: «Это рассказ о том, как переправа сорвалась, но он в десять раз оптимистичнее всех других, самых победных рассказов иных авторов. И написано так, что абсолютно все себе представляешь. Душевно и жизненно. Память об этой главе сохранилась у всех. И когда мы одними из первых форсировали Днепр, многие приговаривали, подбадривая друг друга: «Переправа, переправа, берег левый, берег правый...» Солдатскую жизнь Вы знаете исключительно. Мне кажется, что во всей литературе нет лучшего произведения о войне, чем Ваше. Вы спросите, что я включаю во «всю литературу»? Я включаю сюда Пушкина и даже частично «Войну и мир». В главе «Кто стрелял?» так описана бомбежка, что будто Вы только что встали с земли после ухода «юнкерсов». «Защитясь от смерти черной // Только соственной спиной». И дальше: «Я не так любил... стихи, но Ваши стихи читаю с каким-то особенным удовольствием. Как-то у Вас сочно, ловко все получается... Мне хочется сказать о самом замысле Вашего произведения — поэме о рядовом солдате пехоты. Это как раз то, что необходимо сейчас. Этого никто, кроме Вас, не умеет и не хочет делать. В старых романах о средневековых войнах и тому подобных исход войны решается личными свойствами, привязанностями различных полководцев. Этим же увлеклись многие писатели и теперь. Видимо, некоторым слепит глаза, когда много яркого на погоне. А если в пьесе «Фронт» (хорошей, в общем) написана сценка из солдатской жизни, то больше для веселья, чем для дела. А главное лицо на войне — это солдат, сержант и лейтенант (командир взвода, роты, эскадрона, батареи)». Солдат, рядовой человек войны, выступал как главный герой и во многих других произведениях поэтов военного времени, но почти исключительно в лирике (например, в сильном стихотворении А. Гитовича «Солдаты Волхова») и в некоторых лирических поэмах, как «Зоя» М. Алигер или «Сын» И. Антокольского (хотя в другой, более приподнятой, романтической тональности). Но только в «Книге про бойца» он стал и эпическим и лири- 65 ческим героем — в полноте психологической, бытовой, воинской конкретности и обобщенности. И стал не только героем, но и собеседником, и страстным соавтором произведения о главных основах жизни на земле и ее битве со смертью. 66 Поэма «Дом у дороги» Как писал С. Маршак, «поэма могла родиться только в годы великого народного бедствия, обнажившего жизнь до самого основания». Защита, утверждение этого основания, самого «изначального» (Ю. Буртин) в человеческой жизни составляет пафос поэмы. С главной темой сочетается вторая — памяти, преемственности личности и общности людей; здесь это и память горя войны, и память силы любви и дома, освещающей, преодолевающей силу горя в любом горе, в самой страшной дороге, переправе,— силы исконного человеческого, народного. А тема дороги здесь выступает также с двух сторон — как исходная, своя родная дорога, у своего дома, так и дорога, навязанная войной и нелюдьми — от своего к чужому и назад к своему. «Памятью горя», «глухой памятью боли», перекликнется с последними главами «Василия Теркина» и с лирикой Твардовского последних лет войны. Но «глухая намять боли» заново заостряет ясную память семьи, как счастья, как любви, как задушевного и коренного начала и любого отдельного дома и всей жизни на земле. Центром семьи, как всегда у Твардовского, является мать. «Дом у дороги» — не только лирическая хроника, по и лирический гимн прежде всего материнской любви, по всей ее полноте, конкретной силе. И женщине-крестьянке, как прежде всего женщине-матери. Но вместе с тем и женщине — хозяйке дома, труженице. И женщине-жене, другу труженикахозяина, а затем воина, защищающего дом и семью всего народа. Любовь жены и матери — это та же деловитая, деятельная любовь, приметы которой мы видели и в лирике Твардовского 30-х годов, но здесь это уже не только лирический, но и лирико-эпический мир. Этот мир — дом, труд. «Коей, коса, пока роса». Дом и в самом узком, тесном, личном, усадебном смысле. «И палисадник под окном. // И сад, и лук на грядках — // Все это вместе было дом, // Жилье, уют, порядок». Три основные приметы, три качества, вместе с тем трудом, той косьбой на лугу около своего дома. Но это личное начало, даже, я бы сказал (как это теперь ретроспективно видно), начало той некой личной собственности, с которой были связаны и деревенские корни молодого Твардовского, это личное начало дома противопоставлено замкнутому, собственническому дому, где, «никому не веря, // Воды напиться подают, // Держась за лямку двери». Нет, это дом человека, включенного в новый тип более широкой человеческой общности, хотя вместе с тем и традиционного гостеприимства, артельности. Это «тот порядок и уют, // Что всякому с любовью, // Как будто чарку подают // На доброе здоровье». Две характерные для Твардовского системы поведенческих деталей, играющих роль и прямого изображения этого неповторимого дома у дороги и даже метафорической, метонимической конкретности, даже символа Дома у Дороги в новом, расширительном и общем для всей поэзии Твардовского смысле! Характерны и дополнительные конкретные признаки дома и его хозяйки — хорошо «помытый пол», особая деловитая и, как выразился Твардовский, «опрятность тревожная» — чисто крестьянская черта. «И весь она держала дом // В опрятности тревожной, // Считая, может, что на том // 67 Любовь вовек надежней». Надежность любви связана с домовитостью, трудовой деловитостью и особой заботливостью. Центр поэмы—именно эта женщина-крестьянка, домовитая, преданная, деловая и сердечная. Но еще В. Александров отметил, что в поэме звучит не один голос, а чередование голосов — автора, жены солдата, ребенка солдата, самого солдата, и в каждом голосе раскрывается характер живого действующего лица. Высказывалась и другая точка зрения (Ю. Буртина), что «в отличие от «Василия Теркина» — здесь не характеры, а «судьбы». Да, здесь у каждого человека, как отдельного персонажа, есть более законченная (хотя тоже не вполне законченная), отдельная судьба, но судьба характера, так же как и в той поэме характеры имеют судьбы, хотя и с несколько более широкими и подвижными границами. Вообще в поэзии Твардовского характеры и судьбы всегда неотделимы. И по существу их соотношения в обеих поэмах сходны: только в «Доме у дороги» больше акцентировано домашнее лирическое начало характеров, и они сосредоточены на двух-трех основных мотивах, голосах. Наиболее разработан центральный образ Анны Сивцовой, в ее трех главных ипостасях, лицах-ликах: матери, жены, домохозяйки-крестьянки. И этот ее основной пафос не просто назван и судьбой обозначен, но и намечен несколькими краткими дополнительными штрихами характера, поведения, высказывания. Она и «в речах остра», и «в делах быстра». И подвижна, как «змейка». А в беде — спокойно-мужественна, вынослива, терпелива, с мужем и с детьми предельно участлива, понятлива, заботлива. Это особый, хотя вместе с тем идеально обобщенный тип русской крестьянки, продолжающий галерею женщинкрестьянок лирики и прозы 30-х годов, но более развернутый и напряженно-эмоциональный, в гораздо более напряженной исторической ситуации и в своей личной и общенародной жизни. И более активно выступает и голос самого автора. А в условно-символическом голосе ребенка в поэме подчеркнут голос самого начала жизни, права жизни жить, и эта условная «речь» поновому контрастирует с конкретными чертами окружающих событий, поведения людей. Лирическое начало приобретает эпическое и трагическое содержание, ибо семья и семейный труд, семейная общность воплощает всемирно-исторические тенденции, традиции, идеалы народной жизни и конкретных русских советских крестьян в конкретных условиях времени. И у себя па Родине, и в плену у врага. И лирический голос семьи естественно сливается с лирическим голосом воюющего солдата, самого автора, их единства — «Не пощади // Врага в бою, // Освободи // Семью свою». Это голос исповеди и вместе с тем ораторский призыв ко всему народу. А лирический диалог матери и ребенка в той же главе VIII, где описывается рождение сына в плену у врага, в чужом доме, как антидоме, превращается в обобщенносимволический диалог двух главных сил жизни в их общей борьбе со смертью, как своеобразная песня жизни, песня дома. Совмещение эпического, трагедийного и лирического начал, как всегда у Твардовского, выступает и в своей непосредственной бытовой и в психологической конкретности, но здесь в ней подчеркнуто мелодическое, песенное начало. Не только тональностью разных голосов 68 персонажей, но и господствующей тональностью лирического обращения автора к своим героям и к самому себе. Голоса звучат несколько более однородно, чем в военной лирике и в «Василии Теркине». Авторский голос остается спутником и комментатором, вся поэма совмещает в себе и последовательность рассказа-описания, лирической хроники, и непрерывное движущееся настоящее, дневниково-монологового обращения автора. В единой музыкальной организации этих голосов особую роль приобретает ставший знаменитым лейтмотив: «Коси, коса, // Пока роса. // Роса долой, // И мы домой». Лейтмотив сначала появляется как деталь прямого конкретного изображения мирного труда и жизни хозяина дома у дороги. А затем по-вторяется как воспоминание, напоминание, многоповоротная метонимия и метафора — памяти об этом труде, об этой мирной жизни и как деталь-сигнал, воскрешающий утраченное время, цепочку времени памяти, и как новое утверждение силы человеческого постоянства, непреодолимого начала мирной жизни, надежды на будущее, и как более широкий символ труда и утра жизни, всего домашнего и трудового в ней. Ее косы, ее росы, ее дома. Таким образом, лирическая хроника становится не только новой формой лирической поэмы с эпическими элементами, но и новой формой движущегося настоящего, дневникового начала в поэзии Твардовского. Отражения в ней коренных, внутренних, интимных, глубинных ценностей человеческой жизни, выражаясь словами одной из глав «Василия Теркина», — «неприкосновенного запаса» каждого отдельного человека, отдельной семьи и всего лирического начала человеческой жизни. И соответственно поэтика всей поэмы отличается от «Василия Теркина» большей сосредоточенностью изображения этих ценностей и более простыми, экономными средствами, также, однако, объединяющими и прямое, и косвенное, метафорическое воспроизведение. Такая деталь и вместе с тем метафора, как «запахов тоска», — показательный пример и типологических особенностей поэтического языка, мастерства этой поэмы, и того, что роднит это мастерство с остальным творчеством Твардовского. Хроникальное построение поэмы, подчеркнутое подзаголовком и перекликающееся с названием сборника стихов того времени («фронтовая хроника»), осложнено, как и в других поэмах Твардовского, вставными эпизодами, со своим временем, отчасти параллельным общему ходу времени поэмы (рассказ солдата, отца и мужа, в главе VI). Кроме того, вставлены диалоги, создающие, как в «Теркине», непосредственные переходы прошедшего в настоящее время. Последняя глава IX отделена от предыдущих резким скачком во времени, завершает все движение поэмы возвратом от войны к миру, от дорог войны и чужого дома к исходным дому и дороге. Но это опять диссимметрическое построение, ибо того дома уже нет, и «присел на камушке солдат у бывшего порога» своего дома, солдат — с больной ногой, прошедший войну и еще не знающий, что же случилось с его женой, семьей. И начинает строить дом сначала. В этой незавершенности завершения поэмы — особый художественный такт, сила. Автор и читатель все-таки знают, что семья выжила, даже появился сын солдата, которого он, видимо, теперь также обретет. Жизнь победила, дом победил, хотя и разрушен. И 69 сливаются память горя, и память семьи, дома, и память самого труда, всей трудовой народной общности, неистребимая, как сама жизнь на земле. Отмечу попутно перекличку мотивов этой главы с «Солдатом-сиротой» «Василия Теркина» и с почти одновременным стихотворением Исаковского «Враги сожгли родную хату». Перекличку — и дополнение. При всей предельной простоте и отсутствии внешних новаций поэма также является глубоко новаторским произведением. И своим соединением лирического и эпического начал, мотивов мира и войны, семьи во время войны. И очень смелым в своей предельной «естественности сочетанием конкретно-бытовой и условно-символической речи. И дальнейшим развитием интонации Твардовского, совмещающей напевность, разговорность, ораторскую и драматическую речь, личное и коллективное переживание при господстве особой, впервые найденной многоголосой лирической мелодии. Поэма тесно переплетается и с лирикой, и с эпосом Твардовского этих лет, отчасти подготавливает новые черты его лиризма уже 60-х годов, в частности, некоторых разделов цикла «Памяти матери». 70 1946-1961 гг. Обычно в литературе о Твардовском все его послевоенное творчество рассматривается как единый крупный третий этап'. При этом он резко противопоставляется предыдущим, и общим признаком считается изменение тематики, появление или резкое усиление лирического личностного и аналитического начала. Это верно лишь отчасти. Стихи конца 40-х годов даже менее «аналитичны», чем «Доклад», и не более «личностны», чем «Путник» или «Две строчки» и ряд других стихов довоенного и военного времени. С другой стороны, как это кратко показано уже в I главе, эволюция Твардовского после войны была настолько существенной, что лучше разделять послевоенное творчество, по крайней мере, на два периода, равносильных по значению предыдущим, хотя их границы менее резко обозначены. Рассматриваемый здесь период, в свою очередь, более четко подразделяется, чем предыдущие. Выделяются две стадии — 1946—1953 и 1954—1961 годов, отвечающие ясным подразделениям и всей истории общества, народа; начало второй стадии существенно подготовлено обновлением тематики и манеры в лирике 1951 года и в первых главах «За далью — даль» (1950— 1953). Стадия 1954—1961 годов резко отличается от предыдущей действительным усилением аналитического и лирического начала, связанным с общим подъемом активности и самодеятельности народного самосознания. У Твардовского этот переход еще раньше выразился и разработкой темы личной ответственности и требований к себе художника, и появлением новой сатирической линии, развернутой критики бюрократизма в первом варианте поэмы «Теркин на том свете», над которым он работал уже, по-видимому, с конца 1945 года и завершившимся к 1954 году. А другая линия аналитического и внутреннеличностного начала появилась в главе «Литературный разговор» в поэме «За далью — даль»(1954)..Этот перелом пути Твардовского совпал с аналогичным ходом всего нашего литературного процесса, в частности, в пьесе «Настя Колосова» (1949—1950) и особенно в «Районных буднях» (1952—195(1) В. Овечкина, во «Временах года» В. Пановой, и прозе Л. Яшина и др., а в поэзии — в некоторых стихах Я. Смелякова и др. Дальнейший сдвиг у Твардовского резко обозначился с 1956 — 1957 годов и в тематике непосредственно связанных с проблемами этих лет глав «За далью — даль», и в общем всестороннем развитии активного аналитического начала в этой поэме и в лирике конца 50-х годов. На фоне одновременной новой волны общего развития всей нашей поэзии и выступления нового поколения поэтов, целиком с ней связанных. Но так как «За далью — даль» — главное произведение Твардовского разбираемого периода — создавалось и до и после этого крутого перелома, в какой-то мере обобщило его подготовительный и последующий этапы, фазы, являясь в то же время неразрывным целостным произведением, несмотря на резкую смену вариантов отдельных глав, и так как первые главы этой поэмы еще очень близки тематике, позициям автора и поэтике предыдущего отрезка пути, — ближе, чем к стихам после 1961 года, — то можно рассматривать весь период 1946—1961 годов как единое целое, с дальнейшими его более дробными подразделениями. Внутри первой стадии также 71 выделяются три фазы: 1) стихов и прозы первых послевоенных лет—1946— 1947 годов; 2) во многом резко отличная— 1948—1950 годов; 3) еще более отличающаяся— 1951 — 1953 годов. Первая начинается стихотворением конца 1945 года «Отчизна» и кончается стихотворением «В тот день, когда окончилась война» (1947 г. и доработано в 1948 г.), включает и первую послевоенную прозу Твардовского — очерк «В родных местах» (1946) и рассказ «Костя» (1944—1946), — целиком еще связанную (и по тематике, и по поэтике) с «Родиной и чужбиной». Творчество этих лет еще непосредственно продолжает мотивы последних стихов военного периода. Но резко выделяются две струи. Одна, более декларативная, с активным, но очень обобщенным лиризмом, представлена относительно слабыми, несколько риторическими стихами («Отчизна», «Родина» и др.)- Другая сосредоточена на теме «жестокой памяти войны» и ее роли в новых, мирных условиях и представлена несколькими очень конкретными и сильными стихотворениями, а также указанной прозой. В очеркерассказе «Костя», одном из лучших прозаических произведений Твардовского, дан многосторонний, яркий, углубленный, на документальной основе образ одной из героинь войны, девушки, фронтового товарищества и самого автора, как зоркого наблюдателя, комментатора, аналитика, неотделимого от путей войны и своих героев. Тема и пафос народной войны непосредственно продолжается и в замечательном (несмотря на некоторую растянутость) большом (168 строк) стихотворении «Я убит подо Ржевом», которое сам Твардовский и все критики справедливо считали одним из лучших его стихотворений и которому посвящена уже целая литература (в частности, опыт детального анализа А. Абрамовым). В этом стихотворении соединяются черты жанра «лирики другого человека» прежних периодов Твардовского, нового типа лирической «исторической песни», рассказа и монолога, с некоторыми отдаленными фольклорными аналогами. Тема памяти войны выступает в новом ракурсе—как тема преемственности жизни и подвига погибших и жизни живых, продолжения жизни после смерти, завещания погибших героев — живым современникам, их ответственности перед погибшими. Тема победы жизни над смертью не только в смысле сопротивления ей, пока человек живет, как это было в главе «Смерть и воин» «Василия Теркина», но и в смысле продолжения жизни человека, ясно сознающего, что он умер. Условного, сказочного, но с удивительной, прямо-таки «галлюцинарной» реальностью конкретности места («в пятой роте на левом»), времени, самого высказывания, разговорамертвого как живого с живым. И особого чувства единства жизни, всего бытия, продолжающего жизнь любого отдельного человека, если он погиб во имя жизни: «Я — где корни слепые // Ищут корма во тьме; //Я — где с облачком пыли// Ходит рожь на холме», и т. д. Жизнь природы, труд, вся человеческая общность как действующая память и конкретное действие — все это совмещено в одном страстном лирическом высказывании, которое включает в себя и цепь картин всемирно-исторической битвы, ее конкретного хода, ее возможных судеб. Сила чувства хода картины и переживания усиливается двойным эффектом 72 — незаконченности войны в сознании лирического героя и сознания победоносной законченности главного события автором и читателем, вместе с сознанием дальнейшего открытого движения хода истории и жизни живых. Получается при всей внешней простоте очень сложное сочетание лирического и эпического времени, — времени лирического героя, исторического события и времени читателей, слушателей, даже грядущих поколений, всей жизни живых — в одном неразделимом настоящем времени этого высказывании этого, живущего после смерти, человека в этом данном, сиюминутном его слове. И соответственно совмещены грандиозная обобщенность картины войны, судеб народных, судеб человека с непосредственной задушевностью, неповторимостью переживания, сконцентрированного в нем чувства братства, товарищества, объединяющего и живых и погибших. Характерно, что в этом чувстве выделены два излюбленных семейных мотива Твардовского, и каждый как бы удвоен: двойной образ матери — той, живой матери погибшего воина, который продолжает жить и «там, куда на поминки даже мать не придет», и Матери-Родины, и образ братьев, как «побратимов» общей войны и как всего братства советских русских людей, даже братства, родства всего живого и его поколений. Характерно также подчеркивание нравственной основы этого братства и этой посмертной жизни, скромность самооценки лирического героя и вместе с тем его «горькое право» завещать живым (вспомните в «Переправе», что мертвые бойцы «навек правы»). Опять сливаются в одном «я» — «я» и «мы», и один голос воплощает, выражает богатство единого и многостороннего пафоса — патриотизм, беззаветная преданность, честность и честь, скромность и уверенность в правоте, чувство братства и равенства, чувство ответственности за все живое даже после своей смерти. Дальнейшее развитие чувства ответственности Василия Теркина! И Твардовскому удалось найти удивительную интонацию, все это выражающую в одном высказывании — задушевнодоверительной беседы с собой и другими, и мощного ораторского призыва («О, товарищи верные.»), и воински точного самоотчета, и отчета о событии, и углубленного размышления, и повелительного обращения, и вопроса самому себе и другим, и безграничной веры в победоносную силу жизни вместе с обнаженной горечью суровой правды своей гибели и жизни своей земли: «Ах, своя ли, чужая,// Вся в цветах иль в снегу...// Я вам жить завещаю, — // Что я больше могу?» Сила этой интонации проявляется и в обычном для Твардовского непринужденном сочетании в естественном потоке речи прозаизмов, конкретных примет реального, хотя несколько обобщенного солдатского языка («ни дна, ни покрышки») и высоких поэтизмов («очи померкли» и т. п.), и еще больше проявляется в синтетической музыке, напеве. Его внешней метрической формой, схемой здесь становится особый двухстопный анапест, неожиданно, но не случайно перекликающийся с анапестом «Братьев» (так же как скрыто перекликается пафос братства и памяти в обоих стихотворениях), обогащенный новой энергией и разнообразием ритма, систем рифм и внутренних повторов, резких и вместе с тем очень естественных переходов разных форм беседы, рассказа, описания, размышления, призыва, вопроса; плавного хода и неожиданных перебоев; разнообразно построенных 73 коротких и длинных ритмико-синтаксических фигур, звукосочетаний — и все это в единой проникновенной, настойчиво щемящей и воодушевляющей мелодии, в которой голосом мертвого солдата говорит и сам автор, его главная мысль-чувство. Сам Твардовский позже, в 1969 году, говорил о ней так: «... навечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвения, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе». Хотя ни в одной прозаической формулировке нельзя полностью выразить суть стихотворения, все же Твардовский с обычной для него четкостью самоанализа подчеркивает основное — «навечность» памяти, связи времен, актуальную бесконечность подвига и единства своего «я» со своим героем, и со всем народом, и с теми миллионами людей, которые отдали свою жизнь за жизнь оставшихся жить и будущих поколений. И особенность специфического для Твардовского лиризма — скрытого лиризма автора в «лирике другого человека», двуголосие и многоголосие в едином голосе. Стихотворение завершает одну из линий лиризма Твардовского эпохи войны и намечает новую линию, непосредственным продолжением которой являются — уже в форме прямого авторского высказывания и размышления— стихотворение «В тот день, когда окончилась война» и ряд стихотворений последующих лет. В этой же фазе развития послевоенного творчества Твардовского художественной ценностью отмечены маленькая зарисовка «Послевоенная зима» (1946), в которой конкретные черты реального послевоенного быта включают в себя и непосредственные следы только что кончившейся войны, и короткая лирическая дневниковая запись — «Я задумал написать» — первое появление новой темы — пересмотра самого себя, неудовлетворенности своим творчеством, поиска большого творческого нового дела, темы, которая также получила непосредственное продолжение в стихах 1947 года и затем — уже через несколько лет — в стихах 1950-х годов. В совокупности эта фаза выделяется и первым развитием темы «жестокой памяти», и появлением других новых мотивов «дневниковой» линии творчества Твардовского, вместе с обновлением и сюжетно-повествовательных и общих медитативных жанров его творчества. Фаза 1948—1950 годов — это некоторая заминка творческого пути Твардовского, что проявилось и малым количеством выданных на-гора стихов, и отчетливым снижением качества (хотя все же было два бесспорно хороших стихотворения — «Как только снег начнут...» и «Мост»), переломом тематики, вместе с появлением попыток больших обобщающих стихов, с темой более широкой народной исторической памяти («Памяти Ленина», 1948—1949). *** Основой творческого пути 'Твардовского в 1946 — 1961 годах была общая для страны и советской литературы сложная проблематика и ее эволюция. Огромные трудности и напряжение послевоенного восстановления страны, жестокая память войны в самых разных 74 смыслах и залечивание нанесенных войною ран и созданные войною новые оценки и переоценки ценностей общества и жизни на земле, дальнейшее продолжение и развертывание мирного строительства, прежде всего — индустриализации страны; освоение новых земель, «новоселье» также в прямом и переносном смысле; первые шаги научнотехнической революции, и все это с новым огромным напряжением— трудностями, усиленными явлениями тех лет, о которых уже много писалось, их крайнего обострения. А дальше, с 1953 года — проблемы, связанные с разоблачением и преодолением этих явлений, с общим пересмотром пройденного страной и каждым отдельным человеком пути, судьбами его домов и дорог. Все это так или иначе отражалось во всем литературном процессе, а в творческом пути Твардовского — с особенной непосредственностью и подчас остротой. Ибо Твардовский по-прежнему был всегда с народом, по-прежнему стремился двигаться вместе с ним: и в смысле полного слияния с основными народными идеалами, принципами жизни, и в смысле полного сосредоточения на главных проблемах бегущего вала дней и далей этой жизни, как они ему представлялись. Опять нет ни одного стихотворения, которое было бы каким-то отходом от современной тематики, хотя намечается иногда расширение временных границ, от воспоминаний детства до — в конце периода — даже более отдаленных воспоминаний о прошлом нашей страны, например, о прошлом Сибири, но также включенных в поток современной текущей действительности и сопереживания, соразмышления поэта. Твардовский избегает поверхностной, внешней, злободневности, «дежурных од», но все его стихи злободневны в самом непосредственном смысле слова. Он стремится продолжить принцип фронтовой всеобщности народа и в этих новых обстоятельствах его пути. В этом движении он также не одинок. Намечается своеобразная перекличка между ним и Заболоцким и в тематике, и в поэтике, не в форме каких-то влияний, а в форме конвергенции, сходстве направлений развития. Эта перекличка и сейчас сопровождается резкими отличиями. Обоих поэтов (как и ряд других их современников) объединял пафос послевоенного строительства дорог и домов, новых земель и новоселья, новых возможностей взаимодействия природы и человека и преобразования природы. «Строители дорог» или «Город в степи» или «Храмгэс» Заболоцкого 40-х годов в значительной мере даже предвосхищают тематику и пафос Твардовского 50-х годов, так же как, с другой стороны, в творчестве Заболоцкого появляется новая линия сюжетно-повествовательных, с бытовой конкретностью, стихов, явно перекликающихся с «некрасовскими» традициями и бытовой конкретностью творчества Твардовского еще 30-х годов, а стихотворение Заболоцкого о Ленине «Ходоки» явно перекликается и в понимании личности Ленина, его народности, демократизма, непосредственности контакта с трудовыми рядовыми людьми, и в самом способе изображения с «Лениным и печником» и с некоторыми деталями «Памяти Ленина». Есть и перекличка в тематике стихов-путешествий Твардовского на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток с тематикой стихов Заболоцкого 40-х — начала 50-х годов, так же как есть перекличка с некоторыми стихами и других поэтов этого периода. И в разных формах возникает и 75 отражается в нашей поэзии проблематика судеб человеческой личности: увеличение ответственности человека, строительного пафоса, в то же время стремление не быть винтиком, а сознательным творцом дорог, увеличение внимания к самоценности отдельного человека как личности. Отражается и перекликается в стихах и Заболоцкого, и Твардовского. У Твардовского по-прежнему выступает тема «дома», человеческой судьбы на любых дорогах и новосельях, отсутствует по-прежнему тема внутренних антагонизмов природы; отсутствуют и те более далекие путешествия во времени и пространстве, которые продолжаются в творчестве Заболоцкого (сравни «Рубрук в Монголии» и почти одновременно создававшуюся поэму «За далью — даль», а также ряд лирических стихотворений Заболоцкого и Твардовского этих лет). И по-прежнему Твардовскому и в его новой обобщенности, и в новом использовании условных и сказочных мотивов все же далека философская обобщенность и сказочная реальность «чуда земли» Заболоцкого этих лет. Для Твардовского особую роль в новом потоке жизни народа играли, с одной стороны, осмысление опыта и памяти пережитой войны, с другой, проблемы, объединявшие народ и после войны, несмотря на все возникавшие противоречия: дальнейшие судьбы коллективного народного труда, их новые возможности и пафос. В отличие от предыдущего периода новые возможности и новая ответственность после столь пережитой и столь героической фронтовой всеобщности в свете завещания погибших живым сопровождались для Твардовского большими внутренними творческими трудностями, несмотря на то, что п эти годы он достиг наибольшей общественной и государственной признанности, славы. В целом это был период нового и сложного распутья. В целом в поэтике Твардовского этого периода наблюдается тенденция, с одной стороны, к дальнейшему продолжению традиции русского реалистического стиха, с выдвижением здесь на первый план традиций позднего Пушкина, а также Тютчева и более широкой традиции медитативной элегии XIX века, а с другой стороны — новые поиски с использованием и собственного опыта поэзии военного времени, и новых тенденций развития художественного мышления середины этого столетия. Но путь к новой степени поэтической свободы шел через временные отклонения, даже иногда отступления от достигнутого, самоограничения рассудочной заданностью, и следы этой рассудочности сохраняются в большинстве стихов этого этапа, отчасти вкраплены даже в новые достижения дневниковой формы в поэме «За далыо — даль» и некоторых больших стихотворениях, но преодолеваются в нескольких великолепных лирических стихотворениях и в лучших местах новой поэмы. 76 Поэма «За далью - даль» В «Автобиографии» Твардовский называет эту поэму «книгой», указывая этим на ее жанровое своеобразие и свободу, и считает ее своей главной работой 50-х годов. Поэма датирована 1950—1960 годами, но начата была еще в 1949 году и вполне закончена в 1961-м, окончательный вариант опубликован только в 1967 году. В ходе работы она в еще большей степени, чем предыдущие поэмы, не только дополнялась, но и переделывалась. Существенность изменений отражала размах изменений в жизни народа в течение этого десятилетия, изменения и в авторской позиции. Несмотря на это, поэма представляет собой целостное произведение, с сохранением ясно выраженной, хотя и богатой оттенками господствующей интонации и общей направленности и типа структуры. Некоторые отрывки поэмы печатались первоначально и как лирические стихотворения. Поэма также часто издавалась вместе с циклом стихов о Сибири, тесно связанных с ее мотивами. Непосредственным источником поэмы были впечатления от поездки поэта в Сибирь и на Дальний Восток, с чем связана форма большого «путевого дневника», хотя содержание поэмы далеко выходит за рамки путевых впечатлений. Поэма считается главным достижением Твардовского всего этого периода. Несомненно, это наиболее популярное после «Василия Теркина» произведение Твардовского. Тиражи изданий измеряются миллионами экземпляров, занимают второе место после «Василия Теркина». Литература о поэме тоже очень велика. Детальное исследование поэмы, как и других поэм Твардовского, остается, однако, еще делом будущего. И многие вопросы до сих пор являются дискуссионными, начиная с общей жанровой характеристики. П. Выходцев считал ее «поэтическим эпосом», Е. Любарева — «лирическим эпосом», В. Огнев называл «лирической поэмой», Б. Сарнов — «лирическим рассказом», А. Турков — «лирическим дневником», В. Гусев — «лирическим циклом» и считал, что вообще эту поэму неправильно называть поэмой, хотя признавал присутствие в ней «эпических глав». Н. Скатов сопоставлял с «Евгением Онегиным» (1072). Уже эти колебания указывают на жанровое своеобразие и необычность, что и подчеркнуто самим Твардовским, но в то же время он включил ее в Собрания сочинений под общей рубрикой «поэмы», вместе с другими крупными повествовательными произведениями. В. Гусев первый попытался дать сравнительный анализ этой поэмы как «лирического цикла» и всей лирической поэзии 50-х годов и детально сопоставил ее с «Серединой века» В. Луговского как два главных образца большой лирической формы нашей поэзии нашего времени и двух ее направлений — реалистического и романтического. В трактовке основной идейной направленности поэмы также имеются разнообразные формулировки, но есть и сходство в главном. А. Турков определяет «в самой общей форме идею» этого произведения «как утверждение незыблемой силы народа-созидателя, которую не дано сломить самым страшным бедам и крутым испытаниям». По В. Гусеву, главное в 77 поэме — лирическое решение темы судьбы народной, главная мысль — «настоящее, сегодняшнее, будущее — все в народной силе, ее единстве». Сложился и ряд общих представлений о художественном методе поэмы. Согласно В. Гусеву, для нее наиболее характерен «симфонизм многогранной лирической мысли». Твардовский в ней, по Гусеву, «более общенароден, чем прежде»; «крестьянское» начало приглушено», и вместе с тем — активно субъективен. В связи с этим, по сравнению со «Страной Муравией» и «Василием Теркиным», «За далью — даль» явно проигрывает в смысле рельефности пластики письма, но выигрывает в полноте раскрытия субъекта творчества. Эта позиция — более универсальная, более «общечеловеческая» и «интеллектуальная». Предлагалось и много сопоставлений поэмы с литературной традицией. Обычно сопоставление с «Евгением Онегиным». Это сопоставление, конечно, имеет зерно истины в смысле преемственности свободной разговорной интонации, активности авторского высказывания и вместе с тем богатства реалистической картины действительности. Но в целом эта параллель несостоятельна. В поэме нет ни сквозного повествовательного сюжета, ни разработанного типажа и эволюции характера, как в «Евгении Онегине», и ее можно сопоставлять не с пушкинским романом в стихах, а только с его лирическими отступлениями и отчасти с «Путешествием Онегина» (Ю. Иванов). Ю. Иванов сопоставил со «Странствиями Чайльд-Гарольда», М. В. Теплинский (1972) с лирическими поэмами Некрасова («Рыцарь на час» и др.), с которыми «За далью — даль» действительно сходна напряженностью лирического самоанализа, рефлексии, но — добавим — отличается принципом «путешествия», «дома» и многим другим. Пыли сопоставления и с «Хорошо!» Маяковского. Продолы этих сопоставлений очевидны, и они позволяют наглядно ощутить всю степень новаторства поэмы. Ближайшим предшественником поэмы был, видимо, сам Твардовский, как верно подметил Н. Н. Скатов (1972), уже в «Стране Муравии». Ибо в обеих поэмах — пафос пути и поиска своей страны счастья, «Страны Муравии». Но изменились соотношения автора и героев, сами трактовка пути, вся интонационная система. Ближе представляется связь с лирическими отступлениями «От автора» в «Василии Теркине» и с прозой «Родины и чужбины». А. Кондратович (1978) указывал на связь темы поэмы со стихотворением «Мост» (1950). Некоторые черты своеобразия всей поэмы отметил сам Твардовский не только неопределенностью термина «книга», но и большей определенностью выражения «мой дневник дорожный», в котором — «ни завязки, ни развязки— // Ни по началу, ни потом». И отмечает, что ему «лень» в «развернутом порядке// Плетень художества плести». И что «в книге этой...// Того-другого — званья нету,// Всего героев — // ты да я,// Да мы с тобой». «Плетень художества» тогдашних штампов высмеивается, но в подлинном смысле «плетется» и Твардовским. Есть и свой развернутый порядок, но это и не порядок обычной повествовательной поэмы. Ибо действительно все начинается без завязки, только сигналом «Пора!», началом отправления в путь, как нечто уже решенное; «завязка» пути выясняется 78 уже позже, а развязка сводится к приглашению в новую даль, и сюжета в традиционном смысле опять нет. Просто путевые картины, впечатления, размышления человека, проехавшегося в транссибирском экспрессе от Москвы через всю Сибирь и посетившего в пути строительство гидростанции на Ангаре в его кульминационный, критический и праздничный момент. А по дороге также встречи с разными людьми, разными ландшафтами, разными собственными воспоминаниями, а также воспоминаниями своих собеседников. И местами уход совсем в сторону от пути. И в конце обобщающая глава — «Так это было», посвященная пути страны, который лишь ассоциативно перекликается с этой десятидневной дорогой литератора в транссибирском экспрессе. Твардовский обращает внимание и на особенность поэмы, отличающую ее от обычного дорожного дневника. В ней только два главных сквозных героя: один — сам автор, а другой — это некий «ты». Этот «ты» в поэме — читатель, и он впервые выступает в своей разноликости, разнохарактерности и разной соотнесенности с авторским голосом. Поэма представляет собой не только записи самого себя и дорожных впечатлений, но и непрерывный разговор с будущим читателем этих впечатлений; сюжетность поэмы включает в себя перипетии этого разговора. И тут же сочетание «ты да я» подкрепляется сочетанием «да мы с тобой». Это не просто излишний повтор или усиление того же самого. Это и указание на другую особенность поэмы, состоящую в том, что читатель и автор представляют собой непрерывную общность, «мы», и разговаривают друг с другом как бы не только от себя лично, но и от имени коллективного лица. Твардовский дает даже в этой поэме своеобразный типаж читателей, выделяет близкого читателя-друга, обращением к которому, приглашением которого к новой встрече и новому пути и заканчивается поэма. Авторское «я» в поэме — это «я» именно автора, который выступает одновременно и как рассказчик, и как лирический герой, и как собственный персонаж. Это определенная личность с определенной жизненной судьбой, содержащей автобиографические реалии, рассказ поэта Твардовского о поэте Твардовском, его жизненном и творческом пути, пережитом им творческом кризисе, который послужил непосредственной причиной путешествия за дальней далью. Путешествия, которое оказалось и путешествием к самому себе, к моному возрождению, продолжению своей творческой личности, ее новому пути, путем к пути. Вместе с тем весь ход поэмы далек от автобиографической точности, в нем контаминированы и действительные путевые впечатления, причем разных поездок, разного времени, и совершенно выдуманные, хотя и художественно типичные ситуации, лица, как в знаменитой главе «Встреча с другом». И рассказчик — герой поэмы — в своей целостности также не вполне целостен. В нем имеются черты многоликости, даже временами расщепления на два не только разных, но и противоположных человека, как в другой знаменитой главе — «Литературный разговор», перекликающейся, как было отмечено выше, с лирическим стихотворением вне поэмы «Ты и я». Один и тот же человек включает в себя и своего собственного «демона», но уже не в сократовском и не в пушкинском и лермонтовском 79 смысле, а во вполне конкретном и символическом смысле современного внутреннего редактора, который является и отражением еще более внешнего редактора, — в личности поэта, да и каждого изображаемого времени. И не только непосредственно изображаемого. В «мы с тобой» входит и несколько путников, других персонажей — участников этого путешествия, этого разговора, воспоминаний-размышлений. Целая движущаяся галерея людей. Твардовский умеет наметить такие персонажи иногда одним-двумя штрихами в однойдвух строчках: «... старичок научный,// Сквозной, как молодой сморчок». Или «...лысый творческий работник,// С утра освоивший буфет». А некоторые персонажи обрисованы целой серией деталей, поведенческих сравнений, языковых жестов, например, некий «майор» или пара молодоженов, едущих в Сибирь на работу из Москвы. Персонажи иногда имеют собственные самостоятельные жизненные судьбы и приметы, как и эти молодожены или (в еще большей мере) встреченный «друг детства». Это, конечно, уже не персонажи какого-то лирического цикла или даже лирической поэмы, это персонажи повествовательной реалистической поэмы, даже повести в стихах, с чертами квазидокументальности (что уже одно резко отличает поэму Твардовского и от «Странствований Чайльд-Гарольда», и от любой традиционной лирической поэмы, и тем более от любого лирического цикла). Но все они так или иначе включены в историю авторского путешествия, путевого дневника, авторского рассказа-разговора о самом себе, с самим собой, с читателями и со своими персонажами, и повествование растворено в лирической мысли. В число персонажей входит и обобщенная историческая фигура-портрет, и некоторые условные фигуры,— как отщепившийся от авторского «я» и временно поселившийся на свободной полке в том же купе его «внутренний редактор», и еще более условная сказочносимволическая фигура, как «старушка» Смерть. Черты личностей приобретают и некоторые сквозные детали-метафоры, даже словесные символы, как, например, центральный ключевой образ-символ «дали», который выступает местами в поэме и как сверхличный персонаж, Даль. Но эта сверхличность, в своей собирательной неповторимости, существует и объективно, как дали огромной страны, как дали ее времени, путей, истории, как дали памяти (автора, народа в целом, ряда персонажей), как даль идеального внутреннего начала личности автора я вообще человеческой личности и как подчас некое скрытое отдельное существо, указывающее, направляющее или просто присутствующее, существующее в форме своего отражения в авторской личности и ее рефлексии. Такие же сверхперсонажи — Дорога, Жизнь, Время. Все персонажи — и быта, и Бытия — очень разноплановые и разномасштабные. Но они объединены в одной конкретной, вполне бытовой в своей конкретности общности— этой дороги, пути, этого купе, этих встреч на дороге, этих встреч на ангарской новостройке. Как и в стихотворениях «Дорога» (1937) и в, почти одновременном окончанию поэмы, «Дороге дорог» (1959), объединены и условный, символический, и конкретный, «бытовой» путь: 80 транссибирская магистраль — это и обобщенная, символическая дорога многих дорог, тысячи путей и тысячи путников, как это мы видели уже в «Стране Муравии»; здесь еще более обобщенная, многоликая, многопутная и вместе с тем гораздо более сосредоточенная, сжатая в одном хронотопе и, так сказать, повернутая внутрь самого авторского «я», как и ее путника, и создателя. Хронотоп — самый тесный по сравнению со всеми предыдущими поэмами Твардовского. Даже как бы три хронотопа в одном. В десять суток вложены, как подчеркивает сам автор, не только многие десятилетия многих путей и судеб различных людей и всей страны, но и десять лет пути самой поэмы, процесса ее создания. А сколько дел, событии, судеб, Людских печалей и побед Вместились в эти десять суток, Что обратились в десять лет! Таким образом создается необычная структура художественного времени. Различные его размерности, масштабы, различные скорости его движения, различные пласты его исторической конкретности и психологической наполненности накладываются друг на друга, совмещаются друг с другом, поворачиваются разными сторонами в совместном движении одного непрерывного авторского высказывания, беседы-рассказа; сливаются путешествия в пространстве и времени, включая и время своей памяти, как это подчеркивает и сам поэт: Есть два разряда путешествий: Один — пускаться с места в даль; Другой —сидеть себе на месте, Листать обратно календарь. На этот раз — резон особый Их сочетать позволит мне. Поступательное движение в пространстве в другом месте поэмы сопоставляется и с поступательным движением во времени, «навстречу стрелке часовой», чему дается и дополнительное «физико-географическое» обоснование (переход в более ранние времена суток при движении на восток), — и с обратным движением во времени, перелистыванием календаря памяти в обратном порядке. И все-таки в этом обратном движении через память — и с поступательным движением времени всей страны, народа, автора по дороге истории. Таким образом совмещаются и разные направления времени в одном направлении одного движущегося хронотопа. В ходе поэмы чередуются или накладываются друг на друга также разные скорости времени и его остановки, задержки. Самая длительная связана с непосредственной целью поездки, посещением стройки плотины на Ангаре в завершающий 81 момент. И более короткие задержки, которые, однако, включают в себя длинный путь памяти, как мимолетная встреча с другом детства на одной из станций. И, наоборот, резкие ускорения времени, в ходе многих путевых разговоров или просто наблюдений из окна движущегося поезда. Эти пульсации времени и места, в их совместности, связаны с определенной структурой поэмы, ее динамикой и принципом совмещения разных времен в одном. «И вот семнадцать лет разлуки// И этой встречи пять минут!» Л. Турков обратил внимание на то, что он назвал «относительностью времени» в поэме. Можно добавить, что это относительное время неотделимо от его носителя: у каждого события, у каждого человека есть свое время, своя скорость времени и свои часы. Такое художническое время согласуется с новыми представлениями о времени и в науке XX века. Но есть и еще дополнительная черта художественного времени Твардовского, ясно проявившаяся в этой поэме: совмещение пяти минут и семнадцати лет, десяти суток и десяти лет в одном и том же хронотопе одного или двух людей, одного момента их жизни, их общности. Это уже не предусмотрено самыми «безумными» трактовками времени современной физикой или биологией. Но это также отвечает новой структуре художественного и научного мышления, всего мышления человека XX века, когда в самой действительности не раз парадоксально, даже катастрофично совмещались и совмещаются разные времена. Для сдержанности художественного мышления Твардовского характерно все же, что эти совмещения в основном не выходят за рамки сравнительно короткого исторического периода, длительности одной человеческой жизни. Диалектика времени и пространства в поэтической ткани «За далью — даль», принцип пути в этих его новых формах, как и в других поэмах, совмещается с принципом единства дороги и дома, который проходит через все его творчество, на что не обращалось внимания исследователями поэмы, но на что указывает сам поэт с первой ее главы: Я еду. Малый дом со мною, Что каждый в путь с собой берет. А мир огромный за стеною, Как за бортом вода, ревет. И дальше в этой же главе образ малого дома грандиозно расширяется: «Но, люди, наше счастье в том,// Что счастья мы хотим упорно,// Что на века свой строим дом,// Свой мир живой и рукотворный». Огромный мир за стеной вагона, мир пути и всего, что окрест пути, превращается в упорядоченную новую общность, устойчивый на века дом. Это сверхдом человека, дом счастья — «Он всех людских надежд оплот». Счастье состоит в упорном стремлении к нему, в упорном совмещении дома и дороги, пути и строительства. Такое совмещение совпадает с основами жизни на земле, борьбы жизни со смертью: «Его ли смерти мы уступим?» Здесь идет речь и о конкретной борьбе с угрозой новой войны, о борьбе за мир 82 в двух значениях этого слова, но есть и более расширительный смысл всех надежд, всех «веков» пути человека на земле. И опять особую роль играет память. Вся первая глава, самое начало пути насыщено памятью войны, пережитых «мук» народа на его исторической дороге, подвига и войны и труда («Народ — подвижник и герой»), а дальше в поэме возникает память и о других пережитых народом муках. И за сценой уже с первой главы возникает память о прошлой жизни авторского «я». Включается сразу же и другой главный мотив поэмы — разговор с «людьми» («О, люди»). Это — общий и главный собеседник, и дальше в ходе поэмы он расчленяется на различные другие общности и отдельных персонажей. Но разговор с людьми это и есть разговор с временем, с природой, со всей жизнью на земле. Соответственно сразу же, в увертюре Дом у дороги и на дороге превращается в Дом самой Дороги — и в прямом, и в переносном смысле. Зародыш этого движущегося дома мы видели и в предыдущих поэмах; но ни телега Моргунка, ни воинский дом, с которым движется Василий Теркин, это еще не было то, чем теперь становится это купе, этот «друг-вагон», возникающая в самой дороге временная человеческая общность, это движение в самой дороге вместе с ней и всей Москвы («Москва в пути»), даже всей страны, и малого и большого мира, краткого времени и самой истории. В ходе поэмы новое соотношение дома и дороги разворачивается в новую систему образов-символов, расширяющейся вселенной основного ключевого образа. В отличие от «Василия Теркина», но в некоторой перекличке со «Страной Муравией», вновь возникает мотив добровольного ухода из уже обжитого дома в новую дорогу. Тогда, во время войны, уход был вынужденным, и путник через войну шел к своему исходному родному дому, и только по-светлому вспоминал свой первый юношеский уход из отчего дома, когда его «позвала дорога в даль». Здесь он уходит из своего нового московского угла, и уход менее светлый, более внутренне трудный, но в конечном счете — и к новому просветлению, открытию и далей своего дома, далей собственной души. И приходит к выводу, «Что в жизни много всяких далей, // Сумей одной не пренебречь». Но только через множество новых далей открывается и та одна, которой не надо пренебрегать, как не надо пренебрегать и самой дорогой. И в конце путешествия-поэмы «К концу дороги» говорится: Сто раз тебе мое спасибо, Судьба, Что изо всех дорог Мне подсказала верный выбор Дороги этой на восток. И транссибирской магистралью, Кратчайшим, может быть, путем Связала с нашей главной далью Мой трудный день 83 И легкий дом. Тут — не только единство пространства и времени в этом пути, но и реальная сложность этого единства, трудности текущего времени — «дня» и новое обретенное чувство «легкости» дома. И проблема — опять! — выбора пути. К «главной дали» дороги дорог. А раньше в ходе поэмы подчеркивалась и связь между пафосом исходного дома, и пафосом «новоселья»: «Я рад любому месту в мире,// Как новожил московский тот,// Что счастлив жить в любой квартире,// Какую бог ему пошлет» («В дороге»). В другом месте говорится и о том, как обживается новоселье новожилом, «Когда любовь пройдет проверку // И обживет свой новый дом» («Москва в пути»). Это то будущее, на которое дают надежду два попутчикамолодожена в малом мире этого купе. Но вспомним, что и раньше всегда жила у Твардовского неразрывная связь «дома» и «семьи», а в семье главным связующим была и есть любовь, взаимная самоотдача, предельная человеческая общность, гимн которой был пропет и в поэме военного времени «Дом у дороги». Здесь дом сам отправился в путешествие, вместе c ним семья и любовь, но есть надежда, даже вера, что она выдержит эту проверку и создаст себе новый дом новоселов. Любовь связана с конкретным напряженным трудом, ею вдохновленным, более того — с некой борьбой. В этом транссибирском экспрессе, в сугубо мирной обстановке, неторопливых разговорах с попутчиками вновь продолжается тема борьбы и битвы на переправах «Василия Теркина». И как воспоминание о войне (целая глава посвящена своеобразной дискуссии — воспоминанию о фронте и тыле), и как метафора сегодняшних битв труда, борьбы человека на новой земле с природой. Вся сцена покорения человеком Ангары построена на этом сравнении, военных ассоциациях. Но и там, где битва прямо не упоминается, звучит мотив цены и труда пути: «нелегок путь», «трудный день». А в одном из лучших лирических мест поэмы впервые с предельной афористической четкостью и конкретностью памяти сформулирован весь труд эпохи, жизни, ее «крутой и жесткий пот». Итак, пот и битва, и в дому и в дороге. Два противоположных и вместе с тем один слитный мотив. И главная сила — семья, любовь, товарищество, дружба — опять, как и в той борьбе, все формы человеческой общности, и не раз всплывает в памяти та фронтовая общность, тот заполненный товарищами берег. Но обогащенный и другими мотивами дружбы. И воспоминание о друге, ушедшем из жизни, неожиданно всплывает в момент торжества, победы людей, их новой общности, труда, пота над дикой сибирской рекой. А сама случайная общность дорожных попутчиков приобретает черты дружбы. И даже вагон— это также «мой друг». А вместе с ним и семь тысяч рек, впадающих в матушку-Волгу, когда ее пересекает этот вагон. И две кузницы, прошлого и настоящего, кузница детства и кузница современного могучего индустриального Урала. И совсем новый для Твардовского мотив — дружба с тем другом детства, которая, казалось бы, была забыта, похоронена, но жила с ним в его прежнем 84 пути подспудно, а теперь вновь выходит наверх, на главный видимый путь. Дружба и любовь — это необходимое, непобедимое, движущее нравственное начало и дороги и дома. Новые повороты и переосмысления, «перекодировки» основного движущегося образа домадороги раскрывают разные его стороны. Это и конкретно-бытовая картина поездки через Сибирь, это и целая система ассоциирующихся с ней образов. И «две кузницы», и сцена перекрытия Ангары, апофеоз новостройки. И путешествие, как мы уже сказали, назад к собственному дому, открытию его внутренних далей. И — что, может быть, самое главное— первое осознанное самим собой путешествие своей души внутрь себя. А вместе с ним — расширение, увеличение множества путей общности с другими людьми и опять же с самим собой. И новое путешествие в свою память в память народной жизни. К внутренней свободе, очищению себя от своего же «внутреннего редактора». К свободе, как реализации и условию новой ответственности: «Я жил, я был — за все на свете// Я отвечаю головой». Продолжение и расширение той ответственности, которую чувствовал и Василий Теркин, и с ним поэт в годы борьбы с фашизмом. Теперь для души уже нет «запретного круга»; она смеет перейти любую черту; она даже обязана это делать; она обязана быть свободной от любого запрета, кроме запрета самой совести, самой ответственности перед народом, ответственности перед правдой, которая запрещает лгать, запрещает лгать даже умолчанием о правде. Ибо это путешествие к правде. «Вступает правды власть святая // В свои могучие права». И «она все подлинней и шире». Эта правда настоящего и будущего расширяет и правду о прошлом, правду и право памяти, той памяти, которая уже давно сказала словами того же поэта — «счастье не в забвенье», Как бы ни было тяжело и горько вспоминать: Да, все, что с нами было, — Было! А то, что есть, — То с нами здесь! И все от корки и до корки, Что в книгу вписано вчера, Все с нами — в силу поговорки Насчет пера И топора... («Так это было») Поэтому есть повеление правды и памяти двигаться и к новой степени свободы и самого художественного мышления. Поэма стала и своеобразным литературным манифестом Твардовского, итогом предыдущего опыта и началом дальнейшего. Этот манифест также — труд и борьба. Уже в одной из первых глав поэмы происходит «литературный разговор», и в нем — полемика с псевдолитературой, с той самой опасной неправдой, которая изображает себя как правду. В которой «все в порядке: // Показан метод новой кладки,// Отсталый зам, растущий пред// И в коммунизм идущий дед... // И все похоже, все подобно // Тому, что есть иль может быть,// А в целом — вот 85 как несъедобно,// Что в голос хочется завыть». И противостоит этому утверждение реальности человека, который «рожден па свет для жизни,// Не для статьи передовой». Борьба против плохой литературы тех лет есть и борьба против того бюрократического мышления, против тех фикций, мнимых подобий жизни, которые и мнимыми подобиями литературы выражались. И против «критика вздорного». Тут явная перекличка и с пафосом стихотворений «Моим критикам» (1956), «Московское утро» (1957—1959), продолжавших «Литературный разговор». И даже в «Разговоре с Падуном» возникала речь о тех, кто бессмысленно вывешивал никому не нужные плакаты в лесу. В апофеозе подлинного труда в главе на «Ангаре» также есть отзвуки и этой борьбы с псевдотрудом, с подменой реальности фикциями. Движение к подлинности, к новой степени внутренней свободы выступает в поэме и как путешествие к новой свободе авторского сознания и разговора, к его «новосельям» во времени и пространстве, в памяти и воображении. Это путешествие теперь приобрело форму самого процесса поэтической мысли, анализа и самоанализа, движущегося рассуждениярефлексии, системы вопросов и поисков ответа. Как и в «Стране Муравии», поэма пути является и поэмой распутья. Но распутья уже не того Моргунка, человека, пытавшегося найти дорогу, уходящую от дороги времени, а человека, идущего в ногу со своим временем, вместе с ним, в его центре, даже в его бегущем передовом огневом вале. Может быть, можно спросить, не следовало ли поэту попытаться забежать и впереди этого вала или даже отойти на минутку в сторону, чтобы оценить все движение и границы вала времени. Но это — праздный вопрос. Ибо и тут поэт шел с народом, в меру его движения, хода его самосознания. Но шел, уже обогащенный опытом предыдущего движения. Он уверен в правде общего направления, но знает — теперь люди, а не боги смотреть обязаны вперед, и он, поэт, также обязан смотреть вместе с теткой Дарьей и вместе с читателями, участниками всего путевого разговора. Смотреть, и выбирать, и оценивать. И тут главный критерий — «ни убавить, ни прибавить». Правды власть святая. Поэма является поэтому не только поэмой распутья, но и поэмой пересмотра пути, пути к выбору пути, к новому выбору, который и продолжает прежний, и обновляет ого. «Я» поэта и здесь целиком слито с «я» народа, и в этом всеобщее, эпическое начало его лиризма. Лирическое «я» по-прежнему носит патетический характер, но теперь этот пафос выступает как пафос анализа, критики, самоанализа. Он по-прежнему слит с пафосом конкретного народного труда, в самом прямом смысле, его материальной значительности, предметности. Но теперь на первом плане пафос труда души. Труда души поэта и труда всего народного сознания, я бы сказал даже того, что можно назвать трудом души самой Истории, самого Времени. И этот труд находит некую награду, вернее — начало нового, более окрыленного, более точного, более действенного труда — «душа полна, как ветром парус». Труд души, как познание и самопознание, определяет собой все своеобразие поэтики поэмы, ее интонации, ее многоголосья. Это — поэзия деятельной рефлексии автора и его собеседников — читателей, персонажей, в форме свободного чередования описаний, 86 воспоминаний и лирических размышлений, — в форме совместного как бы обдумывания, обсуждения вопросов и первых ответов. Характерно стремление сохранить ясность причин и следствий, связей, точность характеристик, обоснований. Подчас даже — чрезмерное (отсюда — элементы рассудочности или уж очень обстоятельного поворачивания мыслей или фактов разными сторонами). Но часто эта как будто излишняя обстоятельность также передает поэзию самого процесса авторского размышления, многосторонности высказывания о действительно сложном, многостороннем, С другой стороны, характерно стремление отыскивать как бы итоговые формулировки вопроса или пожелания, или просто определения существа дела, факта. Отсюда эти афоризмы или определения-поговорки, о которых говорилось выше. Соединение неторопливой взвешенной речи и островков афористичной сжатости составляет особое интонационное своеобразие, подчас художественную силу поэмы, как поэмы разговора-рассуждения-рассказа. Местами этой речи не хватает обычной для Твардовского пластической изобразительности, аналитическое вытесняет пластическое; речь приобретает черты некоторой дидактичности или чрезмерного разжевывания мысли. Но в целом поэма достигает того, что можно назвать программной музыкой поэтической мыслиразговора. Кроме того, к счастью для искусства, местами сквозь упорядоченный поток рефлексии прорывается нечто внешне алогичное, неподготовленное предыдущим, но вскрывающее другой слой поэтической мысли-переживания или описываемого события. Так дважды всплывает неожиданное воспоминание о судьбе друга в главе «На Ангаре», друга, которого хотелось бы автору видеть здесь, на этом торжестве, но который ушел из жизни. Но сама неопределенность намека создает дополнительное ассоциативное значение — контраст; дополнительное указание на те неявные душевные кризисы современников, которые подготовляли и сопровождали это путешествие за правдой. С такой же глубокой художественной логикой построена глава «Друг детства». Сначала общие воспоминания-размышления, затем, казалось бы, ненужные подробности пути, которые подготавливают внезапность и многозначительность случайной встречи. А в самой сцене встречи — сочетание предельной спрессованности вместе с тем кажущейся недоговоренности. Спрессованности и многозначности самого времени этой встречи. И с глубоким художественным тактом Твардовский показывает, что в течение этих пяти, столь спрессованных минут вдруг оказывается, что трудно говорить. Произносятся внешне незначащие слова: «Не куришь?// — Как еще курю!» И уже — «будто все вопросы». И вскоре — свисток отправления. А в этой недосказанности — самый главный разговор. И он продолжается дальше рядом вопросов автора самому себе и читателю: «Народ? Какой же тут народ!», — и воспоминаниями о своей и других жизненных судьбах к судьбах всей страныВыразительность сцены, может быть, была бы еще большей без двух заключительных разъяснений, обосновывающих четверостиший... 87 И вот со времени окончания этой поэмы также прошло уже немало лет. Не все звучит в ней теперь так, как тогда: часть того, что казалось и очень смелым, и очень новым, и очень точным, теперь кажется общеизвестным, а подчас и недостаточно точным. Но многое вполне звучит и сейчас, и даже открывается новыми сторонами правды. А главное — остаются самый пафос и сила высказывания поэзии распутья и выбора пути на новом перевале жизни народа и автора; поэзия этого напряженного труда души, самого процесса высказывания труда; поэзия личности человека, пересматривающего весь свой жизненный путь и путь общества; поэзия деятельного анализа, самоанализа, народного самосознания на новой ступени его развития. 88 Литературные взгляды Это — также большая тема, достойная особой книги. Пока появилось немного работ, специально ей посвященных. Здесь ограничимся лишь краткими замечаниями. Твардовский много выступал как литературный критик, а порою как литературовед. Его статьи и выступления на литературные темы, притом в очень неполном составе, занимают целый том в его последнем собрании сочинений. Он несомненно обладал не только художническим, но и литературно-критическим дарованием; так же, как стремился к полному самоанализу, стремился и к анализу литературы. В особенности той литературы, которая была ближе всего к его творчеству, прежде всего русской литературы XIX века и современной литературы. Ни одной статьи или выступления, посвященных литературе более отдаленных времен, у него нет, если не считать разрозненных сопоставительных замечаний. (В его творчестве, как мы видели, использованы и самые древние фольклорные мотивы, но всегда в контаминации с более поздними.) Но в литературно-критических статьях о современной литературе он рассматривал ее в соотнесении, явном или неявном, с классической русской реалистической традицией XIX века. Двумя главными фигурами этой традиции для него были Пушкин и Некрасов, только о них из всех классиков он специально писал и выступал. О Пушкине — в двух речах-статьях 1949—1962 годов, о Некрасове — в автобиографической заметке, показывающей роль книги Некрасова в крестьянской семье, в отчем доме Твардовского, и в юношеской литературоведческой работе 1938 года. Значение их традиций для творчества Твардовского с самого начала его пути отмечалось всеми критиками, самим Твардовским и выше в этой книге. Однако в своих высказываниях о классиках поэзии Твардовский прежде всего акцентировал общие принципы реализма и народности искусства, художественного мастерства, совершенство которого видел в Пушкине, гражданской ответственности. Более прямые сопоставления поэтики Твардовского с Некрасовым или Пушкиным, столь распространенные в нашей критике и литературоведении, как мы видели, лишь иногда соответствуют его творчеству. Кроме Пушкина и Некрасова, Твардовский знал и ценил всех классиков русской поэзии XIX века, хотя и не посвящал им специальных статей. В устных беседах часто особенно выделял Тютчева. Помню наши совместные восторженно-комментаторские перечтения ряда стихотворений Тютчева еще в самые первые годы жизни Твардовского в Смоленске — и новые возвращения к этой теме уже в конце 50-х годов. И косвенное значение тютчевской традиции в его творчестве было гораздо большим, чем кажется на первый взгляд. Ему были очень близки тютчевская углубленность, размах поэтической мысли; тютчевский заостренный психологизм, дневниковая манера; свобода, разнообразие интонации, гибкость синтаксических и ритмических конструкций, многоплановость лексики и общей структуры образов; широкое развитие в ряде стихотворений Тютчева и «лирики другого человека», так разнообразно продолженной, расширенной и развитой самим Твардовским. Он ценил также Баратынского, знал многое наизусть. Был хорошо осведомлен во всем широком потоке 89 русской поэзии этого века, и мы находим у него упоминания — с разными знаками оценки — и таких поэтов, как Вяземский, Ростопчина и др. Среди других классиков поэзии XIX века очень близок ему был Тарас Шевченко, которого он — с юношеских лет — высоко ценил, много переводил и стал одним из лучших переводчиков Шевченко на русский язык. В лирике и поэмах Шевченко его привлекали (особенно в «Гайдамаках», с которыми во многом перекликается и «Василий Теркин») высокая народность, соединение героического и будничного, эпического и лирического, интонационное разнообразие, жанровая свобода. Из прозаиков, сколько знаю, любимым и главным был Лев Толстой. Отсюда и строчка «даже Льву Толстому» — «пусть себе он бог» — в стихотворении «Вся суть в одном-единственном завете». Влияние Л. Толстого, как мы видели, проявлялось не только и не столько в прозе Твардовского, сколько в его поэзии; было очень глубоким и кардинальным и в общих принципах типизации героев Твардовского, психологического анализа, «диалектики души» и в его лирике. Однако оно никогда не переходило в подражание. Русскую классическую прозу Твардовский хорошо знал, неоднократно к ней возвращался. Можно выделить знание и понимание Чехова, Глеба Успенского. Глеб Успенский цитируется им в его прозе, и он несомненно, в известной мере, повлиял на Твардовского, в особенности на очерковую прозу, с ее сочетанием публицистики, анализа, пластического изображения, сжатой и емкой типизации. Горькому была посвящена специальная рецензия молодого Твардовского, в которой были подчеркнуты его значение как народного художника и особенности его творческого пути как человека, вышедшего из народных низов. Позже Твардовский особо отметил значение Горького как поэта: «Большой подъем нашей литературы связан с именем А. М. Горького. Его «Песня о Буревестнике» стала достоянием массового читателя». Некоторые рассказы Горького и «Жизнь Клима Самгина» не раз упоминались им и в личных беседах, а социальны; психологизм и своеобразная система лейтмотивов «Клима Самгина», возможно, косвенно повлияли на общее творческое развитие Твардовского. Шолохов был для него одним из образцов «высокого мастерства» в нашей художественной прозе. «Он, не гадая о том, специально, создал целую плеяду видных советских прозаиков», которые вслед за ним «неизмеримо расширили площадь действительности, осваиваемой нашей советской литературой». Критерий расширения «площади действительности» был одним из важных общих эстетических критериев Твардовского, и мы видели, как это расширение осуществлялось всем ходом его творчества. Он отмечал значение «Поднятой целины» как «свидетельства художника» о «величайшем историческом перевороте в многовековом укладе деревенской жизни», как «достоверной картины новой социалистической деревни с ее героями, людьми, которых мы с тех пор как бы знаем лично». В этой формулировке попутно проявляется еще один эстетический критерий, относящийся не только к прозе, но и к поэзии, — создание характеров, с такой естественностью, что читатель воспринимает их как личных знакомых. Косвенное, но несомненное влияние Шолохова, 90 особенно «Тихого Дона», о котором Твардовский всегда отзывался с большим уважением, проявилось и в общем принципе психологической углубленности, социальной определенности, масштабности, многогеройности эпического и лирического начала поэзии Твардовского. В еще большей мере можно говорить о глубоких перекличках с Фадеевым, с которым он был связан и многолетней личной дружбой, а подчас и прямым влиянием писателя на прозу и поэзию Твардовского. Твардовский неоднократно подчеркивал глубинную психологическую конкретность, богатство проблематики, жизненную достоверность «Разгрома» и «Последнего из удэге». Касаясь связи прозы и поэзии, Твардовский приводил как пример «Молодую гвардию», ее «поэтические элементы: лирические отступления, монологи, общую приподнятость тона, пафос прямого авторского высказывания и т. д., подчеркивал значение этого произведения в общем потоке военной прозы». В поэзии XX века Твардовский с юношеских лет ценил Бунина. Бунин также и в прозе, — наряду с некоторыми произведениями Горького (особенно «Климом Самгиным»), Шолохова, Фадеева, — был ему близок. О Бунине Твардовский не раз писал и сам отмечал, что ему обязан как художник. А я вспоминаю, что уже в начале нашего общения (1928—1929) мы вместе читали и восхищались стихотворением Бунина «Одиночество», в частности, его концовкой; бунинским искусством лирико-психологической новеллы; бунинским искусством реалистической детали, как бы перенесенной из прозы в поэзию, в том числе и особой «поведенческой» детали, так разработанной Твардовским. Большая статья Твардовского о Бунине (1965) является одной из лучших его литературнокритических работ, совмещающих качества высокохудожественного эссе и углубленного научного анализа. Эта статья очень повлияла на всю последующую «буниниану», вплоть до самых последних работ (Л. Долгополова, А. Е. Горелова, Л. В. Крутиковой). Твардовский выделяет в Бунине прежде всего то, что ему наиболее близко и ценно, и через Бунина связывает традиции русского реализма XIX века с современной литературой. Он отмечает высокую конкретность, сконцентрированность реализма Бунина, его лаконизм, «экономичность письма», исключительную наблюдательность; роль поэтики родных мест, поэтики воспоминания; «тонкую живопись природы»; использование в стихе прозаической детализации, разговорной речи; подчеркивает новаторское значение поэзии Бунина при ее кажущемся консерватизме формы, удивительную зоркость художнического зрения, слуха, даже обоняния, «высокую простоту». Указывая на значение конкретного изображения Буниным современной ему действительности, Твардовский пишет и о значении проблематики «вечных тем» у Бунина, прежде всего тем любви и смерти, их, для Бунина, неразделимой связи. Выявляет подлинные ценности творчества Бунина, несмотря на враждебные политические взгляды Бунина, которые Твардовский также не затушевывает. Другие русские поэты начала XX века привлекали уже гораздо меньшее внимание Твардовского. Он посвятил небольшую статью (точнее — набросок речи) Блоку в связи с 75- 91 летием со дня его рождения (1955), где говорит, что Блока «мы уже давно воспринимаем в ряду самых дорогих нам имен отечественной поэзии». Такие стихи, как «О доблести, о подвигах, о славе», входят в число «шедевров русской лирики». И даже в ранних, собственно символистических стихах есть «сила искреннего чувства в поэзии, выраженного хотя бы и в чуждой нам системе лексики, образов, стихотворной фразеологии». Как пример — стихотворение «Ты в поля отошла без возврата». И Твардовский замечает: «Такие вещи в поэзии бывают очень часто. Не всегда в ней прямое содержание имеет главную силу» (подчеркнуто Твардовским). Отмечу, что путь самого Твардовского шел к все более глубокому совмещению «прямого» и «непрямого» содержания в его собственном творчестве. Однако Твардовский оговаривает, что и у зрелого Блока, даже в лучших его вещах, «есть черты, запечатленные предрассудками школы, ограниченностью мировоззрения и т. п.», «не говоря о бумажных цветах его поэзии, их немало». Фразу о «бумажных цветах» у Блока Твардовский повторил как-то и в беседе со мной уже значительно позже, в 60-е годы. В общем, Блока он принимал очень избирательно, хотя и понимал его огромную роль в развитии поэзии XX века. Но косвенно опыт Блока также проявился и в поэзии Твардовского; в частности, блоковский принцип и пафос «пути» был даже ближе Твардовскому, чем он сам это сознавал. Ценил он в Блоке и его «музыку», его певучее начало. Но все же больше его привлекали поэты, у которых он видел элементы прямой жизненной конкретности, «прямого содержания». Поэтому не случайно в упомянутой речи «Поэзия и народ», перечисляя всех поэтов XX века, которые особенно повлияли на массового читателя, он после Горького называет «Демьяна Бедного, поэзии которого можно сделать много упреков, но никак не лишить ее большого общенародного звучания», и затем, конечно, Маяковского, Асеева с его «Конной Буденного», стихи о Ленине Полетаева, Тихонова, «Мать» Дементьева, «Гренаду» Светлова, «Повесть о рыжем Мотеле» Уткина, «Железняка» Голодного, «некоторые стихи К. Симонова и особенно М. Исаковского». Но Твардовский умел найти это прямое содержание и в поэтах, казалось бы (особенно в глазах представителей вульгаризаторской, вульгарно-социологической критики), далеких от главного содержания народной жизни. В последние годы своей жизни он открыл для себя Ахматову и Цветаеву, посвятил им специальные статьи. В статье об Ахматовой (1966) он пишет: «В целом — это лирический дневник много чувствовавшего и много думавшего современника сложной и величественной эпохи, хотя бы и отраженной в этом дневнике далеко не во всей полноте и значительности». Он показывает жизнелюбие, человечность, подлинность, искренность, необычайную сосредоточенность нравственного начала, дружбу с читателем, чувство любви к родной земле, свободу и непринужденность интонации, «неотразимую психологическую точность и зоркость», «особую доверительность поэтических признаний», сложную простоту, использование в поэзии элементов прозы, будничного, как бы прозаического языка. И это было родственно его собственной поэтике (хотя о прямом влиянии все же не могло быть и 92 речи, в отличие от связи Твардовского с Буниным). В критерий оценки творчества Ахматовой Твардовский включает и отношение к ней широких слоев читателей. И еще одна важная деталь: он рассматривает поэзию вместе с личностью поэта. Он не забывает про вопрос — «кто ты есть?». И в Ахматовой ему импонировали стойкость ее поэтической позиции, мужество, верность родной стране. А когда Твардовский с ней встретился впервые лично (странным образом, это произошло. .. в Италии, куда почти одновременно и он, и она ездили, хотя по разным причинам), то написал мне в письме о своем впечатлении от личного знакомства: «великолепная старуха». В Марине Цветаевой — поэте совсем другого типа, чем Ахматова, — Твардовский также уловил то главное, что он ценил и в искусстве, и в людях. Любовь к жизни, России, «боль сердца», «глубокая эмоциональная сила», подлинность «живой, а не искусственной» речи. Зорко отмечает ее индивидуальные особенности — трагическое начало ее поэзии, судьбы; «затрудненную, местами как бы пунктирную, где заменой слов являются необыкновенно выразительные тире, стихотворную речь» Цветаевой. Но несмотря на все отличия Цветаевой и Твардовского, мы видели, что в поздней (а иногда и в ранней) лирике Твардовского есть элементы, хотя ив другой системе, этой пунктирности и затрудненности речи, этих обильных тире, а иногда и просто эллипсов, пропусков. Менее документировано пока отношение Твардовского, к Пастернаку. Помню, что в разговорах Твардовский с юношеских лет включал Пастернака в число наиболее талантливых мастеров советской поэзии. Поэтика Пастернака была ему, в общем, чужда. Но он старался подойти к ней объективно и внимательно. В одной из наших самых ранних бесед, где-то в 1928—1929 годах, он сравнил Пастернака с некоторыми гармонистами, которые иногда играют что-то совсем непонятное, но все-таки хорошее. В печати он очень хвалил, во время войны, переводы Пастернаком Шекспира, сравнивая их ценность с воинским подвигом, но воздерживался от определенных высказываний о творчестве самого Пастернака. В беседах редко задевал эту тему, но, в общем, до конца жизни сохранял чувство неприятия существенных элементов этого творчества. Критерий соответствия литературы «непосредственной действительности» Твардовским в разные этапы своего пути понимался с разной степенью широты, в последние годы со все большей широтой, хотя опять-таки в определенных берегах. Показательно его выступление — «Рим. Осень. 1965». Он выдвигал в дискуссии с группой западноевропейских писателей именно критерии художественной правды — в том числе применительно к ряду писателей, которые многими у нас и до, а частью и после этого, безоговорочно зачислялись в число «модернистов», принципиально искажающих действительность или уходящих от нее. Твардовский называл там, как достойных уважения и несущих в той или иной степени жизненную правду художников, не только Хемингуэя, но также Камю, Кафку, Ионеско. «Когда мы называем здесь, ну, допустим, «Процесс» Кафки или «Носорога» Ионеско, то нет спору, что эти произведения очень сложные и даже с несколько притемненной формой. Но что 93 безусловно — эти произведения обладают в высшей степени существенным содержанием. Если я позволю себе напомнить вам такую деталь из «Процесса» Кафки, как «неперенесение» служителями «Дома Правосудия» свежего воздуха, с которым они соприкасаются при выходе из этого помещения, то надо сказать, что эта деталь необыкновенно выразительна с точки зрения того содержания, которое заложено в романе Кафки». В лучшем романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» Твардовский увидел «обязательство человека, который несет ответственность за дело освобождения человечества на том участке, где он оказался солдатом этого борющегося человечества». Дело освобождения человечества, чувство ответственности за него художника включается, таким образом, Твардовским в решающие критерии художественной правды и силы. Твардовский силой своего таланта и ума, воспитанного на ленинской теории отражения, умел разделять разум и предрассудок художника, различать влияние всяких скверных «измов» и то, что дается талантом и стремлением к правде. И хотя Твардовскому была чужда «притемненность» формы, но совсем не были чужды ни условность, ни гротеск, широко присутствовавшие в его основных произведениях, начиная со «Страны Муравии» и кончая «Теркиным на том свете». С другой стороны, условность и гротеск в творческой системе Твардовского имели возможности и функции, которые, как мы видели, были чужды и даже противоположны и Кафке, и Ионеско. Эта широта не переходила в принцип «реализма без берегов». Наоборот, в том же выступлении он ясно от него отмежевывается. «Я не сторонник реализма, зажатого в гранитные берега и имеющего нарочито обуженное русло. Нет. Но и безбрежность реализма, если уж продолжать эту обязательную фигуру, может представиться в виде трудно обозримого и трудно проходимого болота». По поводу одного из фильмов Феллини Твардовский говорит о «переизбытке, излишестве формы» как «забвении одного из важнейших законов искусства — об экономичности выражения», с чем связано «отсутствие той тайны, которая всегда ощущается за совершенным произведением»; но по поводу фильма Пазолини — очень «авангардистского» с «нарушением всяких традиций»,— что это художественно оправдывается «благородной идеей». Избыточность формы противоречит самой «тайне» искусства. Но тайна основана на правде во всем многообразии форм ее воспроизведения, отражающем многообразие тенденций самой действительности, и включает в себя и любую смелость формы, если она выражает «благородную идею», порожденную действительностью. Такое понимание — и ширины, и границ реализма, и вообще художественной правды — позволяло Твардовскому, особенно в последний период его деятельности, оценить спектр художественного опыта современного искусства в самых разных и разнообразных его представителях. Но все же широта сочеталась у Твардовского с определенной избирательностью даже внутри круга, очерченного его собственными общими критериями, что приводило иногда и к суженному применению этих критериев. Вообще именно у самых 94 больших художников часто наблюдается сочетание широты взгляда с такой его избирательностью. И у Твардовского эта избирательность очень характерна, в особенности в области для него наиболее важной — поэзии. Кроме его оценок Блока, Мандельштама, Пастернака, характерны также высказывания о Маяковском, Есенине, Заболоцком, Сельвинском, Багрицком. Маяковского он всегда считал высокоталантливым поэтом, «огромным литературным явлением», ценил его гражданские позиции, определенные новаторские достижения его стиха, в частности, использование разнообразных разговорных интонаций, сюжетности в лирике, но ему были чужды многие черты поэтики Маяковского. Отношение к Есенину сформулировано в его статье об Исаковском, некоторых внутренних отзывах, письмах, устных высказываниях. В частности, он писал про Есенина, что тот «слишком принадлежит, при всей яркости своего лирического дара, своему времени, а свое время бывает большим и бывает малым, более или менее коротким временем» (подчеркнуто Твардовским), и был склонен считать, что время Есенина уже прошло. «Нам более сродни нежность и мудрость, мужественность лирики Пушкина, чем нежность и расслабленность и известная неглубокость, характеризующая лирику Есенина. Но это не лишает ее ценности в своих пределах». Отталкивание от поэта, именовавшего себя последним поэтом деревни, Твардовского, которого так часто изображали также прежде всего поэтом деревни, было одним из заостренных проявлений его новаторства, несмотря на односторонность и неточность характеристики Есенина. Жизнь не подтвердила мнение, что время Есенина прошло. Твардовский исходил из своего основного пафоса новой конкретности новой действительности. И связанных с этим требований наиболее глубинного освоения и старых ценностей. С другой стороны, отношение Твардовского к поэзии Заболоцкого, как и отношение Заболоцкого к поэзии Твардовского, — нередкий в истории литературы пример, как два больших поэта, во многом взаимодополняющие друг друга или перекликающиеся, тем не менее этого не осознавали. Из конструктивистов Твардовский выделял Багрицкого, особенно «Думу про Опанаса», которую называл «замечательной поэмой». Твардовский в выступлении на съезде учителей впервые предложил включить в школьные программы и стихи Багрицкого. Несомненно, существуют некоторые переклички в их творчестве: пафос труда, люди труда, элементы сюжетности в лирике и др. Но в целом «биологизм», напряженная «предметность», некоторые элементы литературности, романтической заданности творчества Багрицкого были чужды поэтике Твардовского, и никакого прямого влияния Багрицкий на Твардовского никогда не оказывал. Существовал и круг современников, наиболее близких его творческим принципам. Среди поэтов это были прежде всего Исаковский, а также, по-другому — Маршак, Кулешов, отчасти 95 Гамзатов, Кулиев, Н. Дементьев, Купала, Колас, Яшин. Маршака он ценил не только как поэта для детей и переводчика, но и как лирика, хотя и с оговорками (в письмах, а не в печати). Среди своих младших современников положительно выделял в разные этапы своего пути (как отмечалось выше) В. Шефнера, К. Ваншенкина, Е. Винокурова, А. Прасолова, А. Жигулина и некоторых других. У Евтушенко ценил то, что его поэзия затрагивает «интересы и настроения больших общественных слоев». Критерии отбора прослеживаются в его подборе стихов для «Нового мира». Зато довольно широк был круг прозаиков, которых он ценил: Казакевич, Овечкин, Абрамов, Панова, Залыгин (в некоторых вещах), Айтматов, Грекова, Драбкина, Троепольский, Берггольц (как автор «Дневных звезд», которые он ценил больше, чем ее стихи), Тендряков, Яшин (которого именно он оценил как прозаика), Соколов-Микитов, Можаев, Фоменко, Е. Дорош и ряд других, неоднократно выступавших и на страницах редактируемого им журнала. Здесь совершенно ясно действовали те же критерии отбора: максимальная правдивость, конкретность, соотнесенность с «непосредственной действительностью», ее основной социально-психологической проблематикой. В статьях об Исаковском (1949—1969 — дата последнего варианта) и в его приветствии Исаковскому в день его 70-летия (1970) сформулирован ряд исходных и дополнительных тезисов. Первичность, достоверность отражения действительности в ее прямом содержании, не исключая в определенных рамках и «непрямого». Новизна жизненного материала и умение показать новые жизненные явления, когда они только что складываются. Отсюда — «необычная свежесть возведения буднично-прозаической подробности в поэтическое достоинство». «Способность даже в непритязательной на первый взгляд форме как бы ненароком отозваться на острые и глубоко существенные стороны народной жизни». Как дальнейшая конкретизация — «раздумчивая неторопливость, даже деловитость лирической интонации». Умение включить «простые житейского обихода слова» в «несомненность более высокого строя речи, не утрачивая простоты». И еще далее: «... доброе лукавство немногословного народного юмора, проглядывающее сквозь нарочитое простодушие». Новое развитие в Исаковском «певучего начала России». И в целом: «Свой строй, свой склад поэтической речи, смело черпающий слова и обороты современного разговорного языка, в том числе заведомые «прозаизмы» в сочетании с музыкальной основой, идущей по преимуществу от народной песни». Более того, — что особенно специфично для индивидуальности Исаковского, — искусство в лучших стихотворениях даже примелькавшиеся, стертые слова и обороты «газетно-пропаган-дистского» или другого «банального обихода» соединить со словами такой искренности или произнести их с такой силой чувства, что они приобретают новую свежесть и силу. И как дополнительные черты конкретности Твардовский отмечает также особую «географическую» конкретность примет родных мест, родной природы, той малой Родины, которая была так дорога и самому Твардовскому и так связывалась органически с большой Родиной. И в целом: «негромогласная» правдивость и сила чувства. «Целостный дух и склад его поэзии, 96 характеристические черты ее формы как нельзя более близки духу и складу народного труженического характера, чуждого горлопанству и краснословию, более способного высказаться на деле, чем на словах, отнюдь не лишенного, однако, чувства юмора». В соответствии с общей манерой литературно-критических статей Твардовского совмещается характеристика индивидуальных особенностей Исаковского, только ему присущих и верно подмеченных, и тех особенностей, качеств, которые близки или совпадают с принципами поэтики самого Твардовского. При этом Твардовский, несмотря на глубокую личную дружбу, точно оговаривает и то, что считает слабостью или недостатком, в частности, проявления декларативности, схематизма, упрощенности. В целом через все выступления Твардовского о литературе проходят два основных критерия. Во-первых, подлинная народность и реализм, во-вторых, высокое художественное качество, причем второй вытекает из первого. Эти критерии, их конкретное применение варьировались на протяжении творческого пути Твардовского. Можно отметить фазу сужения его литературных вкусов и критериев в конце 40-х годов, связанную с общей литературной обстановкой того времени, и резкое расширение кругозора с середины 50-х и особенно с начала 60-х годов. Но на всех этапах сохранилось очень рано сложившееся твердое ядро его основных литературных взглядов в соответствии с твердым ядром и основных принципов его художественного творчества. Для всех этапов характерна также заостренная гражданственность его выступлений на литературные темы — пафос «Слова о словах». В публицистической форме этот пафос выражен и в его речах на съездах партии, других общественных форумах, и в его журнальных статьях, из которых можно выделить, как программные, — «Несколько слов к читателям «Нового мира» и особенно «По случаю юбилея». Как и в «Слове о словах», подчеркивается главный критерий правдивости и противопоставляется всем формам «подмены действительности, какая она есть, такой, которая более соответствует предвзятым представлениям». И далее: «... все, что талантливо и правдиво в искусстве, — всем нам на пользу, и, наоборот, всякая фальшь, всякая липа, как и всякое недомыслие, во вред нам... Недостаток многих наших книг — прежде всего недостаток правды жизни, авторская оглядка. Читатель остро нуждается в полноте правды о жизни. Ему претит уклончивость и непрямота художника». Твардовский подчеркивает принцип правдивости «до конца» и связывает его с творческой активностью, самостоятельностью мысли художественной художника. и Вспомним, гражданской что эти темы смелостью, и пафос перекликаются с «Литературным разговором» в поэме «За далью — даль» и рядом стихотворений Твардовского, — с общим пафосом его творчества. 97 Из этого пафоса вытекает, как его конкретное осуществление, второе основное требование литературной программы Твардовского — требование высокого художественного качества. Среди многих его выступлений на эту тему стоит вспомнить небольшую статью против попыток явно или замаскированно снизить эти требования (критиков В. Друзина и Б. Дьякова). С требований высокого качества начались первые выступления Твардовского в литературной критике (в устных выступлениях на «декадниках» смоленского журнала «Наступление»). И вспомним знаменитую строчку его стихотворения, что в поэзии горшки обжигают хотя и не боги, но мастера. Эволюция конкретных применений этих критериев Твардовским шла в сторону их расширения и уточнения, по принципу «расширяющейся вселенной». Он стал видеть и ценить то, что раньше недооценивал, но в главном никогда не отбрасывал то, что он ценил с самого начала своего пути. В 30-е годы он не мог бы так писать об Ахматовой, как в 60-е; но в 60-е годы он так же ценил творчество А. Кулешова, как в 40-е. В последние годы с этим расширением критериев сопрягалось увеличение их строгости. В ряде выступлений и статей Твардовский выделяет еще один путь конкретизации его реалистических принципов. Это — взаимодействие поэзии и прозы. К нему он возвращается не раз. В 1947 году пишет: «Характерным для подъема поэзии всегда являлось насыщение ее повествовательными и дидактическими моментами — беллетристичностыо, точно так же как и подъем литературы вообще характеризуется приобретением прозой собственных поэтических качеств». С этой мыслью связано неоднократное утверждение не только законности, но и художественной ценности повествовательных элементов, сюжетности и в лирических стихах, что в известной мере противоречило их традиционным признакам и принципам лирики. «В стихах должно что-то происходить», — писал он К. Ваншенкину и уже гораздо позже, в конце 50-х годов. Эти высказывания, несмотря на их кажущуюся упрощенность, не надо понимать упрощенно. Еще в письме Маршаку от 18 августа 1938 года он писал, что: «Я все больше страдаю от своей тоскливо-повествовательной манеры, давно хочу писать иначе, но все еще не могу». Сюжетность, событийность, элементы повествовательности в поэзии для него не совпадали с «тоскливо-повествовательной манерой». В своей творческой практике он и в 30-е годы в целом не был «тоскливоповествовательным», и тем более в 60-е годы. Но стремление к синтезу прозы и поэзии, косвенного изображения (через изображение персонажей или объективных ситуаций) и прямого высказывания было одним из коренных его литературных взглядов в течение всей его жизни и отвечало его творческой практике, хотя конкретные формы соотнесения этих элементов, синтеза существенно менялись у него на разных отрезках его пути. Общая эволюция также шла по тому же принципу концентрического расширения, «расширяющейся Вселенной». 98 Изложенные принципы Твардовский в некоторых высказываниях дополнительно конкретизирует применительно к разным литературным жанрам. Применительно к художественной прозе он особое внимание уделяет художественному оправданию и развитию очерковой и вообще документальной прозы, разъясняет значение их в развитии литературы как самостоятельной художественной струи и жанра и в развитии-общественного сознания как системы человеческих документов. И в отдельных оценках или замечаниях по поводу такой прозы (своей и у других писателей) Твардовский подчеркивает необходимость ее жизненной свободы, несхематичности, ее связи с естественным ходом времени, исторического процесса, его «хроникой». Отсюда и упомянутые выше оценки значения творчества Шолохова, Фадеева. Отсюда и уважение к литературным явлениям, тесно связанным с коренными запросами народной жизни и выражающим ее существенные стороны и возможности. Например, Твардовский говорил о значении для него, даже для его личного жизненного пути, «Как закалялась сталь» Николая Островского. В статье о Маршаке специальное внимание уделено проблемам поэтики литературы для детей и поэтики художественного перевода, на опыте Маршака и сравнении его с опытом других писателей для детей и переводчиков. Наконец, в ряде работ Твардовский специально останавливается на соотношении лирики и поэм, взаимозаменяемости определенных жанровых категорий. Но при этом Твардовский избегает высказываться о жанрах, которыми сам не занимался. Например, о драматургии. И, наконец, через прослеживается всю особое систему внимание высказываний к Твардовского соотношениям художника о литературе и читателя. Художественное произведение рассматривается им вместе с его конкретным восприятием читателем, современным или прошлым. Критерий доступности искусства широким слоям народа для него всегда был одним из важнейших критериев. Но и здесь он стоял на почве принципа сложной простоты. И хотя говорил, что высшей оценкой художественного качества произведения является то, что его читают те, кто не читает ничего другого, он признавал и ценность произведений, относительно мало читаемых, и ввел в ряде случаев разделение уровней читательского вкуса, его «развитости», так же как в своих произведениях даже создавал своеобразную классификацию читателей, их типизацию, и оценивал качество своей работы в соотношении не со всяким читателем, а определенными типами читателей, которые в какой-то мере представляют достаточно высокий уровень народного вкуса в целом. Поэтому он не отождествлял понятий популярности и народности, хотя учитывал степень популярности любого разбираемого им писателя, и понимал также, что читаемость иногда зависит и от внешних факторов, не связанных ни с качеством 99 художественного произведения, ни с действительным вкусом народа (на примере той же Ахматовой), хотя на разных этапах своего пути по-разному оценивал роль таких факторов. В литературно-критических выступлениях он стремился исходить из определенных научных принципиальных критериев, и в этом смысле его литературнокритические работы являются также и литературоведческими, хотя по своей форме часто приближаются к художественным эссе. Его литературные взгляды не были обобщены или подытожены какой-то специальной сводкой, но тем не менее представляют целостную систему, в общем отвечающую системе художественного мышления, выраженной в его произведениях, хотя в некоторых отношениях несколько более узкую. В самой форме своих литературных высказываний — будет ли это статья, внутренний отзыв или речь — он стремился к максимальной стройности и ясности изложения; к соединению общего взгляда и внимательного отбора характерных литературного отдельных ряда и подробностей, действительности, примет; в нем к совместности отразившейся, рассмотрения включая в эту действительность и главные данные биографии художника, и главные факты, приметы эпохи в целом. В литературоведческой методологической основе он быстро преодолел широко распространенные во время его молодости вульгарно-социологические схемы и подходы; стремился к наиболее углубленному познанию, исходя из того уровня нашего литературоведения, который был достигнут лучшими его представителями 30-х годов и подымался последующим ходом развития науки. 100