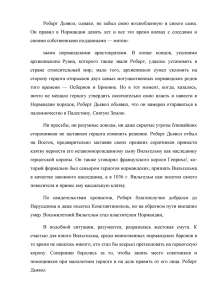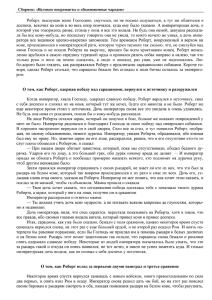Сверхновый литературный журнал «Млечный Путь» Выпуск 14 Содержание:
advertisement
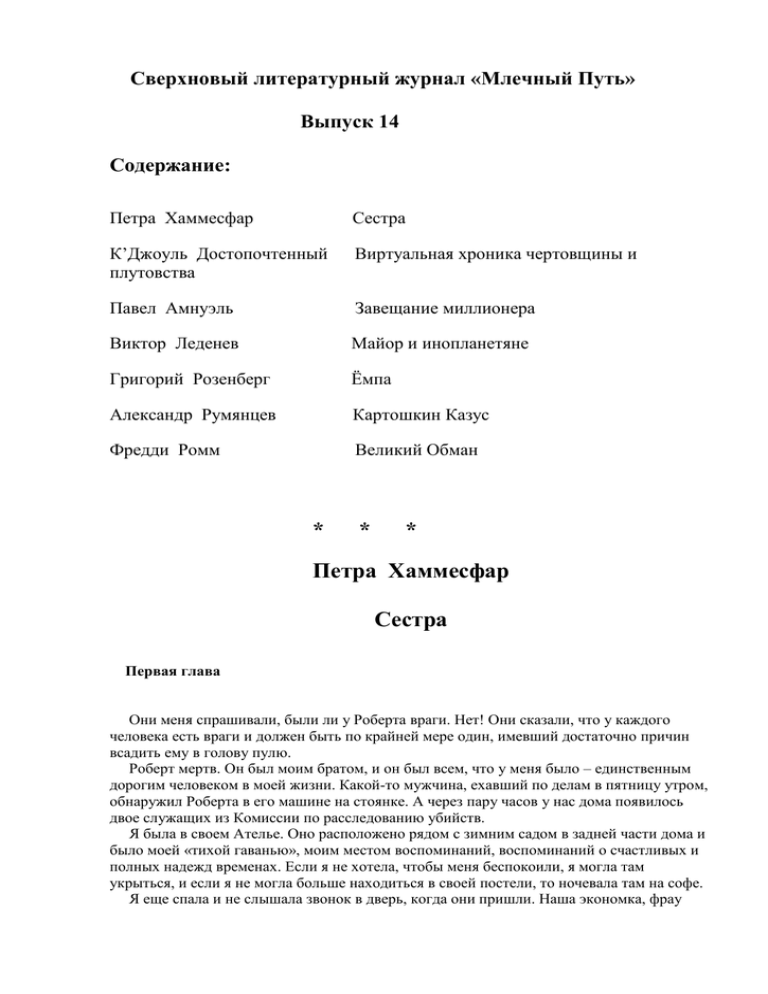
Сверхновый литературный журнал «Млечный Путь» Выпуск 14 Содержание: Петра Хаммесфар Сестра К’Джоуль Достопочтенный плутовства Виртуальная хроника чертовщины и Павел Амнуэль Завещание миллионера Виктор Леденев Майор и инопланетяне Григорий Розенберг Ёмпа Александр Румянцев Картошкин Казус Фредди Ромм Великий Обман * * * Петра Хаммесфар Сестра Первая глава Они меня спрашивали, были ли у Роберта враги. Нет! Они сказали, что у каждого человека есть враги и должен быть по крайней мере один, имевший достаточно причин всадить ему в голову пулю. Роберт мертв. Он был моим братом, и он был всем, что у меня было – единственным дорогим человеком в моей жизни. Какой-то мужчина, ехавший по делам в пятницу утром, обнаружил Роберта в его машине на стоянке. А через пару часов у нас дома появилось двое служащих из Комиссии по расследованию убийств. Я была в своем Ателье. Оно расположено рядом с зимним садом в задней части дома и было моей «тихой гаванью», моим местом воспоминаний, воспоминаний о счастливых и полных надежд временах. Если я не хотела, чтобы меня беспокоили, я могла там укрыться, и если я не могла больше находиться в своей постели, то ночевала там на софе. Я еще спала и не слышала звонок в дверь, когда они пришли. Наша экономка, фрау Шюр, уехала как раз делать покупки на выходные, так что открыла им Изабель. Иза, как ее всегда называли, что подходило ей гораздо больше, звучало в моих ушах всегда как «Eis», и точнее охарактеризовать ее было бы невозможно. Изабель Бонгартц, урожденная Торховен, толстенное бревно в моем глазу - вторая жена Роберта. Мне тяжело говорить о ней, как о жене моего брата. Она была причиной того, что в последние недели и месяцы я провела больше ночей на софе в моем Ателье, чем в своей постели. Моя комната была расположена рядом со спальней Роберта. Наш дом не отличался чрезмерной слышимостью. Стены можно было назвать как угодно, только не тонкими, но в моей комнате есть дверь, ведущая в комнату Роберта. И хотя с обеих сторон эта дверь закрыта шкафами, можно было очень хорошо слышать, как два человека в соседней комнате любят друг друга. Любят? Если бы все не так жутко было, если бы это не стоило в ночь на пятницу жизни моему брату, тогда, возможно, я могла бы над этим смеяться. Но, учитывая то, что происходило в браке Роберта, понятие «любовь» звучит здесь настолько же фальшиво, насколько фальшиво выглядело бы двухкаратное колечко на руке бродяги. Изабель никогда его не любила, ни единой секунды. Она его только использовала, чтобы вылезти из грязи и устроить жизнь по своему вкусу. Она полностью вскружила ему голову, обвела вокруг пальца со своим безупречным кукольным личиком, фигурой газели, молодостью и профессиональным опытом. Ей было только двадцать четыре года, на восемнадцать лет моложе меня, на одиннадцать – Роберта. Миниатюрная была она, почти как ребенок. «Моя маленькая ведьмочка» - звал ее вначале Роберт, наверное, из-за ее рыжей шевелюры или из-за ее способности подчинять себе человека, я не знаю. Это не играет уже никакой роли – «маленькая робертова ведьмочка» справилась со своей задачей – всего после четырех месяцев брака с моим братом, стать его вдовой. Я проснулась в пятницу перед полуднем от ее вопля. Пронизывающее «Нет!», что-то вроде, когда говорят, что кровь стынет в жилах. У меня определенно ничего не застыло, я видела Изабель насквозь. Она была продувным бесом с выраженной склонностью к театральности. Она с первого дня знала, как особенно легко меня можно достать. Поэтому я предположила только, что снова разбита дорогая вещица – одна из гипсовых масок, которые годы назад были сняты мною с лица Роберта, или одна из глиняных фигур, которые изображали его еще мальчишкой, или что-то другое - незаменимое, прикипевшее к моему сердцу. Я четко рассчитывала на то, что скоро она ворвется ко мне и будет извиняться, стеная и заламывая руки: «Миа, мне так страшно жаль, случилось по недосмотру...» Если я при этом бурно реагировала, можно было рассчитывать на приступ рыданий, также как и на заверение, что она это сделала не нарочно и готова платить издержки. При этом, обрати я ее внимание, что «издержки» невосполнимы, и что в любом случае она могла только нашими деньгами платить, она бы, громко всхлипывая, покинула Ателье и на выходе, наверное, еще бы пожелала узнать: «Что такого, в конце концов, я тебе сделала, что ты всегда меня бранишь?» Подобные сцены разыгрывались регулярно, большей частью в присутствии Роберта, поскольку в противном случае они не достигли бы своей цели. Впрочем, это происходило и тогда, когда его не было рядом, чтобы Изабель не утратила навыков. Сейчас Роберта не было рядом, я это знала. Еще во вторник он пообещал мне отвезти утром в пятницу мою машину в ремонт, и на него можно было положиться на все сто: что он обещал, то выполнял, даже если делал это без удовольствия. А на моей машине он ездил чрезвычайно неохотно и, кроме меня, вообще был единственным, кто мог ею управлять. Этот автомобиль был специально оборудован для женщины, которая располагала только одной рукой и, к тому же, левой. Всевозможные элементы управления находились в ногах. На первый взгляд это было чужеродно-пугающим, но ко всему, в конце концов, можно привыкнуть. Я привыкла быстро; стеклоочистители, фары, кондиционер, отопление, окна и прочее обслуживалось левой ступней. Ничто из этого не используется постоянно, и если не копаться там, где не нужно, тогда автомобиль управлялся так же, как и всякий другой. Я пользовалась им обычно ежедневно. Последний раз я была в городе во вторник и, когда выезжала, то не заметила на полу гаража большое масляное пятно. И хотя на обратном пути уже светилась контрольная лампочка, я все-таки доехала до места. А что мне еще оставалось? Остановиться, открыть капот и проконтролировать содержание масла? Это было бы делом непростым и не продвинуло бы меня, кстати, ни на метр дальше. Роберт сделал это за меня, когда я вернулась домой. «Здесь же почти уже ни капли масла», сказал он, покачав головой. «Как тебе вообще удалось на этом до дома добраться, для меня просто непостижимо». Он объяснил мне, что при этом могло бы произойти, говорил об обширной масляной пленке и заедающих колбах. Я, совершенно не разбираясь в технике, понимала только наполовину, и, кроме того, все равно ведь ничего не случилось. Под конец мы оба смеялись. Я собиралась тогда сразу, на среду, вызвать службу технической помощи, но Роберт посчитал, что это излишне - он все лично уладит. После его исчерпывающей лекции я не совсем понимала, как он себе это представляет. «Ты мне только что объяснял, что на этой машине нельзя больше ехать без того, чтобы полностью не разрушить мотор, так как же ты собираешься доставить ее в мастерские?» Роберт все еще улыбался: «Получится. Нужно только залить достаточно масла – литр, лучше два – тогда получится. Да это и не так далеко». Он предполагал дефект, причем возникший совершенно неожиданно. Только за день до того, в понедельник, машина была на техосмотре, они мне также масло сменили, и все было в порядке, а сейчас капало даже при выключенном моторе. Роберт считал, что это масляный фильтр. «Похоже, в нем дырка», сказал он. А для этого, по его мнению, существовало только одно объяснение: что в мастерских напортачили во время инспекции и, возможно, что-то повредили. Поэтому он хотел лично переговорить и добиться признания ошибки, ее исправления и извинения. Конечно, ошибки могут случаться как в мастерской, так и на любом другом предприятии, только я почему-то не могла себе это представить. Я бы предпочла, чтобы Роберт отогнал машину в ремонт сразу в среду или в четверг для меня не иметь ее в распоряжении означало застрять на два дня дома и, возможно, еще терпеть общество Изабель. К сожалению, у Роберта не было времени. Ранним утром в среду он уехал во Франкфурт, не сообщив мне, что он там собирается делать. Деловой чисто теоретически эта поездка быть не могла; финансовые сделки он всегда оговаривал со мной хотя бы уже потому, что по любой сделке должен был иметь мое согласие. Возможно, конечно, что он находился на стадии переговоров и не хотел меня этим обременять. В четверг Роберт тоже не мог выкроить время, чтобы заняться моей машиной. Утром у него была встреча, о которой он мне также ничего не сообщил. После полудня он встречался с Олафом Вехтером, нашим консультантом по налогам. А в пятницу явилась полиция. Мне было плохо этим утром. Несколько последних дней были очень скверными для меня. Вечером во вторник я была, пожалуй, чересчур возбуждена. Сначала это дело с моей машиной. Внезапно обнаруженный дефект – небрежная работа мастерских! Это было смешно. Я бы прозакладывала свою левую руку, что мой автомобиль был злонамеренно поврежден с единственной целью – держать меня дома и иметь возможность играть на моих нервах. Но когда я, в присутствии Роберта, позволила себе сделать намек в этом направлении, он посмотрел на меня так подавленно и растерянно... Я хорошо знала этот взгляд. Облеченным в слова, это бы означало: «Ну, подумай разумно, Миа. Кому это нужно – вывести из строя твою машину?» Ну, кому же еще! Этому проклятущему бесу, этой вероломной стерве, которая не упускала ни одной возможности, чтобы не выставить меня в идиотском свете и не заклеймить сумасшедшей. Но об этом, конечно, Роберт не желал ничего знать. Если же я говорила открыто, ответом было только страдальческое: «Миа, пожалуйста...». И потом эта его поездка во Франкфурт, которую он так «засекретил». Он очень нервничал, что и меня, понятно, встревожило. Я спрашивала его многократно, что он собирается там делать: «В свое время ты еще узнаешь об этом, Миа». У Роберта никогда не было от меня тайн, и, если он теперь начал что-то скрывать, у него должны были быть на это причины. Веские причины. Я не могла исключить, что этой подлой бабе удалось его убедить. Миа совсем лишилась рассудка, у нее паранойя, все ей угрожают, ее преследуют, она становится опасной для самой себя и для окружающих. Мне было страшно. Очень страшно. В последние недели в доме случилось несколько некрасивых инцидентов, и это были уже не просто осколки фигурок или разбитые гипсовые маски. И неожиданно появилась эта книга в библиотеке. «Душевные болезни, их симптомы и возможности лечения». В ночь на среду я не могла заснуть и часами ломала себе голову, почему Роберт так нервничал перед этой своей таинственной поездкой во Франкфурт, был ли он действительно настолько слеп, что не видел плохую игру, которую разыгрывали с нами обоими, и не была ли эта книга началом последнего акта. Может быть, Изабель надеялась - Роберт заглянет внутрь и поймет, что ее личное мнение полностью подтверждается суждением некоторых специалистов. Может быть, он туда уже заглянул и хотел во Франкфурте проконсультироваться с каким-нибудь психиатром... У меня перед глазами стояло его лицо - эта напряженность с налетом разочарованности, опущенные углы рта. Непроизвольное сравнение пришло мне в голову: человек между двумя мельничными жерновами, мужчина между двумя женщинами. Роберт - между мною и Изабель. Я бы с такой радостью ему помогла. Но у меня всегда был только один совет: «Выгони ее, наконец, вон!» При этом я знала, что у Роберта никогда не хватило бы духа даже уличного кота за порог выставить. Даже если бы этот кот непрерывно на него набрасывался, он не выкинул бы его на улицу, а подумал о каком-нибудь более гуманном выходе. Он был слишком чувствительный и добродушный. Только около шести утра мне удалось заснуть, а проснулась я несколькими часами позже с жутчайшей головной болью. Вся моя голова была будто наполнена расплавленным свинцом, я не могла ни дышать, ни думать, но делала, конечно, и то, и другое. И каждый вздох взбалтывал жидкий свинец, а думала я только о том, что я хочу быть мертвой, избавленной от страха и мучений. Со времени автомобильной катастрофы шесть лет назад на меня нападали с неравномерными интервалами ужасные атаки боли. В первые два года после аварии почти ни одной недели не проходило без этих приступов. Тогда это называлось – последствия перенесенного сотрясения мозга. В то время я принимала клирадон, медикамент, прописываемый только при очень сильных болях – при раке, например – и который содержит морфий. Уже через короткое время я стала зависимой, за чем последовало длительное пребывание в клинике и потом психотерапевтическое лечение. Это было отвратительное время еще и потому, что внезапно это означило – для моих болей нет никакой органической причины; причина находится в моем душевном состоянии. Я уже не знаю, у скольких врачей с тех пор побывала. Один прописывал одно, другой назначал другое – моя голова должна была тогда значительно улучшить товарооборот в фармацевтической промышленности – я проглотила целую ассортимент микстур и пилюль. Иногда я казалась самой себе подопытным кроликом. Но ничего не помогало. Пару месяцев назад мне снова выписали клирадон, но не дали при этом в руки рецепт. Роберт должен был его забрать и поручиться, что я буду получать по одной капсуле только в самом крайнем случае. Это был именно такой крайний случай, а Роберта не было дома. Когда я проснулась, он был уже на пути во Франкфурт, может быть, уже и приехал, а я не знала даже, что означала эта поездка. До полудня я пыталась сама себе помочь, настолько хорошо, насколько это было возможно. Сначала я искала в кабинете Роберта капсулы клирадона и, вместо своего медикамента, нашла ссылки на некоторые его деловые встречи. По одной записи я поняла, что он собирается встретиться во Франкфурте с каким-то маклером, только при этом я не думала о том, что речь могла идти о недвижимости. В конце концов, я вообще ни о чем не думала, мне было слишком плохо, к тому же, во Франкфурте была биржа, так что речь могла идти только о финансовых делах. Там было также имя упомянуто, только я не могла понять, идет речь об имени маклера или о какой-то другой встрече. В ванной или в спальне Роберта я искать не хотела. Изабель бы тогда снова стала утверждать, что я рылась в ее личных вещах. Вместо этого я позволила фрау Шюр заварить мне громадное количество кофе. Я пила его целый день вместе с солью, лимонным соком, бутылкой водки и шестью таблетками аспирина, но без малейшего намека на облегчение. Я даже от водки ничего не чувствовала, абсолютно ничего – она пилась, как вода, и была такой же на вкус. Фрау Шюр считала, что с моими вкусовыми нервными окончаниями что-то не в порядке – она сделала глоток и уверяла, что у нее печет в горле. Когда в среду поздно вечером Роберт, наконец, вернулся домой, он не хотел мне давать никаких капсул. «Будь благоразумна, Миа», сказал он. «Ты уже приняла шесть таблеток, к тому же ты выпила, и я не могу взять на себя такую ответственность. Ну, попробуй разок ради меня обойтись без этой дряни, я уверен, что ты справишься». Он массировал мне затылок, спину и кожу головы. Пока он массировал, это было еще переносимо, когда же перестал, боль вернулась с удвоенной силой. «Что ты делал во Франкфурте?», спросила я. Роберт улыбнулся. Это была нерадостная улыбка, Бог - свидетель. «Мы поговорим об этом, когда тебе будет лучше», сказал он. Но пока что мне не было лучше. Также и в ночь на четверг я лежала без сна в своей постели, и мне хотелось только одного – биться головой о стену. Каждый шорох в доме отдавался в моей голове ударами тысячи молотков. Роберт и Изабель разговаривали больше часа в соседней комнате. Говорили они тихо, деталей я не могла разобрать, дважды я слышала свое имя, и многократно повторялось имя Йонаса. Так что снова речь шла обо мне и о моих напряженных отношениях с братом Изабель. Да, именно так! Видит Бог, мне приходилось не только с ней одной иметь дело. Уже в течение шести недель мы жили вчетвером в этом доме. Две сестры, два брата, Роберт и я, Изабель и Йонас Торховен - одна супружеская пара и два инвалида. Йонасу досталось еще больше, чем мне. Я могла, по крайней мере, передвигаться и идти, куда я хочу. Я могла сесть в свою машину и уехать, когда становилось совсем уж невыносимо или от самой себя тошно, при условии, конечно, что мой автомобиль не истекал моторным маслом. Йонасу ничего из этого не было доступно – он сидел в инвалидной коляске. Он был исполином, впрочем, его рост я могла только предположительно оценить – около двух метров, наверное. От бедер вниз он был парализован. Его инвалидность, как и моя, была следствием дорожной катастрофы, но он не мог примириться со своим положением. Он проводил дни со всякими гантелями, эспандерами и прочим хламом, а ночи напролет смотрел порнофильмы. Он называл это «погружаться в воспоминания». Ну да, ему был только тридцать один год, и он был очень привлекательный - плечи как у боксера, мускулистые руки. Он был, как и Роберт, темноволосый, с характерным лицом, до половины заросшим густой бородой. У него были тонкие губы и беспокойные глаза, в которых было что-то скрытное и злое. Почему не сказать прямо? Он мне не нравился, он мне не нравился так же сильно, как и его младшая сестра. Для меня оба они были незваными гостями и разрушителями. Пока не появилась Изабель, мы с Робертом жили спокойно и счастливо, а потом она привела в дом еще и этого колосса. Вначале я его жалела, я не была с самого начала против него настроена, действительно нет. Я знала по собственному опыту, каково это, когда жизнь вдруг будто на кусочки разваливается. Когда мы получили известие о несчастном случае, я даже ратовала за то, чтобы он у нас поселился. Я думала, он может повлиять на Изабель, воззвать к ее совести и удержать ее от встреч с «друзьями», которых мы никогда не видели в лицо. Трагическое заблуждение по всем, кроме последнего, пунктам. После появления Йонаса в доме, с визитами к друзьям было покончено. В остальном же он как будто сразу решил обделывать совместные делишки со своей сестрицей. Но так ведь всегда и бывает, когда речь идет о деньгах. И если речь идет об очень больших деньгах, то некоторые люди забывают всяческие угрызения совести, и жизнь человека, не обидевшего даже мухи, который всегда старался жизнь другим уютнее и легче устроить, не стоит и ломаного гроша. В четверг Роберт тоже не хотел дать мне клирадон. Он очень рано уехал и к обеденному времени не появился. Я прождала его все это время. Изабель дважды заглядывала в мою комнату, осведомляясь с лицемерным сочувствием, не может ли она мне чем-то помочь. В первый раз она предложила свои услуги в поисках клирадона, во второй хотела навязать мне какое-то гомеопатическое средство, которое ей когда-то так хорошо помогло. Она была даже готова быстренько съездить за ним в город, в аптеку. «Не трудись», сказала я. Бог знает, что бы она мне намешала, вероятно добавив туда же щепотку «средства от сорняков», с которым годы назад мы боролись против одуванчика на газонах. После полудня я несколько раз звонила в бюро Олафа Вехтера. Его секретарша всякий раз мне объясняла, что обоих мужчин в бюро нет – они встречаются где-то в городе. Значит, это не могли быть разговоры о налогах, такие дела не обсуждаются в ресторане, это делается в конторе, где многочисленные документы всегда находятся под рукой. Я чувствовала себя такой беспомощной и покинутой... Пока я лежала в постели и не знала куда деваться от боли, двумя комнатами дальше веселилась Изабель со своим братом, они потешались от души над моим плачевным состоянием – пару раз я слышала громкий хохот. К вечеру я больше не могла этого выносить. Роберта все еще не было дома, так что я заказала такси, оделась и вышла из комнаты. По лестнице, мне навстречу, поднималась Изабель. Она несла на подносе ужин для себя и своего «больного», что она почти всегда делала лично, так же, как и завтраки с обедами. Никто кроме нее не должен был приближаться к этому неотесанному чурбану, даже фрау Шюр. Даже его постельное белье меняла Изабель собственноручно, она мыла ему задницу и драила его ванну, чтобы ничьи чужие глаза не наслаждались его беспомощностью. Это было просто смешно, какой театр она вокруг него разводила. При виде меня она застыла на месте. «Ты хочешь ехать, Миа? Роберт говорил, твоя машина не в порядке». Когда я на это не отреагировала, она захотела узнать: «Значит, ты чувствуешь себя уже лучше? Не знаешь, где я могу найти Роберта? Мне нужно с ним срочно переговорить». Я не обращала на нее внимания, такси стояло уже перед дверью. Я велела отвезти меня в «Сезанн», маленький интимный бар, где отлично шли дела. Половина этого бара принадлежала нам, и я бы с удовольствием выкупила и вторую половину, на что Роберт все никак не мог решиться. Всякий раз, как я заводила об этом речь, то слышала в ответ: «Дай мне сначала пару других вещей урегулировать, Миа. Когда у меня будет время спокойно этим заняться, тогда и поговорим». Этого времени я могла вечность ждать. Я часто бывала в «Сезанне», чувствовала себя там хорошо. Многочисленные столики были заняты, когда я приехала, но сидеть мне так и так не хотелось после того, как я пролежала почти два дня. Программа-стриптиз и не из дешевого сорта еще не началась. Девушки в «Сезанне» были все тщательно подобраны, и среди них не было ни одной, которая бы в конце шоу, за отдельную плату, предоставляла какому-нибудь гостю особые услуги. С Сержем было по-другому, но и я тоже была не «каким-нибудь» гостем. Серж Хойзер был управляющим в «Сезанне», но стоял иногда и за стойкой, когда было настроение. Красивый парень того же возраста, что и Роберт, даже внешне он был на него сильно похож. Их можно было принять за братьев, правда Серж был немного плотнее, к тому же он не имел антипатии к удовольствиям жизни – скоростной автомобиль, дорогие часы, шикарный отдых в эксклюзивных местах. Ко всему у него было особенное хобби, он коллекционировал Государственные займы - на старость, как он говорил. Я встала к нему за стойку - нужно было клин клином вышибать. Я проделывала это часто в последние месяцы при помощи «специальных напитков», которые Серж смешивал только для меня. Они были намного крепче, чем водка, а на закуску – крепкий молодой мужчина. Если это и не помогало против болей, так по крайней мере, я знала на следующий день, отчего мне так плохо. После четвертого или пятого стакана жар из моей головы частично переместился в желудок. Думать я больше не могла. Но мало помалу я начинала чувствовать себя снова по-человечески, а пока что пила дальше. Вскоре после полуночи Серж сменился за стойкой, и мы поднялись наверх. Серж занимал над «Сезанном» маленькую квартирку, состоящую только из двух комнат – гостиной с кухонной нишей и спальни, рядом с которой находилась душевая. Сначала Серж помог мне принять душ, потом отвел в спальню. Он никогда не разводил особых церемоний; он изучил меня достаточно и точно знал, что мне нужно, когда я была в таком состоянии. После этого он позвонил Роберту, и Роберт приехал меня забрать. Я точно не знаю, насколько поздно уже было, может быть, два часа ночи, или немного раньше. Но это не могло быть много раньше двух пополуночи. Я уже ничего больше не знала... Когда Изабель спустя бесконечно долгие минуты после своего вопля вошла ко мне в Ателье, когда она сказала: «Выйди, пожалуйста, Миа. Здесь два господина из полиции, они хотят с тобой поговорить», в тот момент я не знала, как я вообще оказалась на этой софе. Все, что я еще отчетливо помнила, это небольшая ссора с Сержем. Я просила его об одном одолжении, а он упирался. Еще я помнила, что после я снова была в душе, но о каком одолжении я Сержа просила, совершенно выпало из моей памяти. Мое платье валялось на полу, оно было смято и выглядело влажным. Изабель хотела помочь мне одеться, чтобы не заставлять господ долго ждать, как она сказала. Я оттолкнула ее руки. Она была последним человеком, которому бы я позволила к себе прикоснуться. После ее криков самообладание должно было вернуться к ней сравнительно быстро. Я видела, что ее руки дрожали, и она постоянно кусала губы, в остальном же выглядела вполне спокойно, и уже только поэтому я не могла себе представить, что могло случиться что-то плохое. Конечно, я спрашивала себя, что этим господам от меня нужно, думала, возможно, на прошлой неделе я проехала на красный свет или не заметила «стоп»-знак. Где-то с месяц назад у меня уже были неприятности с одной служащей из полиции. Она не хотела признавать моего права воспользоваться «стоянкой для инвалидов», утверждала, что это мол, только для тех, кто в инвалидной коляске. То, что у меня один такой дома сидит, она сочла наглым ответом, после чего я ей объяснила, что я под «наглым» ответом понимаю. Теперь я предполагала, что это ограниченное существо подало жалобу об оскорблении. А Изабель сказала: «Речь идет о Роберте». Это не пугало и не звучало угрожающе. Это была только не имеющая значения фраза, как если бы это Роберт проигнорировал светофор или обругал полицайку. И честно говоря, я еще не настолько пришла в себя, чтобы из одной мимоходом оброненной фразы выводить страшные заключения. Идя за Изабель в зал, я бросила мимолетный взгляд в зеркало. Я выглядела ужасно – как кто-то, кто пропьянствовал всю ночь напролет. Набрякшие веки, покрасневший левый глаз, а правый – неподвижный. Правый не мог больше покраснеть, он был из стекла. Волосы висели спутанными прядями, лицо было одутловатым, и шрамы на правой половине выглядели зазубренными молниями. Ночью Серж сделал по этому поводу замечание. Он спросил, когда мы поднимались наверх, в его квартиру: «Что, малышка снова тебя раздразнила?» И сразу же пояснил: «Твое лицо предвещает бурю, так что позабочусь-ка я об улучшении погоды». После этого он смешал мне еще один напиток. Только тогда я снова вспомнила, что я еще что-то пила, прежде чем мы отправились в душ, и Серж ухмылялся, когда я взяла стакан: «Послушно до дна выпить», потребовал он, «и тогда скоро ты полетишь, Миа». Еще я припоминала, будто Роберт тоже что-то сказал о моем лице или моем состоянии в то время, когда мы ехали, или позже, дома. Но, при всем желании, я не знала, не вообразила ли я все это. Изабель шла передо мной к библиотеке, куда она провела обоих мужчин. Неожиданно она выглядела уже совсем по-другому, какой-то сгорбленной и запуганной. Она уже не шла, а кралась – с опущенными плечами и втянутой головой, как будто ожидая удар в спину. И хотя ее странная манера сразу бросилась мне в глаза, я не придала этому особого значения и не видела здесь ничего, кроме представления на публику. Двое господ из полиции. Вдруг я подумала о своей машине и о несчастном случае, и у меня подкосились ноги. «Что такое с Робертом?», спросила я. Вверху на галерее стояла инвалидная коляска - Йонас с интересом смотрел в зал. Изабель ответила, даже не обернувшись: «Он мертв». И тогда она начала всхлипывать. О чем думаешь в такой момент, когда ты вообще не в состоянии еще нормально думать? Он мертв! Это было так абстрактно... Это было невозможно, абсолютно исключено. Это могло быть только трюком, чтобы поставить меня на колени перед свидетелями. И тогда – путевка в психушку. Оба мужчины уютно расположились в креслах. Старший поднялся, когда мы вошли. Он был примерно с меня ростом и очень коренастый. Думаю, ему было около пятидесяти пяти. Он представил себя и своего спутника. Его звали Волберт, просто Волберт. Свой служебный чин он не назвал, что еще больше укрепило меня во мнении, что Изабель какую-то чертовщину задумала. Имя другого я тут же снова забыла, он был еще очень молод, в джинсах и кожаной куртке. У него были светло-соломенные волосы и куча веснушек на лице и руках. И он был очень светлокожим, с розоватым оттенком. Мальчик – кровь с молоком, здесь даже кожаная куртка не спасала. Волберт был олицетворенным спокойствием. Молочный мальчик, напротив, не знал куда руки девать. Он перемещал их из карманов куртки в карманы брюк, вытаскивал обратно, массировал пальцы и теребил пряжку пояса. Его взгляд отражал неуверенность. По всей вероятности его шокировала моя внешность. Он уставился на меня, будто произошла у него зловещая встреча с существом неизвестного вида, с чем-то противнослизистым, о котором наука старалась нас убедить, что оно располагает определенной разумностью, в противном случае оно вряд ли смогло бы совершить путешествие к нам со своей планеты. Как же я ненавидела этот взгляд! Осторожность в глазах, как крупногабаритный «стоп»-знак на улице преимущественного проезда, а на лбу стоит - «Ах ты, срам какой», прописано. И на языке вертится с полдюжины вопросов: «Как же это случилось? Как живет человек с таким лицом? И вообще – разве это жизнь?» Нет, проклятье, это уже давно не было жизнью! У него были серые глаза, очень светлого, почти водянистого оттенка, с темными ободками вокруг радужной оболочки. Странно, на что обращаешь внимание в такой ситуации. Когда каждый нерв дрожит от напряжения, когда пульсирует каждая клеточка в мозгу: только не сделай сейчас ни одной ошибки, Миа. Одно неверное слово, один необдуманный жест, и ты будешь сидеть в смирительной рубашке... Если бы только в этом дело было, легче было бы это перенести. Волберт исходил, вероятно, из того, что Изабель меня уже подробно проинформировала. «У нас есть к Вам пара вопросов», начал он. Естественно, у них была масса вопросов. Были ли у Роберта враги - но это было позже. Вначале я вообще не знала, что он хотел от меня услышать. Весь мой рассудок был зафиксирован на «принудительном направлении на лечение», все прочие мысли были выключены, так же, как и понимание происходящего. Я могла слушать, но не постигала при этом смысла. Волберт поинтересовался, когда Роберт покинул ночью дом, известно ли мне, с кем он хотел встретиться. Вместо меня ответила Изабель голосом, то и дело прерывающимся тоненькими всхлипами. Она была великолепна в своей роли, разыгрывала потрясенную молодую вдову с такой достоверностью, что даже опытный психолог не испытывал бы сомнений в искренности ее чувств. А я все еще осмысливала вопрос Волберта. Ночная встреча? Чепуха. Внезапно я снова увидела себя лежащей на кровати в спальне Сержа. Серж стоял у телефона - красивый и обнаженный, мускулистый и волнующий. Я слышала его голос: «Сейчас не выдумывай, Миа, одевайся, наконец. Проклятье, не могло же тебя в самом деле так разобрать». Что он мне дал, этот маленький мерзавец? Он должен был что-то добавить в последний напиток. «Послушненько до дна выпить, Миа, и ты полетишь»... И я полетела прямиком в рай тысячи удовольствий, и когда я на его постели лежала, я еще не совсем вернулась на землю. Серж сказал в телефон: «Привет, Роб, это я». Он коротко улыбнулся, покосился на меня и сказал: «Точно, Роб. Извини, что я беспокою, но она чувствует себя плохо, и ты же знаешь, как это. Если я ее в таком состоянии посажу в такси, она поколотит водителя». Потом, прислушавшись, заверил: «Нет, Роб, правда нет. Ни капли водки». И прежде, чем трубку положить, добавил: «Ах, чуть не забыл. Она уже не в баре, я ее привел наверх, так мне вернее казалось. Внизу полно народу, и лучше избежать разговоров». Роберт приехал, конечно, он сразу приехал. Он всегда приезжал сразу после звонка Сержа. Он даже и не сердился на меня, не упрекал, что из-за меня его разбудили. Он спросил, есть ли еще у меня боли, сам при этом был какой-то рассеянный и дал мне клирадон прежде, чем я успела ему ответить. Потом он еще с Сержем беседовал. Не знаю, о чем – я не следила за этим, да была и не в состоянии прислушиваться. Наконец, Роберт взял меня под руку и помог спуститься по лестнице. Мы пошли к заднему выходу, это я еще помню. И больше ничего. Blackout. Свет выключен, опущен занавес. Одним стаканчиком больше, куда добавляется какая-то дрянь, возможно, «экстази», потом капсула клирадона, которой одной уже достаточно, чтобы вывести человека из строя... До меня постепенно доходило, что вопросы Волберта не были направлены на выяснение моего душевного состояния, они осторожно кружили вокруг того, что уже произнесла Изабель. Роберт мертв. Я могла это думать. Но я не могла этого чувствовать. Изабель все еще говорила голосом человека, с трудом сохраняющего самообладание. Ее всхлипывания, между тем, прекратились, и теперь она терзала бумажный носовой платок, которым до того промокала глаза. Она рассказывала о двух телефонных звонках, первый из которых вытащил Роберта из постели сразу после двух часов ночи. Он поднял трубку в спальне, потом оделся и сказал ей только, что должен еще раз уехать. Второй раз позвонили, когда Роберт спускался вниз. Это был телефон в его кабинете, подключенный к другой, служебной линии. В доме было много телефонов и две линии подключения – для личного и для служебного пользования. В зале была главная точка подключения линии личного пользования, которая обслуживала еще четыре параллельные точки. Одна была в спальне Роберта, другая в моей комнате, потом еще одна в кухне и, наконец, в моем Ателье. К служебной линии был подключен только один аппарат – телефон на письменном столе Роберта. Он был оснащен автоответчиком, который Роберт включал всякий раз, выходя из комнаты. При закрытой двери, когда звонил этот телефон, не было почти ничего слышно, если только не проходить непосредственно перед дверью в этот момент. Уже поэтому то, что утверждала Изабель, было абсолютно невозможно. То, что она могла что-то слышать, находясь на втором этаже, было полностью исключено. В лучшем случае, Роберт обратил внимание на звонок, проходя через зал. Она утверждала, что он прошел в кабинет и поднял трубку. Кто звонил, она якобы не знала, Роберт уехал без объяснений. Волберт находил это необычным, он хотел знать, часто ли такое случалось, что Роберта вызывали ночью из дома, и на следующее утро он еще не возвращался. «То, чтобы утром его еще не было, никогда до сих пор не происходило», сказала Изабель. «Я думала, это связано со вторым звонком, что это должно быть с делами связано, а о делах мой муж со мной не говорил. Что касается первого звонка - да, такое часто случалось, и Роберт сразу же уезжал. Куда, он не говорил, но этого и не требовалось». На последней фразе она немного повысила голос и, чтобы это еще подчеркнуть, бросила на меня взгляд, из чего Волберт, если хотел, мог делать свои заключения. Мне было так плохо. Было так утомительно все это переваривать и собирать мысли в кучу. Это был акт по испытанию нервов на прочность. Они были натянуты до последнего предела, и струна вот-вот должна была лопнуть, но каким то образом мне удалось сохранить равновесие. Первый звонок я взяла на себя. Я объяснила, что провела вчерашний вечер в «Сезанне» - нужно было обсудить кое-что с управляющим. Это было правдоподобно, они всегда могли проверить, что бар наполовину принадлежал нам. Я сказала также, что это я попросила управляющего позвонить моему брату, чтобы получить его одобрение в одном небольшом вопросе по изменению в составе персонала. И поскольку я чувствовала себя не совсем хорошо, Роберт предложил, что он сам быстренько подъедет и заодно отвезет меня домой. Все остальное полиции не касалось. С кем я ложилась в постель, было моим личным делом, об этом даже Роберт ничего не знал. А на Сержа я могла положиться, он бы ни за что не признался, что все в жизни имеет свою цену. Молочный мальчик не спускал с меня глаз, но всякий раз, как я пыталась поймать его взгляд, он смотрел в пол, как будто стыдился. Волберт был дружелюбный, чуткий, но, в то же время, напористый. Он констатировал, что вопрос о персонале не обязательно должен решаться ночью, даже если речь идет о персонале ночного клуба, так что, вероятно, у меня была другая причина побеспокоить моего брата вместо того, чтобы вызвать такси. Да, проклятье! Тошнота и головная боль. В таком состоянии я не особенно хорошо переносила езду на машине, и мне не улыбалось объясняться с посторонним и просить ехать помедленнее. Кроме того, у моего брата был медикамент, в котором я нуждалась при сильных головных болях. Этого объяснения ему было достаточно. «Говорил ли ваш брат во время поездки что-нибудь о втором звонке?», хотел он знать. «Нет», сказала я. Возможно, Роберт что-то сказал, но я об этом не помнила. Конечно, это так и было, он рассказывал мне обо всем необычном, и звонок по служебной линии в два часа ночи был более чем необычным. По существу, это было просто исключено. «Что вы делали, когда вернулись?», спросил Волберт. Откуда я должна была это знать? Я даже не знала, как мы доехали. «Я сразу же легла», сказала я. Изабель округлила полные протеста глаза и уставилась на меня, сжав губы и качая головой. Но, по крайней мере, она молчала, а оба мужчины были сосредоточены на мне. «А ваш брат», спросил Волберт, «что делал он?» Обычно Роберт, когда ему приходилось забирать меня от Сержа, укладывал меня в постель и оставался со мной до тех пор, пока не был уверен, что я заснула. Только вот сегодня я проснулась не в своей постели. Но, возможно, это ничего не означало. Возможно, Роберт только подумал, что в Ателье мне будет спокойней. «Он оставался еще несколько минут со мной», сказала я. «Потом он поднялся наверх». Он должен был подняться наверх, куда же еще в середине-то ночи? Изабель снова покачала головой и объяснила: «Мой муж не вернулся в спальню, он снова уехал. Это было около половины третьего. Когда он уехал из дома в первый раз, я снова заснула и проснулась, когда они вернулись. В зале они еще продолжали разговаривать друг с другом». Она снова уставилась на меня, как будто хотела загипнотизировать своим взглядом. На что намекала эта мерзавка? Молочный мальчик разглядывал обложку книги. Она лежала прямо посередине стола. «Душевные болезни, их симптомы и возможности лечения». Я не была душевно больной, только мои нервы были на пределе. Они справились с этим: довести меня до такого состояния – она и ее (ах!) такой беспомощный братец. Волберт делал пометки... Еще продолжали разговаривать друг с другом! Если она это слышала в спальне, да еще и проснулась от этого, мы должны были очень громко разговаривать. Получается, я устроила Роберту сцену, поскольку он не хотел мне сказать, зачем он ездил во Франкфурт, что он до полудня в городе делал, и о чем после с Олафом Вехтером разговаривал. Этого я не могла себе представить. «Возьми себя в руки, Миа. Господи, ну будь же благоразумна, прекрати представление и послушай меня». Это был голос Роберта, блуждающий в моей голове. Когда он потребовал, чтобы я его слушала? Уж это-то я не могла себе только вообразить. «О чем же вы разговаривали?», спросил Волберт. В этот момент до меня дошло, что Роберт еще раз ко мне заходил, и не один. Я помнила это отчетливо. Его рука на моем плече – никакого встряхивания, только легкий нажим, и его шепот над моим ухом. «Миа, ты спишь?» Потом слабый гортанный смешок: «Она спит, как сурок». Я уже немного протрезвела и постепенно выныривала на поверхность. Я была еще не совсем наверху, и было слишком утомительно раскрывать глаза и ему отвечать. Ответ дала Изабель от двери каким-то хриплым торопливым шепотом. «Ты с ума сошел? Хочешь ее разбудить?» Он снова рассмеялся, на этот раз немного громче и глуше, удаляясь при этом от меня. «Не беспокойся, так быстро она не проснется, не в таком состоянии. С того, чем она вчера накачалась, мы оба могли бы целую неделю праздновать». После этого дверь закрылась. Я один раз моргнула, заметив первую бледную полоску дневного света, и сразу снова провалилась. Это должно было быть между четырьмя и пятью. Вспоминать об этом было больно. В его голосе было столько пренебрежения, столько равнодушия, обычно он никогда так со мной не разговаривал. Может быть, он так поступил потому, что она была рядом и хотела это слышать. Может быть, ведя себя таким образом, как будто он был на ее стороне, он хотел мне обеспечить немного покоя от ее придирок. А теперь он был мертв. Это все еще было так абстрактно, никоим образом не реально. Они все еще разговаривали об этой ночи. Почему Изабель утаила, что Роберт был еще раз, вместе с ней, у меня рано утром? Для этого могла быть только одна причина. Понимание пришло так внезапно, что у меня перехватило дыхание. Конечно, Роберт вернулся назад после этой второй поездки, и она его подкараулила. Она подумала, что эта таинственная ночная встреча предоставляет исключительно благоприятную возможность, так что не могла со спокойной душой смотреть, что он еще раз хотел ко мне зайти. Отсюда паника в ее голосе: «Ты хочешь ее разбудить?» Этого нельзя было допустить. Миа должна была спать, как мертвая, ничего не слышать и не видеть. Но Миа слышала немножко – их голоса и шаги на лестнице, шаги обоих, нужно заметить. Роберт вместе с ней поднялся наверх. Она убила его в его же собственной спальне! Где его нашли, не имело никакого значения. Изабель выглядела, как если бы она могла только сумочку с чековой книжкой поднять, но это было обманчивым впечатлением. Женщина, которая носится ежедневно с великаном, весящим, предположительно, пару центнеров, стащит также и мертвеца вниз по лестнице, погрузит его в машину и отвезет в какое-нибудь уединенное место. Полиция должна была «разобрать по камешку» его спальню, обследовать его тело на соответствующие повреждения – ссадины, гематомы. Могли ли появиться гематомы после наступления смерти? Не важно. Я хотела объяснить это Волберту, но он мне только улыбнулся, как-то по-доброму и с пониманием. А в моей голове стучало: Роберт умер. Он мертв! Тут только дошло до меня, наконец, почему они здесь сидели. Двое господ из полиции. Двое мужчин в гражданской одежде. Двое служащих из Комиссии по расследованию убийств. Волберт и молочное личико, производившее впечатление, как будто оно не переносило солнечный свет и никогда не разжимало зубов. Изабель подпрыгнула и побежала к телефону, когда я начала кричать. Я соскользнула с кресла на колени, это я еще чувствовала. Я билась лбом об пол, и это я еще чувствовала. И я не могла перестать кричать, просто громко и нечленораздельно кричать. Мне было ужасно жарко, и когда я снова хотела выпрямиться, то книжная стенка завалилась вправо вместе со всеми своими пухлыми томами. Потом было темно и пусто. Роберт был мертв, а я не могла без Роберта жить. Я и жить-то начала только, когда он родился... Вторая глава До семи лет жизнь для меня протекала бессмысленно и однообразно. Отец женился поздно, и мать была болезненной. В моих воспоминаниях она – блеклое, пресное Нечто, которое я никогда не смела тревожить, которое постоянно нуждалось в покое. Для меня было отдыхом, когда мать на пару месяцев исчезала в санатории, а когда она снова возвращалась, я не могла ни бегать, ни прыгать, ни скакать, ни кричать, ни смеяться, ни плакать. Всегда это означало: «Тш-ш, Миа, не так громко, мама спит». Различные экономки, чередуясь друг с другом, определяли мою жизнь в соответствии с отцовскими указаниями. Отсутствие постоянного воспитателя, как это называется в психологии. Когда мне было пять, к нам переехала Лучия. Она появилась в качестве сиделки моей матери, которая после этого прожила только около полугода. Это не означало – Боже, упаси – что Лучия каким-то образом ускорила ее смерть. Все и так уже шло к концу, и Лучия была последней, кто заботился об этом жалком человеческом существе, мыл его и кормил, и отирал пот со лба, если на материнском лбу вообще должен был появляться пот. Я об этом не знаю. За полгода я видела ее, возможно, еще три раза и только через открытую дверь, когда я проходила по галерее, а Лучия в этот момент выходила за чемнибудь из комнаты. Лучия была родом из маленького местечка около Мадрида, восемнадцати цветущих лет, решительная и терпеливая, воплощенная кротость, без малейшей пугливости или, тем более, отвращения перед всем, что было естественным и человеческим. Отец тоже понял это очень быстро. Лучия будто создана была для того, чтобы утешить мужчину, который, наверное, уже и не помнил, как это было – спать с женщиной. Когда он в первый раз лег в постель к Лучии, я могу только гадать, но ни в коем случае, пока еще жива была мать. Он был в этом отношении – как бы лучше сказать – закомплексован, зажат или же просто старого закала. Он держал свою клятву перед алтарем: «и пока не разлучит нас смерть». И, само собой разумеется, это было для него делом чести, жениться на молодой девушке и вернуть ей уважение, которого он ее лишил. Это был хороший год после смерти матери. Отцу было тогда уже сорок девять. А еще через год родился Роберт. Он был очень жизнерадостным ребенком и удивительно красивым, к тому же – и внешне, и внутренне. Он был, как и его мать, полностью неподдельный, добрый и терпеливый, мягкий и дружелюбный до последней жилки своего существа. И в этом никогда ничего не менялось. В моем представлении Роберт всегда был идеальным человеком, он сразу же стал для меня воплощением любви и защищенности. «Домом» было не место, где я жила; «быть дома» - означало для меня, находиться рядом с Робертом. Когда ночью я знала, что он в соседней комнате, то могла заснуть за несколько минут. Случалось Лучии забрать его к себе в постель, был он комнатой дальше, и тогда уже час проходил, прежде чем я находила покой. Отец занимался коммерцией и поэтому много разъезжал. От своего отца он унаследовал маленькое состояние и был очень занят тем, чтобы сделать из него большое. Он покупал и продавал все, что можно было купить и продать – акции, недвижимость, доли, паи. Я тогда не понимала, чем именно занимался отец, его дела не представляли для меня никакого интереса. Денег было всегда достаточно для того, чтобы воплотить все маленькие и большие мечты – в куклах, платьях и туфлях у меня никогда не было недостатка. В материальном отношении я никогда ни в чем не нуждалась, а об остальном заботился Роберт – когда он входил в комнату, у меня возникало чувство, что день становился светлее. Я помню еще, как мне приходилось в школе регулярно вступать в драку, когда ктонибудь говорил: «Он же только твой сводный брат». Еще ребенком я решила, что всю жизнь проживу рядом с ним. Я нуждалась в нем. Когда я сидела в темном подвале своих депрессий, он был единственным, кто мог меня обратно на дневной свет вытащить. Он должен был только находиться рядом, мне улыбаться, может быть, еще свою руку на мою положить или погладить меня по лицу, тогда мне было уже лучше. Как будто мог он уже одним простым прикосновением или улыбкой, передать мне часть своей спокойной силы, этой уравновешенности. Так же бывало и тогда, когда я впадала в ярость, когда я бы лучше все вокруг себя переколотила. Мне нужно было только услышать его голос, и я чувствовала, как внутри что-то расслаблялось, и мне становилось легче. И когда у меня в душе казалось все пересохшим, нежностью своей он возвращал жизнь в пустыню. Лучия быстро сдалась и прекратила заботиться о моем душевном равновесии. Она обращалась со мной, как с взрывным зарядом, очень осторожно и осмотрительно. Отец предпочитал, по возможности, не попадаться мне на дороге. Когда я достигла определенного возраста, он стал настаивать, чтобы я получила образование за границей. Он высказал в связи с этим некоторые предложения, представлявшиеся заманчивыми в его глазах. Когда ничто не помогло, он сослался на свой возраст. «Миа, я слишком стар, чтобы меня доводили каждый день до белого каления. С тобой ведь невозможно разумно разговаривать». После таких объяснений Роберт сидел около меня, держал за руку, гладил по щеке и буквально молил: «Не грусти, Миа. С тобой совсем не трудно, так только они считают. Я нахожу тебя замечательной и в полном порядке. И я тебя действительно очень люблю». Когда мне было двадцать, мы заключили компромисс. Отец купил небольшой участок в Испании и с тех пор проводил там большую часть времени - в мягком климате, как он выражался. Лучия, естественно, его сопровождала. Из четырех недель в месяц самое большее только одну они проводили дома, а в остальное время мы были предоставлены сами себе: Роберт и я. Ему было тринадцать, и он посещал школу. Я училась в Академии Искусств. Для ведения домашнего хозяйства отец нанял фрау Шюр. Тогда у нее была даже комната в доме, она обо всем заботилась и не делала нам никаких предписаний. Это было чудесное и беззаботное время. Когда я во второй половине дня приходила домой, Роберт часто еще был с друзьями на прогулке, но аккуратно к ужину он возвращался. После этого он, бывало, часами сидел на стуле неподвижно и с неизмеримым терпением, пока я его рисовала, формировала с него гипсовые маски, лепила из глины его голову и тело. И когда я, наконец, находила для себя идеальный материал, я высекала его из гранита и мраморных блоков. Сидя, лежа, стоя – фигуры различных размеров. Моим шедевром тех времен была «птичья поилка» для сада. Четырнадцатилетний мальчик в полный рост держит на вытянутых руках ландшафт с холмами и маленьким озером, что по нынешним представлениям может показаться безвкусицей, тогда же я так не думала. И еще сегодня я с гордостью могу сказать: «Это моя работа». Один раз в неделю мы давали по телефону отчет в Испанию: у нас все хорошо, мы со всем отлично справляемся, все в полном порядке. Так это и было. Так это было годами. Только я никому не могла бы объяснить, что Роберт значил для меня в это время, без того, чтобы не вызвать пару нелепых замечаний. Однажды, когда ему было семнадцать, я зашла воскресным утром в его комнату, чтобы его разбудить. Это было в августе, окно было широко раскрыто. Он лежал на постели, в ночной духоте полностью сбросив с себя одеяло, и на нем не было даже одних из этих маленьких трусиков. У меня к тому времени были уже некоторые любовные похождения за плечами, и я видела массу обнаженных тел - красивых и не очень, - что принадлежало к учебной программе. Тело Роберта мне было тоже хорошо знакомо – он достаточно часто позировал мне как модель, также и без одежды. И все это было всегда совершенно нормально и естественно. Брат и сестра, и никаких абсурдных мыслей. Абсурдных мыслей у меня не было и в то августовское утро. Как он тогда передо мной на кровати лежал, был он только олицетворением красоты и невинности. Он был просто совершенным - молодой человек, с подтянутыми формами, который с самим собой и с окружающим миром в полной гармонии жил и распространял вокруг себя мирную ауру. Мне хотелось в тот момент преклонить колени. После этого не было ни одного мужчины, которого я бы не сравнивала с Робертом. И не было ни одного, который смог бы выдержать это сравнение. Когда он в двадцать привел в первый раз домой девушку, я думала, что задохнусь. Это не было ревностью, даже если позже мне старались это внушить. Она была незначительным молодым существом – слишком пестрым, слишком кричащим, слишком поверхностным, чтобы очаровывать его больше двух дней. Но тогда я еще не знала, насколько быстро он может распознать то, что под поверхностью скрыто, и мне было страшно, мне было панически страшно. Я хотела, чтобы он был счастлив. Я хотела, чтобы он от женщины получал то, что он сам мог ей дать. И я знала, что не было ни одной, достойной его, что он всю жизнь должен будет довольствоваться посредственностью. Одно только это осознание перекрывало мне воздух. Я заболела, у меня появились приступы астмы, диффузные боли внизу живота. Я бродила от врача к врачу, прежде чем не нашла подходящего для своего вида заболевания. Доктор Харальд Пиль, специалист по неврологии и психотерапии. Пиль спросил меня, хочу ли я спать с Робертом. Я сказала: «Нет». Пиль спрашивал снова и снова, он спрашивал так долго, что я, наконец, сказала «да», чтобы он прекратил. В течении двух лет я была у него на лечении и к тому времени, когда Роберт в двадцать четыре года в первый раз женился, уже давно поправилась. В этом даже Пиль был убежден. Я научилась примиряться с тем, что даже для такого мужчины, как мой брат, была доступна только нормальная жизнь. Я не могла заставить Богиню спуститься с Олимпа, чтобы его любить. Я не могла из глины слепить для него Еву и вдохнуть в нее жизнь. Я также не могла высечь для него из камня идеальную женщину. Его первая жена Марлиз была хорошенькой девушкой. Не красавица - но славная, милая, уживчивая и ласковая, никоим образом не исключительная и никоим образом не расчетливая. Она сама происходила из зажиточной семьи, деньги ее не интересовали, только он. Она его боготворила. Я думаю, Марлиз всегда понимала, что с Робертом ее облагодетельствовала судьба. Она мне очень нравилась, и мы с ней хорошо уживались. Пиль сказал позже, что Марлиз мне безоговорочно подчинилась. Я никогда не видела в ней соперницу робертовой благосклонности, следовательно, я могла ее принимать в качестве придатка к моему брату. Но Пиль ошибался более чем в одном пункте, и Пиль не был человеком, который признает свои ошибки. Я никогда не хотела иметь Роберта только для себя, и я никогда не желала его, как мужчину, По крайней мере, сознательно. Могло быть, конечно, что у меня была пара фантазий, особенно ночью, когда в доме было так тихо, что я могла слышать каждый шорох в соседней комнате. Взволнованный шепот, сдерживаемые стоны возбуждения и потом, позже, этот хрипло звучащий тон высшего пункта. Я всегда знала, что это был Роберт, от кого этот звук исходил, - Марлиз была слишком невыразительной для таких взрывов страсти. А Роберт, на него нужно было только посмотреть, чтобы знать, в какое путешествие он может взять с собой женщину, если только, она готова была его сопровождать. Для меня это было всегда очень увлекательным - наблюдать, что два таких разных человека, как отец и Лучия, соединившись в третьем, передали ему только свои преимущества. От отца Роберт унаследовал рост, стройную фигуру, ухоженные руки и безошибочное чутье в делах. От Лучии он получил пропорциональное лицо, цвет волос – очень темный каштановый, мягкий и прямой характер, идеально очерченные губы и глаза – почти черные глаза, такие темные, что нельзя было отличить радужную оболочку от зрачка. Взгляд, как остатки жара в камине. Видя его, знаешь, что из этих остатков можно мгновенно разжечь новое пламя. Одно только это - лежать в постели и к нему прислушиваться, вынужденно приводило к определенным представлениям, но я обладала достаточным рассудком, чтобы знать, что существовали границы. И другие мужчины. Мне тогда был тридцать один год, я не была исключительной красавицей, но привлекательна – это выражение я слышала часто. В работе у меня тогда был как раз большой прорыв, и некоторые владельцы галерей пели мне хвалебные гимны. Я была на верном пути, чтобы сделать себе имя в искусстве. И еще, благодаря деловому чутью нашего отца, я была очень богата, что на многих мужчин действовало также весьма впечатляюще. Я нашла мужчину, с которым могла быть уверена, что его не только исключительно мои деньги интересовали, в Олафе Вехтере, нашем советнике по налогам. В обществе я его тоже всегда могла показать. Мужчина в лучших годах, с превосходными манерами, честолюбивый, свободный, образованный, хорошо выглядевший. Никакого сравнения с Робертом, но действительно сносный любовник, с достаточным чутьем к искусству и твердым намерением сделать меня счастливой. Мы часто по вечерам сидели вчетвером на террасе и строили планы на будущее. Марлиз мечтала о ребенке. Роберт хотел немного подождать. Он чувствовал себя еще недостаточно зрелым, чтобы взять на себя дополнительную ответственность. Год назад умер отец, и Роберт перенял его дела. В начале ему было с этим немного трудно, и он как раз старался при помощи Олафа, получить нужный обзор. «Ребенок», говорил он всегда, когда Марлиз начинала увлекаться, «для этого же еще достаточно времени». А мне так хотелось, чтобы он сделал ей ребенка, как можно скорее. Я думала, что могла сопровождать его в деловых поездках, если бы Марлиз занималась ребенком и вынуждена была сидеть дома. Мы к этому времени еще не знали, что большую часть наших дел можно было решать по телефону за письменным столом. Роберт часто выезжал. Иногда Марлиз его сопровождала, но большей частью для нее это было слишком утомительно. Жизнь в отелях она находила стеснительной, какими бы они ни были комфортабельными. А мне рядом с Робертом нигде не было ни утомительно, ни неуютно. Мы могли бы даже взять номер на двоих – почему бы и нет, он же был моим братом. А теперь он был мертв. Прострелена голова. Это должна была быть моя голова. В среду и в четверг я почти с ума сходила от боли, в пятницу это было только тупое давление, вызванное сержевыми «специальными» напитками и пустотой, этим черным провалом, куда я погрузилась вместе с пришедшим пониманием. Когда я оттуда снова вынырнула, то услышала бормотанье. Голоса Пиля и Изабель, которые стояли у двери и шепотом переговаривались. Я снова лежала на диване в своем Ателье, и в один момент мне показалось, что все это было только жутким сном. Это не было сном. Я точно слышала, что Изабель говорила Пилю: «Я не должна была полагаться на диагноз, который вы поставили на расстоянии. Вы же не видели, в каком она была состоянии, я думала, она нас всех поубивает. Я должна была сразу вызвать полицию». Обоих полицейских, между тем, уже не было. Я понятия не имела, сколько времени провела в темноте. Я моргала на свет, мои глаза болели. Пиль заметил, что я положила левую руку на лоб. Он подошел к дивану, а Изабель осталась стоять у двери, наблюдая за мной боязливыми глазами. Мне бы хотелось суметь заплакать, но у меня не было слез. Я думала, что все внутри должно гореть, и не чувствовала никакого горя. Это должна была быть непереносимая боль в груди, но у меня внутри только лишь все пересохло. И теперь больше никого не было рядом, кто мог бы вернуть жизнь в пустыню. Пиль очень старался. Это был маленький высохший человечек. Ко времени моего первого визита ему было только немного за сорок, и он вполне мог произвести впечатление, сидя в своем кресле и постукивая карандашом по подлокотнику или по записной книжке у себя на коленях. «Можете ли вы объяснить, что так привлекает вас в вашем брате, Миа? Быть может только тот факт, что он единственный мужчина, которого вы не можете получить?» Наверное, я не должна была ему рассказывать, сколько у меня было мужчин, а их было уже очень много к тому времени, когда я в первый раз была у Пиля на лечении. В большинстве случаев привлекали они меня только на одну ночь, а иногда уже через пару часов мне становилось скучно. Пиль называл это неутомимыми поисками замены. И это постоянно приводило к тому самому вопросу, хочу ли я с Робертом спать. «Нет», сказала я. «И я также не хочу, чтобы мне это объясняли». Что я хотела или не хотела, Пиля не заботило. «Вы часто видели его без одежды», пояснил он. «Чем же вышеупомянутое августовское утро так отличалось от прочих случаев?» Однажды мне это надоело, и я сказала: «У него была эрекция». Пиль был моим ответом удовлетворен, для него все было просто. Он думал, что я считаю себя богиней, сошедшей с Олимпа, чтобы привести Роберта на вершину наслаждения. А я была богиней, взирающей с Олимпа на всех таких мелких обывателей и кляузников, на всех этих ничтожных, глупых, не имеющих представления, неудачников! Пиль никогда не отступал от своих убеждений. Он только лишь постарел, но он все еще был человеком, который выворачивал мою душу наизнанку и потом пытался втиснуть в свои шаблоны. Я так часто желала, чтобы это ему удалось. Потому что в его шаблонах не было места для ярости и депрессии. Потому что, если он меня выжмет и подгонит по мерке, то все останется позади. Или, чтобы, наконец, нашлось объяснение, которое я могла бы так же принять, как и он. Представлялось, что такого объяснения просто не существует. Пиль, нагнувшись надо мной, взял мою левую руку. «Как вы себя чувствуете, Миа?» Дурацкий вопрос. Как должна была я себя чувствовать? У меня никогда не было, кроме гнева и бессилия, никаких собственных чувств. У меня был только Роберт, и Пиль это знал. «Вы знаете, с кем ваш брат еще раз встречался ночью?», спросил он. Или он намеревался теперь еще и шпионить для полиции? Специалист по допросам в экстремальных случаях. «Предоставьте это мне, господа, я знаю, как нужно с ней обращаться. Она очень сложный человек, зафиксирована исключительно на своем брате, но именно по этой причине она поможет нам разобраться в деле. Я убежден, что она сделает все, чтобы изобличить виновных в смерти ее брата». В этом ты можешь не сомневаться, ты, гном, думала я. Эта проклятая стерва заплатит. И я не удовлетворюсь тем, что она попадет за решетку, я устрою ей и ее братцу такой же ад, какой она уготовила Роберту в последние недели. Пиль подвинул себе стул и сел рядом с софой. Он говорил со мной усыпляющим голосом, чем рассчитывал вытянуть из меня последние признания. «Ваша невестка считает, что вы должны это знать, Миа. Вы же разговаривали с Робертом». «Ссорились!», крикнула Изабель от двери. Пиль бросил на нее раздраженный взгляд и таким же жестом дал понять, что она должна помолчать. Так просто, однако, было ее не запугать, она даже подошла ближе. «Она на него орала, кидалась на него с кулаками. Роберт с трудом удерживал ее на расстоянии. Я стояла на галерее и хотела ему помочь, но мне было страшно – у нее полностью сдали нервы. Он должен оставаться с ней, кричала она. Она сойдет с ума, если он с ней не останется. Как будто она может стать еще более сумасшедшей, чем она и так уже есть». Она громко всхлипнула, отвернулась от нас и закрыла лицо руками. Эта двуличная дрянь угощала нас отличным шоу. На меня это не производило впечатления. «Она превратила его жизнь в ад», всхлипывала она. «Роберт был на исходе. В последние недели он часто мне обещал, что будет искать для нас дом. Всякий раз он говорил, что не выдержит этого дольше - жить с ней под одной крышей». Пиль наблюдал за ней с типичным для него нейтральным выражением лица. Он знал, что она лжет, так же хорошо, как и я. Он должен был это знать. Роберт никогда бы меня не покинул. И я достаточно часто ему объясняла, чего можно было ожидать от Изабель. Наконец он снова повернулся ко мне. «С каких пор на этот раз у вас сильные головные боли, Миа?» Я слишком хорошо знала, какие вопросы еще последуют, если я на этот отвечу. Что вы делали во вторник, Миа? Что делал Роберт? Когда он ушел спать? Ушел ли он вместе со своей женой? Когда вы отправились в постель? Как долго вы не могли заснуть? Разговаривал ли Роберт со своей женой? Что из этого вы смогли понять, Миа? Через эту игру в вопросы и ответы, со всеми возможными вариациями, включая относящиеся доброжелательные нравоучения, мы маршировали десятки и сотни раз. Мне хотелось, чтобы Пиль исчез и оставил меня в покое. Мне нужно было еще так много уладить. Я должна была сообщить Лучии. Я должна была позвонить Олафу. Я должна была спросить Сержа, о чем еще Роберт говорил с ним ночью. И я должна была спать. В какой-то момент Пиль сдался. «Мы поговорим в понедельник», сказал он, идя к двери. «Я посмотрю, как освободить для вас время и позвоню». Изабель провела его к выходу. Я осталась лежать на софе. В моей голове все было перемешано, и, как бы я ни мучилась, я не могла вспомнить о последнем получасе, проведенном с Робертом. Только то, что он еще раз ко мне заходил, я знала наверняка. Уже под вечер фрау Шюр принесла мне тарелку супа. Она выглядела заплаканной. Роберта она любила, почитала его, боготворила и обожала. Сначала она не произнесла ни слова, только приказала, чтобы я съела суп, причем без остатка. Фрау Шюр было почти шестьдесят. Она принадлежала к тому поколению, когда считалось, что хорошая трапеза сплачивает душу и тело. Я доставила ей удовольствие, частично прогнав при этом тошноту из желудка. Она стояла надо мной, пока в тарелке не осталось ни одной капли. Забирая тарелку, она сказала приглушенным голосом: «Молодая хозяйка уехала. Она говорила, она должна опознать тело. Она хотела еще и место посмотреть, где это произошло». Потом она начала плакать. А я просто лежала и не могла даже думать. В моей голове были бесчисленные фрагменты, ни один из которых не был достаточно конкретным, чтобы я могла за него ухватиться и сделать из этого что-то большее. Это был страшный хаос, мешанина из расплывчатых впечатлений, ненависти и отчаяния. Мне хотелось встать, пойти на кухню, взять большой нож и потом подняться по лестнице к комнате в конце галереи. Сейчас Йонас был там один. Мужчина в инвалидной коляске - для него мне даже не обязательно было иметь нож. Я могла бы подтолкнуть его к лестнице и покончить с ним еще до того, как вернется его сестра. А когда бы она вернулась, то могла спокойно созерцать своего брата. Она должна была точно осознать, каково это - до того, пока я не примусь за нее. Прошло ровно девять месяцев с тех пор, как Роберт мне ее представил. Его большая любовь, женщина его жизни. Как подходяще! Женщина, которая стоила ему жизни! Это было в середине декабря. Как и в прошедшие годы, я провела четыре недели у Лучии, в Испании. Роберту нравился зимний спорт, и он только из-за меня оставался дома. Тогда я решила гостить у Лучии, чтобы ради меня он не лишал себя удовольствия. Когда я вернулась из Испании, он как-то переменился. Он был молчаливее, чем обычно, погруженным в себя. На меня он производил впечатление человека, непрерывно старающегося прийти к какому-то решению. В прошедшие восемь лет я уже часто видела его таким задумчивым. Его брак с Марлиз продолжался, к сожалению, только короткое время. Марлиз погибла десять лет назад во время несчастного случая, стоившего мне правого глаза, подвижности правой руки и еще многого другого. Два года Роберт по ней горевал. Казалось, он забыл, что существовали два пола. Я была единственной женщиной, о которой он трогательно заботился. Он делал все, что было в его власти, чтобы жизнь моя стала переносимее. Потом, мало помалу, возраст и природа взяли свое. Я всегда знала, что он не живет, как монах. А он знал, что мне страшно было, что он попадет не на ту женщину – на такую, которая будет его использовать и видеть в нем не мужчину, а чековую книжку. Мы обсудили этот вопрос обстоятельно, поэтому он скрывал от меня многие короткие интрижки. Если это было делом только нескольких ночей, он не проронял ни слова. Когда он думал, однако, что из нового знакомства могут сложиться прочные отношения, то рассказывал мне об этом. Я узнавала во всех подробностях - как, где и при каких обстоятельствах он познакомился с вышеупомянутой женщиной, что он знал о ее семье, кем она работала, и как он ее оценивал. В конце концов, он приглашал ее на выходные, чтобы я с ней познакомилась. А потом он спрашивал мое мнение. Это не было так, будто он чувствовал себя от меня зависимым или старался мне угодить. Так это действительно не было. Он сам однажды сказал, что ценит мое знание людей. Где-то это было странным. Часто мне достаточно было только посмотреть на женщину, полчаса посидеть напротив нее, услышать от нее пару слов, и я точно знала, как она думала. Не что она думала, это нет. Но ее природу, внутреннюю сущность, ее характер я распознавала в кратчайшее время. Поверхностность, расчет, этот особый вид внутренней холодности, способной только на собственном «я» концентрироваться и почти полностью исключающей партнера. Я это чувствовала. Я описывала ему это, и чаще всего через несколько недель он приходил, смущенно улыбался и говорил: «Ты снова оказалась права, Миа. Это было не то». Я оставила его в покое тогда, в декабре, когда дни напролет он был таким мечтательным. Он должен был сам решать, была ли ему новая связь настолько важна, чтобы спрашивать мою оценку. Потом, однажды вечером, мы сидели в библиотеке. Это было за два дня до рождественского сочельника. Он читал экономический журнал и вдруг посмотрел на меня, улыбаясь при этом почти виновато. «Я должен тебе кое в чем признаться, Миа», начал он. «Уже несколько дней я намереваюсь с тобой об этом поговорить и все откладываю, но когда-нибудь должна же ты об этом узнать. Некоторое время тому назад я познакомился с одной женщиной». Некоторое время тому назад, сказал он. Шла ли речь о неделях или о месяцах, оставалось открытым. Я предполагала пару недель – время, которое я провела у Лучии в Испании, а Роберт с Олафом Вехтером – в Швейцарии. Он пожал плечами – безошибочный признак неловкости и незащищенности. «Она еще очень молода, Миа», сказал он. «И до сих пор ей доставалось в жизни. Она очень рано потеряла родителей и вынуждена была самостоятельно пробиваться. Можешь себе представить, что при таких обстоятельствах молодой девушке приходится нелегко. При этом вырабатываешь нечто, что производит на других впечатление, вроде «боевого духа», а как только уязвимость проявишь, уже проиграл. Я говорю это лишь затем, чтобы ты не делала ошибочных заключений на основании того, как она держится. По сути, она очень наивна и немного беспомощна. Ты знаешь этот тип – добродушный, доверчивый – легкая добыча для всякого, у кого недоброе на уме. Так что ее колючесть - это только декорация». И еще как знала я этот тип! Он сидел как раз напротив меня. Его обстоятельное объяснение говорило о том, что он уже пришел к определенному суждению, и теперь опасается, что я выдам другую оценку. «Мне хочется, чтобы ты с ней познакомилась», сказал он. «И я хочу, чтобы ты знала, насколько все серьезно на этот раз. Она мне очень дорога, Миа. И если ты согласна, я приглашу ее к нам на следующие выходные». Он бы ее, вероятно, уже на праздники с удовольствием привел в дом. Праздник любви (Рождество, семейный праздник, называют иногда «праздником любви» - прим. переводчика). Меня сильно впечатлило то, что он от этого отказался. Я согласилась на следующие выходные, и я ни в коем случае не была предвзята, что я должна особо подчеркнуть. Я оценивала его знание людей не намного меньше своего собственного. Если бы он сам не владел изрядной долей этого знания, то не приходил бы регулярно в течение короткого времени к тому же заключению, что и я. А я ему свои заключения не внушала! Он заканчивал свои интрижки не для моего удовольствия, даже если это посторонним, особенно Олафу Вехтеру, могло так казаться. После его объяснений в моей голове прочно засело определенное представление. Молодая женщина, научившаяся утверждать себя в жизни. Иногда это могло ей тяжело даваться, но она с этим справилась, пробилась и стремилась при том иметь место, где ей не нужно было ни драться, ни выставлять колючки, где ее бы любили ради нее самой. Господи, я действительно думала, что он нашел себе идеальную женщину. И тогда появилась она, Изабель Торховен. Она приехала на поезде, и Роберт встретил ее на вокзале. Уже когда она подходила к дому, меня поразил ее взгляд. Очень оценивающий взгляд и очень пронырливый. Ее глаза были всюду одновременно, как если бы она не могла достаточно быстро все охватить и оценить. Здесь не было ничего общего ни с колючками, ни с воинственным поведением или с самоутверждением. Она просто вынюхивала, как выражаются в ее кругах. Уже одна дорога к нам с вокзала должна была ей ясно дать понять, что мы не бедствовали. Аристократический район. Чем ближе подъезжаешь к окраине города, тем большими становятся участки и тем дальше удалены от дороги дома. Наш подъезд был протяженностью около трехсот метров, а дом - очень внушительным. По нему было видно, что он был за большие деньги построен, и что куча денег уходила на его содержание. У Изабель был глаз на это. Я думала о словах Роберта. Молода – это соответствовало действительности, но наивной или беспомощной она, вероятно, никогда не была. Роберт был робок и обеспокоен, когда он представлял нас друг другу. Он буквально молил меня взглядами ее полюбить. Изабель трясла мою руку так, как будто получить левую протянутой для приветствия было совершенно естественным. Она не отпрянула ни на секунду от моего вида, из чего я заключила, что Роберт ее основательно подготовил. И все же тут была еще и большая доля самообладания и искусства притворства. Созерцать мое лицо без того, чтобы уже через пару секунд не перейти к судорожной ухмылке, с таким не справлялся даже Олаф Вехтер, определенно привыкший к моей внешности. Это мог только Серж, но он позволял себе за это платить. И Роберт мог это, потому, что он меня любил, – меня, а не мое лицо, не мою правую руку и не потерянный глаз. Изабель сказала, что она очень рада наконец-то со мной познакомиться. Я ожидала стандартных пустых фраз о том, что Роберт уже столько обо мне рассказывал, но она избавила нас от этого. Вместо того она просто лучилась в улыбке, которую сама принимала, наверное, за открытую, сердечную и такую естественную. Но естественным в ней было только свежее, розовое личико - ни малейшего следа румян на щеках, никаких теней или губной помады. Только ее ногти были кровавокрасного цвета и такими длинными, как будто под страхом смертной казни запрещалось использовать пилку. Такие ногти я видела в «Сезанне», у стриптизерш. Я велела фрау Шюр приготовить для нее комнату для гостей в конце галереи. Роберт отнес туда ее чемодан, показал комнату и прилегающую ванную, а она иронизировала при этом, что не может спать с ним. «Прямо, как в средние века», услышала я ее слова. Что Роберт на это ответил, я не поняла. Я слышала только его голос, звучащий тепло и сердечно, обеспокоенный тем, что что-то было не по ее вкусу. Я ушла в кухню, занялась приготовлением кофе и не могла этого постичь. Эта девушка излучала холод, от которого я покрылась гусиной кожей, когда пожимала ее руку. Роберт должен был это ощущать так же, как и я, ведь он был таким чувствительным. И если он до сих пор не понял, с кем связался, значит Изабель Торховен должна была владеть чем-то значительно большим, чем простым искусством притворства. Фрау Шюр уже все заранее приготовила - жаркое, немного рыбы и салат на ужин; еще до полудня она испекла пирог и даже накрыла в столовой стол, чтобы пить кофе. Через час после прибытия Изабель мы сидели за этим столом, напротив друг друга. Свой дорожный костюм она сменила на простое платье. Это было светло-зеленое платье, красиво контрастирующее с ее рыжими волосами. Мне казалось, я узнаю вкус Роберта. То, что она переоделась в его присутствии, доказывало интимность в отношениях, которая вполне распространялась и на пару хороших советов по части гардероба. На правой руке она носила широкий золотой браслет. Если он не был поддельным – а он не был поддельным, как я выяснила позже, – то он кое-что стоил. А тогда возникал вопрос, от кого молодая женщина, вынужденная сама пробиваться, получила деньги на такую драгоценность. Все-таки ей было только двадцать три года, когда Роберт мне ее представил. На шее у нее было простое колье – подарок Роберта, тут мне никто не должен был специально объяснять, я знала о его предпочтении к неброским украшениям. Он не ценил, когда кто-то демонстрировал свое состояние таким чванливым образом. И что другое, если не подобную демонстрацию, должен был означать этот золотой браслет на руке? Посмотри, что у меня есть, я в твоем не нуждаюсь. Там сразу была парочка кричащих противоречий, уже хотя бы внешне. Изабель буквально из себя выпрыгивала, выставляя напоказ маленькую невинность. В разговоре она принимала участие поначалу очень сдержанно. Перед каждой фразой, быстро взглянув на Роберта, она убеждалась, что не делает ничего неверного. Это не было застенчивостью, даже если Роберту хотелось так думать. Это было расчетом, осторожным зондированием – для начала произвести разведку вражеской территории, которой являлась я. Я абсолютно уверена, она знала с первого момента, что со мной она должна быть осторожна. После кофе она стала разговорчивее. Взгляды на Роберта уже не казались вопрошающими, а только влюбленными. Мы расположились у камина, Роберт налил нам коньяк. Я сидела в кресле, они предпочли диван. Неоднократно я видела, как она украдкой искала его руку. Каждый раз она представляла это так, как будто ей неловко, что я это заметила. Тогда появлялась эта улыбка, как извинение ребенка, которого поймали, когда он залез в коробку с печеньем. Она то и дело пригубляла коньяк и вела себя так, как если бы эти несколько капель необычайно подействовали на нее. Она начала рассказывать о себе и не могла никак остановиться. Позже Роберт называл это откровенностью. Он просто не мог раскусить ее образа действий. Даже непривыкший к алкоголю человек не почувствует после трех капель такую неодолимую потребность высказаться. Ее родители были простыми людьми, рассказывала она. Мать была домохозяйкой, отец работал на стройке. Оба они умерли от пищевого отравления. После смерти родителей она была вынуждена прервать свое образование при одном банке и найти работу, где она достаточно зарабатывала, чтобы стоять на собственных ногах. Чем она зарабатывала себе на жизнь, об этом она промолчала. Об этом я узнала позже, посредством собственных расследований. Она жила одна, что подчеркивала категорично, совсем одна в маленькой квартире во Франкфурте. Был еще брат, но он уже много лет находился за границей. Он выучился на инженера и работал в программе помощи развивающимся странам. С такого рода бескорыстным «помощником» в семье впечатление, конечно, было эффектным. Некоторое время она распространялась о том, что он сотрудничает в одном проекте по орошению и большую часть времени проводит в пустыне. Только очень редко он бывал в Тунисе, где у них находилось бюро по планированию. «Мы всегда очень хорошо понимали друг друга», утверждала она. «Но с тех пор, как Йонас уехал из дома, у нас почти нет контакта». Я находила это странным. Когда я улетала зимой на несколько недель в Испанию, Роберт звонил мне каждый вечер. Мы бы не смогли себе такого даже представить, чтобы неделями ничего не слышать друг о друге. А когда он сам бывал в отпуске, то посылал, к тому же, открытки и писал письма. «Йонас не любит писать», сказала Изабель. «У него просто мало времени, и по телефону он почти никогда не доступен. Он же по большей части на стройке». Как будто там не было телефонов, именно на стройке – где нынче каждый за собой мобильник таскает. На следующий день она мне показала фотографию своего брата, которая, как она утверждала, была сделана год назад, когда Йонас провел две недели в родной стране, в отпуске. На снимке был запечатлен крепкий темноволосый мужчина около тридцати лет. Его лицо на маленькой фотографии было трудно рассмотреть, но бороды у него еще не было. Изабель стояла рядом и улыбалась ему. Одну руку он положил ей на плечи, она обнимала его за талию. Это производило очень доверительное впечатление. Младшая сестра, старший брат – почти трогательно, если бы только не тоненькая полосочка у нее на шее. У меня не было лупы под рукой, но я могла бы поклясться, что это было колье. Подарок Роберта. Я спросила его еще в тот же вечер, он ли подарил ей это ожерелье и если он, то когда. «На Рождество», сказал он и захотел узнать, почему я спрашиваю. А когда я это сказала, он посчитал, что я должна ошибаться. Я это не приняла во внимание. Естественно, не могло украшение, которое Роберт незадолго до того подарил, очутиться на фотографии, заснятой добрый год назад. Или подарок был сделан намного раньше, или фотография заснята намного позже. То, что Роберт обманывал меня с датой, я исключала. Я была совершенно уверена, что речь идет о новой фотографии. Она выглядела так, как выглядит свеженькая фотография из фотоателье. Это же сразу видно, особенно, если фотография хранится в маленькой сумочке – тогда быстро обтрепываются уголки. Не тот случай. И вместе с этим возникал вопрос, кто был мужчина на фотографии, если Йонас Торховен действительно уже год назад в последний раз находился дома. У меня были и некоторые другие вопросы. Каково происхождение широкого золотого браслета? Не от Роберта, что быстро выяснилось. Ему она рассказала, что это фамильная драгоценность. Для этого, однако, браслет был слишком модным, а, кроме того, простые люди редко оставляют золото в наследство. Был тут еще и тот факт, что не было ни малейшего сходства между Изабель и мужчиной на фотографии. Правда, между Робертом и мной тоже не было сходства, но у нас были разные матери, что в случае Изабель и Йонаса Торховен было не так. Я была уверена, что она запечатлела себя со своим любовником вскоре после того, как Роберт подарил ей это колье. И у нее еще хватило дерзости преподнести нам его, как своего брата. Роберт твердо держался своего убеждения и даже предложил, чтобы я поговорила об этом с Пилем. «Миа», сказал он, «подумай разумно. Ты же не просила Изу показать фотографию ее брата. Она сама это сделала. По какой причине должна была она выдавать любовника за своего брата?» Откуда мне было знать ее причины? По всей вероятности, она находила в этом отвратительное удовольствие – я использовала это выражение чрезвычайно неохотно, но считала его очень подходящим в этом случае – нас поиметь. Роберт был шокирован. «Миа, ты видишь что-то и делаешь вывод, откуда проводишь дальнейшие заключения, которые для тебя сразу становятся фактами. Но ты не можешь просто утверждать то, что тебе нечем доказать. Это может быть просто какое-нибудь ожерелье. Иза часто носит модные украшения. И даже если бы это было именно то колье, которое я ей подарил, я мог его подарить уже год назад. Если ты помнишь, я сказал «к Рождеству», и при этом не обязательно последнее могло быть упомянуто. «Ты же еще не знал ее год назад», сказала я. «Почему ты так в этом уверена?», спросил он. «Ты бы тогда мне ее уже давно представил», сказала я. «И я видела, что это была совершенно новая фотография. Роберт, я тебе могу точно сказать, каковы ее намерения. У нее есть мужик во Франкфурте, и она даже не думает с ним расставаться. Тебе не бросилось в глаза, как влюбленно она на него смотрит? Она хочет тебя просто выпотрошить, причем делает это с его согласия. Ты не должен ей позволять сделать тебе больно, Роберт». С Пилем, естественно, я не разговаривала о своих подозрениях, по крайней мере, не сразу. И с Робертом поначалу я не затрагивала снова этот вопрос о любовнике. Я считала его достаточно разумным, чтобы в обозримом времени самостоятельно разобраться в том, что я была права. Когда Изабель провела вторые выходные в нашем доме, ночевала она уже в комнате Роберта. Он сам дал указание фрау Шюр, что комната для гостей не понадобится. У Изабель не было ни малейших комплексов. Ее стоны заглушали все, что я слышала до сих пор в этом отношении, - мерзкая возня, такая же фальшивая, как и все в ней. Я не могла сомкнуть глаз и видела в душе, мужчину с фотографии в ее объятиях. Одновременно я видела ее длинные красные когти, вонзавшиеся в спину Роберта. Меня тошнило, у меня болела голова, и я думала о Пиле, о его бесконечных лекциях про мою ревность. Я не была ревнивой. От всего сердца я желала Роберту всяческих радостей, желала, чтобы он был доволен и счастлив. Я только думала, что с какой-нибудь девушкой из «Сезанна» он получил бы больше честности. Там бы мы знали, на что рассчитывать. Изабель гостила у нас также на следующие выходные и еще на следующие. И она не теряла времени, чтобы настроить Роберта против меня. В конце февраля я стала свидетелем одного разговора, который не оставлял сомнений в ее намерениях. Они были в подвале, плескались расслабленно в плавательном бассейне. В течение четверти часа я составляла им компанию, правда, только сидя на бортике. Я не любила плавать, да и не знала вовсе, могла ли еще. В сущности, я никогда не была опытной и выносливой пловчихой, мне было достаточно неторопливого движения по воде. Но с одной только рукой я этого еще никогда не пробовала. Когда Изабель начала приставать - я тоже должна зайти в воду, это так чудно освежает и, в случае необходимости, она могла бы меня подстраховать - я ушла наверх, чтобы налить себе чего-нибудь выпить. В феврале я еще не нуждалась в «освежении». Снаружи было только пять градусов, а она вела себя так, будто у нас лето было в разгаре. Когда я вернулась, она сидела на бортике бассейна и болтала ногами в воде. Еще не дойдя до двери, я услышала, как она сказала: «Мне кажется, твоя сестра меня не любит. Не важно, что я предлагаю, она все отвергает». Ну, не так уж много она мне пока предлагала. Точнее говоря, эта страховка при плавании была ее первым предложением. А Роберт сказал: «Ей и раньше не очень нравилось в воде». «Не понимаю», откликнулась она и так засучила ногами, что я слышала, как брызжет вода. «Если бы у меня в подвале был бассейн, ты б должен был меня оттуда выколачивать». Почему же тогда она сидела на борту? Я не очень верила, что Роберт ее оттуда «выколотил». После секундного молчания она продолжала: «В том-то и дело, что это не только ее отказ, это-то я могу еще представить; если бы у меня была только одна рука, наверное, я бы тоже боялась». У меня были две руки, и я надеялась, что Роберт обратит на это ее внимание. Но она еще не закончила. «Ты не заметил, как она всегда на меня смотрит? Иногда у меня такое чувство, что она хочет просверлить мне голову». Если бы я только могла, непременно бы это сделала. Снова я слышала всплески в воде. Роберт не производил шума, он держался при помощи экономных движений на одном месте напротив нее. Я медленно подошла ближе к двери и могла его видеть - его спину, затылок и его руки, сразу под поверхностью воды. И ее – в профиль. Голову она держала опущенной и рисовала ногами круги на воде. Это был удивительно красивый жест смущения, придававший соответствующий вес последующим словам. «Тут есть еще кое-что, Роберт. Мне очень неловко тебе это говорить, но я думаю, что она рылась в моих вещах». Это была неслыханная наглость! Я не рылась. Ее чемодан я вообще не трогала, только быстро поискала фотографию в ее сумочке. Я хотела еще раз ее под лупой рассмотреть, чтобы удостовериться, что на ней было колье, подаренное Робертом. Но я не нашла фотографию - ни эту, ни другую. Хитрая стерва, вероятно, сообразила, какую ошибку она сделала. А может быть, Роберт, в своей доверчивости, рассказал ей даже о моем предположении. Я ждала, что он энергично поставит ее на место. Что он скажет, по меньшей мере, что она должна ошибаться, мне бы никогда не пришла в голову мысль рыться в вещах наших гостей. Но вместо того, чтобы это сделать, он спросил: «Ты уверена?» Тогда я поняла, что мне предстояла жестокая борьба, если я хотела открыть ему глаза. Я проиграла эту борьбу и потеряла моего брата. Роберт все же понял, только, к сожалению, поздно, слишком поздно... Он ее просто недооценил, не видел ее беззастенчивости, не принимал в расчет ее хладнокровности. Она и вправду не затратила на него много времени. Третья глава Это было ужасное чувство – лежать, ломать себе голову и знать, что теперь я была одна, действительно и окончательно одна. А Изабель праздновала свой триумф – вместе со своим братом. Я могла бы их на месте прикончить - обоих. Если бы только я была в состоянии подняться по лестнице, но я даже не могла встать с софы. Только под вечер я справилась с тем, чтобы дойти до туалета. В зале я заметила, что полиция опечатала кабинет Роберта. Это было анекдотом, абсурдом это было, и я не могла себе этого объяснить. Волберт не мог быть настолько глупым. С другой стороны, разве могла я знать, чего ему еще понарассказывала Изабель, после того, как я потеряла сознание? Может быть, он также, как и Роберт, попался на ее уловку, которого вначале тоже не могли убедить возмутительные факты. А я собрала целую массу возмутительных фактов. После тех выходных в феврале, когда мне пришлось убедиться, насколько Роберт уже подпал под ее влияние, я наняла частного детектива. Я надеялась образумить Роберта при помощи подходящего материала. Уже через два дня я получила по телефону первый отчет, от которого у меня перехватило дыхание. Я правильно идентифицировала ее ногти. Изабель Торховен была «девочкой в баре», так называемой Animierdame(прим. переводчика: Animierdame – женщина, развлекающая гостей и побуждающая их к увеличению расходов). Она работала в одном ночном клубе второсортной репутации. И при этом она собиралась от трех капель коньяка потерять тормоза? Как могла она потерять что-то, чем она никогда не владела? Детектив разузнал еще больше за эти два дня. В том числе, что уже некоторое время у нее была любовная связь с одним из гостей. Это была не простая интрижка. Она была на содержании у этого мужчины, правда не оставляя, при этом, работу. По описанию судя, речь должна была идти о темноволосом мужчине с фотографии. Я хотела уже вздохнуть с облегчением. Однако, несколькими днями позже, детектив положил передо мной снимки, на которых был запечатлен Роберт рядом с Изабель – перед ее квартирой и в ночном клубе. К этому времени он часто ездил во Франкфурт, по меньшей мере, дважды в неделю. И обычно он оставался там на ночь. Потом я лежала в постели и сходила с ума от болей. На следующее утро я поехала к Пилю вымаливать клирадон. После доброжелательной нотации, мне сунули в руки рецепт на другое, неэффективное лекарство, а на прощание снова дали совет, что я должна освободиться от Роберта, что я должна его отпустить и предоставить жить собственной жизнью. Пиль не находил это таким трагичным, что мой брат связался с проституткой. Если его собираются чуть-чуть выпотрошить, намного беднее от этого он не станет. Самое разумное - это предоставить Роберту самому проделать свой печальный опыт, если он уже и без того глух к моим предупреждениям. Я сама, также, могла от этого только выиграть, считал Пиль. Когда я, в возрасте двадцати семи лет, в первый раз находилась у него на лечении, он мне обстоятельно объяснил, что моя любовь к Роберту является в буквальном смысле, ярко выраженной любовью-ненавистью. Я завидовала своему брату с первого дня его рождения, потому что он владел тем, чего не было и никогда не могло быть у меня. Мать, которая всегда была рядом и от которой он не слышал ни окриков, ни злых слов, которая окутывала его теплосердечностью и нежностью, в которых он нуждался, чего я не видела ни от матери, ни от кого-либо другого. И отец, который, в своей гордости за удачливого сына, временами хватал через край и по сто раз на дню превозносил преимущества и уровень знаний «своего Роберта», намеренно упуская при этом из вида мое существование и мое участие в успехах Роберта. Так Роберт превратился для меня в безжалостного грабителя. Со своей нежной сущностью, он лишил меня, в переносном смысле, последней горбушки хлеба и, сам живя в изобилии, оставил меня, с протянутой рукой, погибать от голода. Но моя гордость никогда не позволяла мне признаться в нужде. Я должна была доказать самой себе и всему миру, что был один человек, который был лучше моего брата, а именно – я. Это была я, кто научил его ходить и говорить. Это была я, которая всякими фокусами и мелкими шалостями вызывала одну за другой улыбки на его лице. Это была я, кто в школьные годы объяснял ему математические формулы, а также писал за него тот или иной реферат. И, наконец, это была снова я, кто придавал ему формы в гипсе, глине или камне. Уже к пятнадцати годам я научила его управлять автомобилем. Я взяла на себя его сексуальное просвещение. Коротко говоря, я не жалела усилий, чтобы его для себя завоевать, к себе привязать и сделать от себя зависимым. Роберт был моим драгоценнейшим достоянием, вещью в моей жизни, поднимающей меня надо всеми остальными. Я не могла позволить какой-то Изабель Торховен ее у меня забрать, повредить и, тем более, разрушить. Если кто-нибудь имел право разрушить то, что я создала, так это была единственно я сама. Я ненавидела только лишь Пиля за его излияния, Роберта – никогда. Он обесценил моего брата до куска глины, гипса или камня. Кроме любви и потребности его защитить, я ни секунды не испытывала к Роберту что-либо другое. Я никогда и ни в чем ему не завидовала. Все эти годы я ничего другого не искала и не хотела, нежели его близость и его счастье. А Изабель Торховен была его гибелью. Но Пиль не желал этого признавать. Он ее не знал, ни одного взгляда на нее не бросил, ни одним словом не обменялся и все же брался о ней судить. По сути это было доказательством собственной переоценки. Когда до него, наконец дошло, что у маленькой шлюхи были иные планы, чем просто находиться некоторое время на содержании у Роберта и при этом, как можно больше из него выжать, то Пиль обзавелся другим мнением. Внезапно он уже придерживался того суждения, что по профессии женщины не обязательно делать выводы о ее характере. То, что при этом он сам себе противоречил, он не замечал. Годами он утверждал, что мое занятие – ваяние - показывает наличие у меня подсознательной склонности к насилию. Сорвать свою злость на куске камня при помощи резца и молотка, являлось для меня своего рода методом самоконтроля. И это соответствовало моей самооценке – еще один безжизненный предмет подчинить своей воле, придав ему определенную форму. Те ночи, когда Роберт не возвращался домой, я стала проводить в «Сезанне» и при этом, вынужденно, разговорилась с Сержем. Его сходство с Робертом облегчило мне доверить ему то, о чем обычно я не разговаривала. Например, то, что уже годами я хожу к Пилю, несмотря на то, что считаю его законченным дилетантом. Серж спросил вначале, почему я просто не сменила терапевта. На это был только один ответ: я не хотела еще раз начинать все сначала – это бурение и втыкание во все больные места. Безрадостное детство, плюшевые медведи всевозможных размеров, но никогда ни доброго слова, ни гладящей руки в течение первых семи лет. А однажды Серж сказал: «Ты не нуждаешься в душевном сантехнике, Миа. Тебе нужен мужчина, тогда у тебя будут две гладящие руки и кое-чем даже больше. Из-за нескольких царапин на твоем лице, у тебя не будет никаких затруднений. У тебя же определенно имеются преимущества, компенсирующие пару маленьких недостатков». Так это тогда получилось. До того времени у меня и мысли не возникало, покупать себе мужчину. Но в этом были и преимущества. Кто платит, тот и не чувствует себя получающим милостыню и, кроме того, это немного отвлекало. Во всяком случае, я себя не спрашивала, в какой постели лежал сейчас Роберт и сколько он за это должен платить. Грандиозных надежд или иллюзий я себе не строила. В конце концов, мне достаточно было только заглянуть в ближайшее зеркало, чтобы точно знать, что могло побудить такого мужчину, как Серж Хойзер, со мной связаться. Но мне это не мешало. Денег у меня было достаточно, и он того стоил. Порой я думала даже, прекратить терапевтические сеансы у Пиля, пока он мне не объяснил, что я прибилась к Сержу под конец своих « неутомимых поисков замены». Каждый раз, когда я поднималась с ним в его маленькую квартирку, я отдавала себе отчет, как бы это расценивал Пиль. Думаю, в этом даже была особая привлекательность: немного фантазии и пара напитков могла полностью стереть маленькие отличия между Сержем и Робертом. Пару раз я намеревалась ему об этом рассказать, но потом, конечно, не делала этого. И терапевтические сеансы я тоже не прерывала. Иногда выслушивать версии Пиля было просто забавно. Когда я достаточно долго его слушала, то часто сама потом приходила к истине, если вообще существует истина в вопросе душевных мотивов. Затем поступил второй отчет детектива. Он был еще более исчерпывающим, чем первый – этот мужчина тоже стоил своих денег. Он не пожалел своих сил, чтобы пролить свет на прежнюю жизнь Изабель. Ее родители действительно были очень простыми людьми и умерли от пищевого отравления. Ее брат Йонас был охарактеризован бывшими соседями, как честный малый, как прилежный и общительный молодой человек, который, работая по ночам, финансировал этим свое образование и держал «малышку», как называли Изабель бывшие соседи, на коротком поводке. Когда Йонас уехал за границу, Изабель тоже исчезла из доходного дома, в котором выросла. Но детектив расспросил не только людей по-соседству и, таким образом, собралось вместе кое-что большее. Изабель проработала в одном банке только неполные полгода. Когда ей было девятнадцать лет, она познакомилась с одним мужчиной – Хорстом Фехнером и уже через короткое время переехала к нему. А рассталась она с ним только в тот день, когда освободилась маленькая квартирка, все расходы по которой нес Роберт. Это означало, что в то время, когда Роберт подарил ей колье, она все еще спала в постели Хорста Фехнера. И после своего первого визита в нашем доме, а также после второго и третьего, она уезжала обратно к этому мужчине. То, что она налгала мне с квартирой, имело второстепенное значение. Это доказывало, что я не ошиблась, что я была права по всем пунктам. Мужчина на фотографии мог быть только Хорстом Фехнером. Я думала, что лопну от злости, когда представляла, как Роберт привез ее на вокзал, попрощался с ней долгим поцелуем и парой страстных слов, а во Франкфурте ее уже ждал Хорст Фехнер. Тогда она могла ему сразу отчитаться, что все прошло великолепно, что, пожалуй, только с сестрой Роберта нужно быть поосторожнее. Такой недоверчивый человек, эта Миа Бонгартц - бдительная и обладающая тонким нюхом, которую совсем не так просто ввести в заблуждение, как ее добродушного брата. После такой информации, я была абсолютно уверена, что расставание с Фехнером было только отвлекающим маневром. От одной сотрудницы в ночном баре, детектив узнал, что Изабель была в полном подчинении у этого мужчины и по его распоряжению спала, также, с гостями бара. Теперь мне было ясно, что значил для нее Роберт. Они с Фехнером, вероятно, быстро распознали, что с него можно было получить больше, чем вознаграждение за получасовую работу; стало быть, разыгрывала она перед Робертом, по настоянию Фехнера, влюбленную и ласковую самочку. Я должна признаться, что отчет детектива меня, с одной стороны, взволновал, а с другой – успокоил. Перед такими фактами Роберт не мог больше закрывать глаза. Если этот материал попадет ему в руки, он должен немедленно сделать из этого выводы. Почему я не показала ему сразу? Очень просто. Я думала, что эта милая парочка удовлетворится несколькими десятками тысяч и потеряет дальнейший интерес. И, как говорил Пиль, беднее бы Роберт от этого не стал. Я не была, Бог – свидетель, одного с Пилем мнения. Только в этом одном пункте я пела с ним в один голос - Роберт должен был убедиться на собственном опыте. Я не желала ему разочарования, правда нет. Но он ведь не хотел моей помощи. А я не хотела навязываться и постоянно выслушивать, что я должна с Пилем об этом поговорить. И, прежде всего, я не хотела насильно лишать его иллюзий. Об этом должна была Изабель сама позаботиться. Я исходила еще только из нескольких недель, в крайнем случае, нескольких месяцев. Даже если в этих кругах ревность была не принята, рано или поздно это должно было Фехнеру не понравиться – делиться своей возлюбленной. Если подумать, то для него многое было поставлено на карту. Дело не должно было зайти так далеко, чтобы эта стерва его спровадила - потому, что с Робертом было удобнее, и она вошла во вкус. Когда, затем, от детектива поступил третий отчет, казалось, что все именно так и произошло: Хорст Фехнер отказался от квартиры, в которой он жил вместе с Изабель почти четыре года. Для меня это было крепким ударом в спину. Четыре последующие недели я оплачивала детективу наблюдение за квартирой Изабель и ночным клубом. Я была уверена, что Хорст Фехнер не откажется просто так, без церемоний, от своего золотого бычка. Я хотела, также, иметь его свежую фотографию, но вместо этого получила только круглый счет. Фехнер скрылся. Как будто исчез с лица земли, сказал детектив: «Это значит, что он сбежал за границу, чего я не могу, к сожалению, утверждать с полной уверенностью. Я только краем уха в баре кое-что слышал». «Почему?», спросила я. «Должна же быть причина». Детектив многозначительно пожал плечами. «С такими парнями никогда не знаешь, что произошло – неприятности с полицией или с сообщниками. С Фехнером, кажется, обе версии соответствуют действительности». «Это могло быть также уловкой», сказала я. «Может быть, он заметил что Изабель была под наблюдением. Он не может рисковать, чтобы его видели рядом с ней, пока мой брат у нее днюет и ночует». Детектив не думал, что Фехнер его заметил. Он считал, что он разбирается в своей работе и был осторожен, и посоветовал мне переждать. По его мнению, большая любовь Изабель должна скоро развеяться, как дым. «Вы можете спокойно положиться на ее болезненную страсть», сказал он и ухмыльнулся. «После всего, что я об этой связи слышал, она и четырех недель без Фехнера не продержится. Поверьте стреляному воробью, я знаю этот сорт. Очень возможно, что она мечтает находиться здесь, в качестве окруженной заботой супруги, но жить так она бы не смогла. Ей необходимы щекотание нервов и, то и дело, хорошая взбучка, чего она не получит от вашего брата. Через пару недель она сбежит на поиски своего Господина и Повелителя, положитесь на это». Это звучало утешительно, но не было, однако, гарантией, которой можно было довериться. Я поручила ему наблюдать дальше и выяснить местопребывание Фехнера, чтобы я могла подсказать это Изабель, когда ее одолеет тоска. А если бы этого не случилось, то я собиралась немножко помочь. Я играла с мыслями, предложить ей определенную сумму, чтобы она добровольно убралась. А тремя днями позже, Роберт сообщил мне, что собирается на ней жениться. Это было в начале апреля. Дата уже была назначена. Это было так неожиданно! Он выбил у меня почву из-под ног. В первый момент я вовсе не знала, что я должна ответить. Тогда я попыталась ему бережно сообщить то, что я узнала. Я думала, что у меня достаточно фактов на руках. Только я не хотела сразу пускать в ход тяжелую артиллерию и начала осторожно: «Ты не должен слишком торопиться, Роберт, так долго ты ее еще не знаешь. Она молода и очень красива, я вполне понимаю, что она тебя привлекает. Если ты хочешь с ней спать, делай это. Другие тоже это делают, потому, что она – проститутка». Сначала Роберт отреагировал с изумлением: «Чепуха, Миа, как у тебя появилась такая абсурдная идея?» Когда я не сразу ему на это ответила, он добавил: «Я знаю, что ты не любишь Изу, но я должен тебя попросить сдерживаться в выражениях». «Женщин, которые четыре года живут с сутенером и, по его команде, идут на содержание к другим мужчинам, именно так и называют», сказала я. Роберт закатил раздраженно глаза. «Откуда ты знаешь про Фехнера?» «Означает ли это, что ты тоже про него знаешь?», спросила я. «Сначала я хочу получить ответ», потребовал он. Итак, я рассказала ему, что я о нем беспокоилась и чтобы его защитить, наняла детектива, который, в ходе своей работы, вытащил на свет некоторые неутешительные факты. В начале моего объяснения Роберт еще улыбался, а когда я закончила, спросил: «Находишь ты это справедливым, Миа?» Тогда он стал говорить, начав это так: «Мне очень жаль, Миа». Он мне солгал. Неоднократно он заверял, что это не Изабель побудила его быть скрытным по отношению ко мне. В этом я ему не верила. Я была убеждена, что он сразу в начале знакомства, рассказал ей обо мне, о нашей близости, о наших интенсивных отношениях. И она посоветовала ему молчать, чтобы я не могла перечеркнуть ее расчетов, пока они еще не дали плодов. Он знал ее уже в течение двух лет и за все время не проронил об этом ни слова. Он даже представлял мне других женщин, правда, не для того чтобы ввести меня в заблуждение. «Я не хотел Изу к себе привязывать», сказал он. «Она казалась мне слишком молодой. Я хотел ей только помочь освободиться от Фехнера». Он познакомился с ней после успешной деловой сделки. Один финансовый маклер пригласил его в этот бар, чтобы отпраздновать триумф. В тот вечер она была только молодой, хорошенькой девчонкой – веселой и занимательной. Девочкой, с которой можно провести пару приятных часов. Получили ли эти часы завершение в номере его отеля, об этом он мне не сказал. О чем мне знать с такой точностью, совершенно и не хотелось. В первый год он видел ее только от случая к случаю, когда должен был заночевать во Франкфурте, и ему не хотелось весь вечер сидеть в одиночестве, в своем отеле. Малопомалу, она ему поведала драму своей жизни. И, при этом, они постепенно сблизились – приблизительно так, вероятно, как я сблизилась с Сержем Хойзером. В начале Роберт и не думал о прочных отношениях. И еще шесть месяцев назад казалось, что с ней не может быть никакого совместного будущего, сказал он. Поэтому он старался сохранять дистанцию, не подпускать ее к себе очень близко, чтобы потом окончательное расставание не причинило боли. Как он это живо описывал - мне сразу стало ясно, что он многократно пытался поставить точку. Только Изабель и ее любовник не могли этого допустить. Крупной рыбе не дают так просто сорваться с крючка, ее держат крепко и осторожно вытаскивают на берег. Я поняла, почему исчез Фехнер. Только затем, чтобы дать Роберту понять, что путь свободен. В декабре они уже разок проделали с ним эту игру. Это было то время, когда я была у Лучии в Испании и считала, что он в Швейцарии, вместе с Олафом Вехтером; когда он звонил мне каждый вечер, чтобы спросить, все ли у меня в порядке; когда я получила от него с полдюжины почтовых открыток с видами снежных гор. Он провел тогда четыре недели с Изабель - в квартире, которую снимал Хорст Фехнер и, обычно, делил с ней. В это самое время, якобы, находился Фехнер в короткой отсидке. А Олаф был один в Швейцарии, вооруженный полудюжиной заполненных почтовых открыток. Он же и предложил обойти меня таким образом - сам бы Роберт до этого не додумался. В арест Фехнера я не верила. Об этом детектив гарантированно разузнал бы и, с радостью, доложил. Но все остальное было для меня более чем потрясением. Быть погруженной в самолет, как предмет багажа, который, иначе, только на дороге мешался. Каждый вечер быть по телефону обманутой, когда, вероятно, Изабель рядом стояла. Тут должно было у нее верное впечатление создаться. «Я не хотел действовать за твоей спиной, Миа», сказал Роберт. «Я только хотел предотвратить, чтобы ты, понапрасну, тревожилась. А ты бы это делала, если бы я тебе сказал, что Иза живет с имеющим судимость мужчиной, который, в настоящее время, снова находится в заключении. Олаф считал, что с почтовыми открытками я мог бы приобрести немного свободного пространства». До него не доходило, что он натворил, показав этой отвратительной шлюхе и ее любовнику, что меня можно безнаказанно водить за нос. Лично с Хорстом Фехнером, Роберт никогда не был знаком. Он видел несколько его фотографий и целую массу всего о нем слышал. В основном, естественно, от Изабель, но и в баре он услышал немного, краем уха. Неприятный субъект, жестокий и заурядный, но, при этом – вполне привлекательный, именно такой тип, который производит определенное впечатление на молодых женщин, считал Роберт. «Она поняла слишком поздно, с кем связалась. И у нее не было сил и мужества с ним расстаться. Долгие годы он был единственным, кто, в известном смысле, о ней заботился. Она чувствовала себя зависимой и обязанной. Ты не должна упускать из виду, насколько она еще молода, Миа. У нее же еще никогда не было шанса развить чувство собственного достоинства». Изабель все время подчеркивала, что она хочет уйти от Хорста Фехнера и всегда боялась его реакции. Он будто бы ей угрожал, исполосовать ее хорошенькое личико, переломать ей все кости и выбить все зубы, если она осмелится упаковать чемодан. Роберт ей, конечно, верил. Она, наверное, нередко показывала ему свои травмы. «Он ее неоднократно избивал», сказал он. «Не только руками и ногами. Меня тошнило, когда я видел ее раны». И, что и не могло быть иначе, Роберт чувствовал себя обязанным помочь этому бедному, достойному сожаления существу. Его не интересовало, как оценивал Изабель детектив. Он называл это слабоумием. «Миа, я люблю ее», сказал он. «Я люблю ее больше, чем мог бы тебе это разъяснить. И я знаю ее долго и достаточно хорошо, чтобы знать, что она меня тоже любит. В начале, возможно, это была только благодарность с ее стороны. Но теперь это больше, много больше. Я понимаю, что у тебя есть сомнения, но, пожалуйста, предоставь ей, все же, один шанс. Сделай это ради меня». Он потребовал от меня, чтобы я немедленно прекратила слежку за ней, в противном случае, он должен серьезно принять во внимание поиски дома, где он сможет, в покое, жить с Изабель. «Если этот детектив должен еще что-то получить, заплати ему», сказал он, «и скажи, что на этом заказ выполнен. Мы не интересуемся тем, где сейчас находится Хорст Фехнер, с кем он встречается и как проводит время. Если ты не будешь этого придерживаться, Миа, если ты новые открытия преподнесешь, тогда я ухожу, даже если я вынужден буду временно в отель переселиться». Я себя чувствовала такой беспомощной, днями еще после этого разговора была, как парализована, и в таком отчаянии, что не могла ухватить ни одной ясной мысли. Я не могла даже на мою еженедельную встречу с Пилем явиться вовремя. Вместо этого я отправилась к Олафу Вехтеру, делать ему упреки. Он еще и оправдывал свое поведение, даже не пытаясь, поначалу отрицать, что он подбил Роберта на это мошенничество. «Было самое время», сказал он. «Таким образом он мог, по крайней мере, разобраться в своих чувствах к Изе. Эти четыре недели дали ему достаточно мужества, чтобы суметь, в конце концов, тебе противостоять. То, что ты сумеешь найти в супе волос, он знал так же хорошо, как и я. Но он этому, слава Богу, не поддался, по крайней мере, до сих пор. А чтобы это так и оставалось, действительно наилучшим решением будет, если он переедет в отель и поищет для себя с Изой дом». Олаф не хотел ничего слышать о Хорсте Фехнере. Роберт кое-что рассказал, и ему этого было достаточно. Он не бросил ни взгляда на отчеты детектива, а только отмахнулся, когда я положила их ему на стол. За две недели до свадьбы Изабель переехала к нам. Это было моим предложением. Таким образом, я хотела показать Роберту, что у него не было причин меня покидать. И еще я думала, что смогу ее контролировать, если она будет находиться неподалеку. Роберт вздохнул с облегчением и был благодарен, что я прилагала все мыслимые усилия. Иногда он казался мне большим ребенком, радующимся полученному подарку. Этими двумя неделями он наслаждался всеми фибрами своего существа. Каждую свободную минуту он проводил с ней. Он ночевал с ней в комнате для гостей, в то время как заново отделывали его спальню – все, только самое изысканное. Дня не проходило, чтобы он не ехал с ней в город, и чтобы она не возвращалась оттуда без новых нарядов, украшений или чего-нибудь еще. А на выходных он ее вывозил - он посещал с ней театр, ресторан, или шел в концерт. Для меня эти четырнадцать дней перед свадьбой, были нескончаемой мукой. С каждым часом я теряла еще одну частичку последней надежды, что Изабель еще может исчезнуть. К сожалению, я так и не узнала, где находился Фехнер. Но я была уверена, что он крутится неподалеку от нас и она знает об этом. Что она только потому так невозмутимо шла на это бракосочетание, что Фехнер был в любое время в ее досягаемости. Я готова была ее сопровождать, если бы она одна отправилась в город. Только она ни шагу не ступала, без Роберта, за дверь. Я спала, самое большее, только пару часов после полудня, когда они с Робертом уезжали. Ночами я сторожила, не звонит ли она Фехнеру. Но настолько глупой, чтобы заниматься этим дома, она не была. Если у Роберта, вдруг, не было для нее времени, она ходила за мной по пятам и была кроткой, как овечка. Она позволяла подробно ей объяснять, как складывался, обычно, у Роберта распорядок дня, как функционировало наше домашнее хозяйство, кто заботился о саде и так далее, и тому подобное. Неоднократно она констатировала: «Тогда для меня здесь остается не так уж много дел». «Для тебя здесь целая куча дел», возражала я. «Жить в хорошем браке и позаботиться, чтобы Роберт был счастлив». Она посмеивалась надо мной. «Об этом я не должна заботиться, Миа. Он уже счастлив». Да, так это и было. Оба глаза скрыты за розовыми очками, оба уха закупорены любовным шепотом и голова, витающая на седьмом небе. И он не был единственным, кого ввело в заблуждение представление Изабель. Лучия приехала за два дня перед свадьбой и позволила обвести себя вокруг пальца. Я слышала от нее не один раз: «Роберто сделал очень хороший выбор. Она милая девушка, и такая хорошенькая». Мелкие колкости, глубоко впивавшиеся в мою плоть, не принимали всерьез ни Роберт, ни Лучия. Изабель не упускала ни одной возможности, чтобы нагло не ткнуть меня носом в мое увечье или внешность. Но делала она это только тогда, когда мы с ней были одни. И всякий раз она облачала свои намеки в одежки чисто человеческого интереса. «Ты никогда об этом не думала, сделать себе операцию, Миа? Если бы у меня были такие шрамы, я бы уже давно легла под нож. Ведь у пластической хирургии сегодня, такие возможности. – Почему ты не начала тогда писать, Миа? Это же и с одной рукой должно быть возможным. И Роберт сказал, что ты всегда очень хорошо рисовала. – Могу я тебя о чем-то спросить, Миа? Не сочти меня нескромной, это действительно меня очень интересует. Как ты это делаешь только с одной рукой, когда надеваешь лифчик или чулки? Я бы не смогла». Это был настоящий психотеррор. Иногда я думала, что она пошла в обучение к Пилю. Во всяком случае, она знала точно, в какие места наносить удар. С Пилем я говорила об этом неоднократно. Он предполагал, что моя проблема с Изабель объясняется ее внешностью. Здоровая и красивая молодая женщина рядом с моим братом – тут уж я вынужденно должна была опасаться потерять над Робертом свою власть. И никто не хотел видеть того, что действительно происходило, никто не хотел понимать. Собственно, даже Лучия была глуха к прошлому Изабель и к Хорсту Фехнеру. Она только выслушала меня, нахмурясь, и спросила: «Разве тогда не подозревала ты тоже, что у Марлиз нечистые намерения?» В конце концов, нет. Я только кратковременно предполагала, что там был еще другой мужчина. У Марлиз, когда ей было семнадцать лет, была, в течение нескольких недель, любовная связь с одним студентом. Она говорила открыто об этих отношениях и, казалось, немного тосковала, что меня, естественно, настораживало, но все оказалось совершенно безобидным. Студент был для Марлиз просто первой большой любовью обходительный молодой человек со средствами – никакого сравнения с Хорстом Фехнером. Однако Лучия не хотела с этим соглашаться. «Роберто объяснил тебе, что ты ошиблась», сказала она. «Почему ты не хочешь это признать, Миа? Ты видела фотографию, где Иза стоит рядом со своим братом и на ней надето ожерелье. И на основании этого ты сочиняешь некрасивую историю о другом мужчине. Был, правда, другой мужчина, Иза мне о нем рассказала. Но она счастлива, что его больше нет». Лучия пригласила Роберта и Изабель провести свадебное путешествие в Испании. Для меня это были еще четырнадцать дней, когда я будто на раскаленных угольях сидела. Могло, конечно, быть, что с фотографией я ошиблась, но Фехнер не был игрой воображения, он существовал. Даже, если бы Роберт еще сотню раз мне клялся по телефону, что он парит от счастья над облаками, я знала, что Изабель быстро вернет его обратно на землю. Я была права. Я только не ожидала, что она сбросит его еще ниже... Волберт и его молчаливый ученик вернулись в субботу перед полуднем, чтобы продолжить этот их фарс с расследованием. Они не сразу появились у меня - сначала основательно осмотрелись в кабинете Роберта. В пятницу они не могли зайти в комнату – дверь была закрыта, а ключ лежал или в управлении полиции, или в институте судебной медицины. Роберт носил его с собой. Так что, они только заклеили замок на тот случай, если в доме был еще один ключ, что, однако, не соответствовало действительности. Это было более чем странно. За все годы Роберт никогда не запирал свой кабинет. Фрау Шюр рассказала мне позже, что уже в четверг она не могла зайти внутрь, чтобы протереть пыль и пропылесосить. Я не могла себе этого объяснить. Волберт считал, что запертая дверь является доказательством того, что Роберт ожидал важное сообщение и хотел предотвратить, чтобы кто-нибудь из семьи подошел к телефону. Примерно около получаса после их появления в доме, я услышала, что оба мужчины поднимаются наверх. Некоторое время они беседовали с Йонасом и Изабель. А фрау Шюр использовала время, чтобы заставить меня, по крайней мере, кофе выпить. Когда она привела, потом, обоих полицейских в Ателье, Волберт выразил радость, что нашел меня в лучшем состоянии. Это была очевидная насмешка. Я должна была скверно выглядеть. Гораздо хуже, чем накануне. После того, когда я потеряла сознание, и они положили меня на софу, я только дважды выходила ненадолго из Ателье, чтобы сходить в туалет. Я не ужинала и не завтракала. Я, также, никому не звонила - ни Лучии, ни Олафу. О Серже нечего и говорить. Я ни с кем не могла разговаривать, я просто не могла этого выговорить. А сейчас об этом говорил Волберт. Пуля в левом виске. Очень маленький калибр, никакого выходного отверстия. Дальнейшие выводы должны быть представлены в судебно-медицинском заключении. Волберт спросил, был ли Роберт левшой. Я сразу поняла, куда он клонит, и покачала головой. Роберт владел левой рукой очень ловко, даже немного лучше, чем правой. Но он не мог себя убить. Это было абсолютно исключено. Даже Волберт не должен был этого допускать. Они же не нашли при нем ни оружия, ни даже патронной гильзы. «Или убийца унес гильзу с собой», сказал Волберт. «Или он пользовался пистолетом с барабаном». Он спросил об оружии, только для проформы, как он подчеркнул. У Роберта был один пистолет, надлежащим образом оформленный, с правом на ношение оружия. Несколько лет назад, в нашем районе произошла серия чрезвычайно жестоких ограблений. Ни сигнализация, ни сторожевая собака или, даже, задействованная служба безопасности, не могли остановить преступников. Роберт последовал – если даже и неохотно – примеру некоторых соседей и обзавелся оружием. Где он его хранил, я не знала. «В своей спальне», сказал Волберт и улыбнулся. Мы конфисковали пистолет. Это чистая формальность. Я уверен, что, как оружие преступления, он будет исключен после обследования. Калибр семь шестьдесят пять - тут вышла бы пуля. Другого оружия нет в доме?» Я снова покачала головой. Несколько недель назад, я попросила Сержа достать мне пистолет, что он немедленно и выполнил. Маленький револьвер, марки «Кольт» с маленькой коробочкой прилагающихся патронов, двадцать второго калибра. Роберт нашел вещицу в моем Ателье и забрал ее. «Что это значит, Миа?», спросил он тогда. «Зачем тебе эта игрушка?» Зачем же еще? Если в течение десяти лет мучиться от непереносимых головных болей. Если регулярно, раз в неделю, приходится выслушивать от какого-то халтурщика, что нет никакой органической причины, что есть только страх, страх потерять брата или, по крайней мере, контроль над ним. Когда приходится понимать, что единственного мужчину, который для тебя всем является, обманывают почем зря, и который закрывает оба глаза на действительность. Если из ночи в ночь слышишь, как он в соседней комнате немножко нежности вымаливает. Когда днями напролет он ходит только еще с этим удрученным взглядом. Когда он на каждое слово и каждый добрый совет этим «Пожалуйста, Миа, перестань наконец», реагирует. Чего же еще можно хотеть - с маленьким кольтом? Роберт его спрятал, но мне не понадобилось много времени, чтобы его найти. Но я не забрала его снова. Я думала, что достаточно того, что, в случае необходимости, я знаю, где он лежит. Теперь я себя спрашивала, знала ли Изабель тоже об этом. Маленький калибр, никакого выходного отверстия. Я была уверена, что знаю, из какого оружия был застрелен Роберт. Выкинула ли Изабель кольт, или у нее хватило дерзости положить его обратно, на место? Вероятно, нет. Настолько глупой она быть не могла. Если бы оружие нашли в доме, оставался только лишь маленький шаг к убийце. Половину ночи я провела за тем, что представляла, как Роберт лежал сейчас в морозильной камере в институте судебной медицины. А она лежала в теплой постели, которую он с ней раньше делил. Я обдумывала, как мне себя вести, когда полиция придет с дальнейшими вопросами. Высказать открыто мое подозрение? Что значит подозрение? Мою уверенность! Нет! Изабель была только моим делом. Я не хотела смотреть, как ее увезут. Я не хотела слышать, как судья приговорит ее к паре смехотворных лет заключения. Это было слишком дешево. Так что я промолчала, ни словом не упомянула, что незадолго до своей смерти, Роберт еще раз был у меня и потом поднялся наверх. И не один, попрошу заметить, не один! Поначалу Волберт был мил и неназойлив. Несмотря на то, что он задавал уйму вопросов, он не казался ни любопытным, ни надоедливым, а только лишь старательным. Друг и помощник в несчастье, которого не заботило то, что другие могли ему нашептать. Что изменилось, однако, как раз тогда, когда я начала считать его порядочным человеком. «У вас была ночью ссора с вашим братом». Это уже не было вопросом. Это было установленным фактом. «Я не могу припомнить никакой ссоры», сказала я. О чем я помнила, однако, не играло уже никакой роли. То время, которое я, со сбивчивыми мыслями и страшными представлениями, бесполезно потратила впустую, Изабель и Йонас, напротив, использовали основательно, чтобы содействовать работе полиции. То, что потом произносил Волберт, было уже только констатацией, и от меня он хотел только ее подтверждения. В последнее время у вас часто происходили стычки с вашим братом! В ночь на пятницу вы принимали алкоголь, и ваш брат дал вам, дополнительно, сильный медикамент против ваших болей! Могло ли быть, что эта комбинация является причиной вашего провала в памяти? Частые ли у вас затруднения с вашей памятью в последнее время? Нет, проклятье! Возможно, то тут, то там и не хватало нескольких часов. Допустим, что последние полчаса с Робертом тоже сюда принадлежали. Но мы не ссорились. Мы вообще никогда не ссорились. В то время, пока Волберт продолжал со своими вопросами, которые таковыми не являлись, его ученик слонялся по моему Ателье. Сначала он стоял перед одним из окон, смотрел в сад и бормотал что-то, про прекрасный вид. Потом его потянуло к столу, где лежали мои инструменты. В течение десяти лет лежали они там, не использованные, до последнего резца. После несчастного случая я не могла больше работать. Ваяние только с одной рукой, невозможно. Пробовать - я пробовала, но когда-то должна была капитулировать. Последняя скульптура, над которой я работала, стояла в углу помещения. Она была высотой в человеческий рост, покрытая покрывалом. Моя последняя работа, и моя лучшая. Последняя работа – всегда самая лучшая, пока она не закончена полностью. Я хотела назвать ее Циклопом, хотя она и не обнаруживала большого сходства с одноглазым великаном из греческой саги. Позже это вернулось злым предзнаменованием. Позже, это я была циклопом. Я только надеялась, что любопытный мальчишка не стянет покрывало и не начнет, при этом, задавать мне глупые вопросы. Мы праздновали, тогда, вступление во владение частью «Сезанна» - Роберт, Марлиз, Олаф Вехтер и я. Олаф распрощался незадолго до полуночи, сославшись на свою контору, где, на следующий день - аккуратно к девяти, его ожидали за его письменным столом. Было очень весело, и много выпито. Мы оставались до закрытия бара и только тогда отправились домой. Роберт сидел за рулем, Марлиз рядом. Она хотела сесть сзади, но я считала, что ее место рядом с Робертом. Итак, я втиснулась на запасное сиденье, непосредственно за Марлиз. Я хотела видеть Роберта и это было бы невозможно, если б я сидела сзади него. Он был в таком хорошем настроении, кругом счастлив и доволен. В течение вечера он выпил несколько бокалов шампанского - не так много, однако, чтобы быть неспособным вести машину. Этого было лишь достаточно, чтобы забыть о своей привычной предусмотрительности. Он стал по настоящему задорным и мы, вначале, получали от этого еще и удовольствие, чувствуя себя, с шампанским в крови, немножко, как на американских горках. И тогда - незадолго до одного, плохо просматриваемого, поворота - Роберт пошел на обгон. Там оказалось встречное движение. Я видела, приближавшуюся к нам навстречу, пару автомобильных фар. Роберт видел это, естественно, тоже и попытался снова вернуться в ряд. Но там был этот грузовой автопоезд, который он хотел обогнать... Марлиз умерла на месте - ей отрезало голову. Голова упала назад. Пожарной команде потребовались часы, чтобы ее и меня освободить из обломков. Я из этого ничего не видела и не слышала. Я была милосердно избавлена от вида ее отсеченной головы, лежавшей у меня на коленях. Роберт, к сожалению, нет. Он получил только незначительные ушибы, мог сам освободиться и, еще до прибытия спасателей, пытался нам помочь. Это почти лишило его рассудка. Он думал, что я тоже мертва, потому что мое лицо представляло примерно такое же зрелище, как и обрубок шеи на переднем сиденье. Правая часть была просто снесена. Это должно было выглядеть, как расколотый череп. Скула была только лишь раздробленной массой, челюстные кости и зубы были обнажены. Правое плечо было полностью разбито. Месяцами я лежала в клинике. Правую руку мне удалось сохранить только благодаря одному высококвалифицированному хирургу. Она неподвижна, но, по крайней мере, свисает все еще с моего плеча. Мой правый глаз спасти не удалось, так же, как и отношения с Олафом. Он приходил ко мне каждый день. Сменяясь с Робертом, час за часом сидел у моей постели, когда я еще даже не приходила в сознание. Позже я слышала от Роберта, что в первые дни Олаф не отходил от меня ни на минуту, держал мою левую руку и умолял – не покидай меня, Миа, я люблю тебя, ты мне нужна, и так далее... Когда я пришла, наконец, в себя, он сделал мне предложение. Он размечтался, как гимназист. Свадебное путешествие в США. «Это будет сказочно, Миа. Ниагарский водопад, Лас-Вегас, все, что ты хочешь, Миа». А затем, переезд в новый дом. Он действительно уже купил для нас дом. «Зачем?», спросила я. «Наш дом достаточно большой для четырех человек. Собственно, даже если Марлиз родит полдюжины детей, у нас еще будет достаточно места». Тогда я впервые узнала, что Марлиз не пережила автокатастрофу. Вся моя голова еще находилась под повязкой, только левый глаз и кусочек рта оставались свободными. Я не могла кричать. Я даже не могла его ударить, я могла только шептать. «Ты, подлый мерзавец. Ты предлагаешь мне свадебное путешествие. Я должна развлекаться в ЛасВегасе, в то время, когда мой брат задыхается от чувства вины? Ты думаешь, что я смогла бы оставить Роберта одного в такой ситуации? Именно сейчас?» «Роберт согласен», сказал Олаф. Да, естественно. Роберт был со всем согласен. Роберт принимал свой смертный приговор и даже собственноручно завязывал петлю. Вероятно, он дал бы палачу еще и щедрые чаевые, чтобы не видеть дольше того, что он натворил в минуту безрассудства. Это безжизненное, изувеченное тело его жены. И меня. Я же должна ему показать, что он не положил конец моей жизни. Что я могу еще наслаждаться – думать, видеть и просто существовать. Я должна помочь ему сбросить эту жуткую груду, которую он взвалил себе на плечи. Мой кроткий, милый, щедрый, добродушный брат, который никогда бы не смог, умышленно, причинить человеку зло. Который только один раз, в течение пары секунд, неправильно среагировал. Олаф расстался со мной, пока я лежала в клинике. Он не может долго делить женщину с другим мужчиной, объяснил он. Даже тогда, когда этот другой является единственным братом. Он надеется, что мы останемся хорошими друзьями. И так далее, и тому подобное. Еще в течение недель после этого разговора, он посылал мне, каждый второй день, букет цветов. Я впадала в истерику всякий раз, когда сестра, с пышной охапкой, входила в комнату. Но и это прошло. После шести месяцев и, в общей сложности, пятнадцати операций, меня выписали из клиники. Роберт отвез меня домой. Он был таким маленьким, тихим и беспомощным. Мы целый вечер сидели в его комнате. Он поменял обстановку, все было так, как до его свадьбы с Марлиз. Но он ни о чем другом не мог говорить, только об этом страшном моменте. «Она была так полна жизнью», сказал Роберт. «Она наверняка была бы хорошей матерью. Я все разрушил. Если бы я мог только это как-нибудь исправить, Миа». В конце концов, я подвела его к тому, чтобы сменить тему. Он рассказал, как в прошедшие недели у него побывал Олаф, чтобы аппелировать к его здравому смыслу. «Если бы не Олаф, то я бы здесь не сидел», сказал он. «То, что Марлиз у меня на совести, это уже скверно. Но она не должна больше страдать. И врач сказал, что она не мучилась. Это произошло так быстро, что она даже не понимала, что ее ожидает. Но ты, Миа, ты должна была понимать, и ты уже месяцами страдала, и ты...» «Это неправда», возразила я, перебив его этим. «Врачи позаботились о том, чтобы мне почти не было больно. То немногое, что я еще чувствовала, было мне необходимо, чтобы знать что я еще жива. И это же самое главное, не правда ли? Я жива». Он покачал головой, очень настойчиво и решительно. «И при каждом взгляде в зеркало, видишь, что я тебе причинил». «Ты мне ничего не причинил», сказала я. «Это была моя ошибка. Как раз я, сидела не на том месте. Если бы я села позади тебя, возможно, только бы ногу себе сломала». С минуту он смотрел на меня, потом пробормотал: «Возможно». И уже немного громче говорил дальше: «Что касается Олафа, Миа. С расставанием - это он никогда не имел серьезно в виду. Он думал, что так он сможет оказать на тебя давление, хотел тебя образумить, как он выразился. Ему это не удалось. Теперь я должен попытать счастье, он меня об этом просил». Он улыбнулся мне, так жалобно и незащищенно. «Если ты хочешь выйти за него замуж, Миа, если ты хочешь к нему переехать, я это понимаю. И я определенно ничего не имею против. Ты должна, по крайней мере, разок дом посмотреть - он чудесный. В каждой детали он принимал во внимание твой вкус. Он ждет, только, чтобы ты сделала первый шаг. Меня ты не должна принимать в расчет, Миа, правда, нет. Я справлюсь один, а ты ведь любишь его». «Забудь об Олафе», сказала я. «Он больше неважен». Но он считал себя очень важным. Он пришел к нам - тогда я была только-только пару дней дома и еще билась над тем, чтобы работать одной рукой. Олаф ухватился за это, как утопающий хватается за проплывающую мимо доску. «Мечты о славе рассеялись», констатировал он. «Но, вполне ведь могут быть и другие мечты. Я люблю тебя, Миа, я хочу, чтобы ты пришла ко мне. Нам необязательно жениться, если ты этого не хочешь. Но давай, по крайней мере, попробуем жить вместе. А когда ты немного придешь в себя, мы полетим в США. Не в свадебное путешествие, Миа, но я думаю, что там лучшие хирурги. Ты только посмотри, что они со своими «звездами» делают. Ты получишь свое лицо обратно, я тебе обещаю». «Это ты только мечтаешь», сказала я. «Если тебе не нравится мое лицо так, как есть, никто не заставляет тебя смотреть. Ты свое решение принял, на нем и остановимся. Не забудь, что это ты дал мне пинка, а не наоборот». «Бог мой, Миа!», вскипел он. «Я хотел тебя растормошить. Разве Роберт тебе этого не сказал? Он же согласен, чтобы ты ко мне пришла. Так это не может дальше у вас продолжаться. Вы съедите друг друга, теперь уж точно. Роберт это давно понял». Я запустила в него резцом, но не попала. Тогда я еще не так хорошо владела левой рукой. Прежде, чем закрыть за собой дверь, Олаф спросил: «Что, собственно, ты будешь делать, если это Роберт однажды захочет тебя покинуть?» К’Джоуль Достопочтенный Виртуальная хроника чертовщины и плутовства ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ о проникновении разведгруппы чертей в столицу Великого Альдеберана с целью получения сверхсекретной информации. Мобильный перпетолет чертовых разведчиков «Пылесосный Веник» благополучно вынырнул в ближайших окрестностях главной планеты Великого Альдебарана. Там посланцев Тартара уже поджидали некие темнокожие личности с искусственными мозгами. Оставив субспейсмарину под присмотром двух абсолютно молчаливых и угрюмых биороботов, представляющих собой ходячий арсенал на трех ногах с колесиками и с пятью руками-щупальцами, в каждой из которых было по тяжелому пулемету, гранатомету и шипастому кастету, разведчики спокойно пересели в стратосферную шлюпку. Кто из чертей не знает столицы Великого Альдебарана! Там, между прочим, имеются уютные районы, где живут в малиновых домиках, именуемых хазами, аристократические жиганы, дворянистые уркаганы, мафиозные бандиты с государственными чинами и регалиями, а также высокопоставленные шулера. День и ночь сия братия вкалывают до седьмого пота. Когда им это изрядно надоедает, они начинают гулять и куролесить под чутким присмотром филеров. Ночь стояла глухая и подслеповатая. Ветер простудно посвистывал в деревьях старого парка, в проводах разбитых уличных фонарей и в ментовских ушах. Трое фартовых чертей решительно шли на дело. И тут им, конечно, приспичило выпить, то есть им выпить очень даже захотелось. Конечно, они не пошли в шикарный ресторан. Чтоб не шухериться, черти решили намылиться в скромную забегаловку под названием «Знаешь ли ты Мурку?». В кабачке сидела она, Мурка, и сосредоточенно подсчитывала дневную выручку, когда нежно звякнул бронзовый колокольчик над входной дверью и в помещение вошли трое мужчин, держа в руках бластерные наганы. Один из них, здоровенный, толстый, вежливо обратился к женщине: – Здравствуй, моя Мурка! Здравствуй, дорогая! Как тут насчет легавых? Вопрос не застал Мурку врасплох. Даже злые урки, не говоря о легавых, и те боялись Мурки, ибо все доподлинно знали, что воровскую жизнь она вела и стряпала крутые дела. Содержательница тайной малины имела вставленный глаз-алмаз с рентгеноизлучателем. Мигнув этим красиво вставленным глазом, в котором метался пьяный рентгенов-ский ураган, и задымив пахитоской, она хрипло ответила: – Легавка отсель далече. Поэтому, фартовые парнишки, спокойненько располагайтесь в моей малине. От вас исходит приятный для меня чертов аромат. – Мурка, ты мой котеночек, цветок души моей, – сладко пропел один из вошедших с темными оливковыми глазами и в желтых ботиночках, – окажи нам любезность и обрати свой нежный взор на трех усталых и голодных путников. Не найдется ли в вашей благословенной уркаганами малине прохладительных напитков, утоляющих жажду, и вкусной, питательной шамовки, способной вызвать приятное слюновыделение? В ответ цветок души многозначительно улыбнулся и позвал кельнера: – Эй, Громила Потрошительный, что у нас там осталось? – Пяток жареных на вертеле циплюков и макароны с сыроежками, – ответил хиленького вида мужичонка, смахивая тряпочкой крошки со стола и поигрывая финкой. – Обслужи посетителей. – О, мы премного благодарны, прекраснейшая из прекрасных Мурок! – сладкоречиво произнес мужчина в модном парусиновом костюмчике, выбивая радостную чечетку своими желтыми ботиночками. Кельнер принес три вместительных миски с макаронами и отдельно противни с румяными циплюками. Потом небрежно швырнул на столик банки с острой приправой и любовно, осторожно поставил здоровенную сулею первоклассной сивухи. – Трескайте, чтоб вам не подавиться! – сказал он и принялся орудовать половой щеткой. Мурка, закончив подсчет денег, облокотилась на стойку бара и теперь лениво расстреливала своими глазками трех моложавых мужиков, подозрительно смахивающих на трех чердачных котов, которые шляются сами по себе везде, где им заблагорассудится. Когда посетители насытились и довольные откинулись на спинку стульев, в забегаловку вошло четверо парней в безрукавках и мятых шароварах. Один из них, здоровый и патлатый детина с фонарем под левым глазом, сразу же направился к кассе и громко гаркнул: – У нас кончилось горючее! – Заправка в двух милях отсюда, – как-то по-особому презрительно ответила хозяйка забегаловки. – Я повторяю для глухих: у нас кончилось горючее! – Не понимаю. – Мурка! – подал голос кельнер, передергивая затвор дубальтовки. – Эти молокососы хотят дармовой выпивки и больших неприятностей на свою дурную голову. – Сообразительный хрен, – ухмыльнулся патлатый, бросая равнодушный взгляд на скорострельную дубальтовку в руках кельнера. – Ты слышала, красотка? Выпивка нам, а неприятности вам. За последним дело не станет. Трое посетителей перестали потягивать винцо и с любопытством уставились на невоспитанную молодежь. В воздухе запахло не только жареными циплюками. Патлатый, не обращая внимания на посторонних зрителей, сунул руку в карман своих шаровар. – Поторопись, тугодумка, а не то я устрою из этого заведения тир с бегающими мишенями. С этими словами он извлек из кармана старинный многоствольный бластер и пальнул в потолок. На посетителей посыпалась гипсовая крошка. Хромой Бес чихнул. – Потише на поворотах, вонючая какашка не моей собаки! – угрожающе произнес Муссоли, сжимая кулаки. – Настоятельно рекомендую сниматься с якоря и срочно, под всеми дырявыми парусами уходить в открытое море, а не то мне придется заняться ремонтом твоей кормы! – Плюгавый! – не оборачиваясь, окликнул одного из своей шайки патлатый. – Пощекочи ножичком грубияна! А ты, хозяйка, гони монету и выпивку или мы очень обидимся! На этом его красноречивый монолог был прерван сокрушительным ударом в самый центр седалища. Тяжелый ботинок Вельзевула с такой убойной силой обрушился на корму наглеца, что тот перелетел через стойку и с воплем врезался в дверь холодильника. Тем временем приличных размеров ножичек Плюгавого описал крутую дугу и вонзился в дверь туалетной комнаты. Это за дело взялся Хромой Бес. Оставшимися двумя молокососами занялся Хоттабыч. Не успев опомниться, те вылетели сквозь град осколков витрины на улицу. За ними с истошным криком и на большой скорости покинул заведение Плюгавый, нелепо болтая вывернутыми из суставов руками. На ринге остался патлатый, находящийся в скучающем состоянии глубокого и беспробудного нокаута. Вельзевул, обойдя стойку, подошел к распростертому телу, небрежно взял его за ногу и, слегка крутанув над головой, отправил вслед за приятелями. – Неплохая работа, парниши! – восхищенно констатировала Мурка, помахивая короткоствольной ручной кулевриной. – А я уже подумала, что мне и кельнеру придется опять самим чуть-чуть драться. Впрочем, эта сопливая шушера не достойна моего внимания. Словом, я вам признательна за маленькое развлечение, а то от скуки здесь можно подохнуть. – Ерунда! – подмигнул ей Вельзевул. – Не люблю, Муреночек, когда мне мешают спокойно переваривать пищу, но зато люблю, как и ты, развлечься за чужой счет. – Пани Мурка, лучше вместо благодарности подскажите нам, где здесь поблизости можно снять скромную хазу, не привлекающую внимание полицейских мусоров, – сказал Хромой Бес, подходя к стойке. – Можно спокойно остановиться у меня, если это вас устроит, парниши, – ответила та. – У нас вполне приличный хулиганский район, куда легавые не любят соваться. Вы сами только что видели, кто здесь шляется, хотя в данном случае шваль, которую вы славно взгрели, явно приблудная. Я всех местных хорошо знаю, а они знают меня. Никто из блатных никогда не покатит на меня бочку ради каких-то жалких грошей. – Значит, никаких лишних забот и полная гарантия сытого брюха, – осклабился Вельзевул, поправляя перед зеркалом свой яркий, цветастый галстук. – Да, обо всем позабочусь я и мой помощник Громила Потрошительный? – кивнула молодка. – Он один стоит десятка самых крутых вышибал. Не смотрите, что с виду хилый. Это только с виду и с первого взгляда. Громила так финочкой умеет работать, что в миг побреет всех, кого надо. А дубальтовочка в его руках не один пулеметик заменит. – А куда он, между прочим, смылся? – оглядываясь во-круг, подозрительно спросил Вельзевул. – Громила! Где ты?! А-у-у!.. – не меняя позы, крикнула хозяйка забегаловки. – Иду, хозяйка! – откликнулся тот, вылазя из-под столика и отряхивая свою белую курточку. – Проверял, хорошо ли заминированы столики и нет ли подслушивающих «клопов», которые легавые всегда умудряются втихаря понаставить в общественных местах. – Так, значит, ты действительно хозяйка этого веселого заведения? – спросил Вельзевул, желая продолжить общение с красоткой, чьи женские формы ласкали его взгляд. – Да, с недавних пор. Мой бывший муж – недипломированный профессор философии криминального подполья и большой авторитет в уголовном мире. Однако недавно он ударился в идеализм и заявил мне, что отправляется на поиски основного вопроса всей мировой философии воровства и жульничества. Как вскоре выяснилось, этот «вопрос» был в юбке и при больших деньгах. Пришлось решать его посредством сходки основных авторитетов и соответствующей бракоразборки. Подошедший кельнер отвлек хозяйку от невыносимо печальной для нее темы «основного вопроса воровской философии», заявив, что пора закрывать малину и делать небольшой косметический ремонт помещения, слегка пострадавшего от незапланированных боевых действий. – Закрывать заведение будем, – согласилась Мурка. – А мелкий ремонт отложим до завтра. Сегодня же я угощаю всех здесь присутствующих. Плесни-ка, Громила, нам марочного первача. – Сию минуту, мадам Мурка! Кельнер метнулся на кухню и вскоре появился с пыльной бутылкой самогонного бальзама трехнедельной выдержки. Через полчаса угощение оплачивали черти. Еще через два часа они, громко горланя песни, поднялись к себе в номера. Последним брел Вельзевул, которого с обворожительной улыбкой поддерживала мадам Мурка. Утро следующего дня застало Хромого Беса безмятежно спящим на полу. Хоттабыч, похрапывая, спал на кровати, но в ботинках. А Вельзевул сопел, уткнувшись носом в соски хозяйки злачной забегаловки. Хорошенько выспавшись, разведчики основательно позавтракали и отправились выполнять исключительно важное разведпоручение. Райбург жил свой беспокойной жизнью большого города. Администраторы в белах рубашках и при обязательных строгих галстуках с портретом Императора потели над входящими и выходящими бумажками. Парикмахеры плотоядно щелкали ножницами, усердно борясь с волосатостью. Журналисты и писатели, преисполненные здорового оптимизма и желания сорвать хороший гонорар, носились, как угорелые, из одного издательства в другое. Работники фрезерного станка и других станков с энтузиазмом заводных кукол выполняли плановые задания, мечтая о квартальных премиальных. Короче, все шестеренки правильно крутились, все поршни правильно двигались, и все было так, как и должно быть на образцово-показательной фабрике с ее производственными помещениями и санаторно-курортными здравницами: одни трудились, другие бездельничали, а третьи старательно изображали надсмотрщиков и охранников священной империалистической собственности. В городской пешеходной толчее чертям частенько встречались суетливые монахи и монашки. Особенно преобладали братья и сестры различных нищенствующих орденов, которых легко можно было узнать по богатым власяницам из тонкого сукна, дорогим веревкам, опоясывающим их чресла, и по той бесцеремонности хорошо тренированных городских приставал, с которой они нахально требовали благочестивых пожертвований от спешащей по своим делам публики. Один из таких нищенствующих братьев, мордастый и горластый, прицепился к Хромому Бесу и принялся настырно клянчить подаяние, неустанно твердя: – Добрый и милосердный верноподданный, не скупись и подай грошик на благоустройство нашей смиренной обители, а не то плохо придется. – Кому это еще плохо придется? – взъерепенился Бес, испепеляя монаха взглядом. – Нам, конечно, – жалобно проскулил монах, обдав черта винным перегаром. – Братья решили приватизировать общественную баню для богоугодного очищения греховных тел от бытовой скверны, а денежек не хватает, спонсоры зажрались... Будь так добр, подай грошик на приватизацию, а не то... – Я сейчас тебе как подам в рыло, гнусное монашеское отродье, поганый лодырь и тунеядец, что света белого не взвидишь! – свирепо гаркнул Бес. – Кыш отсюда, проклятый частный собственник! – прикрикнул на монаха Вельзевул и показал ему увесистую дулю. Демонстрация грубой силы в виде крупнокалиберной дули подействовала безотказно. Монах тут же cчел за благоразумное ретиво смыться из зоны возможного обстрела. Правда, с почтительного расстояния он облаял несердобольных мирян самыми поносными словами антиклерикального содержания и на всякий случай тут же спрятался за спины прохожих, заметив, что усатый верзила злобно оглядывается. – Лучше с монахами не связываться, – мудро заметил Хоттабыч, ускоряя шаг. – Они очень мстительны. Еще – не дай Бог! – настучат на нас инквизиции, и потом доказывай, что тебя неправильно поняли. Особенно следует остерегаться зуизуитов. Этих пловом не корми, дай только поохотиться за кем-нибудь из губошлепистых правдолюбов. Через два квартала разведчики расстались, договорившись встретиться вечером в притоне мадам Мурки в Приблудном переулке. На долю Вельзевула выпала самая сложная и ответственная задача. Ему предстояло найти самый кратчайший путь, ведущий к пресловутой кормилице и вытряхнуть из старушенции всю душу вместе с необходимой информацией о незаконном сыне Императора. Проводив взглядом бывалого конспиратора Хромого Беса и Хоттабыча, которые поспешили на встречу с руководителем местного подпольного филиала заговорщиков, Вельзевул задумался. Он еще не знал, куда ему направить свои стопы, но тут ему помог счастливый случай. Немилосердно палило альдебаранское светило. Асфальт жег пятки даже через подошвы ботинок. Ощущение босоногого танцора на адской сковородке. Мокрая рубашка липла к телу. Сплошная баня с парилкой. Проклиная невыносимую жару, Вельзевул решил заглянуть в ближайший винный подвальчик, чтобы освежиться стаканчиком холодненького кислячка. Пройдя квартал, он заприметил именно то, что ему требовалось и чего ему хотелось. Фасад дряхлого трехэтажного дома украшала огромная металлическая бутылка, висящая на ржавой корабельной цепи. На бутылке бронзовели слова «Пей до дна!». Посетителей в маленьком, полутемном подвальчике было раз-два и обчелся. Муссоли заказал себе большой фужер светлого алигара, пачку сигарет, бульварную газетенку и начал осматриваться в поисках подходящего места. Неожиданно его внимание чем-то привлек крупный мужчина, сидевший в одиночестве за столиком около лестницы. Рядом пустовал стул. – Можно? – Муссоли кивнул головой в сторону стула. – Да, не занят. – Ну и жарища сегодня выдалась! – устало вздохнул черт, присаживаясь. – Припекает, – односложно ответил сосед и сделал большой глоток из своего фужера. Муссоли лицо мужчины сразу показалось знакомым. Неспеша потягивая вино, он начал осторожно присматриваться к соседу по столику. – Вы местный? – обратился черт к мужчине, щелкая зажигалкой и закуривая сигарету. – Да, – вяло ответил тот. «Неразговорчивый какой-то типчик, – подумал Вельзевул, пытаясь выхватить из памяти нечто неуловимо знакомое. – Ничего, приятель, я тебя раскручу!» – Не скажите, как мне проехать в зоопарк? Я из провинции и давненько не был в зоопарке. С детства питаю слабость к хищным зверюшкам. Оторвавшись от фужера, сосед снял солнцезащитные очки и начал обстоятельно рассказывать, куда и каким транспортом надо ехать, чтобы кратчайшим путем добраться до городского зоопарка, но сразу же предупредил, что зверинец уже приватизирован владельцем мясокомбината и поэтому не гарантируется наличие в нем какой-либо живности вообще. – Говорят, нынешний мэр хорошо погрел руки на новой экономической политике Императора, – заметил по этому поводу Вельзевул. – Да и его предшественник, судя по слухам, страстный демагог Попадыкало, все свое мурло сытной, жирной сметаной вымазал. – Говорят разное, – неопределенно ответил собеседник. – Только дурак или фанатик, будучи у власти, не извлечет для себя выгоду. А поскольку названные вами лица дураками или фанатиками себя не считают, то делайте из этого выводы. К тому же их опекают фавориты Императора, решившего капитально реконструировать партию абсолютистов и перекроить ее на свой монархический лад. Внимательно слушая соседа, всматриваясь в его зеленые глаза с плутовской искринкой и хитроватые черты лица, Вельзевул наконец-то узнал своего собеседника. «Да это же прощелыга Хитробой! – молнией мелькнуло у него в голове. – Его голос, его глаза... Да, это именно он. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Вот только наш приятель несколько потолстел и огрубел с возрастом». – Ладно, оставим прихватизаторов и съеденный зоопарк в покое! – широко улыбнувшись, сказал Вельзевул. – Лучше, старина, посмотри внимательнее на меня и вспомни охранника одной важной особы по кличке Чревоугодник. Напряги, напряги память... Вроде раньше ты на нее не жаловался. Надеюсь, с ней и сейчас все в порядке. Удивленный услышанным, собеседник Вельзевула около минуты молча рассматривал того, пока не округлил свои глаза и не вымолвил: – Это ты, Вель... – Тс-с-с! – приложил палец к губам Вельзевул. – Узнал-таки меня! Чокнемся по этому поводу! Чокнулись, заказали еще по фужеру, но засиживаться не стали. Тесный подвальчик не относился к разряду тех мест, где можно было откровенничать. Повеселевший Хитробой повел своего давнего знакомого на соседний тенистый бульвар, где они нашли уединенную скамейку, сели и... Неожиданно раздались гулкие удары армейского барабана и жизнеутверждающие звуки труб похоронного оркестра. Первым показался лохматый цирковой клоун на ушастом ослике, а за ним кувыркались десятка два акробатов в черных трико. Затем медленно выкатил грузовик с музыкантами в гусарских ментиках, наброшенных на голое тело. За грузовиком двигался похоронный катафалк, весь размалеванный рекламными призывами пить лимпо-пуку и пользоваться жувачкой, предохраняющей зубы от кариеса. В открытом гробу сидел скелетообразный тип с кислой харей и посылал всем глумливые воздушные поцелуи. Маски лицедеев, шествующих в похоронной процессии, были до смешного узнаваемы, ибо карикатурно копировали великих исторических и постисторических личностей. Вон мелькнула маска Амензахотепа ХIV, опального министра просвещения эпохи великих финансовых пирамид. Рядом с ним возникла маска батьки налетчиков МахнюкаЗагуляйпольского, прославленного анархиста и мемуариста, прославленного прежде всего тем, что анархию базарных отношений он объявил такой-то матерью порядка, о чем и сообщил в своих мемуарах. А вон показалась и скрылась маска недавно свергнутого деспота Булатного Хаза, изумительного гения политических интриг, склок и кабинетных путчей. – Какие странные похороны! – удивился Вельзевул. – Интересно, кого это так весело хоронят? – Не хоронят, а кое-что реанимируют, – поправил его Хитробой. – Это что-то совершенно новое в жизни Райбурга. Я ничего раньше не слышал о подобной развлекательной реанимации. Какой в ней смысл? – Свой смысл есть и в кажущейся бессмыслице, – многозначительно заметил Хитробой. – Власть имущие на нашей и других обитаемых планетах всегда любят маскировать свою глупость апелляцией к прошлому, уроков из которого они не извлекают и не собираются извлекать, так как считают, что нет ничего проще, как переписать историю по меркам собственных корыстных интересов. Есть над чем задумчиво похихикать. Времечко больно развеселое выдалось для философских размышлений и обобщений. Везут ожившего покойничка, чтобы все напряженно мыслили, кого бы еще оживить для удовлетворения инстинктивного чувства духовно-трупного голода. – Какого чувства? – недоуменно спросил Вельзевул, растерянно моргая. – Того самого, дорогой ты мой, которое хорошо консервируется с помощью гроба и гробовых дел мастеров. – Как же это может быть? – Черт его знает как! Я полагаю, что об этом Императора не худо бы спросить. Говорят, он до ужаса все знает и сам редактирует подобные сценарии! – Так уж и сам? – А может быть и не сам, – с сомнением в голосе ответил Хитробой. – Но какое мне, собственно говоря, до этого дело. – М-да... Дела, дела, – повторил несколько раз Вельзевул, косясь на спутника. – А твои дела как складываются? – По-разному... Хитробой, с которым читатель расстался в одной из предыдущих глав как с дипломированным ветеринаром Жаном Скапеном, ныне маскировался под тренера боксеров-гладиаторов и высокооплачиваемого вышибалу одного фешенебельного ресторана с весьма сомнительной репутацией. Его знакомство с Вельзевулом по кличке Чревоугодник нельзя было считать приятельским в полном смысле этого слова. Когда-то их познакомил Хромой Бес. Было это, чтобы не соврать, в самый разгар флибустьерской карьеры Хитробоя. В те времена заговорщики во главе с Люциферовым налаживали тесные контакты с пиратами и контрабандистами. Несколько раз Хитробой и Вельзевул выступали в роли телохранителей высоких договаривающихся сторон. Пока эти стороны секретничали, телохранители травили анекдоты и бдели хозяйскую безопасность. Тогдато Хромой Бес, давний приятель Хитробоя, и представил Чревоугоднику пиратского телохранителя, отрекомендовав его самым лучшим образом. Беседуя с Чревоугодником, Хитробой отдавал себе ясный отчет в степени риска подобной беседы. Из имперской прессы и объявлений по розыску опаснейших государственных преступников, он хорошо знал, что Вельзевул является верным слугой и помощником Люциферова-Сатанинского, предводителя мятежных чертей, приговоренного Высшим Имперским Судом к самой черной деструкции. Однако такого ушлого плута, каким был Хитробой, все это ничуть не смущало. За свой не слишком долгий век он повидал разное и побывал в таких передрягах, о которых лучше и не вспоминать. Сложнее было Вельзевулу. Он лишь мельком знал Хитробоя и ничего не ведал о том, в какую сторону изменились взгляды этого плута с крепкими кулаками. В жизни не редкость, когда даже самые надежные друзья вдруг, не с того не с сего, начинают выкидывать такие фортели, что впору поверить в существование нечистой силы, совращающей незаконными приемами кристально чистые души. Однако первое и самое предварительное прощупывание Хитробоя на предмет отсутствия у него порочных верноподданнических наклонностей успокоило посланца Тартара. Весь последующий ход короткой, но информационно насыщенной беседы, больше похожей на допрос, окончательно утвердил Вельзевула во мнении, что Хитробой – вполне надежный плут, не испорченный тлетворным влиянием лживой имперской пропаганды, обещающей одно светлое будущее взамен другому с частотой, с какой гулящая девка признается в любви до гроба своим клиентам. Не раскрывая сути дьявольского разведпоручения, Вельзевул скупо охарактеризовал некоторые второстепенные задачи своего визита в столицу и попросил Хитробоя оказать ему незначительную услугу. – Между прочим, – добавил он, – вместе со мной сюда прибыл твой приятель. Угадай, кто? – Уж не Асмодей ли по кличке Бес? – Угадал! Только теперь его кличут не Бесом, а Хромым Бесом. Он повредил себе ногу, спасая моего хозяина Люциферова во время сражения с имперским космическим флотом. – Как это его угораздило? – Ну, это долгая история. При случае он тебе сам расскажет. Давай-ка лучше к делу перейдем. Еще раз выслушав просьбу Вельзевула, Хитробой задумался, перебирая в памяти всех своих знакомых, которые могли бы помочь в поисках кормилицы незаконнорожденного сына одной весьма высокопоставленной особы. – Есть тут у меня один знакомый и вполне подходящий для тебя субъект, – наконец сказал он. – Этот субчик служит в полиции нравов, что отнюдь не мешает ему бесплатно наведываться к платным потаскушкам. У него имеется не менее похотливый дружок, работающий в Демографическом информационном центре. Можно попытаться через них выйти на эту таинственную кормилицу. – Почему бы и нет? Начинаем немедленно заниматься этими сексуалами. Первый этап операции, названной Вельзевулом «Их нравы», начался со звонка в полицейский участок. Господин Скапен пригласил к телефону лейтенанта Эротофайера. – Лейтенант Эротофайер внимательно слушает, – раздалось в трубке. – Привет, Альфред! Это – я, Скапен. Ты как, сегодня вечером не занят? – А что, есть интересное предложение? – Не было бы, не звонил. Тут несколько молоденьких провинциалочек объявилось. Жаждут столичных мужчин и острых эротических ощущений. Ты готов позабавиться? – Не откажусь. – Тогда захвати этого повесу из информцентра. Одним нам не справиться. – Захвачу. – До вечера. Повесив трубку, Хитробой сказал: – Все на мази. Прибежит как миленький и этого хлюста притащит с собой. – А теперь куда? – спросил Вельзевул. – Как куда? Надо подыскать подходящих девочек. Предлагаю навестить моего закадычного приятеля Фигаро. Асмодей его хорошо знает. В свое время мы с Фигаро много накуролесили и много лиха хлебнули. Сейчас он содержит косметический салон и бульварную газетенку «Замочная Скважина». В его салоне девочек хоть отбавляй. Мы немедленно идем к нему. ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, из которой со всей определенностью явствует, что чертовы разведчики успешно достигают поставленной перед ними цели и благополучно возвращаются восвояси. Косметический салон преуспевающего господина Фигаро, расположенный поблизости от престижного городского кладбища для придворной знати и буржуазных нуворишей, был весьма экстравагантным заведением под скромным названием «Эстетика посюстороннего мира». На подходе к салону, популярному среди любознательных кладбищенских экскурсантов и работников могильной лопаты, смысл его названия заявлял о себе душераздирающими стенаниями гоп-джаза и дьявольским воем сердобольной толпы жаждущих вкусить посюсторонней эстетики. Попытка какого-нибудь ротозея сходу проникнуть в салон – бесполезная и пустая затея, обреченная на полный и позорный провал, могущий ненароком обернуться траурным исходом. Толпящаяся публика плотно закупоривает врата салона и крайне враждебно относится к нахальным безбилетникам. Закурив и прикинув реальные возможность лобового штурма, Хитробой пришел к философскому выводу о полной неосуществимости революционной перестройки зловредных инстинктов толпы, а посему предложил воспользоваться черным входом. Нырнув в узенький проулок и преодолев баррикаду из многочисленных мусорных ящиков, компаньоны очутились в небольшом дворике, заваленным стеклотарой и отслужившими свой век гробами. Около входа с внушительно грозной надписью «Не входить без серьезной нужды!» застыл неприступной скалой детина с железными шарами бицепсов, наглухо забронированными мозгами, стриженым под колючую проволоку затылком и невыразимо равнодушным взглядом тусклых поросячьих пуговиц. Однако, узнав своего тренера и приятеля хозяина салона, он вежливо сплюнул, осклабился, расслабился и как бы нехотя, но дружелюбно пропустил посетителей в помещение. Длиннющий коридор со шныряющими по нему полуголыми девицами вел черт знает куда. Миновав коридорную кишку, пахнущий потом сладострастия, посетители очутились в прокуренном зале с низкими потолком, крохотной сценой и большущей стойкой бара. На сцене кривлялась и пыталась петь под «фанерную» свистопляску рослая дщерь в одежде из собственного кожпокрова и каких-то цветочных нашлепок. Слушателей или, как бы точнее сказать, зрителей ее «фанерный» вокал интересовал мало, если вообще интересовал, ибо они пришли сюда оценивать не музыкальное сопровождение эротического спектакля, а сам спектакль. Вслед за безголосой певичкой на сцену вывалилась девица борцовского телосложения, которая, не теряя времени даром, начало ловко срывать с себя разные ленточки, тряпочки и ниточки, мешающие обзору ее татуированной плоти, чем вызвала неукротимый восторг зала. Эти и подобные мизансцены сопровождались обвальным рукоплесканием и хлесткими взвизгами поклонников девственного натурализма. Немного поглазев на сексуальный парад, Скапен и Вельзевул чинно проследовали в кабинет маэстро. Фигаро, вальяжно развалясь в надувном кресле с освежителем, старательно чистил ногти маникюрной пилочкой, когда без стука распахнулась тяжелая дверь и в проеме возник Хитробой. – Принимай гостей, господин Фигаро. С этими словами он решительно шагнул в кабинет, а вслед за ним туда протиснулся шкафоподобный Вельзевул, который представился Маркелом Соломонотрягиным, мастером по выделке скальпов, изготовлению париков и частному сыску. Идя в косметическо-поэтический салон, Вельзевул и Скапен договорились не спешить ставить в известность маэстро о том, кто есть ху... на самом деле, чтобы не травмировать ранимую душу владельца салона не совсем приятными заботами. – Я к вашим услугам, мои друзья! – расцвел в радушной улыбке Фигаро, вставая навстречу гостям и раскрывая другу свои объятия. – Ко мне приехали закадычные друзья из родных скотобойных мест, – начал Скапен. – Мы хотели бы провести этот вечер в непринужденной беседе о пользе и вреде абортов, а здесь без женских консультаций нам никак не обойтись. Будь так добр, снабди нас смышлеными собеседницами до утра следующего дня. – Конечно, конечно, – ответил маэстро, оценивая хотя и дорогой, но довольно безвкусный наряд господина Соломонотрягина. – А что я буду с этого иметь для расширения своего умственного кругозора, развития дружеских связей и укрепления финансовых основ моего предприятия? – Вот очень и очень подходящая для этих целей книжица, написанная с использованием водяных знаков, – бухнул господин Соломонотрягин, бросая понимающий взгляд в сторону Хитробоя и одновременно протягивая Фигаро увесистый «томик» карманных размеров, выполненный в приятном кошельковом стиле. – Без преувеличения скажу: чтиво изумительнейшее. Очень способствуют культуртрегерской мозговой работе и интенсивному росту косметического самосознания. – Чудесно, чудесно, друзья мои! – затараторил Фигаро, быстро листая хрустящие страницы «томика». – Ого! Здесь почти пятьсот страниц. Судя по всему, это действительно весьма увлекательное чтиво. Сейчас я позову преотменных собеседниц. Надеюсь, вы останетесь довольны их интеллектом, не испорченным загнивающей буржуазной философией и моральными предрассудками. Подбежав к переговорному шлангу, Фигаро велел барманше вызвать посыльного. – Не хотите ли, друзья, преотменного фирменного коктейля из синюшной чертыхаловки, ядреного спотыкача и веселительного порошка мощного наркотического действия? – сказал он, затыкая переговорный шланг пластиковой бутылочной пробкой. Посетители одобрительно крякнули. Пока посыльной бегал за неиспорченными интеллектуалками, гости и хозяин заведения выпили по кружке коктейля. Потом выпили еще по кружке и закусили копчеными хвостиками жилистого хоботника. Фигаро поделился свежим сальным анекдотом. Его сальность пришлась по вкусу Вельзевулу, и он не удержался, чтобы не поведать анекдот о проказах нечистой силы в женской бане комунхоза. Наконец пожаловали говоруньи. Сексуально озабоченные посетители салона засуетились, заторопились и начали срочно прощаться с Фигаро, который с хихиканьем многозначительно подмигивал им, показывая неприличные жесты. Коттедж Скапена находился далековато от косметическо-поэтического вертепа. Погрузив девочек и Вельзевула в заказанный по телефону стреколет, Хитробой велел водителю гнать что есть мочи. Через час должны были пожаловать Эротофайер с приятелем. Приходилось торопиться. По дороге они спикировали на стреколетную площадку и наполовину опустошили ближайшую лавку с колониальными товарами, наполнив большие пакеты деликатесной вкуснятиной и горячительными напитками. Вы, конечно же, хотите знать некоторые пикантные подробности этой исключительно важной для чертей вечерней посиделки и возлежалки. Сразу же предупреждаю, что недостаточно самой изощренной читательской фантазии, чтобы на собственном, пусть даже самом скудном житейском опыте непосредственного общения со сладкоречивыми вдовушками и женами ответственных партработников, представить себе сюжет пирушки чертей с ведьмочками, которые за словом в чужой карман не лезут. Надо быть воинствующим мыслителем очень прагматической ориентации, чтобы уразуметь всю замысловатую диалектику перехода обсуждаемой категории «аборт» в необсуждаемую категорию «абордаж», иллюстрированную надлежащим эмпирическим образом. Во время бурного словоблудия и словоизлияния за столом и под столом тоже Вельзевул ненавязчиво, но методично обхаживал приятеля лейтенанта Эротофайера мистера Фиксли, магистра метафизических проблем демографической информатики. Естественно, бокал магистра не пустел, а мозги методично наполнялись деструктивной тарабарщиной. Довольно быстро мистер Фиксли начал лобызать господина Соломонотрягина и уверять его в своей вечном, нетленном дружелюбии. – Нет ничего вечного в этом прелестном мире, – властно, но убаюкивающе сказал господин Соломонотрягин, торжественно вручая мистера Фиксли красотке, уже разоблаченной посредством хитроумных метафизических приемов и простой физической сноровки. Когда говоруньи, жутко вихляя бедрами, удалились со своими кавалерами в опочивальни для задушевных бесед, Вельзевул заторопился. Предупредив Скапена, что к утру он вернется во чтобы то ни стало, разведчерт воспользовался стреколетом хозяина и вихрем полетел на встречу с Хромым Бесом и Хоттабычем. Оставив машину на площадке около полицай-управления и велев околоточному внимательно присматривать за машиной, Вельзевул быстро зашагал в сторону Приблудного переулка. Хромой Бес и Хоттабыч ждали его, не ложась спать и развлекаясь созерцанием двухсотой серии телесериала «Космические войны с чертями». – Где ты пропадаешь? – встретили они нетерпеливым вопросом начальника разведгруппы. – Все нормально, товарищи, – успокоил их Вельзевул. – Сейчас проведем закрытое совещание. Кстати, тебе, Хромой Бес, передает привет Хитробой. Знаешь такого? – Неужели жив и здравствует обормот? – Еще как жив! Скоро ты с ним встретишься. – Интересно, а что слышно о нашем общем с ним приятеле Фигаро? – Ваш Фигаро процветает во всю и, как следствие, пахнет дорогим одеколоном. Но мне сейчас, товарищи, не до всяких там лирических воспоминаний. Начинаем закрытое совещание. Быстренько выкладывайте все, что разузнали о кормилице. – Можно мне первому? – поднял руку Хоттабыч. – Можно, – сказал Вельзевул, переходя на шепот, подобающий ответственному секретному моменту. – Слово предоставляется товарищу Хоттабычу, – Пока информации маловато, – прошептал Хоттабыч, прикрывая рукой рот. – Известно только, что конец ниточки находится в Демографическом информационном центре, который контролируется тайной полицией и агентами Святейшей Инквизиции. – Любопытное совпадение, – проронил Вельзевул. – Какое совпадение? – заинтересовался Хромой Бес. – О чем это ты? – Тс-с! Не так громко. Враг не дремлет. Я тоже вышел на этот Центр, – ответил Вельзевул, бдительно озираясь. – Значит, мы на верном пути, товарищи. – В данном случае отличился Хоттабыч, который с помощью знакомого странствующего аскета, выступающего в цирке рыжим клоуном, нашел нужных нам информаторов, – понижая голос и напяливая до бровей кепку, сказал Хромой Бес. Узнав о немалом вкладе напарников в общее и чертовски важное дело, Вельзевул мгновенно порозовел, обрел второе дыхание и с его помощью торжественно, но осторожно выдохнул: – Спасибо, дорогие товарищи, соратники! Ваши фотографии будет заслуженно красоваться на доске почета Разведупра. – Всегда пожалуйста! – хором прошептали Хромой Бес и Хоттабыч. – На этом совещание закрывается. Идите и ложитесь спать сном праведников, товарищи! – приказал Вельзевул своим подчиненным. – А я должен вас немедленно покинуть, ибо у меня еще дел по горло. Обязательно встретимся завтра утром здесь же. Начал накрапывать холодный кислотный дождь, когда Вельзевул, поеживаясь и растирая руки, сел в стреколет и, щедро одарив промокшего околоточного пачкой махорки, ринулся в непогоду, в дождь, в сырость и туман, туда, где его ждали эпохальные дела. Над поседевшим от вспышек молний городом ветер торопливо собирал мрачные тучи, предвестники большого дождя. Между тучами и городом не без вызова реял стреколет Вельзевула, очень подобный черной молнии на мужских брюках. То колесом верхушек деревьев касаясь, то стрелой взмывая к озверевшим тучам, он натужно стрекотал, и тучи, разумеется, слышали дьявольскую радость в смелом стрекоте машины. В этом стрекоте явно сквозила жажда революционной бури. Только глупые и мокрые, как болотные лягушки, прохожие спешили спрятать свои телеса в утесах небоскребов. Хихикая над ними, гордый от возложенной на него миссии Вельзевул реял смело и свободно над седым от пены кислотного дождя городом. Все мрачней, мрачней и все ниже, ниже тучи опускались над городом под утробный грохот грома. Вот подхватывает ветер воду луж и щедро бросает ее со всего размаху в дикой злобе на рекламу разнообразных томпонистых затычек, разбивая в пух и прах дорогие рекламные щиты. Бросая вызов осатаневшему ветродую, стреколет реет с победоносным ревом. Вот он носится, как демон, – гордый, черный демон чертовой бури, – и стрекочет, и бормочет... Ветер подвывает... Гром подпердывает... Стихия! Буря! Скоро грянет еще одна буря – дьявольская, дьявольски революционная буря! – Даешь заваруху! – самодовольно кричит Вельзевул, чей стреколет нагло реет между молниями над мирно засыпающим городом. Когда адский вестник грядущих политических бурь и всяких потрясений основ Великого Альдебарана поднялся утром с постели, он уже не застал лейтенанта Эротофайера, который первым покинул дом господина Скапена, торопясь на службу. Вслед за Вельзевулом на кухню приковылял весь какой-то покусанный и поцарапанный, в одних подштанниках магистр с философическими взглядами на информатику и ведьмочек, легких на подъем и на словоблудие. Он долго и жадно глотал острый рассол, а потом по наущению господина Соломонотрягина выпил рюмку водки, выпил еще две, и у него что-то щелкнуло и закружилось в голове. Это начал работать околомыслительный аппарат. Магистру стало дюже хорошо, и ему опять захотелось побеседовать с девочками. Но тут его обескуражили известием о том, что девочки уже растаяли как утренний туман. Пришлось менять тему разговора. С активной помощью господина Соломонотрягина магистр стал охотно распространяться о пользе информации в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, социальными демагогами и контрреволюционерами. Слушатели поддакивали ему и жаловались на недостатки в работе некоторых информационных служб. – Вот мы у себя в провинции, – сокрушался господин Соломонотрягин, алчно поблескивая своими бычьими глазами, – все никак не можем наладить постоянный информационный обмен с вашим Центром. Отсюда все наши беды с низкой деторождаемостью и ростом подпольных абортариев. А все почему? А все потому, что дает о себе знать низкое качество техники и недостаточная квалификация специалистов. – Здесь т... техника не при чем, уважаемые! – заплетающимся языком отвечал магистр, подслеповато щурясь на свое отражение в бутылке перцедора. – Наш Демографический информационный центр работает в сверхсекретном режиме. П... понятно? – Ничего не понятно, – недоумевал господин Соломонотрягин, разливая перцедор по рюмкам. – Какое такое отношение имеет секретность к работе вашего безобидного Центра? – Ха! И и еще раз ха! С... са... самое прямое. Т... тот, кто владеет т... точной и исчерпывающей информацией, владеет властью... – Все это высокие слова, – скептически заметил господин Соломонотрягин. – Если вы такой всезнайка, докажите это. Например, помогите установить адресок одной старушенции, бабульки одной. – Тьфу! П... пара сущих пустяков. Это я могу сделать даже по телефону. – По телефону не надо. Это не очень интересно. Зачем беспокоить серьезных научных работников всякой мелкотравчатой ерундой? Лучше давайте прокатимся к вам на работу. Заодно вы поделитесь опытом организации информационных служб. Идет? – Идет... Я иду... вы идете... мы идем... Куда-нибудь идем, бредем или летим... Ха-хаха!.. – В таком случае выпьем еще по рюмочке на дорожку и закусим вот этой целебной таблеточкой, чтобы от нас не пахло перегарчиком, а потом прыг в стреколетик и полетели с ветерком. Если вы, господин магистр, не возражаете, то после осмотра достопримечательностей вашего Центра, мы вернемся сюда и вызовем девочек для продолжения бесед на интимные темы. – Я о-о-очень д... даже не возражаю. Почему я должен возражать? – промямлил магистр, опрокидывая рюмку и проглатывая таблетку, бесцеремонно засунутую ему прямо в рот Вельзевулом. После этой рюмки и целебной закуски магистр съехал со стула и свернулся калачиком под столом. – Хоттабыч! Где ты там? – Я здесь, о мой прямой начальник, – ответил джинн из соседней комнаты, где, сидя на ковре, он занимался медитацией. – Иди сюда и продемонстрируй силу своего джиннского гипноза. Магистр обязан выглядеть трезвым, но мало что соображающим. Подчиняться он должен только моим командам. Хоттабыч блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Через полчаса магистр был побрит, умыт, одет, обут и приведен в состояние безмозглого болвана, с полной солдатской дисциплинированностью выполняющего начальственные команды. Центр демографической информатики Великого Альдебарана находился в неприметном закутке столицы. Это было многобашенное крепостное здание из бетона и железа, неприступное для террористов-альпинистов и хорошо охраняемое ударным женским батальоном. Когда черный стреколет Скапена спружинил на простреливаемую со всех сторон площадку рядом с Центром, к нему тут же подбежали две охранницы, держа на поводке гончих псиц со здоровенными клыками и налитыми кровью глазами. – Пропуск! – истошно закричала одна из них, еле удерживая зло гавкающую псицу и судорожно размахивая противопанцирной гранатой. Пригасив недокуренную сигару о толстую подошву ботинка и спрятав окурок в золотой портсигар, Вельзевул послал охраннице воздушный поцелуй и тихо приказал загипнотизированному мистеру Фиксли послать воинственных бабс к их родным и неродным матерям. Тот так и сделал, предъявив свой пропуск с широкими полномочиями и множеством гербовых печатей, а затем сопроводил демонстрацию своего служебного могущества изысканно интеллигентным матом. Эта общепринятая форма казарменного обращения неотразимо подействовала на охранниц. Они кокетливо улыбнулись и разрешили двум пассажирам стреколета пройти в Центр по узкой асфальтовой тропинке, петляющей по минному полю. Служебный кабинет магистра представлял собой узкую, продолговатую камеру с маленьким зарешеченным окошком под самым потолком. Вдоль одной стены кабинета выстроились высокие сейфы, а около другой находился металлический стол с компьютером на нем и две табуретки, привинченные к полу. Мистер Фиксли, двигаясь как сомнамбула, подошел к компьютеру, включил его и принял выжидательную стойку исполнительного лаборанта. – Приказываю найти адрес кормилицы незаконнорожденного сына Папы Душецелительного, о которой известно, что она глубоко законспирирована, и больше ничего интересного не известно. Магистр, следуя приказу, пробежал тонкими пальцами музыканта полкового оркестра по клавиатуре. В ответ машина мгновенно выдала: «Данный адрес отсутствует в памяти первого уровня». – Что это еще за уровни? Откуда они взялись? – недовольно спросил Вельзевул. – Уровни секретности, определяемые спецслужбами, – бесстрастно ответил мистер Фиксли. – Тогда переходи на следующий уровень. На следующем уровне результат был тот же. – Уровни допустимой секретности исчерпаны, – голосом робота произнес мистер Фиксли. – А недопустимой? – раздраженно спросил Вельзевул. – Работа на недопустимых уровнях секретности категорически запрещена, если нет соответствующей карточки разрешения. – Плевать я хотел на твою карточку! – зло пробормотал Вельзевул. – Приказываю работать на недопустимых уровнях секретности! По застывшему лицу магистра пробежала легкая тень. Не без внутреннего сопротивления он хрипло выразил готовность подчиниться приказу, хотя и не прикоснулся к клавиатуре компьютера. – В чем дело? – недоуменно поинтересовался Вельзевул. – У меня отсутствует карточка разрешения. – Как же быть? – растерялся черт. – Можно обойтись без карточки? – В принципе можно, – равнодушно ответил мистер Фиксли, меланхолично колупаясь в носу. – Тогда не тяни резину! – почти закричал разведчик. – Есть, не тянуть резину. Магистру пришлось долго повозиться с компьютером, но в конце концов его усилия увенчались успехом – компьютер выдал то, что от него ожидал Вельзевул. Прочитав текст, выведенный на экран монитора и хорошенько запомнив его, Вельзевул пристально посмотрел на безмятежную физиономию мистера Фиксли и грозно приказал ему забыть абсолютно все, связанное с их совместным пребыванием в Центре. После этого они спокойно вышли из здания, сели в стреколет и взмыли черной молнией к затянутому тучами небу. – Пусть сильнее грянет буря! – загадочно улыбнувшись, изрек Вельзевул и похлопал мистера Фиксли по костлявому плечу. В уютный домик Скапена они вернулись, когда хмурое после вчерашнего дождя утро еще не уступило свои права полдню. Оставив магистра на кухне за столом с большим количеством горячительных напитков, Вельзевул уединился с хозяином на веранде. – Я сейчас мчусь к своим парням, и мы начинаем главный этап операции, – сказал Вельзевул. – А ты, Скапен, пригляди за магистром и хорошенько его накачай. Гипноз – гипнозом, но водчонка надежнее. Если операция пройдет успешно, мы его захватим с собой. Он много знает и еще пригодится нам. – Будь спокоен. Не тратя времени на лишние слова, Вельзевул покинул веранду и рысцой поспешил к стреколету. Хромой Бес и Хоттабыч прикрывали Вельзевула, когда он в форме почтового служащего приближался к дому кормилицы незаконнорожденного сына Императора. Старушка жила в дальнем пригороде столицы. Ее небольшой домик, напоминающий долговременное оборонительное сооружение эпохи Большой Смуты, утопал в пышной зелени кустов сирелы поддубной. Госпожа Пульхерия Изыргилевна Касандриони кормила свою ненаглядную собачонку, сидя в беседке, увитой лианистым морковником. – Мадам Касандриони дома? – донеслось с улицы. Взяв громкоговоритель, старушенция солидным баритоном ответила: – Дома я. Кто меня спрашивает? – Почтальон Запечкин. У меня письмо для вас. – Проходите в калитку. Я ее сейчас открою. Взяв дистанционный пульт управления, госпожа Касандриони нажала на кнопочку. – От кого же письмо для меня? – пробаритонила старушка, когда почтальон застыл перед ней в почтительной позе. – Обратный адрес не указан, – равнодушно ответил тот, протягивая увесистый конверт, больше смахивающий на бандероль. Вооружившись лорнетом, госпожа Касандриони маникюрным ножичком начала вскрывать конверт. Неожиданно конверт словно ожил, зашипел, из него заструился легкий желтый дымок. – Ап-чхи! – чихнула старушка и повалилась на бок. – Ап-чхи! – пискляво чихнула собачонка и тоже повалилась на бок. – Будьте здоровы! – вежливо промычал Вельзевул, плотно прижимая к лицу носовой платок, пропитанный нейтрализатором усыпляющего газа. Когда газ улетучился, он извлек из своей почтовой сумки резиновый шлем с длинными проводками, надел его на голову безмятежно спящей старушки, подсоединил проводки к прибору, величиной с обувную коробку, и щелкнул тумблером. Сканер начал выводить на небольшой экран информационную карту памяти мадам Касандриони, одновременно записывая всю поступающую к нему информацию на крохотный лазерный диск. Все это длилось не больше минуты. После окончания сеанса сканирования психики старушенции Вельзевул торопливо спрятал аппаратуру и конвертик с газодуем в свою вместительную почтальонскую сумку, осторожно посадил бабулю в шезлонг и положил ей на колени спящую собачонку. Через час здорового сна она должна проснуться, ничего не помня о странном почтальоне и коварном письме. Операция была завершена. Теперь оставалось как можно быстрее сматываться с планеты. Скапен встретил Вельзевула тревожным сообщением. – Звонил Эротофайер и спрашивал, куда подевался магистр. Я ответил, что тот все еще развлекается с девочками и позвонит ему, как только освободится от излишков сексуальной энергии завзятого говоруна. Обычно лейтенант не очень заботится о своих друзьях, а тут вдруг позвонил. С чего бы это? Не нравится мне его заботливость, да и голос показался каким-то напряженным. Подозрения Хитробоя не были беспочвенными. Во время посещения Центра Вельзевул не обратил должного внимания на одного нищенствующего монаха, прогуливавшегося по вестибюлю с четками в руках. Но зато монах обратил на него внимания, так как хорошо запомнил дулю и злобное выражение лица немилосердного гражданина, явно настроенного против приватизации монахами муниципальной бани. От таких настроений за версту несло ересью и бунтарством. «Подозрительного субъекта сопровождает мистер Фиксли, – подумал монах и быстробыстро начал перебирать четки. – Мистер Фиксли – наш в доску стукач и вообще вполне приличная сволочь. Он не водит знакомств с кем попало. И почему у него такое бледное лицо с покусанным носом и поцарапанными ушами? Ох, все это мне очень и очень не нравится! Надо сообщить об этом туда, куда следует». И куда следует и о чем следует было немедленно сообщено. Столичная полицейская машина сработала мгновенно: колеса и колесики этой машины завертелись, набирая обороты. Засуетилось начальство, расторопно забегали нижние чины, пошли телефонные звонки. Один из этих звонков потревожил лейтенанта Эротофайера, а елейный голосок Ответственного секретаря Святейшей Инквизиции поверг его в ужас и панику. Сбегав в туалет, он принялся названивать Скапену. Узнав о звонке лейтенанта, Вельзевул почувствовал, что пахнет паленым. – Ты поедешь вместе с нами! – сказал он Скапену суровым голосом, не терпящим никаких возражений. – Заодно прихватим твоего приятеля, владельца косметическопоэтического салона. Здесь вам оставаться опасно. К тому же, если вас загребут, под угрозой окажется секретность нашей операции. Поэтому немедленно собирайся в дорогу! – Ну и влип я в историю! – сокрушенно произнес Скапен. – А между прочим, как мы будем покидать мой дом? Ведь его адрес известен Эротофайеру. И не исключено, что за домом уже установлена слежка. – Вероятно, ты прав – сказал внезапно охрипшим голосом Вельзевул, зябко поежившись. – В лесопарковой зоне нас ожидает космостратосферный катер. Но как добраться до этой зоны? У тебя есть какие-нибудь соображения? – Дай подумать, – почесал подбородок Скапен. – Думай, но только побыстрее. Промедление смерти подобно, как любит говаривать Янус Адольфович. – Придумал! У меня сосед работает водителем фургонохода. Как раз сегодня вечером он погонит свой фургоноход с грузом для сигаретной фабрики в соседний город. В душе и на деле он скромный контрабандист и карточный шулер. Если ему хорошо заплатить, он нас отвезет хоть на край света. – Отличная идея! – обрадовался Вельзевул. Не прошло и часа, как фургоноход уже стоял в назначенном месте за домом Скапена. Эта часть участка, на котором располагался коттедж, заросла колючим кустарником и хорошо скрывала узенькую тропинку, ведущую к незаметной калитке в массивной каменной ограде. Подхватив пьяного и ничего не соображающего магистра под рученьки, Хромой Бес и Хоттабыч поволокли его вслед за Вельзевулом и Скапеном к поджидающему их фургоноходу. Покружив по городу и убедившись, что никого и ничего подозрительного нет на хвосте, водитель фургонохода подкатил к заведению маэстро Фигаро. В тот злополучный для себя день и час хозяин популярного салона ломал голову над тем, как похитрее надуть налоговую инспекцию. Он даже не заметил возникшего рядом с его столом Скапена. – Дружища Фигаро, стряслась очень большая беда! – зловещим шепотом сказал Скапен. – Если не хочешь оказаться на грязных тюремных нарах, то бросай все и следуй за мной! – Что ты болтаешь?! – воскликнул маэстро, не отрывая головы от бумаг. – Очевидно, после вчерашней вечеринки еще не пришел в себя. – Мне сейчас не до шуток, идиот! Если не пойдешь сам, мне придется тебя маленько стукнуть по безмозглой головушке и объяснить всем, что ты нуждаешься в постельном режиме. Тут только до Фигаро начал доходить зловещий смысл сказанного. Будучи плутом со стажем, он не заставил себя больше уговаривать, выгреб все из сейфа, бросил ценности в несессер, черканул успокаивающую записку своему помощнику и последовал за Хитробоем. В пути машину несколько раз останавливала поднятая по тревоге полиция, разыскивающая мистера Фиксли и его возможных похитителей. Но опечатанные двери и исправные проездные документы не вызвали никаких подозрений у блюстителей закона. Вечерело, когда фургоноход свернул с шоссейной дороги на проселок и, монотонно урча, углубился в лес... ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ, завершающая и живописующая то, как Князь Тьмы под именем Змия Сатанаиловича Грехопадского коварно совращает с пути истинного Еву, в результате чего закручивается суматошная геоцентрическая История. «Знание – сила, не так ли?» – поинтересовался у человека один настырный демон философской мысли. «Именно так! Да, именно так оно и есть!» – подумал лорд-канцлер одного островного и очень туманного государства, радостно потирая ладошки. И тут же поспешил заняться очередной придворно-финансовой махинацией, идею которой ему намедни подбросил неунывающий толстяк Фальстаф, скептик и хулиган, бузотер и обжора, абсолютно уверенный в том, что в хорошо устроенном и вместительном брюхе сосредоточена вся жизненная сила разумных тварей, способная отличать вкусное от безвкусного, питательное от вредного для здорового тела, наличие которого очень желательно для эфирного существования здорового духа. Чертяка Фальстаф, он же небезызвестный нам Вельзевул, с большой ленцой, свойственной крупным натурам, то есть натуральным толстобрюхам, занимался темным промыслом, в просторечье именуемым космополитическим шпионажем. Само собой разумеется и даже подразумевается, промышлял он токмо высших целей низменной политики ради, точнее, неизменного политического курса своего господина. При этом верный слуга Князя Тьмы не страдал никакой мозговой ипохондрией, ибо в успехе крайне правого дела ни капельки и ни чуточки не сомневался, поскольку не придавал ему никакого значения. К слову сказать, подобные сомнения противопоказаны правильному пищеварению, оплодотворяющему правильное мышление. Вот и на сей раз Вельзевул, превосходненько справившись со сверхщекотливым и архиответственным заданием, был непоколебимо уверен в щедрых начальственных подачках, тринадцатой зарплате и кабацком празднике живота. Доставленная разведгруппой чертей информация, обладающая необычайно скандальной силой и эффектом большущей склочности, была в срочном порядке обработана и переслана на Землю за несколько напряженных телепатических сеансов. Еето и сообщил своему шефу Вий, перейдя от волнения на староскифский диалект с древнеславянским акцентом, чем привел Князя Тьмы в глубокую филологическую задумчивость. – А теперь, братец ты мой, займемся подготовкой некоторой текущей документации, – сказал Янус Адольфович, выходя из задумчивости. – Лезь в свой водоплавающий утятник и быстренько подготовь несколько фальшивок эксклюзивно правдивого содержания. Прежде всего мне требуется отредактированный вариант расшифрованного письма генерала Ордена Зуизуитов. Вот его оригинальный текст. В новом рукописном варианте должно быть ясно указано имя командира земных колонистов. Слепи также какую-нибудь ксиву о рождении Адамова. На следующий день Янус Адольфович, беспечно помахивая электродубинкой, замаскированной под ольховый прутик, и ведя в поводу словоохотливого жеребца, крадучись направился к усадьбе супругов Адамовых. Перед этим он долго и нетерпеливо выжидал, пока капитан-лейтенант не покинет дом по неотложным служебным делам. Только после отъезда его бронеавтомобиля Люциферов, проклиная ненасытных комаров, вылез из кустов на противоположном берегу лесного озера и взгромоздился на свое транспортное средство. Солнце начинало изрядно припекать. Воздух становился сладким как сироп. Поведя вспотевшим носом, Янус Адольфович вспомнил бабушкин мармелад из сахаристых поганок и мечтательно облизнулся. Когда до усадьбы оставалось ровно триста тридцать три метра, он спешился, подтянул галифе и тихо свистнул в глиняную свистульку. В ответ соловьем залился Тать Гопстопникович Разбойнюк, суперсекретный агент чертей с немалым стажем опасной для случайных прохожих работенки на хронотопных магистралях и топких гатях. Судя по соловьиным трелям, окольные звериные тропы к дому главного колонизатора были заблаговременно и очень тщательно заминированы. «Старательный Тать», – одобрительно подумал Янус Адольфович, приказавший использовать лесные привидения в качестве мин, всегда готовых взорваться страшно нецензурной бранью вкупе со зловещим ауканьем, мяуканьем и кукареканьем. Позитивно оценив усердие и старательность агента, Князь Тьмы чертыхнулся по поводу солнцепека, обливающего его липким потом, и поспешил к намеченной цели. Ева встретила Змия Сатанаиловича с радостью и немного лицемерным сожалением. Последнее было вызвано отсутствием мужа, с которым она хотела, а может быть, и не очень хотела, познакомить щедрого на подарки коммивояжера. – Ничего, мы еще успеем встретиться с вашим драгоценным супругом, – успокоил ее Змий Сатанаилович, скалясь в обворожительной улыбке завзятого сердцеведа. – Может быть, почаевничаем? – игриво предложила гостеприимная хозяюшка, задушевно подмигивая гостю и непринужденно поигрывая бюстом. – Что вы имеете в виду, сударыня? – смущенно поинтересовался тот, бурно краснея от предвкушения близкой победы над противником. – Очень приятственный напиток, сударь! Заваривается из листиков одного восточного растения и называется чаем. Повышает мужскую потенцию, а также интеллектуальное КПД. Настоятельно рекомендую попробовать. – Вы меня очень заинтриговали, милочка. Не откажусь от угощения. Авось предлагаемый напиточек заинтересует наших покупателей, мучительно страдающих хронической импотенцией на почве упорной борьбы за торжество науки над мистикой. За чаем с бубликами и ватрушками разговор зашел о невыносимых тяготах коммивояжерской жизни, о теневом бизнесе в условиях его рекламного освещения в прессе, о проводимой в империи политике колонизации, денационализации, приватизации и тотальной ваучеризации. – Вы уже, наверное, слышали, что у нас в империи намедни объявились фараоны... – начала Ева, держа четырьмя пальчиками блюдечко с чаем. – Кто, кто? – насторожился всезнающий Князь Тьмы, перестав хрустеть бубликом. – Неужели не слышали? Янус Адольфович насупился от столь бестактного во-проса, а Ева, не замечая мучительных судорог на лице коммивояжера, продолжала щебетать. – Фараоны – это талантливые архитекторы реконструктивно-деструктивного периода в экономике, специалисты по возведению финансовых пирамид на зыбучих песках дремучего невежества. Они такие заоблачные пирамиды выстраивают, что у публики начинается всеобщее умственное недомогание от финансовых афер, и вместо почтенных вкладчиков мы получаем презренных рабов фараонизма. – Вот это да-а! – непроизвольно восхитился Янус Адольфович. – Лично знакома с некоторыми из них, – похвасталась Ева, прихлебывая из блюдечка. – Мой папенька всегда советовал мне заводить полезные знакомства. – Ха! Ваш папенька – ей Богу! – не дурак. Да и вы, сударыня, как я погляжу, – не кисейная барышня. Уверен, мы быстро найдем общий язык. Это я говорю к тому, что, конечно, не мое дело лезть к вам, госпожа Ева, с маленькими советами, но мне, к сожалению, кое-что известно о тех дождевых тучках, которые сгущаются над вашей супружеской четой. Вот почему считаю своим долгом проинформировать вас кое о чем. Ева не ожидала такого поворота беседы. Она перестала уплетать мед и уставилась на Змия Сатанаиловича, растерянно моргая своими красивыми глазками. – Видите ли, госпожа, хотя я и мирный обыватель, но все же у меня кое-что не ладится с инквизиторами и политработниками идеологического фронта. В сущности они умелые мастера по выкручиванию рук, не дающих взяток, и выпрямлению мозговых извилин, но почему-то органически не переносят добропорядочных коммивояжеров и прижимистых ростовщиков. Мы не совсем вписываемся в их экономическую доктрину и посему подвергаемся несправедливым гонениям. – Но почему же вы не вписываетесь в эту самую доктрину? – встрепенулась Ева. – Они хотят слишком много и сразу, а мы категорически не желаем потакать их порочному стремлению рыться в наших недырявых карманах. И я поневоле вынужден иметь дело с теми, кто небескорыстно покровительствует мне. Некоторые из этих покровителей питают непреодолимое отвращение к институту Святейшей Инквизиции и партноменклатуре, верному оплоту монархии. От них-то я и узнал одну страшно интересную историю, где главную роль играют братья террористического Ордена Зуизуитов. – Вы сказали – Ордена Зуизутов? – вздрогнула Ева, едва не поперхнувшись пряником. – Да, уже много лет тайные агенты Ордена разыскивают того, кто якобы связан родственными узами с самим Императором, чтобы беспощадно уничтожить его. Деталей всей этой злокозненной истории я не знаю, да и знать не хочу. Когда мои знатные покровители проведали, что я собираюсь в дальний коммерческий вояж и не исключено посещение Солнечной системы, они вызвали меня и передали для вас письма, предупредив об опасности для моей жизни, исходящей от этих писем в случае их обнаружения полицейскими ищейками. С этими словами Змий Сатанаилович достал из внутреннего кармана френча несколько конвертов и вручил их изумленной Еве. С опаской повертев их, она решилась и открыла первый из конвертов. Из него выпал пожелтевший от времени листок. – Нет, этого не может быть! – жалобно воскликнула она, кончив читать бумагу. – Что вас так страшно напугало? – деланно встревожился Змий Сатанаилович и заерзал на стуле от внутреннего удовольствия. – Вы знаете, что здесь написано? – махнула листком Ева. – Откуда? Не в моих привычках читать чужие письма. – Я, право же, не знаю... Может быть, я делаю что-то не то... Но я хочу, чтобы вы это прочитали. – Нет, лишняя информация мне не к чему. – И все-таки вы должны прочитать. В конце концов письма принесены не птичками в клювике, а вами. Читайте же! Ну! – Если вы так настаиваете... – Настаиваю, настаиваю и еще раз настаиваю! – завизжала Ева. Что оставалось делать нашему коммивояжеру? Конечно же, читать. С женщинами, попавшими в заботливо и умело расставленные для них сети, лучше не спорить. Излишняя драматизация ситуации только вредит интриге и ее главным зачинщикам. Быстро пробежав глазами текст, Змий Сатанаилович поцокал языком, нахмурился и молча вернул бумагу Еве. – Почему вы молчите?! – простонала Ева. – Немедленно говорите! Ну же! – Что я могу вам сказать? Краем уха мне приходилось слышать, что ваш супруг оказался, сам того не зная, в центре крупной политической игры. А теперь я вижу, что эта игра очень дурно попахивает, ну просто воняет несвежей зуизуитской мочой. Я маленький коммивояжерчик и не могу давать таким видным особам, как вы, свои глупые советы. Могу поделиться лишь кое-какими соображениями. – Делитесь! – топнула ногой Ева. – Мне приходится много ездить, зарабатывая на жизнь изнурительным коммерческим трудом. При этом я общаюсь с разными тварями, как разумными, так и неразумными. И вот что подсказывает мой жизненный опыт: если вас разыскивают зуизуиты, идеологическая, террористическая и коррумпированная опора трона, то спасение надо искать не у Папы Душецелительного, которого зуизуиты умудряются регулярно и вульгарно обманывать, а у противников Ордена. Думаю, некоторые из моих могущественных покровителей имеют связи с этими противниками, если сами не являются таковыми. – Помогите нам, добрейший Змий Сатанаилович! – взмолилась не на шутку перепуганная Ева. – Я немедленно разыщу мужа, и мы все эти вещи обсудим вместе. – Не торопитесь, – поспешил охладить ее пыл коммивояжер. – Впопыхах такие дипломатические вопросы не решаются. Мне нужен денек на раздумье. Пока ничего не говорите супругу. И давайте встретимся завтра в полдень у той дикой яблони, которая растет на развилке дорог, где мы с вами встретились и познакомились. Договорились? – Договорились, – тихо ответила поникшая Ева. На том чаевничанье и закончилось. Прихватив несколько ватрушек, посетитель покинул уютное гнездышко. За час до назначенного времени Янус Адольфович был уже около дички. Жеребца он спрятал в кустах орешника, чтобы тот не привлекал внимания, а сам устроился поблизости на брезентовом плаще. Закрыв глаза, мнимый коммивояжер задремал под негромкое философствование жеребца о проблеме выбора в безвыходной ситуации, о парадоксах небытия и антиномиях не совсем чистого в своих грешных помыслах разума, о смерти при жизни и жизни после смерти... Из дремотного состояния Януса Адольфовича вывел Люцефал, слегка лягнув его копытом. Мгновенно перевернувшись на бок, он увидел приближающуюся Еву и негромко окликнул ее. В ответ Ева пропела куплет из песни «Эх, яблочко, куда ты катишься?» – Как спалось сегодня? – поинтересовался наш провокатор, угощая Еву жувачкой «Яблоко моей мечты». – Плохо, – ответила та, с превеликим удовольствием отправляя в рот пластинку ароматной жувачки. – Какой уж там сон! Да и комары всю ночь назойливо пищали. Только мужа проводила и сразу сюда. – Понимаю, понимаю... Однако не все так плохо, как вам может показаться. Этой ночью я тоже мало спал и много думал о смысле космополитического менеджмента. Так или иначе, но я оказался вовлеченным в опасную для нас всех интригу со шкурными интересами ее участников. Поэтому мне приходится позаботиться о спасении собственной шкуры. А ее, как и, простите, ваши, можно спасти только совместными усилиями. – Пожалуйста, поконкретнее. – Полученные от меня письма вы должны показать мужу и сказать ему без всяких там обиняков, что есть заинтересованные в его безопасности лица. Сразу хочу предупредить вас, что не исключено наличие среди колонистов агентов тайной полиции и сексотов зуизуитов. Поэтому не следует ни с кем делиться информацией о родословной капитанлейтенанта. И вот еще что: я предполагаю, что ваш супруг наивно не поверит письмам и потребует более весомых аргументов. Таковыми я на данный момент не располагаю, но обязуюсь их заполучить. Придется набраться терпения. Дупло старой дички послужит вам на время моего отсутствия своеобразным почтовым ящиком или, если угодно, вестником об истинном положении вещей в трухлявом мире политических интриг. В дупло я положу вот этот крупный желудь, смахивающий на дикое яблочко. На самом деле это совсем не яблоко и совершенно не желудь. Это – мощный микротелепатор с автономным источником питания. Как обращаться с ним, вы узнаете из инструкции, которую я вам вручаю. Передав Еве листик с инструкцией, Янус Адольфович самодовольно и радостно подумал: «Клюет дуреха! Операция «Древо Познания» начинает успешно осуществляться». – Я постараюсь четко следовать вашим инструкциям и советам, – сказала Ева. – Тогда спешу откланяться, чтобы заняться важными делами в наших общих интересах. Целую ручки! – До скорого свидания, Змий Сатанаилович. – Бай, бай! Был чудесный вечерний час. Молочно-белая и щекастая луна начала поудобнее устраиваться на небосклоне. «О, женщины! – мысленно воскликнул Янус Адольфович, застегивая на груди стартовые ремни. – О, мужчины! О, единство и борьба противоположностей! О, моя любимая диалектика!» Мобильный перпетолет медленно взмыл над ночной лужайкой и выжидательно застыл. Секунда... другая... Старт! Катер осторожно фыркнул и темным клопиком быстро пополз по лунной щеке. Слеза скользнула по щеке Евы после того, как супруг обозвал ее дурой. – Я вовсе не дура, а вот ты самый настоящий стоеросовый дурак, болван, дубина бестолковая! – крикнула она и швырнула недомытую тарелку на пол. – Бей, бей посуду! – нервно проорал супруг, топорща свои рыжие усики. – Только не болтай глупости! – Глупости?! Я болтаю глупости?! Ты лучше вспомни свою творческую биографию! Неужели в ней все так гладко и безоблачно?! Вспомни, как ты сам признавался мне шепотом в том, что подделывал оценки в школьном дневнике и воровал гарбузы у соседей по даче. – Ничего не буду вспоминать! Отстань! – Нет, вспомнить надо хотя бы ради нашего будущего и твоей карьеры. – Причем здесь карьера? – А при том, что я ожидаю ребенка, которого надо будет кормить, одевать, обувать и прилично воспитывать. – Какого еще ребенка?.. – Того самого, которого я ношу под сердцем! Бравый капитан-лейтенант оробел, пробормотать что-то невразумительное, потом бросился к жене и начал пылко ее целовать. Обычная картина. – Прости меня, зайчик! – скороговоркой говорил он. – Я сделаю все, что ты пожелаешь! Как сказал бы заштатный конферансье, вот вам еще один смешной анекдот. – Так что, будем признаваться или запираться? – вернулась к прежней теме неумолимая Ева. – Будем признаваться, – понуро ответил супруг. – Но в чем? – Во всем и по порядку! – К большому своему сожалению, я не слишком обременял себя запоминанием всех деталей счастливого детства, радостного отрочества и пылкой юности. Тетушка, у которой я воспитывался, рассказывала, что стреколет моих родителей Глиноземных был внезапно застигнут сильной бурей и потерпел аварию. Это произошло через год после моего рождения. В доме тетки до сих пор хранится семейный альбом с фотографиями родителей. Отец работал садовником в парке на необитаемом острове, а мать – садовницей на том же острове. – И это все? – тоном неумолимого председателя ревтрибунала спросила супруга. – Кажется, да, если не считать того, что мне дали фамилию Адамова, дабы не ранить мою тонкую психику нежелательными воспоминаниями о прошлом. – Как поживает сейчас твоя, так сказать, тетка? – Она в полном здравии. – В последнее время твоей личностью никто из официальных лиц не интересовался? – Только князь Рафаил Львович. – Он был здесь не случайно? – Я не должен тебе это говорить, но скажу. Князь был у нас отнюдь не проездом. Опять поднимают голову черти. Император встревожен этим. Он даже передал мне через Рафаила Львовича личное послание. – Император?! Личное послание?! И ты молчишь?! Я твоя жена или наемная кухарка?! Как это все следует понимать?! – Просто не хотел тебя тревожить, душечка. – Какой заботливый! Хорош муженек, нечего сказать! О грозящей нам опасности я узнаю от случайного коммивояжера. – Что еще за коммивояжер? – встрепенулся подследственный. – Был здесь один симпатичный альдебаранин, который искал с тобой встречи, но... – Но? – В силу известных тебе обстоятельств, касающихся нас и его, он вынужден был срочно покинуть Землю. Затем Ева рассказала о своем знакомстве со Змием Сатанаиловичем Грехопадским, коммивояжером крупной акционерной фирмы «Шило и Мыло». – Ева! – взревел капитан-лейтенант, приходя в бешенство. – Ева, я уверен на все сто процентов, что этот Змий Сатанаилович – нечистая сила, злокозненный черт! Что ты наделала?! – Я ничего еще не наделала, но собираюсь наделать. Если он черт, то черт с ним! Что это меняет? – Как что?! Это может быть заурядной провокацией, о которой меня предупреждали князь и сам Император в своем личном послании. – Не похоже на провокацию, мой верноподданный лопух! – отрезала безапелляционно Ева, поджимая губы. – Заботливость Папы Душецелительного мне больше напоминает заботливость папы в прямом смысле этого слова, а не Его Абсолютного Величества об одном из своих подданных. Вся эта суета вокруг тебя очень подозрительна. – В чем-то ты права, – начал сдавать свои непрочные позиции припертый к стенке супруг. – Надо любыми способами искать достоверную информацию. – Вот и я говорю о том же. Давай попытаемся выжать эту информацию из коммивояжера, не слишком пугаясь его политических симпатий. – Уговорила. Давай попытаемся. И капитан-лейтенант энергично взялся за дело. Он наведался к дичке и внительнейшим образом изучил микротелепатор. Игрушка ему очень понравилась. Удостоверившись в работоспособности телепатора, неустрашимый колонизатор поспешил составить криптограмму в виде развлекательного ребуса, как того требовала письменная инструкция, и начал телепатировать на указанной в той же инструкции замыслительной волне. Телепатические ретрансляторы чертей вмиг передали информацию по назначению. Вельзевул вихрем влетел в приемную Вождя. Не обращая внимания на грозные выкрики секретарши и на табличку «Без доклада не входить», он дернул на себя дверь кабинета... Вождь возлежал на диване и просматривал дайджесты. – Вот, Янус Адольфович, долгожданная криптограмма с Земли! – возбужденно прокричал Вельзевул, размахивая какой-то бумажкой. Янус Адольфович посмотрел на него поверх очков и протянул руку. По мере того, как он читал бумажку, лицо его багровело все больше и больше. – Что это такое? – громоподобно вопросил Вождь, вскакивая с дивана. – Расшифровка криптограммы. – Прочти! Вельзевул, перепуганный реакцией Вождя на радостную новость, начал читать, а тем временем Янус Адольфович, нервно сморкаясь, сел на край письменного стола и принялся гадать на картах о возможном исходе своей грандиозной авантюры, изредка бросая укоризненные взгляды на помощника. «Господину Маммону от Муссоли Вельзевула, – шевелил губами адъютант Вождя. – Сов. секретно. Прошу выделить мне из кассы взаимопомощи сумму в размере ста тысяч адских купонов наличными. Дата. Подпись». Когда побелевший от растерянности и страха Вельзевул скомкал бумажку, Вождь в бешенстве стукнул кулаком по колену. Взвыв от боли, он спрыгнул со стола и пошел в присядку по направлению к нерадивому слуге. – Я... я все перепутал, – трясясь и противно потея, выдавил Вельзевул, шаря по карманам. – Вот она, проклятая бумажка! – Давай сюда, шельма! – зло прошипел Янус Адольфович. Поправив очки, он принялся читать. Текст гласил: «Господину коммивояжеру З. С. Грехопадскому от капитан-лейтенанта Адамова. Срочно! Категорически настаиваю на очевидных фактах совершенно неочевидного и весомых доказательствах еще недоказанного. Требую также материальной компенсации за душевно-моральные страдания. Дата. Подпись». Янус Адольфович готов был вновь запрыгать, но на этот раз от переизбытка восторженных чувств и положительных эмоций. Однако он сдержался и мягко, поотечески сказал, обращаясь к Вельзевулу: – Ну чего трясешься, остолоп? Возьми себя в руки и слушай приказ. Если точно и быстро выполнишь его, получишь больше того, что выклянчиваешь у Маммона. Из кабинета с табличкой «Без доклада не входить» Вельзевул выбежал еще более радостным, чем был, направляясь туда. На этот раз ему предстояло внедрить надежных чертей в близкое окружение наследника престола Великого Альдебарана. В тот же день во дворце Императора было созвано секретное совещание, на котором Папа Душецелительный рвал и метал. Ему стали известны некоторые подробности визита Люциферова на Землю. Это совещание ознаменовало новую кадровую чистку и сопутствующую ей перетасовочную чехарду фаворитов. Пока в двух противоположных местах альдебаранской цивилизации бушевали полярные страсти, на Земле разворачивались драматические события. Под давлением неусидчивых аборигенов, произошедших от обезъянских племен, колонисты вынуждены были приостановить свою мирную деятельность империалистических звездопроходцев и взяться за дубальтовки, бластеры, многозарядные кулеврины... Но многочисленные орды, ватаги и банды самых отборных дикарей, осуществляющих внеочередное Великое Переселение в результате вспышки солнечной активности и мирового потопа, вызванного падением здоровенного метеорита на Землю, смяли заградительные заслоны альдебаран и отбросили их далеко на Запад. Отступающих под натиском превосходящих сил коварного и безжалостного противника вел за собой отважный капитан-лейтенант Адамов. Во время этих странствий у Евы родились два сына – рыжеволосый Авель, весь в папашу, и белокурый Каин, весь в мамашу. «А где же были имперские отряды сверхмобильного реагирования? – спросит дотошный читатель. – Где были таможенники Уриилзона и патрульные корабли князя Гавриилы Джабраиловича Малаикадзе?» Незадолго до Великого Переселения господин Уриилзон был подвергнут кадровой чистке за упущения в работе таможни. Не избежал этого и князь Малаикадзе, которого злопыхатели обвинили в потаканиях непростительным слабостям начальника таможни. Только их отозвали в связи с повышением по службе, как об этом официально и конфиденциально сообщили средства массовой информации, случилась колоссальная вспышка сверхновой посередине пути от главной планеты Великого Альдебарана до Земли. Естественно, была нарушена всякая нормальная связь с земной колонией. В конечном итоге история этой колонии пошла вкривь и вкось, уходя на обочину от намеченного маршрута и далее в самые-пресамые буераки хаотичных исканий безвозвратно утерянного счастья. О счастливом прошлом, пресловутом «золотом веке» или утерянном историческом шансе, потомкам альдебаранской колонии напоминали только до неузнаваемости искаженные мифы, легенды, сказки и памятники так называемой Трипольской культуры, печальные свидетели полного одичания некогда всесильных и цивилизованных альдебаран. Археологи утверждают: окончательное одичание альдебаран произошло в четвертом тысячелетии до новой эры, когда они превратились в грубых браконьеров, промышлявших охотой на диких животных и созданием хотя и внушительных, но недолговечных империй. Правда, со временем некоторые из них нашли в себе силы превратиться в прародителей вольного степного казачества, о чем свидетельствуют осэлэдцы последних и те веселые байки о своей родословной, где, нет-нет, да прозвучат ностальгические нотки на тему о собственной альдебаранской исключительности. Вот так всегда случается, когда меняют коней на переправе, то есть когда в самый неподходящий момент начинается кадровая чистка, а в темных глубинах космоса происходят вспышки сверхновых. Если же к этому добавить вмешательство в целенаправленный исторический процесс всяческой чертовщины, то никак не миновать грехопадения, уводящего цивилизованных представителей разумно мыслящей субстанции в зыбучие пески варваризации и мифологизации. Только вера в настоящее виртуальное чудо, ничем не приукрашенное, может стать той путеводной звездой, которая плутовато поманит к себе хитрый разум и поведет его к вершинам никогда не унывающего вселенского плутовства, достойного кисти великого мастера. Вот она вспыхивает на небосклоне! Где наши телескопы? Где наши кинокамеры? Где наши виртуальные хроникеры?.. Откройте глаза пошире! Сейчас произойдет чудо! Сейчас!.. Сейчас, сейчас... Еще минуточку терпения... Павел Амнуэль Завещание миллионера Марик Глузкатер не считал себя везучим человеком. Он вообще не думал о себе в терминах теории вероятностей. Науку эту он любил и успешно занимался ею на кафедре математики провинциального российского института, название которого ничего не скажет читателю. Перед отъездом в Израиль Марик сказал своей жене Миле в присутствии их десятилетнего сына Зорика: – С математикой покончено. Кому я там нужен с моей теорией вероятности? Пойду в сторожа. Нужно будет только найти место, где больше платят. Как видите, даже в глубокой российской провинции в середине девяностых годов еврейский народ знал, кто именно нужен на Земле обетованной. Впрочем, это нормально. Землю нужно сторожить. И все, что построено на этой земле, – тоже. – Может, все-таки тебе повезет, и ты устроишься в университет или колледж? – робко сказала Мила, не хотевшая, чтобы Зорик, когда вырастет, считал отца неудачником. Тогда-то Марик и произнес замечательную фразу, запомнившуюся Миле, как ей казалось, на всю жизнь: – Я не применяю к себе термины теории вероятностей. Жизнь – не бросание костей. Я сам решаю, что делать. Конечно. Но фразу о костях он все-таки произнес необдуманно. Именно кости, да еще пресловутая теория вероятностей, как оказалось впоследствии, круто переменили жизнь семьи Глузкатер. Но сначала все шло по плану. Приехали в Беэр-Шеву, поскольку Марик знал, что именно в этом городе, во-первых, недорогие квартиры, во-вторых, крупная "русская" община и Миле будет с кем общаться, а в-третьих, недостаток сторожей составляет здесь триста с лишним человек. Марик как раз и собирался уменьшить этот недостаток на одну производственную единицу. Через полтора года после приезда Глузкатеры купили недорогую квартиру, Зорик успешно закончил школьный семестр, Мила пошла учиться ивриту в ульпан второго уровня, а сам Марик потребовал у хозяина фирмы, в которой служил охранником, повышения зарплаты. Самое странное, с моей точки зрения, заключается в том, что прибавку он действительно получил, но Марик счел такое развитие событий совершенно естественным. Все шло хорошо, но не стоило Марику забывать о том, что его любимая теория вероятностей все-таки имеет непосредственное отношение и к реальной жизни, а не только к абстрактной математике. По почте пришли два письма. Первое – уведомление о повышении зарплаты – Марик аккуратно расправил и положил в папку, где он собирал все важные документы. Второе письмо пришло из Америки от двоюродного брата Фимочки. Среди прочих глупостей о новой машине, трехбедрумной квартире и листинге необходимых линков была фраза о том, что дядя Яша, наконец, умер, избавив мир от своего присутствия. – Нехорошо так говорить о человеке! – воскликнула Мила, прочитав эти слова. – Тем более, о покойнике. – Так ведь он действительно был последней сволочью, – сказал Марик. – Или ты забыла, как он фактически убил мою маму? Мила тяжело вздохнула. Она обожала свекровь – редкий случай даже в еврейских семьях. Эсфирь Соломоновна была женщиной не от мира сего, она прожила тяжелую жизнь, побывала и в гетто, и в концлагере, одна вырастила сына, потому что мужа сгноили где-то в Воркутлаге, но до самой смерти оставалась оптимисткой и готова была прийти на помощь даже злейшему врагу. Брата своего Яшу она врагом не считала, напротив, Яша был ее любимцем, но когда у Эсфирь Соломоновны обнаружили рак, и спасти ее могло только очень дорогое французское лекарство, которого, естественно, не было в больнице, Яша наотрез отказался дать денег, а на похороны сестры не пришел, потому что Марик сказал: "Если явится этот подлец, пусть пеняет на себя – голову разобью". Деньги у Яши действительно были. Большие деньги. В конце восьмидесятых Яша одним из первых в России организовал кооператив и быстро заработал миллионы, продавая за рубеж лом алюминия. Когда умирала Фира, Яше достаточно было выделить от щедрот десятую часть своих денег – и Бог простил бы ему все прегрешения, в том числе и перед законом Российской Федерации. Но Яша заявил тогда, что у него нет ни копейки, все в обороте, а если изъять нужную для сестры сумму, то рухнет фирма, а на это он пойти не может, потому что отвечает не только за себя. Фира умерла, родственники (даже родной брат Моня, отец Фимочки, второй дядя Марика) от Яши отвернулись, хотя вслух не было сказано ни слова. Фирма Яшина процветала какое-то время, а потом появились настоящие акулы, и Яша слинял в Штаты, прихватив капитал. В Балтиморе он тоже преуспел, но Б-г все-таки наказал подлеца, и, как писал Фимочка, дядя Яша умер от инсульта, не дожив двух дней до своего семидесятилетия. – Никакое богатство от смерти не спасает, – философски заметила Мила. – Все под Богом ходим. Интересно, кому он деньги оставил? Ведь у него нет ни жены, ни детей. – Не беспокойся, – буркнул Марик. – Такие, как Яша, все с собой на тот свет забирают. В аду будет откупаться, чтобы не мучили... Вопрос о дядиных деньгах его действительно не занимал ни в малейшей степени. Между тем, теория вероятностей уже делала свое черное дело. *** Была зима, зажигали ханукальные свечи, и Мила пекла пончики. Магазинные были вкуснее, но она хотела все делать сама. Явился после прогулки с приятелями Зорик и принес пухлый конверт с американской маркой, вынутый из почтового ящика. – Это еще что? – с недоумением спросил сам себя Марик, только что проснувшийся и потому с трудом понимавший английский текст. С дежурства он пришел в семь утра, спал до полудня, этого, конечно, было недостаточно, но больше себе позволить Марик не мог: нужно и поесть, и почитать, и по дому кое-что сделать. "Адвокатская контора Хардман и сын, – читал Марик, сразу переводя текст на русский, – извещает, что согласно... э-э... завещанию умершего сентября... э-э... такого-то... э-э... Глузкатера Якова, одна тысяча девятьсот двадцать седьмого года рождения... Вы являетесь... По данному поводу следует обратиться... При выполнении обязательного условия... Чего-о??" Марик перечитал текст еще раз, аккуратно сложил письмо, отложил в сторону и принялся рассматривать приложенные к письму бланки. – Что с тобой? – спросила Мила. – Иди обедать, суп остынет. Что это прислали? Почему ты так смотришь на меня? – Э-э... – произнес Марик. – Видимо, я подзабыл английский. Погоди, я возьму словарь. Но со словарем у него получилось то же самое, и тогда, сидя на кухне перед тарелкой с супом, Марик сообщил, наконец, своей жене радостную и нелепую новость: умерший в сентябре дядя Яша (чтоб ему на том свете попасть только в ад и никуда больше!) оставил все деньги одному из двух своих племянников: Марику или Фимочке. Только одному, а кому именно – должен решить жребий, который будет брошен через два месяца после смерти завещателя в адвокатской конторе Хардман и сын. Жеребьевка состоялась в назначенный срок, и деньги достались Марку Глузкатеру, проживающему в Израиле, город Беэр-Шева, улица Жаботинского, дом... Восторженный визг Милы заставил Марика прервать пересказ прочитанного. А сын Зорик, не потерявший присутствия духа, переспросил: – Дедушка Яша тебе деньги оставил? Много? Теперь ты мне купишь, наконец, компьютер? – Выйди! – приказал сыну Марик и, когда они остались с Милой одни, сказал жене: – Дура, чему радуешься? Деньги могут сделать человека счастливым? – Могут! – воскликнула Мила. – Видишь, он понял, что виноват перед тобой, и захотел... – Глупости, – перебил жену Марик. – Если бы он что-то понял, то завещал бы деньги мне, а не устраивал идиотский розыгрыш. – Действительно, я не подумала, – пробормотала Мила. – А почему он велел бросать жребий? Мог, в конце концов, поделить деньги между тобой и Фимой, если не знал кого выбрать. Там на обоих хватит, я думаю. Может, ты неправильно перевел? – Правильно, – отрезал Марик. – А поделить он не мог, потому что скелет у этого... слов нет!.. скелет у него один, как у всякого человека, даже если он последняя гадина. – Не понимаю, – пожаловалась Мила. – Какой скелет? – Я всегда знал, что дядя Яша – еще тот жмот, но такого я себе и представить не мог! – воскликнул Марик. – Ты знаешь, что здесь написано? Оказывается, он продал свой череп какому-то американскому медицинскому учреждению и получил в результате этой сделки семьсот долларов. При его миллионах, представляешь? Какие-то семьсот долларов! Срочно они ему, понимаешь ли, понадобились! Негодяй! Так вот и наживают неправедные богатства! Марик, вероятно, еще долго проклинал бы дядю Яшу и его неумеренную жадность, но Мила прервала мужа естественным вопросом: – Ну, продал он свой череп – его дело! Ты-то здесь при чем? – Слушай дальше! Оставшись без черепа, этот... м-м... вспомнил о нас с Фимой и решил преподнести нам подарок. Деньги он с собой в могилу взять не мог, в аду чеками не расплачиваются, и наличные там тоже не нужны... Так вот, продав череп, Яша написал завещание, согласно которому все его деньги должны были перейти одному из нас – тому, на кого укажет жребий. – Вот я и спрашиваю: почему не поделить? – Я же тебе сказал: скелет у него один! В завещании сказано: наследник получит деньги в том и только в том случае, если поставит на видное место в своей спальне скелет завещателя – без черепа, естественно, поскольку череп принадлежит учреждению, название которого я не смог перевести. Если наследник откажется выставлять скелет, то капитал перейдет в распоряжение федеральных властей Соединенных Штатов. Короче – завещается государству. Ну, разве не подлец этот Яша? – Скелет? – тихо переспросила Мила и так же тихо упала в обморок. *** Адвокат, к которому обратился Марик, был бесплатным, принимал он в свободное от работы время и был так же заинтересован в клиентах, как продавец в советском магазине времен развитого социализма. Он не очень внимательно прочитал показанные Мариком бумаги, хмыкнул и произнес: – Действительно, более чем странное завещание. – Меня интересует, – сказал Марик, – могу ли я его опротестовать и потребовать деньги без этой гадости? В конце концов, я в Израиле живу или в Уганде? Еврей я или негр преклонных годов? – Да, – кивнул адвокат. – Вы не негр и живете в Израиле. Завещание господина Якова Глузкатера противоречит нашей еврейской традиции, это несомненно. Но оспаривать его на этом основании представляется делом малоперспективным, ибо воля завещателя высказана предельно точно, а согласно законам Соединенных Штатов Америки, именно она является приоритетной перед прочими уложениями, включая религиозные предписания, если, конечно, данная воля не противоречит Конституции США и своду законов, которые... Предложение казалось бесконечным, и Марик поставил в нем точку, прервав адвоката словами: – Так могу я оспорить завещание или нет? – Э-э... – адвокат остановился на полуслове. – Оспорить вы, конечно, можете все что угодно. Но выиграть дело в суде – вряд ли. Я же сказал: воля завещателя выражена предельно четко и... – А если я поставлю в спальне проклятый скелет, получу деньги, а потом выброшу эту гадость на помойку? Всю жизнь я Яшу терпеть не мог, и он того стоил, так я теперь должен на его кости любоваться? Это он нарочно такое завещание написал! – Нет, – сказал адвокат. – Выбросить не имеете права, ибо лишитесь возможности распоряжаться наследством. Вот тут сказано: адвокатская контора Хардман и сын назначается попечителем и обязана проверять каждые полгода выполнение наследователем условия завещания. В случае, если... м-м... скелет не будет находиться на указанном месте... – Понял, – прервал Марик. – Ну, так я его буду раз в полгода ставить на видное место, пусть подавится! – Нет, – покачал головой адвокат. – Здесь сказано, что адвокатская контора Хардман и сын обязана устраивать время от времени неожиданные проверки, выбирая день и час с использованием генератора случайных чисел. Теория вероятностей... – Этот негодяй еще и мою специальность приплел, чтобы меня уязвить! – воскликнул Марик. – И ничего нельзя сделать? – с тоской спросила Мила, когда Марик вернулся вечером домой и пересказал жене разговор с адвокатом. – Как представлю, что этот скелет стоит... И нужно каждый день протирать его от пыли, а ночью, если мне понадобится на кухню или еще куда... Когда-нибудь он меня так напугает, что я умру, и какое мне тогда счастье от его денег? – Ты так говоришь, – пробормотал Марик, – будто Яша уже стоит в нашем доме, как статуя Ленина на площади перед горкомом партии. – Твой дядя Яша никогда не был порядочным евреем! – возмутилась Мила. – Если бы он ходил в синагогу, ему никогда бы и в голову не пришло... – Конечно, – согласился Марик. – Но тогда он нашел бы иной способ показать, как он ко мне относился при жизни. Например, вообще лишил бы наследства, все отдал бы Фиме. Нет, Фиме он бы тоже не отдал, Фиму он презирал и всегда говорил о собственном племяннике: "И этот еще носит фамилию Глузкатер!" Должен быть выход! Нужно нанять нормального адвоката, а не бесплатного. Или этому заплатить. – Ты знаешь, сколько платят адвокатам? – всплеснула руками Мила. – Договоримся, что гонорар он получит, когда я увижу деньги, а скелет отправится туда, где хранится Яшин череп. – Ты думаешь, нормальный адвокат согласится на такие условия? А если он проиграет процесс? Значит, останется без гонорара? – Нужно поискать, – неуверенно сказал Марик. – Не бывает безвыходных положений. *** На условия, которые предлагал Марик, согласился в конце концов все тот же бесплатный адвокат. Звали его Шимон Вербицкий, но сам он предпочитал, чтобы его называли Семеном Николаевичем. – Общая сумма наследства не может быть определена достаточно точно, – сказал Вербицкий Марику, изучив бумаги, присланные из адвокатской конторы "Хардман и сын". – Дело в том, что девяносто процентов капитала вложено в акции, а оставшиеся десять процентов составляет недвижимость. – Но хотя бы порядок величины... Сколько? Пять миллионов долларов? Десять? – Вы о чем? – удивленно спросил Семен Николаевич. – Да там только недвижимость тянет миллионов на пятнадцать! А акции, между прочим, достаточно престижных компаний, хотя, конечно, даже они могут упасть в цене – вспомните недавнюю панику на бирже. И кстати, я бы согласился в качестве гонорара на десятую часть наследства после снятия налогов. "Хороший адвокат, – подумал Марик. – Плохой сказал бы, что согласен процента на два-три". – У вас есть деньги для нашей с вами поездки в Штаты? – спросил Семен Николаевич. – Мне там быть, сами понимаете, совершенно необходимо, но лучше, чтобы и вы лично присутствовали, когда будет разбираться ваше дело. Марик вздохнул и подумал, что Вербицкий не просто хороший адвокат, но еще и специалист, для которого чисто по-человечески небезразлична судьба клиента. *** В Нью-Йорке Марик поселил Семена Николаевича в трехзвездочной гостинице (на более дешевую Вербицкий не соглашался, а на более дорогую у Марика не было денег), а сам отправился к своему кузену Фиме, жившему в трехбедрумном апартаменте с женой и тремя детьми. Сразу возникла проблема: раскладушку для гостя можно было поставить разве что на кухне, но как тогда Фима мог пить кофе перед уходом на работу, а уходил кузен довольно рано – часа в четыре? Ничего, разобрались. Нашлось место в коридоре, вполне приличное, туалет рядом, кухня тоже, в общем, все удобства. – Знаешь, что я тебе посоветую? – сказал Фима, когда уложили детей, а сами сели за кухонным столом, будто в старые добрые российские времена. – Соглашайся на все. Я был тут в гостях у одного уважаемого профессора. То есть, не совсем в гостях, канализацию я в его квартире прочищал. Так у него на видном месте стоит штука вроде аквариума, а в воде плавает знаешь что? Софа, выйди, я Марику объясню, это не женское дело... – Глупости, – возмутилась Фимина жена, – ты мне эту историю сто раз рассказывал, а теперь делаешь вид... Действительно, Марик, Фима прав. Ради этого наследства я даже на два скелета была бы согласна! – Нет, не могу. Яша написал такое завещание, чтобы надо мной поиздеваться! – Почему над тобой? – обиделся Фима. – А если бы жребий выпал в мою пользу? *** Заседание суда происходило в небольшом зальчике, Марик с непривычки то и дело терял нить дискуссии между адвокатами. – Налог на наследство требует уплаты также и части предназначенного для передачи наследователю предмета, поименованного в деле как "скелет естественный"... – Невозможность выполнения части завещания при пренебрежении той его составляющей, которая... – Капитал, переданный под опеку и нуждающийся... "Хватит!" – мысленно кричал Марик. Он уже не хотел этих денег, он вообще ничего не хотел, ему казалось, что скелет дяди Яши, даже если не будет стоять в его гостиной, все равно явится ему во сне, и никуда уже от этой напасти не деться. Наконец судья объявил, что заседание переносится на среду, и зрители начали покидать зал. – Неплохо для первого дня, – с удовлетворением сказал Семен Николаевич, плохо знавший английский и пользовавшийся услугами переводчика, оплаченного, естественно, из личных Марикиных сбережений. – Суд принял во внимание оба наши заявления. Судья Мэддокс, похоже, знающий юрист, так что, возможно, удастся нащупать лазейку. Вечером Семен Николаевич собирался на Бродвей, он всю жизнь мечтал посмотреть знаменитый мюзикл "Кошки" – за Марикины деньги, естественно, которых оставалось все меньше и меньше. *** В ту ночь Марику приснилось, что он бы справился с делом лучше Вербицкого, потому что на самом деле давно уже знал, в чем разгадка завещания. Проснувшись среди ночи, он, конечно, все забыл и ворочался до того часа, когда через него перелез Фима, направлявшийся в кухню готовить кофе. Было три часа с минутами. – Фима, – сказал Марик шепотом, – почему все-таки дядя Яша, чтоб ему в аду жарко было, не разделил наследство поровну между нами? – Господи, как ты меня напугал, – тихо возмутился Фима. – Я подумал – привидение... Так ты же сам говорил: скелет у него один! – Да, – согласился Марик. – Но дядя прекрасно знал нас обоих и понимал, что тебя он своим требованием не напугает. Значит, если бы он хотел сделать гадость и тебе, и мне, то придумал бы какой-нибудь другой способ. – А если хотел поиздеваться именно над тобой, – заметил Фима, – то не стал бы требовать, чтобы бросали жребий, ведь шанс мог выпасть мне, а уж я бы... – Вот именно, – согласился Марик. – Здесь виден явный умысел – ведь Яша всю жизнь говорил обо мне: "Этот математик-теоретик"... Жребий – это прямой вызов теории вероятностей, которой я занимался и которую Яша терпеть не мог, как вообще всякую науку. – Какой же здесь умысел? – спросил Фима. – Был бы умысел, он бы все тебе и отписал вместе со скелетом, а не стал бы рассчитывать на жребий, который мог выпасть в мою пользу, а уж я бы... – Что ты заладил: "А уж я бы..."? Не знаю я, в чем умысел, но чувствую, что дело нечисто. Только что мне приснилось... Не знаю что. Забыл. Когда хочешь что-нибудь вспомнить, особенно приснившееся, то вспоминаешь обычно то, о чем всю жизнь старался забыть. Так и Марик – после ухода Фимы он ворочался на раскладушке, и в голову приходили сцены из детства – как дядя Яша с презрением смотрел на его тетрадки и говорил: "Чем только башка у ребенка забита!" Позавтракав, Марик отправился в гостиницу, где жил адвокат, и заставил Семена Николаевича перечитать перевод завещания. – Смею заметить, – буркнул Семен Николаевич, – что никаких денег я от вас пока не видел. Работаю на износ... – Как не видели? – задохнулся от возмущения Марик. – А поездка? А гостиница? А "Кошки"? – Это не гонорар, – отмахнулся адвокат. – Это накладные расходы. – Не будем спорить по пустякам, – примирительно сказал Марик. – Меня вот что смущает. Кому НА САМОМ ДЕЛЕ хотел передать свои деньги дядя Яша? – То есть? – нахмурился адвокат. – Об этом сказано в завещании: вам или Ефиму Глузкатеру. Тому, на кого падет жребий. – Ерунда, – резко сказал Марик. – Яша нас с Фимой терпеть не мог. Он хотел над нами обоими поиздеваться. Показать наследство – вот, мол, берите, – а потом отобрать назад. Он и жребий придумал только для того, чтобы я понял, какая это глупость – моя любимая теория вероятностей. У него и в мыслях не было, чтобы жребий выпал в пользу Фимы, ведь Яша прекрасно понимал, что мой кузен с удовольствием поставит в спальне не только скелет родного дяди, но даже живого скунса в клетке, лишь бы заполучить наследство. Он заранее знал, что по жребию все получу я, потому что ни за какие деньги я не соглашусь всю жизнь смотреть на этот скелет, чтоб ему рассыпаться в прах! – Как он мог заранее знать, на кого выпадет жребий? – Вот это меня и интересует! А он знал – сейчас я в этом абсолютно уверен! – Глупости, – сказал Семен Николаевич, но голос его звучал не очень уверенно. – Погуляйте, – предложил он. – А я, пожалуй, поговорю с младшим Хардманом, он, мне кажется, более покладистый, чем его отец... – По-моему, – сказал вечером Семен Николаевич, встретившись с Мариком в ресторанчике на семьдесят первой улице, – Хардманы что-то скрывают. И я намерен доказать в суде, что результат жребия был подтасован согласно воле завещателя. Майк Хардман не сказал ничего толком, но я понял намек... – Вот! – воскликнул Марик. – Именно это мне приснилось сегодня ночью! Яша велел изобразить жребий, а на самом деле все указал точно. Должно быть второе завещание или секретная часть первого, но что-то быть должно наверняка! – Похоже, что так, – кивнул адвокат, – это нужно доказать, и тогда появится шанс выиграть дело. *** – Ваша честь, – обратился Семен Николаевич к судье Мэддоксу, когда началось очередное заседание, – у меня есть основания полагать, что господа Хардман и Хардман скрывают от высокого суда часть завещания Якова Глузкатера. К удивлению Марика, младший Хардман спокойно произнес: – Ваше честь, это верно. Но такова воля завещателя, и мы были вынуждены ее исполнить. – Завещатель велел скрыть текст завещания от судебной процедуры о наследовании? – удивился судья. – Это противоречит закону о... – Нисколько, ваша честь! – воскликнул Хардман. – В секретной части текста, подписанного Яковом Глузкатером, сказано, цитирую: "Данная часть завещания может быть оглашена лишь по прямому требования судьи"... Видите ли, ваша честь, господин Глузкатер прекрасно понимал, что без судебного разбирательства не обойдется, и хотел... – Огласите текст, – недовольно сказал судья Мэддокс. – Мы могли бы не терять времени, если бы вы сделали это сразу. – Я не мог, – пожал плечами адвокат. – Воля завещателя... Итак, вот этот текст: "Приложение к пункту четыре. Данная часть... это я уже огласил... вот... Жеребьевка должна проводиться таким образом, чтобы жребий однозначно пал на моего племянника Марка Глузкатера, проживающего в... м-м, так... Когда Марк Глузкатер обжалует завещание в суде, надлежит огласить второе завещание, которое и будет иметь реальную силу"... *** – Я же говорил, что для этого человека не было ничего святого, – уныло сказал Марик тем же вечером, сидя с Фимой и адвокатом Вербицким в ресторане "Одесса". – Устроить такой спектакль, и для чего? Чтобы показать мне большие деньги, а потом отдать их федеральным властям! – Сам виноват, – буркнул Фима. – Согласился бы поставить скелет в гостиной, и жил бы всю жизнь припеваючи. – Яша точно знал, что на это я никогда не пойду! – Так кто же кого больше не любил: он тебя или ты его? – Не спорьте, – сказал Семен Николаевич. – Господин Глузкатер знал, что есть люди, не созданные для больших денег. Такие, как вы, Марик, и вы, Фима. – Да и я тоже, – добавил адвокат, подумав. Виктор Леденев Майор и инопланетяне Военврач Рубин опоздал. Штаб армии, куда он явился по предписанию, отданному еще две недели назад, перебазировался на новое место. Наступление развивалось успешно, и штабу приходилось поспевать за наступающими войсками. Во дворе дома было пусто, лишь несколько офицеров грузили на "додж" какие-то ящики. Руководил погрузкой молодой рослый майор. Рубин подошел и представился. Майор придирчиво осмотрел явно невоенную фигуру, покосился на медицинские эмблемы на петлицах и весело поинтересовался. - Что, доктор, опоздал? Немцы драпают, так что не успеваем переезжать с места на место. А твоего начмеда вчера видел, теперь он наверняка где-нибудь под Гродно. Давай, помогай, с нами поедешь. Рубин сбросил в кузов мешок и вместе с молодым очкастым лейтенантом потащил тяжелый ящик. Два капитана, тащивших какой-то сверток, дружески кивнули ему. Это был последний груз и скоро все собрались у машины. - Ну, капитан, знакомься: капитаны Кузнецов и Кожин, а этот недотепа - лейтенант Лахно. Рубин коротко козырнул. - Капитан Рубин, военврач. - Вот и познакомились. Поехали. По прикидке Рубина ехать надо было около ста километров, он расположился поудобнее среди ящиков и свертков и приготовился подремать, благо дорога была довольно ровная, и трясло не очень сильно. Однако поспать не удалось. Майор оказался весьма разговорчивым. - Капитан, а что это ты так промахнулся? Мы уж три дня назад снялись, случайно задержались. - Я из тыла, после ранения получил отпуск, домой заехал. - А куда? Может, земляки? - В Гомель, там у меня все... - Бывал в Гомеле до войны, красивый городок. Повидался? - Повидался. Рубину не хотелось рассказывать сейчас, каким страшным оказалось это свидание... Не дай Бог кому-нибудь такие встречи. Уцелевшие чудом соседи рассказали: отец и мать сначала были в гетто, а потом их расстреляли еще в сорок втором, младшего брата и сестру посадили в эшелон и куда-то увезли, говорят, не очень далеко, под Мозырь. А там тоже всех... Добрые люди увезли его жену Рахиль с маленьким сыном куда-то в деревню, говорят, живы, только где они? Лучше бы он не ездил в этот отпуск, хоть надежда оставалась, а так... Сердце сжималось, когда думал о жене и маленьком Яше. Где они теперь? Хоть и ушли немцы, а ведь жить-то надо. Он с любовью подумал о незнакомых ему людях, которые спасли его жену и Яшеньку... Но майор оказался настойчивым, и Рубин сначала нехотя, а потом с каким-то ожесточением рассказал свою историю. В машине царила тишина, только вой мотора напоминал, что они сидят в кузове американского "доджа три четверти" и несутся снова поближе к фронту. - Да, капитан, досталось тебе... Вот сволочи! Таких гадов расстрелять мало. Всех до одного! Ну ничего, не ты первый, у других еще хуже бывало. У тебя хоть жена с сыном остались, а у многих вовсе никого. А что ж они не уехали? - Куда! И на чем? Заводы эвакуировали, документы... Пешком мои старики далеко не ушли бы, а брат Сеня совсем слепой, его и в армию-то не взяли, всего три процента зрения. Снова в машине застыла сочувственная тишина. Капитан вновь обернулся. - Слышь, доктор, а у тебя ничего во фляжке медицинского нет? У вашего брата всегда есть что-нибудь в запасе. Майор был прозорлив - во фляжке болталась почти пол-литра чистого медицинского спирта, хотел выпить с родными за встречу, да так и не довелось, отпил сам малость, но он не любил пить, и залить горе спиртом у него не получилось. - Ты как в воду глядел, майор. Есть немного. - Так что же ты молчал! Сейчас вот отъедем подальше с дороги и... помянем похристиански... Майор запнулся, но бодро продолжал: - Как положено. По дороге тащились машины, подводы, но военной техники почти не было, она ушла далеко вперед, а тылы активно подтягивались поближе к фронту. "Додж" лихо обгонял полуторки и "студебеккеры" по обочине, капитан Кожин виртуозно вел машину. Майор внимательно изучал карту. - Погляди-ка, здесь есть дорога в лес. Давай, Петро, поворачивай налево, на нашем танке мы запросто проедем. Капитан свернул на лесную дорогу, и над ними сомкнулись зеленые кроны деревьев, дорога сохранила влагу от прошедших на прошлой неделе дождей, не было пыли, и свежий воздух приятно освежал лица, посеревшие на большой дороге. Машина сходу проскочила небольшой мостик через какой-то ручей. - Стоп! Вот здесь умоемся, разомнемся. Вой двигателя пропал, и всех обступила тишина, нарушаемая лишь редкими звуками стуком дятла, птичьими вскриками, жужжанием пчел и шмелей. - Эх, красота! Давай, ополоснемся малость и примем святой водички за упокой погибших и здоровье присутствующих. Рубин с удовольствием плескал в лицо чистую, пахнущую свежестью воду и чувствовал, как тяжелые мысли медленно отодвигались куда-то назад, в то место, которое всегда называлось прошлым... Спирт запивали пахучей ручейной водой, заедали привычным "вторым фронтом". Американская тушенка и подсказала тему разговора. - Наконец, союзники высадились, теперь Гитлеру капут окончательный. - Да, не торопились, союзнички... Неожиданно молодой лейтенант, разгоряченный спиртом, вмешался в разговор: - Не скажите, высадка такого количества войск для вторжения - это очень сложная операция. Да и потери у них, видать, тоже были большие. Капитан Кожин, пережевывая мясо крепкими белыми зубами, только махнул рукой: - Подумаешь, Ла-Манш форсировали, мы вон сколько рек перешли и ничего, живы и здоровы. - Ла-Манш не река, а пролив... Майору, видно, надоел этот высоконаучный спор и он незлобиво одернул спорщиков. - Да хватит вам, стратеги. Давай, разливай по последней, и поехали, до темноты надо успеть. Кожин достал карту и внимательно ее изучал, водя пальцем. - Товарищ майор, можно здорово путь сократить, есть дорожка покороче. Правда, через лес... Майор заинтересовался. - Сократить, говоришь? Дай-ка сюда, покажи. Точно. Так и поедем, а что по лесу... Ничего, у нас автоматы есть, да и нас вон сколько, если на кого нарвемся, отобьемся. Давай, славяне, по машинам. После спирта Рубина развезло, он снова приготовился подремать, но на этот раз ему не дал очкастый лейтенант. Было видно, что пить он не умел, даже служба не приучила, и теперь его тянуло поговорить с незнакомым человеком. - Я тоже хотел после школы в медицинский поступать, а вон как вышло - попал в училище. - Да как же тебя взяли с таким зрением? - Ах, это... На последнем курсе слегка контузило. Так ничего, а вот на глаза повлияло, кое-как упросил, чтоб не отчислили. Правда, на фронт не пускают, вот тут, при штабе околачиваюсь. Планшетистом. - Кем-кем? - Планшетистом. Наш командующий - мужик обстоятельный, когда готовит операции, требует, чтоб все было, как положено - и карты, и макеты. Неделями со штабом отрабатывает всякие мелочи. - Слыхал про вашего командующего. Хорошо воюет, грамотно. У нас в госпитале из вашей армии офицеры лежали, рассказывали. - Да, у него все расписано - что, куда, зачем. Головастый мужик. - Так и надо. Лейтенант начал рассказывать, про дом, мать, свою несчастливую судьбу, потом достал тоненькую книжку и начал читать стихи. Под блоковские строки про улицу, фонарь, аптеку Рубин заснул и во сне даже замерз. Ему снилось, что он пришел на свидание с Рахиль в жуткий снег и холод и сквозь метель вглядывался в лица всех проходивших мимо женщин, но его любимой среди них не было... Проснулся от того, что кто-то резко и повелительно тряс его за плечо. - Просыпайся, капитан. - Что, уже приехали? - Нет, кто-то там есть, на дороге. Сон мигом пропал, Рубин нащупал на поясе кобуру с пистолетом, из которого стрелял только в тире. Оба капитана и майор преобразились. Сейчас это были не те добродушные ребята, что еще недавно беспечно распивали его спирт. Даже лейтенант судорожно протирал очки, в его руке также был пистолет. - Вот черт, как волнуюсь - обязательно очки потеют. Что за напасть. Рубин улыбнулся. - Ничего, немца увидишь, разом отпотеют назад... Они двигались осторожно, растянувшись в короткую цепь, и переходили от одного дерева к другому. Среди стволов мелькнуло что-то серо-зеленое, не вписывавшееся в яркие цвета леса. Палатка! На поляне стояла большая палатка, вроде тех, что были в медсанбате. Приблизившись еще ближе, Рубин понял, что не ошибся. Это была госпитальная палатка с небольшим красным крестом над входам. Полог был откинут. Майор знаком показал - обходить сзади. С двух сторон оба капитана почти одновременно нырнули в палатку с пистолетами наготове. Послышался какой-то мирный, совсем не военный испуганный возглас: "Ой!" Кожин вновь появился у входа и махнул рукой - опасности нет. На четырех кроватях лежали раненые, а рядом застыл какой-то гражданский в белом фартуке с красным крестом. Майор скомандовал: - Ну-ка, откройте пошире полог, да окошки отвяжите, посмотрим, кого нам бог послал. В палатке стало светлее. С первого взгляда стало ясно, что лежащие на кроватях уже не вояки, почти все были забинтованы чуть ли не с головы до ног. На груди каждого из них лежал мундир с боевыми орденами и знаками различия. Майор присвистнул. - Вот это да! Вот это парад! Ай да фрицы... - Дык яны ж самi загадалі вопратку iхнюю паверх пакласцi... Майор медленно повернулся к штатскому в фартуке. Он был уже немолод, лет сорока, но видно, что жизнь прошлась по нему не самым мягким местом - какой-то помятый, небритый. - А ты кто такой здесь, в этой богадельне? - А хто ж яго ведае, хто я тут. Нешта я санiтар? Дапамагаѓ, пакуль тут шпiталь стаяѓ, а зараз i ня ведаю... - И давно они отсюда ушли? - Прыкладна тыздень, альбо раней, запамятаѓ. Майор рявкнул: - Что за тыдзень?! Сколько это? Рубин выступил вперед. - Неделю назад тут госпиталь стоял. Видно, как раз перед нашими войсками и ушли. - А ты что, капитан, эту тарабарщину понимаешь? - Конечно, я же из Гомеля. - Ну и хорошо, переводить будешь. Майор вновь повернулся к мужику. - А документы у тебя есть? Ты что, в немецкой армии служишь? Власовец? - Якi я ѓласавец? Я i ня ведаю, хто такi ѓласавец. Я з вескі Баркаѓшчына, вось тут, недалеч. І папераѓ у мяне няма, германьцы аѓсвайс абяцалі, ды так мы і засталіся без аѓсвайсаѓ. - А к немцам почему пошел служить? - А як ня пойдзешь? Яны прыйшлi, са зброяй, куды дзецца. Вось я i рабіѓ усялякую справу - гаѓно прыбiраѓ, ды воду насiѓ, што кажуць, тое і рабiѓ. - Рабив, рабив... Холуй. А что ж не ушел, когда все драпали? - Дакуль? Тут i хата мая, i кабета мая с дачкой, куды ж я пайду? - Кто такая кабета? Рубин перевел: - Женщина его, жена, с дочкой. - Вот черт, ты что, по-русски не умеешь говорить? - Адкуль жа мне ведать па-расейску, я ж нiколi расейцаѓ нават ня бачыѓ. Былi тут у трыццать дзявятым, дык хутка пайшлi далей. У нас вёска малая, усяго сем хатак. Было восемь, дык жаѓнеры спалiлi адну. - Как спалили, кто спалил? Наши солдаты? - Я добра ня ведаю, як здарылася. Яны прыйшлi, можа дзесяць, а можа больш. Толькi кады яны ѓшлi, дык Мар'янiна хата и згарэла. I сама Марьяна, і дачка яе, Алеська, загінулі. Можа хто запалку не загасіѓ, цi што яшчэ здарылася... - Так. Ясно, на наших советских солдат, значит, думаешь? Ладно. Потом еще разок поговорим об этом, а сейчас рассказывай, почему все ушли, а эти остались? - Гэтыя самыя цяжкiя. Яны казалi, што тут застануцца, бо месца ѓ самохудзе мала было. Вунь той сівы ѓ iх галоѓны, ён i загадаѓ, каб іх пакiнулi. - Так. Понятно. А кто ж их кормил тут, когда другие ушли? - Дык як жа ж! Яны i харчоѓ далi. Тут яшчэ два чалавекi засталiся, жоѓнеж і санітар iхны. Яны са зброі і пачалi страляць, калi красныя тут прахoдзiлi. Iх i забiлi. Яны там ляжаць. - Это интересно. Капитан, сходи, погляди, что там такое, что этот мужичок бормочет. Васильев выскользнул из палатки и через несколько минут вернулся. - Точно, там двое. Один в халате, другой - солдат, видно тоже раненый, оба трупы и уже давно. - Дык я ж казаѓ, тыдзень, альбо боле... Майор, однако, больше не интересовался мужиком, переключился на раненых. Все оказались офицерами. Двое были совсем молоды, возраст третьего было трудно определить - почти все лицо было забинтовано, и один - уже седой. У троих были эсесовские танкистские мундиры, у старшего - обычный армейский, с погонами полковника. - Мда... Что же мы имеем? Ты гляди, настоящий полковник. Жалко, что ты мне поздно попался, теперь от тебя никакого толку, а то бы мне много интересного рассказал. Я правильно говорю, Кузнецов? Капитан коротко хохотнул. - Точно. Еще как рассказал бы. Майор, словно не услышав реплики капитана, продолжал рассуждать как бы про себя: - Ну а поскольку от вас толку мало, то мы вас тут же и расстреляем, как вы бы сделали, если б нашли наш госпиталь. Немцы никак не отреагировали на слова майора. Тот повернулся к мужичку. - Они что, не понимают по-русски? А как же ты с ними разговаривал? Немецкий знаешь? Мужичок замахал руками. - Не, адкуль?! Па-германьску я нi вуха, нi рыла, вось той, маладзейшы, ведае па- польску, з iм i размаѓляѓ, а той перакладаѓ астатнiм. - Ну так скажи им, что мы их сейчас расстреляем за преступления. Рубин шагнул вперед. - Это как так - расстреляем? Они же раненые. - Они - раненые враги человечества, подонки, эсэсовцы, наши враги, что с ними еще делать? А что раненые, так это им не повезло, им бы сразу в бою погибнуть, да вот в живых остались. Давай, санитар немецкий, переводи. - Не, я не можу... Як жа я iм такое скажу! Самi i размаѓляйце з iмі. А чаго iх страляць? Яны i так хутка памруць. - Тогда и сам с ними ляжешь, прихвостень эсэсовский. Рубин слушал это страшный диалог с каким-то отрешением, ему все казалось, что все не по-настоящему, что майор просто преследует какую-то свою, ему известную цель хочет напугать раненых... - Я переведу на немецкий. - Так ты, доктор, не только этот тарабарский язык знаешь? Откуда немецкий? - Идиш очень похож, а я его с детства знаю. Рубин перевел слова майора. Лицо полковника осталось бесстрастным, а двое молодых презрительно усмехнулись. Забинтованный танкист не отреагировал никак, казалось, он потерял сознание. - Так, улыбаетесь, смерти не боитесь. Тем лучше, легче умирать будете. Кузнецов, Кожин и ты, лейтенант, взять их на прицел. А ты постой, доктор, посмотри, как лечить таких гадов надо. Капитаны вскинули пистолеты, лейтенант замешкался, тоскливо поглядывая то на майора, то на Рубина. - Давай-давай, лейтенант, возьмешь полковника, а мы уж остальных. Стрелять по моей команде. Самый молодой танкист, увидев наведенный на него пистолет, вскинул руку в фашистском приветствии, другой закрыл глаза и только полковник смотрел немигающим взглядом на лейтенанта, неловко держащего ТТ в нескольких метрах от его лица. В его взгляде читалась откровенная жалость. Рубин хотел шагнуть вперед, заслонить раненых от смертоносных стволов, но непонятная тяжесть сковала ноги, навалилась на грудь, не давала даже сказать что-либо. Словно в кошмарном сне он двигался медленно-медленно, а в голове стучала одна простая мысль: это не шутка, это все правда, это все наяву и происходит не с кем-то еще, а со мной... - По фашистским извергам - огонь! Три выстрела прозвучали почти одновременно, четвертый запоздал. Лейтенант, у которого вновь запотели очки, выстрелил не целясь. Пуля попала полковнику в скованную гипсом руку. Из небольшой дырки фонтанчиком ударила кровь, особенно яркая на гипсовой повязке. Лейтенант сорвал очки и вновь надавил спуск, грохнули еще три или четыре выстрела, но все пули прошли мимо... Полковник поднял здоровую руку и хотел показать, куда надо целиться - в голову... Но лейтенант уж бросил пистолет и мягко осел на землю. - Хлюпик! Выстрел майора оказался точным. Рубин стоял в ступоре, не в силах ни двигаться, ни хотя бы крикнуть, хотя кричать хотелось оттого, что он только что увидел. - Доктор, посмотри, что с этим молокососом, может он сам в себя попал? Капитаны радостно заржали. Голос майора вывел Рубина из оцепенения. Он дико посмотрел на майора, на гогочущих капитанов и опустился на колени, пощупал пульс у лейтенанта. Тот бился лихорадочно и неровно. - Ладно, тащите его в машину, а потом составим рапорт, что натолкнулись на сопротивление при госпитале, кое-как отбились. Вот и все. Поехали. Рубин тяжело поднялся с колен. К нему пришло какое-то ясное спокойствие. - Э, нет, майор, никакого столкновения не было, а было убийство безоружных раненых людей. - Фашистов, капитан, не людей, а фашистов. - А вот это уже не имеет значения, кем они были раньше. Сейчас это были раненые и безоружные, а это военное преступление. И я об этом доложу, куда следует. Вы убийца, майор. - Чудак ты, капитан. Ты думаешь, почему я и тебя не пристрелил заодно с ними, защитник фашистский? Запросто мог, и сейчас могу. Да потому, что никто тебе не поверит, никто тебя и слушать не станет. Ты думаешь, что вот эти мои молодцы за тебя свидетелями пойдут или тот лейтенант? Ты знаешь, кто мы? Мы из контрразведки, кто ж нам что скажет, а, капитан? Подумай и помоги этого слюнтяя в машину затащить, мы его где-нибудь в госпиталь сдадим. А где этот мужик? Кожин пулей выскочил из палатки. Мужичонка сбросил свой фартук и на четвереньках пробирался к спасительным деревьям. Кожин бросился к машине и в его руках ожил ППШ. С первой очереди он промазал, мужик вскочил на ноги и, петляя, бросился бежать. Вторая очередь сложила его пополам... - Все, майор. Сбежать хотел, холуй фашистский... В машине все молчали. Рубин жалел, что выпили весь спирт, сейчас бы он очень пригодился. Обморок лейтенанта прошел, но он впал в полубессознательно-лихорадочное состояние, в котором явь перепуталась с фантазиями. Принимался кричать, плакать, пел песни, ругался страшными словами и вновь замолкал, словно утомившись. Потом все начиналось сначала. Капитан Кожин обернулся назад. - Все. Чокнулся наш лейтенант, теперь ему из психушки не выйти. Майор тоже соизволил посмотреть. - Да, кажется, отвоевался. Вот, доктор, и твой последний свидетель. Кто тебе поверит? Так что расслабься и не мути воду. Себе дороже придется. Лесная дорога внезапно закончилась, и они вскочили на большой проселок. Еще через несколько километров глазастый Кузнецов увидел указатель. - Тормози! Поворачиваем направо, там госпиталь, сдадим этих и поедем дальше. Начальник госпиталя, подполковник, внимательно выслушал рассказ майора и приказал отнести лейтенанта в одну из палаток. - Молодой еще... Необстрелянный, вот в первом бою и не выдержал. Ничего, вы его подлечите, и повоюет еще лейтенант. Да, вот еще. Тут с нами ваш коллега, капитан Рубин. Он командирован в нашу армию, но конкретного назначения еще не получил, пусть у вас останется, пока бумаги ходят, проработает у вас. Небось трудно, доктора нужны? Начальник обрадовался. - Голубчик! Как кстати, у меня рук не хватает. Вот спасибо, майор, за такой подарок. - Не за что, предписание пришлем позже. А теперь, извините, нам пора. Счастливо оставаться, капитан! И не глупи. Машина, взвыв мощным двигателем, стремительно развернулась и помчалась прочь. Рубин смотрел ей вслед и вдруг со всей ясностью осознал, что никому он ничего не расскажет, настолько невероятным было то, что произошло, и прав майор - никто ему не поверит... Начальник госпиталя что-то рассказывал, показывал, водил по палаткам, но Рубин все осознавал, словно в тумане, и только согласно кивал головой. Потом повернулся к подполковнику. - Я, пожалуй, загляну к лейтенанту, посмотрю, как он. - Конечно, голубчик, сегодня отдохните, а уж завтра прошу к столу, работы много... Рубин вошел в палатку. Лейтенант Лахно после дозы успокоительного спал, но как-то беспокойно, нервно. Губы дрожали, щеку временами сводила судорога, подергивались руки. Плохо, совсем плохо, подумалось капитану, но он больше ничего сделать для лейтенанта не мог. Проснулся Рубин на рассвете, снаружи доносились взволнованные крики, суета. Первая мысль: привезли раненых, а он дрыхнет! Капитан быстро оделся и вышел из палатки. Невдалеке группа санитаров и легкораненых суетилась вокруг лежащего на земле тела, прикрытого простыней. Рубин подошел поближе. - Что тут происходит? Пожилой санитар повернул к нему небритое лицо. - Да вот, несчастье... Лейтенант, что вчера привезли, того... повесился. Рубин резко присел и откинул простыню. На него смотрело умиротворенное лицо лейтенанта Лахно. На шее, врезавшись в тело, чернел солдатский ремень. - Я ночью заглядывал в их палатку, он спал после лекарства, да видно мало дали, вот и проснулся... А уж почему повесился, один Бог знает. Рубин молчал, не стал рассказывать санитару, что, хотя он и не Бог, но тоже знает, почему этот мальчишка повесился.... Они встречались обычно один раз в год, на День Победы. Моисей Рубин приезжал за день-два к своему друга Паше Морозову, а утром 9 мая они вместе уходили на шествие ветеранов, такая уж у них сложилась традиция. Потом жена Павла готовила праздничный обед, они садились за стол с традиционной единственной бутылкой водки, которой им хватало до вечера. Жена уходила, оставляя их наедине с фронтовой памятью. Они могли бесконечно вспоминать, но была в этих воспоминаниях одна особенность: вспоминали какие-то незначительные случаи, больше всего смешные, нелепые, пересказывали байки, бродившие в те времена по фронтам, но никогда не опускались до высоких материй стратегии или политики. Оба считали, что война делается разными людьми, и они честно отслужили, каждый на свом месте. Но в этот день Рубин рассказал фронтовому другу историю в лесу неподалеку от Гродно. Павел долго молчал, потом налил рюмки. - Выпьем за тех немцев и лейтенанта, оставшегося человеком. Выпили. Рубин не выдержал. - Я всю жизнь спрашиваю себя, так я поступил или не так, что промолчал и никуда не доложил? - Брось, Мишка, ничего бы не изменилось. К кому бы попало твое донесение? К тому же майору или такому же другому. И что? Ты бы сам загремел под фанфары. Они друг друга защищали - сегодня одного под трибунал, а что с остальными делать? Тогда всех надо, а кому охота... А что это ты сегодня ту историю вспомнил? - Да встретил я того майора.. - Ну! Вот это да! И что майор? - Теперь он не просто майор, а генерал-майор в отставке. Сытый, гладкий, про подвиг советского народа речь толкал, как, мол, мы проклятых фашистов победили, как не щадили собственных жизней, мы, мол, беззаветные герои все. - Да, нет правды на земле... - Есть, Паша, есть. Мы с тобой, да еще миллионы таких, как мы, и есть правда. Я вот иногда об инопланетянах думаю. Прилетают вроде они к нам, изучают, говорят, берут к себе людей, рассматривают, как под микроскопом... И вот страшно мне становится - а вдруг им такой, как этот майор попадется? Что ж они о нас, о людях-то подумают. Григорий Розенберг Ёмпа Уже много лет я живу далеко от своего города. Я всегда думал, что скучаю по нему, по живому и материальному. Но, как показывает время, скучаю я лишь по тому, во что превратился город в моем воображении. Видимо, я во-обще так устроен. Наткнувшись на любой предмет из прошлого, я сравниваю его с тем оттиском, который оставил он когдато в моей памяти, податливой, как глина. Прикладываю – совпадает ли. И, оказывается, что оттиск важнее, дороже предмета. Оказывается, что если не совпадает, я готов хирургически безжалостно подгонять предмет к оттиску. Много лет снятся мне улицы моего города. Так много лет, что вижу я их во сне, как вижу умерших близких. И те, и другие молоды в моих сновидениях, и давно уже молчат. В каждом новом сне стираются, утрачиваются подробно-сти, на которых держится живая память, поэтому даже в своих снах, не пони-мая, что сплю, я говорю сам себе: смотри, всматривайся, запоминай, заклады-вай их в память для твоих будущих снов. И сны порой выпускают в жизнь эти искаженные памятью образы… – Борис Ильич, а покажите мне сегодня ваш личный город, улицы ваше-го детства, например. Эту деревянную фразу, сочиненную, несомненно, моей дочерью, я ус-лышал сегодня утром в исполнении ее мужа, моего, то есть, зятя. Но, как ни странно, такой муляж родственного интереса вдруг обрадовал меня. Мы впер-вые оказались в моем городе все вместе: жена, дочка с мужем и его родители. И мне не хотелось, чтобы новые члены семьи, чужие, в общем-то, люди, виде-ли, как по-детски не терпится мне удрать и побыть немного рядом с моими стенами. Это могло бы вселить беспокойное недоумение в их прагматичные души, поэтому надо было найти какой-никакой рациональный повод. А тут как раз, накрученный дочерью, молодой подкаблучник, отыграл свою фальшивую просьбу. Я охотно (петелька-крючок) подхватил идею, и вот, с самого утра мы чинно гуляем по старой Молдаванке, как будто по чопорным залам историче-ского музея. Внешняя, предназначенная для зятя, часть моего я экскурсоводст-вует, а внутренняя, личная – гладит глазами любимые лица домов, посеревшую вату между оконных стекол, чугунные ворота, наклонные столбы, подпираю-щие полуобморочные стены… – Здесь, на этой улице жил Бабель, когда писал свои «Одесские расска-зы»… Здесь – Мишка Япончик… Эти одноэтажки стоят здесь тыщу лет, на-верное… – А сколько им на самом деле?.. Ну, примерно. – Это можно определить по окнам. Смотри, видишь, они заподлицо со стеной, не углублены. Это значит, что им не меньше двух сотен. Ровесники го-роду. Зять солидно кивает. – В этом бывшем костеле я занимался боксом… В этой бывшей синагоге – волейболом… А этот дом, если посмотреть отсюда, имеет только одну сте-ну… Угол острый, видишь? А это наш двор… Никого уже не осталось… Кто где… А отсюда я свалился, башкой треснулся… А это Мясоедовская… Ну да, Шолом Алейхема, но на самом деле – Мясоедовская. А вон там Еврейская больница… Нет, только называется так… Слушай, зачем тебе вся эта фигня? Какая тебе разница, откуда я свалился? Давай-ка зайдем сюда, здесь всегда бы-ло холодное сухое. Все, правда, к чертям переделано, но внутри прохладно. Да-вай посидим… Мой молодой зять соглашается так быстро, как будто я опередил его идею на полсекунды: «Ага, что-то жарко у вас здесь». Вино и вправду – холодное, а каменное нутро пивнухи – прохладно, как морской грот . Я откидываюсь на удобную спинку, потягиваю вино и неуправ-ляемо улыбаюсь. Зять тоже блаженствует. Я говорю ему, что, в сущности, мне рассказывать-то нечего. Жизнь, как жизнь. Как у тысяч других. Да и у тех тысяч – как у других таких же тысяч. Нечего мне рассказывать о себе. Я рассказываю ему про то, что морякам в тропиках положено сухое вино, про греков, которые вино разбавляли водой – Нет, – говорит он, – у каждого есть что рассказать. Вот в этом чипке (так называли пивнушки в его Воронеже) вы ведь не в первый раз. Неужто ни-чего особого не случалось? Это же пивнуха! Я выдаю ему старинный анекдот за случай из моей жизни. Что, якобы, мне показывал здесь знакомый фарцовщик дешевый спектакль с шестью стака-нами вина: он заказывал сразу шесть стаканов, выстраивал их в ряд, а потом отдавал назад продавщице первый (слева) и последний (справа). Когда я, яко-бы, спросил его: «Ну, и зачем, мол, ты эти два вернул?», он ответил мне, что первый у него всегда плохо идет, а последний – лишний. Эту поучительную ис-торию зять выслушал одобрительно, в смысле – ведь можешь, когда хочешь. Хотя на самом деле, спекулянт научил меня только смешивать в одном стакане крепленое и сухое. Тогда, помню, мне нравилось… И впоследствии пригоди-лось. Тренькает дверной колокольчик, в прямоугольник открываемой двери победно врываются раскаленные солнечные лучи. Несколько фигур, пересекая своими размазанными силуэтами это триумфальное великолепие, входят в зал. Как только дверь закрылась, и зрение вернулось, сразу стало видно, что при-шли «крутые». Вернее – «крутой» со свитой. Все атрибуты, включая мобиль-ник. Я и не знал, что нынешние не брезгуют даже такими забегаловками. С дру-гой стороны, может, за данью явились… Впереди идет низкорослый пожилой крепыш, лицо угрюмое, бубнит что-то в мобильник. За ним свита, как и поло-жено: стрижки, шеи, плечи, интеллект… Зять поворачивается ко мне – и избе-гает столкновения со взглядом «крутого». Я как всегда не успеваю. «Крутой» почти равнодушно сканирует мое лицо, делает еще несколько шагов мимо на-шего столика, но вдруг останавливается, захлопывает крышку мобильника, и возвращается к нам. Молодой зять напряженно смотрит на подошедшего. – Гарик? – спрашивает меня «крутой». – Мамут? – Да нет, вроде, – усмехаюсь я. – Какой же я Гарик? – Нет, не Гарик, – соглашается «крутой». – Гарик картавил. Да и свалил он. Обознался. А лицо как бы знакомое, как бы видел где-то… И вдруг я вспомнил. Вспомнил и испугался. Как много лет назад, когда я, четырнадцатилетний щенок, впервые увидел его. *** В Ляльку я влюбился сразу же, как только мы въехали в этот дом. Когда я увидел ее, я даже испугался, такая она была красивая. Я понимал, насколько опоздал во всем. В длинном списке уже влюбившихся в нее, мое имя было без-надежно далеко от активного начала, и не оставалось ни малейших надежд на то, что оно будет когда-нибудь ею замечено. Да и была она старше меня на це-лых два года. Но какая красивая! Я смотреть стеснялся. Спина все время не-множко прогнута, острая грудь бесстыдно торчит чуть в стороны и вверх, та-лия, как у Гурченко, и гладкие-прегладкие загорелые ноги, в туфляхлодочках. И на шпильках… А над всем этим изумительное лицо с серыми глазищами! И ямочки на обеих щеках. И челка на лбу… – Глухой номер! – махнул рукой Мишка Гофт, увидев мое обалдение, когда я впервые встретил ее во дворе. Было лето, мы только переехали, и я зна-комился со сверстниками. Она вернулась с пляжа в сопровождении морячка, который тут же смылся, и, пробегая в свое парадное, послала в нашу сторону воздушный поцелуй. Я даже оглянулся: кому это? – Во-первых, у нее миллион пацанов и все лучше тебя, – тоскливо вздохнул Мишка. – Во-вторых, она над всеми смеется, никого не любит и ни-кому не дает, в-третьих – она Драчинская! – А это здесь при чем? – А у нас почти весь двор Драчинские. Ты еще узнаешь. Они за нее из тебя котлету сделают. – Из меня? – Да и из тебя тоже. Миша Гофт. Знакомясь со мной, он назвал свое имя и фамилию, а потом с деланым равнодушием добавил: Майкл. Уже второй год главный фильм сезо-на – «Великолепная семерка». Все имена окрестных мужчин подросткового возраста перекроены под английские. Приятель Майкла Слава Коцюба всегда звался просто Коцюба, но с появлением «Семерки» превратился в Криса. Из меня тут же сделали Боба. В моду, вместо «дудочек», очень постепенно входил клеш, и Крис первым появился во дворе в облике немногословного ковбоя с ленивой походочкой и скупыми жестами. Он обрился наголо и стал совсем по-хож на загадочного Юла Бриннера. Майкла до «Семерки» весь двор звал Гонев (была такая дразнилка «Мойша – гонев, Мойша – вор, Мойша лезет на забор»), поэтому новому имени он был рад больше, чем все остальные. Жили во дворе и другие персонажи, с кем мне предстояло еще познакомиться, но сверстниками моими были Крис и Майкл. Так вот, и Крис, и Майкл давно вздыхали по Ляль-ке, били морды ее провожатым, даже друг с дружкой дрались иногда, но кроме веселой соседской снисходительности, не добились от нее ничего. Двор был интересный. Посреди двора на четырех столбах торчала голу-бятня, хозяином которой был один из самых таинственных Драчинских – Кока. О нем рассказ дальше. Вокруг были самовольные пристройки к скудному «за-конному» жилью, лабиринтом углублявшиеся в недра двора. Там, в этих, мне пока не известных, недрах обитал могущественный клан Драчинских, главным делом которых было подпольное производство стиляжной обуви, под стран-ным тогда для меня, любителя Фенимора Купера, названием «мокасины». На всех плакатах стиляги изображались тощими прощелыгами в цветастых галсту-ках, рубашках навыпуск, в брючках-дудочках и в туфлях на толстенной каучу-ковой подошве. Майкл смеялся над примитивностью хулителей «стиля» и по-яснял мне, какие истинные ценности актуальны на текущий момент. – Подошва должна быть тонюсенькой, как картонка, а носок острый, как кончик меча. Это же м о к а с и н ы !!! – Какие это мокасины! – возмущался я, – мокасины вообще делались без подошвы! Максимум – из трех кусков кожи. Это же обувь индейцев!!! – Читай поменьше, – отмахивался Майкл, – умнее будешь. А плакаты твои (почему мои?) – из прошлого века. Это еще до твиста. Это еще до рок-н-ролла. Это еще только буги-вуги начинались. И пропел мне для иллюстрации, выделяя значимые места: Из-за стран далеких, из-за гор высоких Приходили негры посмотреть на стиль. Там, где баобабы, На тройной подошве Джеки жарит буги, поднимая пыль… Майкл был специалист. Крис со двора шагу не делал, не посоветовав-шись с Майклом на предмет, как говорят сегодня, прикида. Думаю, что я в гла-зах Майкла был полным ничтожеством. Кроме поляков Драчинских во дворе жили дети разных народов. Пол-ный интернационал. Точнее – Вавилон. Болгары, гагаузы, евреи, украинцы и даже немец Вайс. У всех были религиозные праздники, и каждый угощал сосе-дей-иноплеменников специфическими национальными вкусностями, и получа-лось так, что дети больше любили чужие праздники, чем свои. Иноплеменники были разные, их было много, поэтому и вкусностей они приносили много и – главное – разных . То есть, обычно в будни и праздники жили дружно, но при малейшем конфликте моментально выяснялось, что каждый знает о каждом, кто он, из каких он и какие они все. Мрачноватая слава Драчинских окружала Ляльку, как колючая проволо-ка. Подъезжали к ней только чужаки, только незнакомые. Да и они, раз или два проводив Ляльку, в третий раз появляться в нашем дворе не решались. Нас, че-тырнадцатишестнадцатилетних во дворе было только трое, младших – куча. Молодые же львы в самом расцвете сил составляли ядро клана. Заговорили мы с Лялькой на дне рождения у Криса. И он каким-то бо-ком был в родстве с Драчинскими, по какой-то далекой материнской линии. Я не помню, что мы там ели и пили, я помню, что Лялька сидела прямо напротив меня, болтала с Майклом и Крисом, а меня в упор не видела. Потом вдруг по-смотрела прямо мне в лицо и насмешливо спросила: – А ты кто такой? Тебя как звать? – Боря, – чуть не подавился я своим именем. – Да Боб это, я тебе рассказывал! – чуть растягивая слова, сказал лысый и загадочный Юл Бриннер. – Сын фотографчика. – А ничего, – прищурившись сказала Ляля, – симпатичный. Хорошо, что худое лицо – глаза кажутся больше. И рот красивый… маловат, правда. При-дется тебе, Боречка, когда вырастешь, усами его прикрывать. И все. И больше ни мне, ни обо мне – ни слова. Но поздно вечером, ко-гда я лежал на животе, обняв прохладную подушку, я прокручивал про себя всю эту сцену, всматривался в Лялькино лицо, вслушивался в ее голос. Крис и Майкл любили музыку. По ночам они ждали чистой, без рева и трескотни, передачи румынского радио, чтобы записать очередной шедевр на Мишкин магнитофон (папа Майкла продавал газированную воду в киоске, и семья жила в достатке). По вечерам Крис выносил гитару, разделанную под шик каким-то зеком (блестючие фигурки из нержавейки, картинки, резные кол-ки), и они вдвоем пели всевозможные заграничные мелодии… Я был единст-венным слушателем. Но мелодии сами по себе были мне скучны. – Что ж ты так любишь песни! – возмущался Майкл. – Я, например, ни-каких слов не помню, мне музыка нравится. Однажды к нашей компании подошел парень крепко постарше нас, с удивительно красивым лицом. Тощий, стройный, гибкий… Я почти сразу по-нял, почему он так красив: те же ямочки, те же прекрасные серые глаза, только взгляд очень странный, с каким-то непонятным значением. Тогда я еще не знал, как выглядят наркоманы. – Здорово, Худой! – вскочил Крис. – Поиграешь? Худой молча взял гитару, тихо потренькал, покрутил колки, и запел ка-кую-то песню, не блатную, но очень на блатную похожую. Голос тихий, сип-лый. И почему-то запомнилось только два слова «…двадцатого партсъезда»... А что, двадцатого партсъезда – не помню. – Что это за песня? – спросил я. – Рано тебе еще знать… – не глядя на меня, сказал Худой, и Майкл с Крисом рассмеялись. Худой отложил гитару и, достав пачку папирос, спросил: – Ну, что, соснете? – Не-е-е, – протянул Крис, – мы не по этому делу. Худой выдул из папиросы табак и всыпал в нее другой, припрессовывая спичкой. Потом зажег папиросу, обхватил ее кулаком и стал втягивать дым прямо из кулака. – Что он делает? – шепотом спросил я. – Ты че, не знаешь, что такое «план»? – удивился Майкл. – Ты че, не пробовал? Я не знал, что такое «план», но приставать постеснялся. А Худой, поку-рив, завел неспешную беседу о своей непростой жизни, потрясая наше юноше-ское воображение натуралистическими подробностями. Мысль его вихляла от немыслимых сексуальных приключений прямо здесь, в нашем парадном, до размышлений о социальном устройстве общества. В отличие от первой темы, в последней он обнаруживал выдающееся невежество. Наступил момент, и я не сдержался. – Так как же ты не понимаешь! Нечего будет красть при коммунизме! Тебе и так все будет принадлежать. Просто ты будешь делать ту работу, какую больше всего любишь. Вот если мы доживем… – А мне и при социализме хорошо! – с усмешкой изрек Худой чудовищ-ную ересь. – Посмотри на мои руки. Я посмотрел. Кисти рук оказались и вправду непомерно длинными и гибкими. – Секи, – сказал Худой, и как фокусник, отдернул рукав, вытянул руку вперед и сложил, свернул кисть вдоль ее длины. Вдоль, а не поперек! – Вот ра-бота, которую я больше всего люблю! Не, ну разве можно с такими руками ра-ботать! – Он изобразил ныряние змееподобной руки в чужой карман и вдруг перешел на одесский говорок. – Это ж руки арциста!.. – Лялькин брат, – вздохнул Майкл, когда Худой удалился. – Двоюрод-ный. Он, когда на волю выходит, говорит, что в отпуск приехал. Больше полу-года-года никогда не гуляет. Твой сосед, между прочим. У тебя за стенкой жи-вет. Сын глухой майорши. Все удобства нашей новой квартиры были во дворе. Я таскал в дом вед-ра с водой (колонка была в центре двора), а из дому – ведра с помоями (слив был в туалете). Туалет был тоже во дворе и не разделялся на мужской и жен-ский. Тут же был, так называемый, слив для помоев. Все было побелено из-весткой, все воняло хлоркой, но все это было привычным, понятным и необхо-димым. Перегородки между кабинками были сколочены из досок и продыряв-лены во многих местах, на уровне глаз сидящего. С помощью этого устройства юные представители сильного пола удовлетворяли свою законную любознательность. Стены и двери внутри каждой кабинки были, как и положено, испи-саны различной ерундой (в массе своей – неинтересной) и изрисованы возбуж-дающими картинками. Одна из надписей запомнилась мне тем, что в ней я уг-лядел искреннее страдание и растерянность: Я здесь сидел и горько плакал, Что мало ел, и много какал… Зато на стене напротив дверей кабинок висел большой настоящий пла-кат, на котором улыбающийся Никита Сергеевич указывал кистью руки вперед, то есть, прямо на двери, а под ним была знаменитая цитата: «Наши цели ясны, задачи определены, – за работу, товарищи!». Кока умывался по утрам у колонки, которую весь двор звал просто «кран». Когда я приходил со своими ведрами, он уже стоял, широко расставив ноги, прогнув мощную спину под струю, тихо рычал и играл мускулами. На по-верхности его почти оленьего тела белели шрамы, которые покачивались на коже, как арбузные корки на воде. Загорелый, сильный, жестокий. Я уже успел увидеть, как он однажды сгонял пацанов со своей голубятни, как шлепнул од-ного из них по уху, так, что тот аж по земле покатился… Так детей не бьют. То есть, даже тот, кто бьет детей, бьет их не по-взрослому. Я видел, как он однаж-ды ударил жену: так бьют сильного врага-мужчину. Жильцы дома никогда с ним не связывались, даже немец Вайс. Только Худой позволял себе решитель-но все: хамил, спорил, угрожал, посылал подальше – ему прощалась любая вы-ходка. При всем своем отвращении к Коке, я смотрел, как он моется, и любо-вался. Мне казалось, что стоит только начать так же умываться, и я тоже стану загорелым, красивым, мускулистым. Меня Кока не видел, не замечал, смотрел сквозь. Не потому, что как-то особенно ко мне относился, а потому, что он не относился ко мне никак. Ну, как я – к его голубям: одним больше, одним меньше. В течение жизни я частенько потом натыкался на подобные взгляды. Кока, как оказалось, возглавлял обувной бизнес Драчинских, и шрамы его были следами процесса распределения рыночных территорий. В нашем же районе был у него сильный конкурент, борьба с которым практически не пре-кращалась. Просто наступали шаткие перемирия. Кока должен был быть посто-янно готов к атаке. Каждое утро он публично смывал с себя ночную расслаб-ленность, всякие там ночные слова и поцелуи, чистил зубным порошком свои здоровые хищные зубы и до красна растирался полотенцем. Он тихо порыкивал и шлепал себя ладонями, а я стоял с ведрами в стороне и заворожено ждал. Однажды поздно вечером мы возвращались втроем, Крис, Майкл и я, из летнего кинотеатра, расположенного на параллельной улице, в районе еще ме-нее респектабельном, чем наш. То есть, в одиночку там ходить не стоило. Мо-жет, под влиянием криминогенной наэлектризованности ночного воздуха, а может, окружающей толпы все еще возбужденных зрителей, а может, виденно-го фильма, не знаю, – я матерился через каждые два слова, что вообще-то было мне абсолютно не свойственно. Сегодня я вижу в этом нечто фальшиво-петушиное, но что можно исправить в прошлом из такого умного сегодня? Пе-ред самым домом я в темноте (ну, в почти темноте) просто наткнулся на Ляль-ку. Сто процентов, что она слышала мои блистательные реплики, и от позора и отчаяния я задеревенел, как покойник. В этом доме такое со мной произошло уже второй раз. В первый раз я вышел на лестницу, неся в обеих руках по по-мойному ведру. Когда начал спускаться, нога скользнула по вечно грязной по-верхности, и я со всего роста трахнулся задницей о край предыдущей ступень-ки, которая тоже оказалась весьма скользкой. Дальше понятно. Я съезжал за-дом по скользким ступеням, высоко задрав обе руки с помоями, чтобы не ока-тить себя их густым содержимым, и от испуга и боли каждый удар задницы о ступеньку сопровождал отборным матом, ярко окрашенным экспрессивной ин-тонацией. И только на последней ступеньке я обнаружил, вставая, что за мной следом идет соседка, постоянно нахваливавшая меня моей маме, когда та учиняла мне воспитание: «Ой, оставьте ребенка у покое! Он же тихий золотой ре-бенок, он же кроме «здрасти» ни слова не говорит!» – Здрасьте, тетя Ксеня! – сказал я ей тогда, встав и поставив помойные ведра на пол. Но Лялька не тетя Ксеня, я смутился и расстроился не на шутку. Крис и Майкл захихикали и принялись было подкалывать меня, но Лялька решительно тормознула их подхалимничанье. – Идите, идите, – велела она, – я тут с Боречкой почирикаю. Когда мы остались одни, она взяла меня за руку и мы зашли в неболь-шой палисадник под окнами Криса, где была удобная скамейка со спинкой. Свет от окна Криса пробивался через синие шторы, и тени были похожи на лунные. Прямо – театральные декорации для сцены в ночном саду. Лялька ста-ла расспрашивать о разных пустяках, и пустяки эти стали вдруг очень значи-мыми, я жутко волновался, боясь разочаровать ее, не оправдать ее интерес ка-ким-либо неправильным ответом. Когда ее вопросы добрались до темы «любовь», я смутился окончательно. Ну, не было у меня, четырнадцатилетнего дылды никакой любви. При любом сознательном приближении к прекрасному полу я обмирал от страха, а вот так сидел рядом с девочкой (да еще какой!) во-обще первый раз в своей жизни. – И ты что, ни разу не целовался? – изумилась Лялька. Я вздохнул. – А давай, научу! – улыбнулась она. – Тебе уже пора, ты уже большой. Садись вот так. Главное, ты должен понимать, что для девочки важно не что ты делаешь, а как! Ты должен показать ей, какой ты романтичный. Ты в звездах сечешь что-нибудь? Ну, вот и хорошо. Ты должен серьезно, но с интересом по-казывать ей на небо и рассказывать чтото на самом деле интересное. – А что ей интересно? – А ты попробуй сам. Ты говори сейчас, а я тебе скажу, интересно или нет. Но когда будешь говорить, ты сам смотри на небо и приставь свою щеку к ее щеке. Приставь, приставь. Вот так. Она тоже посмотрит, а когда она посмот-рит, ты немножко так поверни голову, и губы окажутся очень близко. Вот так, – чувствуешь? А их уже как магнитом присосет, она даже и не сообразит, чего это она. В этот момент ее теплые мягкие губы влились в мои, и я перестал ды-шать. – Эх, ты! Девочка-неумеха! – улыбнулась Лялька. – Ты губы не сжимай, ты наоборот, дай им волю. – Мне какую-то фигню про помидор говорили… – начал я, дурея от про-исходящего. – Вот-вот, именно. Ты захватывай помидор губами (только губами, а не зубами) и высасывай его мякоть. – Так ты же рот открыла, там же язык и слюни. – Вот именно! Смотри… Как хорошо, что мы сидели в темноте, и она не видела мои брюки! – А теперь, – прервала она поцелуй, – пока ты ее целуешь, левая рука нежно обнимает ее талию или плечи, а правая легко-легко ложится на грудь… Но смотри, так, чтобы было непонятно: то ли ты так случайно обнял девушку, то ли сам не понимаешь, где ласкаешь. Если она подумает, что ты ее просто лапаешь – все пропало. Ну, продолжаем. Руку, руку… Легче… Вот так. Так хо-рошо… – сказала она и снова мои губы оказались в ее. И теперь уже я понял, зачем язык… – Все! Урок окончен! – вскочила она со скамейки. – Завтра проверю до-машнее задание. Маловаты губы, но ничего. Получается. И убежала в свое ночное парадное. Но никакой проверки домашних заданий не состоялось. Она просто не появилась на следующий вечер во дворе, а я слонялся вокруг палисадника, как мартовский кот. Я думал об этом «завтра» большую часть ночи, весь день, и не верил, что вчерашнее было на самом деле. Да и Лялька, попадавшаяся мне по-том на глаза еще много раз до конца каникул, никак не показывала виду, что случившееся было реальным. Так, здоровалась, подтрунивала, дружески болта-ла – все, как с Крисом и Майклом – но к себе не подпускала. По кривым ухмы-лочкам моих новых приятелей я заподозрил, что не я первый в этом дворе по-лучил урок мужества. Ну, а первого сентября я пошел в школу. Новая для меня школа, новый класс. Крис и Майкл пошли уже в десятый, а я только в восьмой, однако вось-мой относился к старшим классам, и мы с моими друзьями были как бы на рав-ных. А вот что поразило меня в первый же день, это то, что Лялька, оказывает-ся, учится в моем классе. Спросить я не решился, но довольно скоро выясни-лось, что она дважды второгодница, и учится из рук вон плохо. Моя парта стояла сразу же за Лялькиной, и я все уроки мог любоваться ее качающимся «хвостом». Хвост был в известном смысле школьной дерзостью, и учителя яро-стно боролись с этим откровенным признаком морального разложения. Ляльке все было до лампочки: снижать ей оценки было некуда, а вызывать ее родите-лей опасался даже завуч. В первый день я послал ей записку, в которой решил все же выяснить, что помешало той проверке домашнего задания. В ответ по-лучил полную недоумения и чудовищных ошибок писульку: какое, мол, до-машнее задание, и зачем я морочу ей мозги. Не голову, а мозги. И хоть во мне зашевелилось сомнение в их наличии, я отметил необыкновенной красоты по-черк, где все было не по прописям, но очень декоративно: у строчного «д» был коротенький хвостик, и это ему шло; строчное «т» она писала, как «п», плюс еще один крючок, как «i» без точки. В том же духе она переделала и другие бу-квы. Но самое главное, строчки парили над тетрадной разлинованностью, они не касались типографской синей линии, но летели точно параллельным курсом. Несколько лет пытался я потом добиться такого же полета строк, но тщетно. Не получив вразумительного ответа на свой законный вопрос, я решил пустить в ход знания, полученные от Ляльки. Девочке не важно, что. Девочке важно, как. Я осторожно протянул под партой ноги и, сдвигая их по миллимет-ру в секунду, стал сводить их с расчетом на то, что ее туфли-лодочки окажутся как раз между моими ботинками, и я, как можно нежнее и ласковее, поглажу эти счастливые туфельки, которые ежедневно безбоязненно касаются ее глад-ких-прегладких ног. Туфелька оказалась одна: как видно, вторую ногу Лялька вытянула вперед. Я старался погладить так, чтобы не сразу было понятно, что происходит. А потом гладить все откровеннее, чтобы было как с рукой на гру-ди: когда уже понятно, тогда уже поздно. Туфелька сначала дернулась чуть-чуть, потом замерла (Лялькин хвост вел себя так, будто не имел с туфелькой ничего общего), потом снова слегка дернулась, а потом Валера Черный, сосед Ляльки по парте, оглянулся и спросил меня басом так, что услышал весь класс: «Слышишь? Ты что, об меня ботинки вытираешь? Тебе что, делать не фига?». В сентябре еще было светло по вечерам, и Майкл с Крисом музицирова-ли во дворе. Я тоже сидел рядом с ними и ждал, что придет, может быть, Ху-дой, и продолжит свои порно-социологические откровения. Майкл и Крис ску-чали и валяли дурака: они оседлали гитару, Крис брал аккорды, а Майкл бил «шестерку» – испанский бой. Они и на велосипеде так ездили: один рулил, дру-гой крутил педали. В один из вечеров, в самый разгар их веселья и моего ожи-дания во двор вошел молодой мужчина в макинтоше и шляпе, огляделся, и по-дозвав кого-то из малышей, стал о чем-то неслышно спрашивать. Майкл и Крис переглянулись. Малый показал рукой на Лабиринт Драчинских и отвалил по своим делам, а макинтош решительно двинулся в сторону таинственных дебрей. В тот момент, когда он приблизился к парадному входу в Лабиринт, из другого, незаметного входа выскочил Кока и пулей бросился в противополож-ную от ворот сторону. Дело в том, что между сараями рядом с уборной была щель, примерно в метр шириной, в которую пацаны пробегали, когда играли в свои военные игры. Вот туда и рванул Кока. А тем временем во двор на боль-шой скорости въехал старый горбатый «москвичок». На то, чтобы сориентиро-ваться макинтошу и «москвичку» понадобились секунды. Макинтош рванул следом за Кокой, а «москвичок» эффектно развернулся и исчез в арке ворот. – Это Ёмпа, сука! – раздался за нами тихий сиплый голос. Поставив ногу на скамейку, позади нас стоял Худой и смотрел вслед умчавшемуся Коке. – Попишу, век воли не видать! Сукой буду – попишу! – шипел Худой, и я видел, что он не накуренный, трезвый и пугающе белый. Потом достал папи-росу, и ничего в ней не меняя, закурил. Крис вытащил из его пачки еще одну папиросу и тоже закурил. – Отцу скажешь, чтобы к одиннадцати зашел, – сказал Худой Крису на прощанье. – Что такое «ёмпа»? – шепотом спросил я. – Это не что, это кто, – сказал Майкл. Это конкурент. Он решил так Ко-ку с рынка убрать. – Ладно, не звезди, чего не надо! – оборвал его Крис. – Это не его дело. Так я впервые услышал это слово – «Ёмпа». Примерно через месяц я уз-нал, что Коку посадили. У Майкла праздник, на который приглашены и мы с Крисом. Сестра Майкла, Софа, выходит замуж. Жених, высоченный красавец, бесшабашный балагур, лицом похожий на человека-амфибию из одноименного фильма, по профессии – маляр, а по замашкам – артист. Он всех похлопывает по плечам и спинам, и с незнакомыми обращается, как со знакомыми. Он подтрунивает над каждым. Никто не обижается. Его зовут Рома, но друзья обращаются к нему – Хаим. Это такая кличка. Друзья подстать Хаиму. Говорят – маляры, но похожи на криминальных гастролеров. Высокие, сильные, насмешливые. На свадьбе много разного вкусного, все танцуют, и Крис поражает гостей тем, как здорово он танцует твист. Но Рома-Хаим и тут щегольнул. Он вдруг сбрасывает свой жениховский пиджак и галстук, и остается в романтической белой рубахе с ши-рокими рукавами, а мы видим, что брюки у него сшиты особым образом: линия пояса очень широкая, облегающая его накачанный пресс, как в мексиканском кино. Брюки узкие, обтекающие его ноги и неожиданно книзу расширяющиеся. Туфли – фирмы Драчинских. Хаим вскидывает кольцом руки и легко выстрели-вает короткую очередь чечетки. Кто-то из его компании берет аккорд на гитаре, и Хаим показывает, как могут танцевать испанский танец маляры с Молдаван-ки. Крис скисает со своим твистом. Да и гитарист, оказывается, не только шле-пает по струнам аккорды, он еще умудряется вести соло. Гости в отпаде, мама Майкла застыла, всплеснув руками, папа замер с глупой улыбкой на красном лице, Софа – сияет. Хаим поселился у нас во дворе, а с его появлением появились и новые молодые люди. Эпоха Драчинских была накануне заката. Первым ушел Худой. Весть о его смерти потрясла во дворе всех. Зареза-ли Худого гдето на Мясоедовской. Милиция обнаружила тело под решеткой полуподвала, рядом со входом в пустую, брошенную квартиру. Когда гроб ус-тановили во дворе на два огромных табурета, а наша соседка, глухая майорша, голосила, упав сыну на грудь, я вдруг услышал сбоку от себя тихий, сдержан-ный басок отца Криса: – Я знаю, кто это. Кока еще вернется. Худого Кока ему не простит. Я оглянулся. Дядя Ваня Коцюба говорил это стоящему рядом с ним не-знакомому мужику, а тот кивал и удивленно смотрел круглыми глазами прямо перед собой. Я посмотрел в направлении его взгляда. Лялька, наклонившись так, что ее ноги сзади оголились намного выше колен, обнимала глухую май-оршу и бесполезно шептала ей чтото на ухо. – Вот и кончился его отпуск, – сказал Майкл. – Теперь насовсем. Я привыкал к новой школе, к новому классу. Когда первая ошалелость от Ляльки пошла на убыль, я увидел, что в классе есть еще несколько очень ни-чегошеньких девочек, и познакомиться с ними, даже чуток похулиганить, но так, чтобы они не обиделись, я уже мог запросто. Что-то существенное во мне, как видно, Лялька сумела сдвинуть в нужную сторону. Я решился читать свои стишки всем, кто соглашался слушать, и девочки это оценили. Я стал входить в элиту класса. С учителями тоже пошло на лад (лучше, чем в предыдущей шко-ле), и в школу я отправлялся уже даже с некоторым удовольствием. Самая вы-сокая девочка в классе, даже выше меня, Бэлла Фишер, попросила как-то напи-сать от ее имени стихи мальчику из одиннадцатого класса, которого все девоч-ки школы прозвали Капитан. – Почему именно капитан, – спросил я Бэллу, – почему не майор, на-пример? – Ты что, не видишь, как он похож на пятнадцатилетнего капитана? – А ты его видела, капитана? – А ты нет, что ли? Это же кино такое! Слушай, Боренька, напиши как-нибудь так! А то все влюблены в него, и он на меня без стихов даже не посмот-рит. – Напишу, – пообещал я, – но ты – дура. – Я знаю! – вздохнула Фишер. Толю Романцева, а как теперь выяснилось, еще и Капитана, я знал по секции бокса в «Локомотиве». Соблазн поиздеваться над ним был велик, но Толик уже выполнил норму кандидата, и сердить его не хотелось. Он поразил меня как-то на общешкольном собрании, когда в ответ на упреки директора школы, вышел на сцену, стал за трибуну, и бледный, в самом деле, очень кра-сивый, почти не глядя на директора, по пунктам разбил все его обвинения. Ка-ждую фразу он начинал взрослым «Видите ли…». Это «Видите ли» настолько что-то там такое проделало в моем воображении, что почти любую свою мысль я начинал с этой формулы. Нет, такого бесстрашного, уверенного кандидата в мастера по боксу сердить не хотелось. Стихи от имени Бэллы я ему написал. Возможно, я вложил в них часть своей очарованности. Потом у меня было несколько скоротечных дружб с девочками из класса (фокус с грудью прошел только с одной, остальные сказали мне одну и ту же фразу: «не лапай!»), но каждую оставил я, и поэтому ореол покорителя сердец не потерял. Лялька обращалась со мной только, как с соседом по дому: при-ятельски, свободно, как с Майклом и Крисом. Вечерами ее провожали курсанты то военного, то морского училищ, а утром она в коричневом платье и черном переднике являлась в школу. Грудь ее под этой формой была еще более вызы-вающей, еще более нахальной. Мне казалось, что вообще в старших классах форму следовало бы поменять. Эти детские одежонки на взрослых девушках анекдотично усиливали соблазнительность всех их взрослых выпуклостей. Смотреть на это было так же завлекательно, и так же неловко, как на порно-графические открытки. Пришел Новый год. Мои родители, удивленные моими успехами за по-лугодие хотели отправить меня в какую-нибудь каникулярную поездку, однако, подумав, ограничились позволением провести новогоднюю ночь в компании, а не дома. Но еще до компании, до новогодней ночи должен был состояться мой первый школьный новогодний вечер в статусе старшеклассника. В актовом за-ле. С танцами. Крис и Майкл на вечер не пошли. Они всегда игнорировали школьные мероприятия. Ну, и были правы, конечно. Сначала шла обычная занудная бодя-га «в текущем году», «рост успеваемости», «нельзя не отметить», «вместе с тем»… Потом награждение самыхсамых, потом небольшая художественная самодеятельность, ну и, наконец, переход в соседний зальчик, много меньше актового, с ярким светом, белыми стенами и проигрывателем с колонками из радиоузла. Ляльку я почти сразу потерял из виду, а когда заиграла оглушитель-ная музыка, немедленно попал в горячие и по-мужски сильные объятия Бэллы Фишер. Она плотно прижалась ко мне и, склонившись к моему уху, жарким шепотом рассказывала, как она намерена провести сегодня операцию по захва-ту Капитана, какие романтические и неуязвимые сети разбросаны ею по всем прилегающим помещениям. Еле отцепившись от ее огромного тела, я пригла-сил незнакомую девятиклассницу, которая уже дважды стрельнула в меня си-ним глазом. – Ты новенькая? – спросил я ее. – Да, как и ты, – сказала она. – А откуда ты знаешь? – Знаю!.. – кокетливо хмыкнула она. – А ты откуда? – Из Ленинграда. Папу сюда перевели. А давай танцевать, как в Ленин-граде? – Это как? Она переложила теплые ладошки с моего пиджака на мой затылок. Об-няла за шею. При этом ее грудь… (Опять эта грудь! Сколько можно! Похоже, что этот маниакальный пунктик Лялька всобачила в меня навсегда!). – Боря! – опять нависла надо мной непобедимая Бэлла. – Пойдем, там, в вестибюле к Ляльке чужие пристали! Пойди, выгони их. Ленинградка глянула на меня с восхищением. Я извинился, и уверенно, не торопясь, двинулся в сторону вестибюля. Я уже привык, что мой внешний вид часто помогал нейтрализовать проблемы, позволяя не прибегать к боксер-ским навыкам. В крайнем случае, кликну Толика. Пардон – Капитана! В тусклом свете вестибюля я сразу увидел Ляльку. Возле нее стояли не-сколько человек в коротких пальто. Когда я приблизился, никто, включая Ляль-ку, на меня и не глянул. Напротив Ляльки стоял невысокий парень, а, может, постарше, чем парень… Во всяком случае, у него было какое-то пожилое лицо, и был он перекособочен, как бывают искривлены парализованные люди. По мере разглядывания я обнаружил, что его правая рука неестественно поджата, а правая часть лица почти лишена мимики. Левой рукой он держал за руку Ляль-ку и что-то бубнил ей, улыбаясь левой частью лица. – Лялька, пойдем потанцуем, – сказал я, и потянул ее за вторую руку. – Руки!.. – тихо сказал мне парализованный. Он глянул мне в лицо, и я почувствовал, до какой степени я испуган. Отчетливо затряслись ноги. С двух сторон ко мне подошли его приятели и один, слегка тюкнув меня кулаком в сплетение, прошипел: – Не нарывайся. Давай, вали отсюда. Я увидел, что подходит еще один, повыше, И у дверей, загораживая вы-ход на улицу, привалился к стене устрашающих размеров силуэт. – Лялька, я сейчас вернусь с Капитаном, – многообещающе улыбнулся я. – Сейчас разберемся. Толик танцевал в зальчике-душегубке с Бэллой. Я взял его за рукав и ко-ротко на ухо рассказал о вестибюле. Он переспросил насчет парализованного. Я повторил. Он подумал и сказал, иди, мол. Я сейчас догоню. «Возьмет еще кого-нибудь» – догадался я и снова вышел в вестибюль. – Ну так, орлы, – строго сказал я. – Вам нужен шум с драками и милици-ей? Сейчас подвалят дружинники, начнут выставлять вас отсюда… – Кто это? – спросил парализованный Ляльку. – Это новенький наш. Ну хватит, пусти! – и напрягшись, все-таки вы-рвала руку. Парализованный кивнул своим, и, приволакивая ногу, пошел к выходу. А тот, что минутой назад тюкнул меня в сплетение, подошел ко мне близко, ут-кнул палец в грудь и тоже серьезно сказал: «Ты был не прав». Когда мы с Лялькой вернулись в белую душегубку, я спросил ее, что она там, в вестибюле, забыла. – Душно было, – сказала Лялька. – Я вышла, а там эти… У стены одиноко маячила Бэлла. – Где Толик? – спросил я у нее. – Не знаю, – зло глянула на меня Бэлла. – Ты с ним поговорил, и он сра-зу схватил свое пальто и ушел через спортзал. Убежал даже. Вот и будешь меня сегодня провожать, если ты такой умный. Я сначала было возмутился: новенькая ленинградка сразу поймала меня синим локатором, как только я вошел в зал. Но с другой стороны, это шанс по-гулять ночью с Лялькой… – А что, – улыбнулся я, возбужденный как неожиданно свернутой стыч-кой, так и новой идеей – Ляльк, проводим Бэллочку? – Не маленькая, сама дойдет! – буркнула Лялька. – Да давай проводим, темно же. И живет аж на Разумовской. Я понимал, что другого способа побыть с Лялькой на темной улице на-едине мне не представится: школа-то – точно напротив дома. Двух слов сказать ей не успею. Я возлагал надежды на обратный путь. Мы ведь еще тот давний урок не проверяли… По дороге к дому Бэллы все трое молчали. Бэлла попыталась напевать «Дэвойка мала», под которую мы танцевали, но слуха у нее не было, и Лялька так на нее зашипела, что Бэлла заткнулась аж до своих ворот. У ворот она ска-зала «спасибо, пока» и хлопнула, наконец, дверью парадного. Мы с Лялькой остались вдвоем на совсем пустой улице. Лялька взяла меня об руку, и мы дви-нулись в многообещающий обратный путь. Она прижалась к моему локтю (не буду говорить чем), и я забыл, что хотел говорить с ней, выспрашивать, убеж-дать. Я шел, неся как сосуд ощущение ее прижатого тела, боясь не только уро-нить – расплескать. Потом она вдруг положила голову мне на плечо, и перед моим мысленным взором встали все виденные мной фильмы с этой фигней. Ну, нет своих мозгов у бабы. Нет и все. Вот хочется ей, чтоб мы шли, как какие-нибудь там Роман и Франческа… Тем не менее, я совсем оцепенел, и главной моей заботой стало, как бы так идти, чтобы при каждом шаге мое твердое пле-чо не подбрасывало ее прекрасную голову. Так мы приблизились к перекрестку, так перешли на красный свет –светофор отражался в ночном асфальте и в ночной брусчатке. Как только мы, перейдя, вступили на тротуар, так уткнулись в поджидающую нас компанию. Я даже не увидел их издали, так был погружен в процесс первого ночного гуля-ния с Лялькой. Парализованный стоял в центре, окруженный здоровенными парнями. Они все были изрядно старше нас с Лялькой, не понятно было, что занесло их на какой-то школьный вечер (они даже не заглянули в зал). Все бы-ли крепкими и очень приблатненными. Но самым страшным был коренастый парализованный. Я смотрел на него, как загипнотизированный, и продолжал прижимать к себе Лялькин локоть. Страшно было то, что я отчетливо видел: он воспринимает меня, примерно так, как я муху. Он готов был смахнуть меня, даже не наведя на меня взгляда. Даже толком не зная, живой ли я. Он кивнул, отошел, и Ляльку отвели от меня в сторону, окружили ее и парализованного так, что мне ничего не было видно. Со мной остался тот, что тюкал кулаком и тыкал пальцем. В руке у него был длинный узкий нож, лезвие которого он при-ставил к моему подбородку. (Это я тоже видел в кино, кажется, сто раз). – Смотри, не рассерди меня, – сказал он, не глядя в мою сторону. Его тоже интересовало, что происходит внутри второй группы. – Не дай тебе бог дернуться. А там пока что шел какой-то разговор. Чем это все там кончится, мне уже было понятно. У меня горела от страха рожа и от позора болела грудь. И я уже понимал, что не дернусь, а если останусь жив – не понимал, как я столк-нусь с Лялькой в классе, во дворе… – О-о-о! Боря! Боб на палочке! Ты чё здесь так поздно делаешь? А ну, айда баиньки! Мне показалось, что этот волшебный голос прогремел с небес. Меня кто-то обнял за плечи и потащил ко второй группе. Лезвие тонко царапнуло подбородок. Рядом со мной двигался веселый, красивый и шумный Рома-Хаим, который раздвинув «свиту» парализованного, звонко хлопнул того по плечу. – Привет, с наступающим, – кривляясь под грузинский акцент, пропел Хаим. – Гамарджоба, дарагой! Ты про что с моей симпатией трёкаешь? Забыл, какой я ревнивый? Говоря это все, он второй рукой обнял Ляльку, а парализованному весе-ло подмигнул. Парализованный сказал только «Привет, Хаим», и дальше молча смотрел, как уверенно и бесшабашно Хаим уводит нас от этого кошмара. Мы шли рядом с ним, как пришпиленные, он крепко прижимал нас к себе широким обхватом и молчал. Когда мы удалились на изрядное расстояние, он оглянулся, отпустил нас и вдруг заговорил тревожным, испуганным даже голосом. – Вы чего здесь, идиоты, делали? Как вы к ним попали? Лялька молчала, а я стал, торопясь рассказывать. Когда я дошел до ми-зансцены в вестибюле, Хаим перебил меня, обращаясь к Ляльке: – О чем он тебя спрашивал? И о ком? – Потом расскажу, – тихо сказала Лялька. – Потом расскажу, – ворчливо передразнил Хаим. – Ну ладно, он, ёлд, ничего не знает, но ты-то уже большая девочка. Мозги захватить из дому не за-была? – Да что такое, Хаим? – возмутился я. – Ты можешь объяснить, кто это, и что такое происходит? Откуда ты их знаешь? – Ты знаешь, с кем ты связался? – спросил, помолчав, Рома-Хаим. – Ты понимаешь, что если бы черт меня не занес сюда, тебя бы порезали, как белый батон? Ты не знаешь, в какие проблемы ты влез по самые эти вот. Это же Ёмпа! Я вспомнил строгое и недовольное лицо Худого в гробу. Потом Хаим еще помолчал, успокоился и сказал: – Ладно, не бзди. Уладим. Мы с ним служили вместе, там, в армии его и парализовало. Его комиссовали, а когда я вернулся, у него уже был цех. Ну, я кое в чем помог (он мне си-и-ильно обязан). Но сейчас он совсем оборзел, у него на все теперь ксива: и инвалид, и крыша поехамши… Он теперь на любой суд эту ксиву положил. А в школу он не зря заявился, это он банде Драчинских через Ляльку какую-то бяку затеял… Так вы мне, конкуренты вшивые, весь мой гешефт поломаете. Он сделал ударение на «мой». Ноги у меня тряслись и подгибались от слабости. Бедные мои родители. Им казалось, что, оставив меня дома, они уберегли свое чадо от опасностей круиза. Из головы не шло это пожилое лицо с половинчатой мимикой, этот взгляд человека, готового между делом смахнуть меня, как не достойное взгля-да препятствие. На Ляльку я не смотрел. Страх, стыд, радость, что все позади, благодарность Хаиму, позорное унижение перед Лялькой, страх перед возмож-ными последствиями – чего только ни проносилось во мне, как в канализаци-онном стояке – бурно и отвратительно. У самых дверей в парадное, подчиняясь потребности сохранить лицо, я беспечно попрощался: – Арривидерчи, Рома! Рома-Хаим крутанул пальцем у виска, и перед тем, как войти в общее с Лялькой парадное, развел руками и сказал: – Ну, поц! Что с тебя взять. Когда вернулся Кока, голубятни уже не было. Какие-то коммуникацио-ные (а может, и канализационные) раскопки пришлись как раз на то место, где гордо высились четыре голубятнины ноги. Кока был похож на перегоревшую, почерневшую лампочку. Всем стало понятно, что лидерство в клане он уже не потянет. Он тихо ходил по двору, подолгу говорил о чем-то с соседями, под краном больше не умывался. Мне казалось, что больше уже в его жизни не слу-чится ничего. Ёмпа пришел убивать Коку ночью, внаглую, прямо в Лабиринт Драчин-ских. К утру во дворе уже была скорая, милиция, спецы в штатском. Коку с из-резанным животом увезли в Еврейскую больницу, мужиков клана и кое-кого из «свиты» Ёмпы, вместе с конфискованным оружием, – в ментовку. Труп Ёмпы лежал посреди двора, накрытый мешковиной. Всех их, и ментов, и скорую вы-зывала по телефону глухая майорша, увидевшая бойню из окна. Остальные обитатели Лабиринта сражались. Слово «Ёмпа» летало по двору и лопалось на губах каждого, кто произносил его. Безумный Ёмпа, который думал, что может смахнуть любого, кто мешает ему ковылять по его однобокой жизни, лежал сейчас сам, как лопнувший и сдувшийся пузырь, как его странное, непонятное, мертвое имя, навсегда оттиснувшееся в моей памяти, и всегда оживающее, ко-гда возникает страх. После восьмого класса я поступил в техникум, а отец, в конце концов, получил полноценную квартиру в юго-западном жилом массиве. Когда я снова заглянул в этот двор, прошли годы. Что и кого мог я искать среди оставшихся стариков? Мишка Гофт, Майкл, вместе со всей семьей уехал в Канаду. С ними же укатили и Софа с Хаимом. Крис окончил мореходку и зафрахтовался на ка-кой-то итальянский пароход. Его тоже уже много лет не видели во дворе. Лялька вышла замуж за офицера пограничника и уехала с ним на советско-китайскую границу. Там, говорят, не выдержав экстремальной ситуации, Ляль-ка тронулась головой, и большую часть времени находилась в больнице в Хабаровске. Так, что искать было практически некого… Кто – где… Я подошел к Лабиринту и попросил позвать Коку. Звать его не хотели, все выспрашивали, кто я. Наконец, он появился. Пожилой, сонный человек, вя-ло спросивший, чего надо. Я снова стал рассказывать, кто я. Видно было, что он силится и не может понять, кто, а главное, зачем к нему явился. Потом вдруг что-то дернулось в его заплывшей памяти, он спросил: – Это сын фотографчика? Что-то я такое помню… Смутно. Тебя, кажет-ся, Гарик звали? А Ляльки нет… *** – Кто это? – напряженно спрашивает мой молодой зять, когда «крутой», потеряв ко мне интерес, двинулся к стойке. – Вы его знаете? Он как бы вас уз-нал. Знаю ли я этот призрак? Знаю ли я этот бестелесный мистический пу-зырь, лопнувший целую жизнь назад в нашем дворе и не дышавший под гряз-ной мешковиной? Это он сейчас прошел мимо моего столика? Это он бубнил в дорогой мобильник? Когда и почему ожил этот монстр, куда делся его паралич? Что в моем облике, изменившемся за эти сорок лет неузнаваемо, показалось ему знакомым, несмотря на то, что видел он меня считанные минуты? Что именно он узнал во мне? А я в нем? Готовность смахнуть? Готовность к тому, что тебя смахнут? – Нет, это так, обознатушки, – улыбаюсь я, глядя на успокоившегося зя-тя. – Ну откуда мне знать такого «крутого»! Я с такими не вожусь. И вообще, зря мы поперлись в этот район. Что тебе может быть интересно среди этого старья! Надо было в центр, на Пушкинскую: есть что посмотреть, есть о чем рассказать. Там же сам Пушкин жил. – Нет, ну почему? Интересно. А здесь вот, Бабель жил, Япончик! Вино вот, сухонькое, прохладное. Не, ништяк. Все нормально. Жарко только. Александр Румянцев Картошкин Казус Когда над площадкой перед гротом появилась голова в заиндевевшем колпаке, и даже через защитные очки стало видно выражение глаз альпиниста, я впервые подумал, что со всей этой импровизацией я, кажется, сильно перемудрил! Впрочем, «подумал» - это не совсем то, что было на самом деле. На самом деле я ощутил собственной кожей, упрятанной под тонким слоем горного костюма, задрапированного привычным глазу местного населения альпинистским снаряжением, что первое побуждение не всегда бывает самым верным. В тот момент я очень ясно прочувствовал, насколько цейтнот, штука оказывается подлая, и до добра не доводящая! Однако деваться мне было уже некуда. Глаза, едва помещающиеся в альпинистских очках, вот они – тут. Я, сидящий возле костерка, тоже тут, и времени на то чтобы, исчезнув отсюда всё переиграть, у меня уже нет. Что называется – насветился! Без всякой подсказки я понял – надо срочно выкручиваться! И ещё, опять же без какой либо подсказки, я понял, что делать это придется, импровизируя по доброму старинному рецепту: – «Куда кривая вывезет». «Чёртовы фильтры! – в сердцах подумал я, разглядывая заиндевелого гостя. – Как же не вовремя они сдохли!». Паре, шедшей в связке по скале, оставалось примерно минут двадцать пути до грота, в котором я сейчас гордо восседал, когда весь его наполнили запахи, в принципе невозможные в горах на такой высоте. Давыдыч, исполнявший сегодня обязанности кухонного мужика, решил побаловать нас жареной картошечкой, приготовленной с дымком костра на настоящей, антикварной, из Женькиных запасов, сковороде. Он, оказывается, потихоньку от нас даже дровишек припас на этот случай. Просто уговорил начальника очередной археологической группы, и тот прихватил с собой пару вязанок. И это, надо отдать должное мужеству начальника, был своего рода подвиг, поскольку в капсуле ему пришлось сидеть на этих самых вязанках! И вся его группа от души потешалась над ним, не скупясь на едкие замечания по поводу собаки на дровах, добавляя при этом всякие прочие, совсем неуместные по отношению к начальству, шуточки. Он, правда, в долгу тоже не остался, пообещав, когда прибудут на место, отыграться и скормить всех без исключения местным тираннозаврам. Пока шла дозарядка капсулы, а группа отдыхала и заправлялась на нашей кухне, у них только и было разговоров, что неплохо бы выяснить, кого же сожрут первым? И составил ли начальник список, или будет импровизировать, вылавливая их по одному? Начиная, разумеется, с тех, кто послабее и бегает помедленней! Мы, с Женькой, в это время были заняты капсулой, и до чего они там договорились так и не узнали. Потом мы их благополучно отправили разбираться со своими «заврами», а Давыдыч занялся картошечкой, обещая нам впечатления незабываемые. Он, кстати, и не подозревал, насколько близок был к истине относительно незабываемых впечатлений! Когда обещанное лакомство подходило к полной готовности, и мы тоже были уже почти «готовы» потому, что аромат, сдобренный настоящим дровяным огнём, и настоящим дровяным же дымком, плыл по ангару и будоражил ноздри!... М-м-м…. Вот именно в этот момент, не раньше и не позже, совершенно неожиданно сдохли фильтры! И сдохли они именно тогда, когда местным альпинистам до грота, где они наверняка запланировали стоянку, оставались те самые пресловутые двадцать минут. Может даже меньше. И всё было бы хорошо! И всё было бы прекрасно! И ребята эти прошли бы свой маршрут, совершенно не догадываясь, что азартно вколачивают свои крючья едва ли не в наши затылки, как делал это до них не один десяток таких же энтузиастов! Но – кто бы мог подумать?! А никто бы и не мог подумать. Я это точно знаю. Никто бы не мог подумать, что фильтры вообще умеют отказывать. На моей памяти такого раньше не было вообще!!! А эти… Взяли, и сдохли!!! И небольшой грот, время от времени служивший нам чем-то вроде прогулочного балкона, наполнился ароматом костерка, кипящего масла, и картофеля, жарящегося в этом масле. Когда физиономия Давыдыча высветилась на мониторе операторской, и глядя на нас страшными глазами, сообщила это жуткое известие, мы с Женькой тупо глядя то друг на друга, то на монитор, и в один голос спросили: «Какие фильтры?» «Вы что, совсем обалдели?! – свирепо зашипел на нас Давыдыч. – Те самые! Наши фильтры! Там сейчас не грот, там ресторан высокогорный! Точка общепитовская!» «Где он только слов-то таких набрался? – подумал я, помнится, в тот момент. – По антиквариату у нас Женька специалист!» Но тут, наконец, до нас дошёл весь смысл происшедшего, и мы с Женькой снова переглянулись, стараясь как можно быстрее сообразить, что теперь делать, и куда именно надо кидаться? На ремонт времени нет, это ясно даже идиоту! Там получасом не обойдёшься. Часом, впрочем, тоже, да и запах этот, штука стойкая. Вентилировать? Куда? Внутрь – не получится! Наружу? Вот наружу уже и не надо совсем. Альпинисты, поди, носами водят, пытаясь понять, откуда это в кристальном горном воздухе ароматы подобные завелись? Надо признать, что двадцать минут по горизонтали, это далеко не один и тот же метраж, что двадцать минут по вертикали. В общем, не до вентиляции уже! Осталась только маскировка! А как? Джина посадить, с лампой медной? Или кого-нибудь в шкуру обрядить, да заставить руками махать, авось, с перепугу, ребятам не до ароматов будет? Разве что только ледорубами кидаться начнут? Или рванут, коли нервы не в порядке, в направлении неизвестном! Спасай потом, в ту же шкуру обрядившись. Нет, не подходит! Надо срочно придумать что-то другое! Вот тут меня чёрт и дёрнул! Цейтнот – вот что меня сгубило. Если б времени было чуть больше, я бы смог сообразить, что в веке двадцатом нормальные люди с дровами в горы не ходят. Это в нашем веке заказать дровишек под шашлычок можно куда угодно, с доставкой проблем не будет. Сам же, хочешь – ползи по склону на руках, если адреналин нужен, хочешь – на платформе, если ветер свежий по нраву, а хочешь – с комфортом, в мягком кресле. На выбор. И любуйся на здоровье красотами, под аромат дымка и жаркого. В общем, гаркнул я: «Ребята! Спокойно! Сейчас мы изобразим путника на привале, угостим измотанных альпинистов картошечкой, и отправим их с миром дальше к вершине. И вся проблема!» И ведь послушали меня, дурака! Кинулись организовывать стоянку доисторического путешественника, сковороду не забыли, треногу поставили, кресло, слава богу, не припёрли! Я же в это время метался по складу, выбирая снаряжение, соответствующее времени, в котором мы находились. Не мог же я явиться в тонюсеньком термокостюме перед людьми, понятия не имеющими, что это такое, и как в этой плёнке можно выдержать приличный мороз. Уже полностью одевшись, я вдруг обнаружил, что у нас нет ни одной нормальной альпинистской шапки! То есть – вообще ни одной. Выяснять куда их все подевали, времени уже не оставалось, и я рванулся в Женькину комнату, вспомнив, что там, на стене висит самый, что ни наесть настоящий, треух. Как раз из двадцатого века. Женька, увидев его на мне, от возмущения задохнулся так, что аж чуть в пропасть не навернулся, всерьёз угрожая жизни пыхтевших там альпинистов. Я показал ему кулак и свирепо ткнул пальцем в глубину грота. Он состроил жуткую рожу, но возражать не стал, звуки в горах очень уж хорошо разносятся, и быстренько исчез за куском скалы, мягко закрывшим дверь в ангар. Костёр уютно потрескивал, я дожидался явления гостей, и, помешивая картошку, соображал в каком ключе вести светскую беседу, как вдруг вспомнил, что совершенно не знаю на каком именно языке с ними надо общаться. - Жень, – тихо позвал я. – Кто эти ребята? - Альпинисты, по-моему, – прозвучало у меня в ухе. - Я догадываюсь, что не садоводы, – свирепо прошипел я. – Кто они по национальности? - Ой, не знаю! – задумчиво проговорил Женька. – Визиток не предъявляли. Общаются на староанглийском. - Как ты думаешь, русский они понимают? - Представления не имею. А почему именно русский? Ты что, кроме родного все языки позабывал? Так они и твой родной не очень-то поймут. - Ты в своём антиквариате хоть что-нибудь смыслишь? – ядовито прошептал я, соображая, сколько времени у меня осталось до торжественной встречи отважных горнопроходимцев. Или – горнопроходцев? – Реликвия твоя прямиком из России происходит. Я сильно сомневаюсь, что эти ребята слепые. - Ещё сильней я сомневаюсь, что они – антиквары, – хмыкнул в ответ Женька. - Правильно сомневаешься, – согласился я. – Тем более что для них это не старина седая. Для них это утилитарная вещь из их же эпохи. - Вот ты сейчас с ними всё и обсудишь, – всё так же насмешливо успокоил меня Женька. – Они уже на подходе. Между прочим, носами по сторонам ворочают, и физиономии при этом странные делают. - Ничего! – весьма самоуверенно заявил я. – Сейчас мы их покормим, и будет полный порядок. У меня всё уже готово. Я ждал гостей, время от времени помешивая в сковороде, и был весьма доволен собственной находчивостью. Доволен, впрочем, я был ровно до того момента, пока над краем площадки не появилась голова первого гостя. А вот когда на фоне ослепительной синевы появились очки, до краёв заполненные глазами, очень медленно, как в тягучем липком сне, я начал осознавать, в какую же лужу сел с этой своей дурацкой идеей: для маскировки покормить усталых путников! Главное, переиграть ничего уже нельзя, а как выпутываться, неизвестно совсем! А что прикажете? Быстренько затоптать костерок, и со сковородой под мышкой нестись в глубь грота, вопя на ходу: «Сезам откройся!»? Или, схватив в охапку проклятый костёр, махнуть над головой обалдевшего восходителя прямо в пропасть? Вариант, конечно. Не лучше других, впрочем. Хотя – нет. Немного лучше других. Парень решит, что вся эта муть ему пригрезилась по причине жуткой усталости. Да ещё и второму рассказывать не станет. Так. На всякий случай. И опять цейтнот проклятый! Нужно действовать, нужно что-то предпринимать, а меня заколодило так, что я просто тупо смотрю в эти очки и глупейшим образом улыбаюсь самой радушной улыбкой, на какую способен в подобной ситуации. В самом деле, не могу же я прыгать во все четыре стороны разом! В общем, я остался сидеть так, словно проходил тут мимо, да и решил устроить небольшой привал! Подумаешь, какое дело! А тут гости приползли по скале, надо же ребят покормить, скала-то крутая, сил много требуется! Идиотизм, разумеется, а что делать? Груздем я уже назвался, хочешь, не хочешь, а кузов вот он – стоит, и ждёт, когда я в него полезу. Голова, появившаяся над площадкой, застыла, словно упёрлась в стену, и несколько долгих мгновений разглядывала меня огромными немигающими глазами. Потом глянула вниз, что-то сообщив зияющей там пропасти, и появилась снова, вытягивая за собой туловище, увешанное крючьями и верёвками. Я сидел, радушно улыбался из-под треуха и ждал, когда первый вытянет второго на площадку чтобы, как положено в этой эпохе, напоить обоих чаем и угостить картошкой, будь она не ладна, дабы не водили носами по гроту, выясняя, откуда так аппетитно пахнет в этой поднебесной обители? Ребята, наблюдавшие эту жуткую сцену на мониторах, со смеха умирали, глядя как я жестами приглашаю совершенно обалдевших людей к огню и, спасая ситуацию, налаживаю контакт с ошалевшими восходителями. Шедший в связке первым с недобрым видом оглядел меня, словно к чему-то примеряясь, и осторожно спросил: - Кто вы, чёрт возьми, такой? «Да, Женька прав! – подумал я в тот момент. – Это действительно – староанглийский. Хорошо. Языковой контакт мне сейчас противопоказан начисто! Не дай Бог, они русский знают, тогда будет плохо. Тогда придётся из себя совсем уж идиота изображать!». - Что? – переспросил я по-русски и, помогая себе руками, добавил: – Я вас не понял! - Что он сказал? – поинтересовался второй альпинист, высовываясь из-под руки своего напарника. - Сам не знаю! – ответил тот. – Похоже, он нормального языка не понимает. - Откуда он вообще здесь взялся? – Второй всё-таки прорвался из-за выстроенной первым баррикады, свалил к стене рюкзак, и протянул руки к огню, рассматривая сковороду так, словно та собиралась его загрызть насмерть! - Хотел бы я знать, – пробормотал первый и, уже обращаясь ко мне, снова поинтересовался: - Кто вы такой, и откуда вы здесь взялись? - Послушайте, – облегчённо ответил я, снова изображая на лице радушнейшую улыбку и делая широкий жест рукой, приглашая гостей к костру. – Я здесь передыхаю и подкрепляюсь перед тем, как продолжить спуск вниз. – Я показал, куда именно собрался спускаться, изобразив при этом пальцами, как именно собираюсь это делать. И не снимая улыбки с лица, стал ждать реакции собеседников. Мне было очень важно понять, знают ли они русский язык, и если знают, насколько хорошо? Как ни крути, а любой язык живёт и развивается. И меняется при этом. Меняется произношение, меняются акценты, да и слова новые появляются. Пара веков – не шутка. Старорусский я знал хорошо, как и староанглийский, но не настолько хорошо, чтобы обойтись без акцента вообще. - Нет, английского языка он не понимает. – Первый смотрел на меня, соображая как со мной общаться дальше. – А на каком говорит сам, я никак не пойму. По-моему – он славянин. Майк, ты, кроме английского, какие языки знаешь? - Язык Сохо! – пробурчал тот. - Нет, не подходит, – возразил первый и, обращаясь ко мне, сказал: - Я, - он приложил ладонь к груди, - англичанин. Ты, - он показал пальцем на меня, - кто? - А-а! – радостно закивал я. – Англичанин! А я русский. Из России. Как это, повашему? А! Фром Раша! Вот: Фром Раша. Они, не сговариваясь, посмотрели друг на друга, на меня, на костёр, и второй сказал: - Джон, я не ослышался? Он действительно сказал «Россия»? - Нет, Майк, ты не ослышался. Он действительно это сказал. - Значит он - русский? – проговорил Майк, совершенно бесцеремонно разглядывая меня. – А откуда он здесь взялся? - Почём мне знать, откуда он здесь взялся? – раздражённо ответил Джон, сообразив, что всё ещё стоит в полном снаряжении и сваливая, наконец, с себя рюкзак. - Слушай, Джонни, – не унимался Майк. – Ты что-нибудь знаешь о русской группе на этом маршруте? - Ничего я не знаю, – ответил тот всё так же раздражённо. – Я знаю только, что эти странные русские всегда лезут по самым сложным маршрутам. А этот, к тому же, еще в одиночку тут разгуливает. - Может, свяжемся с базовым лагерем, и поинтересуемся, не известно ли чего им? - А толку? Или ты думаешь, что всё это тебе снится? Или ты думаешь, что вот сейчас ты свяжешься с базовым лагерем, и тебе оттуда пришлют звонок будильника, чтобы ты смог проснуться в своей лондонской квартире? - Эти сумасшедшие русские! – сокрушённо констатировал Майк. – Эти сумасшедшие русские!.. - повторил он, завершив, наконец, осмотр. – То-то я гляжу на его дикий головной убор, и никак вспомнить не могу, где именно такие видел раньше? Слушай, а звёздочки у него там нет? - Майк, тут так темно, или у тебя с глазами плохо? – Ядовито поинтересовался Джон. – Какая, к дьяволу, звёздочка? Ты на снаряжение его посмотри! - Я бы с радостью последовал твоему совету, – кивнул тот. – Только я никакого снаряжения не вижу. Надеюсь, ты не считаешь снаряжением ту треногу, и дрова, которые этому сумасшедшему не лень было тащить на такую высоту? И вообще, как он в одиночку сюда забрался? Это не небоскрёб в Сити. Это серьёзные горы. - Вот и спроси у него, - посоветовал Джон аккуратным голосом, - куда он своего напарника подевал? Я понял, что пришла пора вмешиваться, пока философские изыскания не завели этих ребят, чёрт его знает куда. С радостной миной на лице я гаркнул: - Джентльмены! Прошу отведать угощения, и погреться у костра! – И сделал широкий жест рукой. Жест они поняли, и определение «джентльмены» - тоже. Но физиономия моя им явно не понравилась! - Слушай, Джонни? – понижая голос, сказал Майк. – Похоже, мои предположения насчёт сумасшествия не далеки от истины! Ты посмотри на его лицо. Оно светится такой радостью, что мне становится как-то не по себе! - Майк! – Джон тоже понизил голос. – Это же русский! Они же все там, в своей России, немного сумасшедшие. Их вообще понять трудно. Нам, я так понял, предлагают обогреться и подкрепиться. Ты, против? - Нет, – ответил Майк задумчиво. – Естественно, я не против, но!.. - Он с прищуром посмотрел на меня. – Приглядывать за ним, всё-таки надо! Я не хочу быть его следующим напарником! - У тебя уже есть напарник, – успокоил его Джон, присаживаясь к костру. – И внимательны мы будем по очереди. Было немного забавно, хотя и не совсем этично, слушать их препирания. Как ни крути, а я ведь слушал чужой разговор, без ведома говорящих. И было в этом всём нечто такое, от чего мне становилось как-то не по себе! Серьёзные, взрослые люди, десятка явно не робкого, впрочем, другие сюда и не ходят, расценивают меня как приличную потенциальную опасность для собственной жизни! И дурашливость моя только прибавляет им уверенности. Нет, я, конечно, тоже хорош со своей затеей, не спорю. Шутка глупая. Но всё же – шутка! Я как-то не мог предположить, что в связи с ней могут родиться подобные ассоциации. Мы сидели возле костра, поглощали ароматную жареность, и аккуратно наблюдали друг за другом. Я из любопытства, гости из разумной предосторожности. Разговор не клеился даже между ними, а уж между нами он склеиться не мог в принципе. Но и без невозможного разговора в воздухе явственно ощущалась прогрессивно растущая напряжённость! Первый шок от встречи прошёл. Появилось время, пока работают челюсти, для некого подобия анализа или анализа без некого подобия. В общем, так или иначе, но мрачные мысли в головах моих гостей явно плодились и размножались в геометрической прогрессии. Чтобы ощутить это, и психологом не надо было быть. Быстрые взгляды, позы не расслабленные, ноги напружиненные, готовые к прыжку, даже из неудобного положения…. «Здорово я ребят нашорохал! – глядя на всё это, думал я. – Долго теперь не успокоятся! Уходить, пожалуй, надо. Можно уже. Ну, поговорят они, что отдыхал тут проездом придурковатый русский. Ну, вспомнят, что вместо нормального рациона предпочитал он картошку настолько, что таскал за собой костры со сковородками. И что? Поверит им кто? Ха! Байка альпинистская, не более! Как, впрочем, и этот запах жареной картошки, больше напугавший именно нас самих, нежели среду окружающую! Ну, унюхали бы они его… и что? Ни-ч-е-г-о! Результат тот же. Байка – не более! Кой чёрт понесло меня в эту авантюру? Жрали бы мы своё лакомство преспокойно недалече от их носов и в ус не дули! И было б всё нормально! Им, чтобы отыскать наш костерок, не ледорубы – горнопроходческая техника необходима, не меньше! Поводили б носами впустую, да порешили б на том, что это галлюцинация высотная, и всё! А я, от большого ума, сижу тут вот теперь, и Ивана-дурака из себя изображаю! Уходить надо… А как это сделать, не преумножая уже навороченной глупости? Друзья эти с меня теперь глаз не спустят, будьте уверены. И оставаться тут долго не резон. Им, в самом деле, отдыхать надо, а какой там отдых, когда под боком маньяк картофельный окопался? И куда уходить, тоже вопрос! Наверх нельзя, они туда же идут, да и я проинформировал их, пальчиками, что вниз иду. Вниз мне можно, но надо же приличия соблюдать, у меня ни крючьев, ни верёвок! Вбок мне тоже можно. Там небольшой карниз есть. Правда он никуда не ведёт, и без крючьев и верёвок тоже не обойтись, но им это видно не будет!». - Так, ребята! – поднимаясь, сказал я, когда сковорода освободилась, и её можно было забрать. – Мне пора возвращаться! Сейчас соберу пожитки, и отправлюсь домой. А вы пока, - я показал жестами, - погрейтесь! Дрова я с собой не потащу. Налегке пойду! «Тебе дверь в ангар открыть?» – ехидно прозвучало в ухе. «Попробуй только, убью!» - чуть было не гаркнул я, но вовремя спохватился, хотя ровно никакого значения это теперь уже не имело, даже если мои гости скрывали своё знание русского языка, и поняли бы, чем я грожу скалам безмолвствующим. Ярлык сумасшедшего, облепивший меня с ног до головы, всё стерпит. Собственно я и не был против этого ярлыка. К дуракам и сумасшедшим, как известно, претензий не предъявляют, и легенды о них не слагают! А чего там слагать? Дурак, он дурак и есть. Это я хорошо уяснил ещё в детстве, когда сказки читал. Русские народные. Они, кстати, так и говорят: «Иван-Дурак». Не просто дурак, а – Дурак. С большой буквы, и с большим уважением! И все умные, в конце концов, ему проигрывают! Почему? А потому, что он – «Дурак». «Дурак» с большой буквы, это далеко не то же самое, что «дурак» с буквы маленькой. Это звание. Ранжир. Как у разведчиков! Цель не афишируется, средства не демонстрируются, а глупость, развязывающая умные языки, вот она – на обозрении всеобщем! Любуйтесь. И всерьёз не принимайте. И двигайтесь по дорожке, которую для вас вымостили. Умные английские джентльмены поняли простую вещь, а именно – встретили в горах Ивана-Дурака! А с дурака какой спрос? И никакие странные ароматы тут уже не в счёт! Легенды о Иване-дураке, ползающем по горам с вязанкой дров и мешком картошки, могут сколь угодно долго веселить народ. Но никто их всерьёз не примет! А кому жалко, что народ веселится? Да на здоровье. Польза сплошная. Смех, как известно, жизнь продлевает. И от лишних вопросов уводит. В общем, сунул я сковороду в рюкзачок, закинул его за спину, огляделся вокруг, проверяя не оставил ли чего ещё после себя, поклонился гостям, едва не уронив треух раритетный, сказал: - «Ну, ребята, я пошёл!». И пошёл…. Вниз. Сам не знаю, почему я это сделал. Нелогично, неправильно, ненормально. Всё понимаю, но!… Опять он меня дёрнул! Я подумал, что и так насветился со всей этой глупостью – дальше некуда, так почему бы напоследок не соорудить жирную такую точку? Во весь лист. Для большей недостоверности. «Куда тебя!..» - взревело у меня в ухе, и, помнится, я ещё подумал, что настучу коекому по тыковке за умышленную порчу слухового нерва. Гости мои подскочили так, словно на них антигравы нацеплены, и застыли у костра как изваяния, рты только не разинули, глядя как я, совершенно непринуждённо, пошёл на спуск, будто скала, на которой они только что пыхтели, верёвочными лестницами увешана вдоль и поперёк. Так они и стояли, пока я не исчез, и к краю площадки не подошли, чтобы глянуть, как я там мастерством поблёскиваю. Я специально следил, хватит им терпежу или всё-таки полюбопытствуют? Не полюбопытствовали! За это я их, кстати, очень горячо, хотя и мысленно, поблагодарил. Не пришлось долго на скале болтаться. Вообще-то оно не страшно, но удовольствия от обжигающего физиономию ветерка я как-то не испытывал. Удостоверившись, что горизонт чист, я с облегчением нырнул в люк нижнего ангара, где с меня тут же содрали драгоценный антиквариат и страшным голосом посоветовали больше его не трогать! На этом эпопея, в общем-то, и закончилась. Без видимых последствий для исторической науки. Но – не для нас! Нам-то, как раз, даром эта история не обошлась. Скандал был грандиозный. Можно даже сказать – жуткий. Досталось всем. И больше всего, разумеется, мне, как главному «Ивану». Потихоньку, однако, всё утряслось, и жизнь станции вошла в обычную колею. Приём капсулы, зарядка, отправка, снова приём… Рутина, в общем. И только время от времени, как особый ритуал: - дымный аромат костра и кипящего в масле картофеля. Ещё – прибаутки. Порой с бестактностью граничащие …. Но жареный картофель!!! Рекомендую! Фредди Ромм Великий Обман - Внимание, внимание! Госпожу Тао Линь, пассажирку рейса Лос-Анджелес – Пекин, просят срочно пройти на посадку! Все, кто сидел в зале ожиданий третьего терминала, подняли было головы, как только зазвучало объявление, но, убедившись, что речь не о них, снова расслабились. Кто посматривал на часы в ожидании сдачи багажа, кто пытался дремать в неудобном кресле. Некоторые отъезжающие перекусывали на дорожку, другие – видимо, новички здесь – не без нервозности изучали план терминала. Среди них выделялся высокий худощавый молодой человек, темноволосый, спортивный и с нервным взглядом. Он посматривал недовольно на свой билет и обводил взглядом мониторы, показывающие предстоящие рейсы. Наконец, молодой человек не выдержал и, захватив тележку со своим багажом, подошёл к окошку "Информация". - Простите, мисс! Вы не подскажете, где посадка на рейс ВН-323? Сотрудница аэропорта скучающе посмотрела на билет: - Пройдите в тот конец зала, - указала она влево, - там уже сидят пассажиры этого же рейса. Молодой человек благодарно кивнул, облегчённо вздохнул и с признательностью, доходящей до восхищения, посмотрел на свою спасительницу. Пользуясь отсутствием очереди, он обратился к ней снова: - Простите, а вы не скажете, куда этот рейс? А то в билете написано "Специальный", а все, кого я об этом спрашиваю… Девушка вздрогнула, посуровела в лице и с твёрдой интонацией в голосе заявила: - Сожалею, сэр! Такие ответы выходят за рамки моих функций! Приятного полёта, до свидания! Оглушённый отпором, молодой человек отпрянул от окошечка и застыл в задумчивости. Затем повернулся и, катя перед собой тележку с багажом, двинулся в направлении, указанном сотрудницей Информации. Там уже сидели пятеро мужчин, все как один мрачно уставившиеся в пол. - Простите, господа! Вы случайно не на рейс ВН-323? Один из сидевших поднял голову: - Да мы все туда. И вы тоже? Бедняга… Молодой человек испуганно вздрогнул: - Почему – бедняга? Я думал, мне повезло… - Все мы так думали поначалу. Да не волнуйтесь, в первый раз вам понравится. Наверное, также во второй и третий. Вот в пятидесятый… эх. - Простите, сэр! Мне говорил режиссёр, мистер Питкерс… - Режиссёр Питкерс? – живо вмешался в разговор ещё один пассажир, сидевший немного в стороне. – Это тот, который снял фальсификацию о полётах на Луну? - Почему это фальсификация? – вальяжно отозвался ещё один будущий пассажир рейса ВН-323. – С чего вы взяли? - Ну как же. Это всем известно. Никаких полётов на Луну не было, съёмки проводились в Голливуде. Причём проводились небрежно, допущена куча ошибок. - Простите, мистер… - Мистер Гуль. А вас, извините, как зовут? - Я - Сэм. А его – и пассажир указал на своего соседа, вступившего в разговор первым, - его зовут Боб. - А моё имя – Ричард! – поспешил представиться нервный молодой человек, ещё недавно искавший рейс ВН-323. - Так вот, мистер Сэм. Вы, наверное, слышали о том, что на Луне нет атмосферы? А когда показывают американский флаг, установленный там, он колышется от ветра. - Не от ветра. Просто как маятник. - Ну да, есть такое объяснение. А как насчёт странных результатов съёмок звёздного неба и Земли? - Простите, мистер Гуль, я не физик и не могу возразить вам. Однако поверьте, всему этому есть разумное объяснение. Были наши астронавты на Луне, поверьте мне. Мистер Гуль усмехнулся: - Может, сэр, вы сами видели их там? - Нет, конечно. Зато я видел кое-что другое. - И что же именно? Сэм нахмурился: - Простите за детский вопрос. Вы смотрели "Звёздные войны"? Хотя бы один из фильмов. - Хм! Конечно! В детстве с удовольствием смотрел. - А вам в этих фильмах ничто не показалось странным? - Странным? Нет. Что мне должно было показаться странным? - Скажем, другие планеты, на которых происходит действие. - А что такого? Ну, хорошо снято. Художники поработали на славу, не придерёшься, прямо настоящая чужая планета. - "Не придерёшься"? А вам не странно, что эти планеты оформлены так, что не придерёшься, а какие-то несчастные фальсификации лунных съёмок провалены? - Ну мало ли. Все когда-нибудь ошибаются. Вот и режиссёр Питкерс… - Простите! Сразу уточним, о каком Питкерсе речь. Вы говорите об Энтони Питкерсе, верно? - Да, он самый. - О, как хорошо! – облегчённо выдохнул Ричард. – Значит, это другой! А мне дал направление мистер Хьюго Питкерс. - Это сын Энтони, - небрежно проронил Сэм. – Так вот, мистер Гуль. Никаких павильонных съёмок для сериала "Звёздные войны" не было. Всё снималось на самых настоящих планетах – кислородных, земного типа - в разных концах нашей Галактики. Прославленный мистер Лукас, надо отдать ему должное, очень хорошо организовал съёмки, но в Голливуде они почти не проводились. Вас обманули, мистер Гуль. Обманули, как и всех остальных зрителей. Вам продемонстрировали подлинные планеты, а сказали, будто это Голливуд. Наступила пауза. Ричард и мистер Гуль, вытаращив глаза, молча смотрели на Сэма, словно ожидая, что он сейчас рассмеётся собственной шутке. Однако Сэм выглядел серьёзным, как на похоронах. - Простите, сэр… Вы, верно, шутите? Это же невозможно… - Почему невозможно? Что вас смущает? - Ну… во-первых, расстояние… - Обычная нуль-транспортировка, - презрительно хмыкнул Боб. – И наш новый друг Ричард познакомится с нею через… - он посмотрел на светящееся табло напротив, - через два с половиной часа. Ричард негромко охнул, сел в ближайшее кресло, промахнулся и оказался на полу. - Осторожно, молодой человек! – поспешил к нему Сэм, помогая подняться. – Я понимаю, такие новости поначалу обескураживают. Скотина Хьюго должен предупреждать об этом новичков заранее, но не хочет. Боится, видите ли, разглашения секретной информации. Хотя – что тут разглашать? Кто в такое поверит? Вот вы верите? – обратился он к Гулю. Тот молчал, ошеломлённо глядя перед собой, будто отрешился от всего земного. - Не верит он, - сочувственно отозвался Боб. – Бьюсь об заклад, и наш новый друг Ричард полагает, что мы шутим. Дорогой Ричард, вы можете думать что угодно, только потом не говорите, что мы вас не предупредили. Ричард судорожно сглотнул: - Простите, господа… мне кажется, вы говорите всё это всерьёз… но ведь нультранспортировки наверняка очень дороги? - Это самые первые были дороги. С тех пор их организовали в конвейерном режиме, порожняк не допускается… Впрочем, извините, я не хочу углубляться сейчас в специальные вопросы. Поверьте, это не та тема, которую следует обсуждать за пару часов до полёта к Тета Большой Медведицы. Уже после первой поездки вам многое станет ясно. - Но кому, зачем нужен весь этот обман? – в отчаянии выкрикнул мистер Гуль, уже немного очухавшийся. - Разумеется, Голливуду и НАСА. А вы как думали? Голливуд корчит из себя всемогущую организацию, которой под силу снять что угодно, и стрижёт недурные бабки. НАСА имеет со всего этого хороший куш, делая вид, будто ничего не получает, кроме дотаций. А папаша Энтони Питкерс был первым, кто сообразил, как на всём этом можно хорошо погреть руки. Режиссёр и оператор он никудышный, зато со связями в НАСА. И сплетни распускать он был мастер. Он и пустил впервые слухи, что наши на Луне не были и что он сам, собственноручно произвёл все съёмки в павильоне. Как же, снимет он. Да этот старый халтурщик уличную собаку заснять толком не умел! - Но почему НАСА не заявит открыто о нуль-транспортировках и полётах на другие планеты? - Ха! Заявили же честно о полётах на Луну, и вот результат – даже в этот пустяк никто не верит. Нет, сэр, в НАСА не дураки сидят. Знают, что и когда сказать нужно… - Внимание, внимание! – заговорили динамики на весь зал. – Пассажиров рейса ВН-323 просят пройти к стойкам 54 и 55 для сдачи багажа! - Ну всё, хватит разговоров, - спохватился Сэм. – Пошли сдавать багаж. А всё, что касается полёта, - обратился он к Ричарду, - мы вам расскажем, когда будем ждать посадки в транспортировочный звездолёт. Актёры поднялись с кресел, взялись за тележки и направились к стойкам 54 и 55. Ричард проследовал за ними, вздыхая. Мистер Гуль в течение минуты-полутора смотрел им вслед, а затем тряхнул головой и покрутил пальцем у виска.