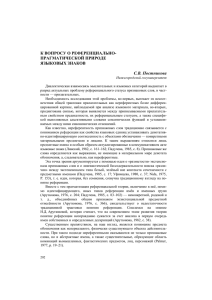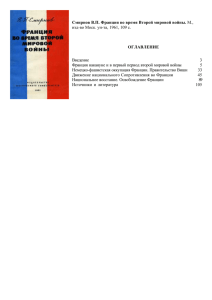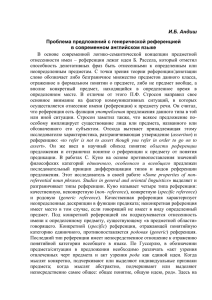О референции - философский портал philosophy.ru
advertisement
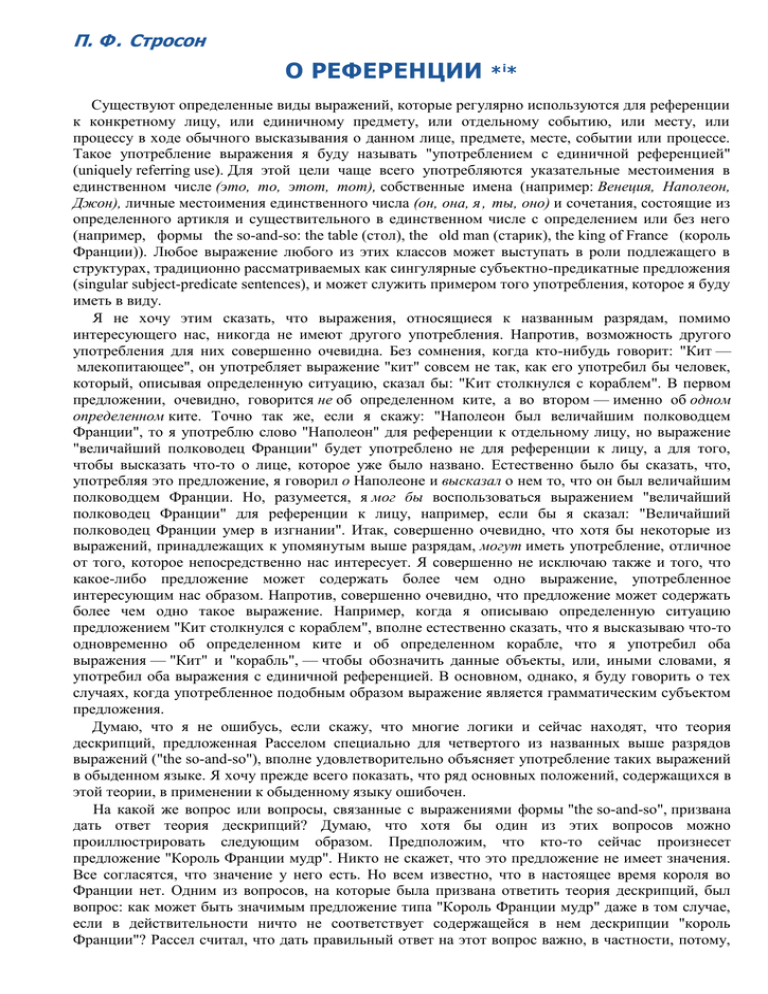
П. Ф . Стросон
О РЕФЕРЕНЦИИ
* i*
Существуют определенные виды выражений, которые регулярно используются для референции
к конкретному лицу, или единичному предмету, или отдельному событию, или месту, или
процессу в ходе обычного высказывания о данном лице, предмете, месте, событии или процессе.
Такое употребление выражения я буду называть "употреблением с единичной референцией"
(uniquely referring use). Для этой цели чаще всего употребляются указательные местоимения в
единственном числе (это, то, этот, тот), собственные имена (например: Венеция, Наполеон,
Джон), личные местоимения единственного числа (он, она, я , ты, оно) и сочетания, состоящие из
определенного артикля и существительного в единственном числе с определением или без него
(например, формы the so-and-so: the table (стол), the old man (старик), the king of France (король
Франции)). Любое выражение любого из этих классов может выступать в роли подлежащего в
структурах, традиционно рассматриваемых как сингулярные субъектно-предикатные предложения
(singular subject-predicate sentences), и может служить примером того употребления, которое я буду
иметь в виду.
Я не хочу этим сказать, что выражения, относящиеся к названным разрядам, помимо
интересующего нас, никогда не имеют другого употребления. Напротив, возможность другого
употребления для них совершенно очевидна. Без сомнения, когда кто-нибудь говорит: "Кит —
млекопитающее", он употребляет выражение "кит" совсем не так, как его употребил бы человек,
который, описывая определенную ситуацию, сказал бы: "Кит столкнулся с кораблем". В первом
предложении, очевидно, говорится не об определенном ките, а во втором — именно об одном
определенном ките. Точно так же, если я скажу: "Наполеон был величайшим полководцем
Франции", то я употреблю слово "Наполеон" для референции к отдельному лицу, но выражение
"величайший полководец Франции" будет употреблено не для референции к лицу, а для того,
чтобы высказать что-то о лице, которое уже было названо. Естественно было бы сказать, что,
употребляя это предложение, я говорил о Наполеоне и высказал о нем то, что он был величайшим
полководцем Франции. Но, разумеется, я мог бы воспользоваться выражением "величайший
полководец Франции" для референции к лицу, например, если бы я сказал: "Величайший
полководец Франции умер в изгнании". Итак, совершенно очевидно, что хотя бы некоторые из
выражений, принадлежащих к упомянутым выше разрядам, могут иметь употребление, отличное
от того, которое непосредственно нас интересует. Я совершенно не исключаю также и того, что
какое-либо предложение может содержать более чем одно выражение, употребленное
интересующим нас образом. Напротив, совершенно очевидно, что предложение может содержать
более чем одно такое выражение. Например, когда я описываю определенную ситуацию
предложением "Кит столкнулся с кораблем", вполне естественно сказать, что я высказываю что-то
одновременно об определенном ките и об определенном корабле, что я употребил оба
выражения — "Кит" и "корабль", — чтобы обозначить данные объекты, или, иными словами, я
употребил оба выражения с единичной референцией. В основном, однако, я буду говорить о тех
случаях, когда употребленное подобным образом выражение является грамматическим субъектом
предложения.
Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что многие логики и сейчас находят, что теория
дескрипций, предложенная Расселом специально для четвертого из названных выше разрядов
выражений ("the so-and-so"), вполне удовлетворительно объясняет употребление таких выражений
в обыденном языке. Я хочу прежде всего показать, что ряд основных положений, содержащихся в
этой теории, в применении к обыденному языку ошибочен.
На какой же вопрос или вопросы, связанные с выражениями формы "the so-and-so", призвана
дать ответ теория дескрипций? Думаю, что хотя бы один из этих вопросов можно
проиллюстрировать следующим образом. Предположим, что кто-то сейчас произнесет
предложение "Король Франции мудр". Никто не скажет, что это предложение не имеет значения.
Все согласятся, что значение у него есть. Но всем известно, что в настоящее время короля во
Франции нет. Одним из вопросов, на которые была призвана ответить теория дескрипций, был
вопрос: как может быть значимым предложение типа "Король Франции мудр" даже в том случае,
если в действительности ничто не соответствует содержащейся в нем дескрипции "король
Франции"? Рассел считал, что дать правильный ответ на этот вопрос важно, в частности, потому,
что тем самым, по его мнению, будет показано, что другой возможный ответ на этот вопрос
является неверным. Такой неверный, по его мнению, ответ, альтернативу которому он стремился
найти, может быть представлен как вывод из любого из следующих двух ошибочных
доказательств. Обозначим предложение "Король Франции мудр" как предложение S.Первое
доказательство тогда принимает такой вид:
(1) Выражение "король Франции" является субъектом предложения S.
Следовательно, (2) если
предложение S — значимое
предложение,
тогда S является
предложением о короле Франции.
Но (3) если король Франции не существует ни в каком смысле, то это предложение ни о чем и,
следовательно, не о короле Франции.
Следовательно, (4) поскольку S значимо, король Франции должен существовать реально или
нереально (exist or subsist) в каком-то смысле (или в каком-то мире).
Второе доказательство имеет следующий вид:
(1) Если S значимо, то оно либо истинно, либо ложно.
(2) S истинно, если король Франции мудр, и ложно, если король Франции не мудр.
(3) Но утверждение, что король Франции мудр, так же как и утверждение, что король Франции
не мудр, истинно только в том случае, если (в каком-то смысле, в каком-то мире) существует
некто, кто является королем Франции.
Отсюда (4) поскольку S значимо, из этого вытекает то же следствие, что и в предыдущем
доказательстве.
Очевидно, что эти доказательства малосостоятельны, и, как и следует ожидать, Рассел их
отвергает. Постулировать особый мир странных сущностей, к которым принадлежит и
Король Франции, противоречило бы, по его словам, тому «чувству реального, которое полезно
сохранять даже в самых отвлеченных научных изысканиях» [1]. Интересно не то, что Рассел
отвергает эти доказательства, а то, насколько, отвергая выводы, он соглашается с наиболее
важным их принципом. Обозначим выражение "король Франции" как выражение Э. Тогда, мне
кажется, те основания, на которых Рассел отвергает приведенные доказательства» можно
представить следующим образом. Ошибка, по его словам, кроется в том, что Э, которое,
безусловно, является грамматическим субъектом Б, считается также и логическим субъектом Б.
Но Э — не логический субъект Б. А фактически, хотя Б и содержит грамматический субъект в
единственном числе и предикат, в логическом смысле оно вовсе не является субъектнопредикатным
предложением.
Выраженное
в
нем
суждение
является
сложным экзистенциальным суждением, часть которого может быть описана как "единично
экзистенциальное" суждение. Чтобы выявить логическую форму этого суждения, предложение
следует переписать так, чтобы грамматическая форма совпадала с логической, так, чтобы
устранить кажущееся сходство с предложениями, выражающими субъектно-предикатные
суждения, и тем самым отвести несостоятельные аргументы, подобные приведенным выше.
Прежде чем обратиться к частностям расселовского анализа Б, посмотрим, что же предполагает
эта часть его ответа. По-видимому, здесь предполагается, что если дано предложение, сходное с Б
в том, что (1) грамматически оно имеет субъектно-предикатную форму и (2) его грамматический
субъект не имеет референции к чему-либо, то оно либо лишено значения, либо в действительности
(то есть логически) имеет вовсе не субъектно-предикатную, а какую-то другую форму. А это, повидимому, в свою очередь предполагает, что, если вообще существуют предложения, имеющие
подлинно субъектно-предикатную форму, тогда сам факт их значимости, осмысленности является
гарантией того, что их логический и грамматический субъект имеет референцию к тому, что на
самом деле существует. Более того, ответ Рассела, по-видимому, предполагает, что такие
предложения существуют. Ведь если верно, что грамматическое сходство Б с другими
предложениями может привести к ложному выводу о наличии у них логической субъектнопредикатной формы, тогда, очевидно, должны быть другие предложения, грамматически сходные
с Б, которые действительно имеют субъектно-предикатную форму. Эти заключения логически
следуют из формулировки Рассела, но он и сам признавал по крайней мере два первых положения;
это ясно из того, что он говорит о классе выражений, называемых им "логически собственными
именами" и противопоставляемых выражениям типа D , которые он называет "определенными
дескрипциями". О логически собственных именах у Рассела сказано или подразумевается
следующее:
(1) Они, и только они, могут употребляться в качестве субъектов в предложениях, имеющих
подлинно субъектно-предикатную форму.
(2) Выражение, отвечающее определению логически собственного имени, лишено
значения, если единичного объекта, замещаемого им, не существует, ибо значением такого имени
и является тот индивидуальный объект, который данным выражением обозначается. Чтобы
вообще быть именем, оно, следовательно, должно обозначать что-либо.
Ясно, что если эти два положения принимаются за истинные, то единственный способ как-то
сохранить значение у предложения Б — это не считать его субъектно-предикатным предложением
в логическом смысле. Вообще можно сказать, что Рассел признает только две возможности быть
значимыми для предложений, которые в силу своей грамматической структуры понимаются как
высказывания об определенном лице или индивидном объекте.
(1) В первом случае их грамматическая форма не должна соответствовать логической, их
следует анализировать как Б — как особый тип экзистенциальных предложений.
(2) Во втором случае грамматический субъект должен быть логически собственным именем,
значение которого и составляет тот индивидный объект, который им обозначается.
Я считаю, что Рассел здесь, безусловно, не прав и предложения, имеющие значение и
включающие выражение, употребленное для единичной референции, не попадают ни в один из
этих двух разрядов. Выражения, употребляемые с единичной референцией, никогда не бывают ни
логически собственными именами, ни дескрипциями, если в понятие дескрипции вкладывать тот
смысл, что они должны отвечать модели анализа, предложенной в расселовской теории
дескрипций.
Ни логически собственных имен, ни дескрипций (в этом смысле) не существует.
Давайте теперь обратимся к частностям расселовского анализа. По Расселу, тот, кто делает
утверждение S, утверждает, что:
(1) Существует король Франции.
(2) Существует не более чем один король Франции.
(3) Не существует никого, кто являлся бы королем Франции и не был бы мудрым.
Нетрудно понять, что привело Рассела к этому анализу и как этот анализ позволяет ему
ответить на тот вопрос, который был сформулирован в самом начале, а именно: как может быть
значимым предложение S, если короля Франции не существует? К этому анализу он, совершенно
очевидно, пришел, задавшись вопросом, при каких обстоятельствах можно будет сказать, что
произносящий предложение S делает истинное утверждение. Я не собираюсь оспаривать того, что
бесспорно: приведенные выше предложения (1) — (3) описывают именно те обстоятельства,
которые
являются
по
меньшей
мере необходимыми условиями,
чтобы,
произнося
предложение S, говорящий сделал истинное утверждение. Но я надеюсь показать, что это еще не
значит, что таким образом Рассел правильно объяснил употребление предложения S или даже что
он предложил для него хотя бы частично правильное объяснение; и, разумеется, это не значит, что
подобная переформулировка является правильным образцом переформулировки для всех (и
вообще для каких-либо) предложений, имеющих в качестве грамматического субъекта выражение
формы the so-and-so в единственном числе.
Нетрудно также понять, каким образом этот анализ позволяет Расселу ответить на вопрос, как
может быть значимым предложение S, даже если король Франции не существует. Ведь если этот
анализ верен, то любой, кто в наше время произносит предложение S, тем самым одновременно
утверждает три пропозиции, одна из которых (а именно что король Франции существует) является
ложной; а поскольку конъюнкция трех пропозиций, из которых одна ложна, также является
ложной, все утверждение в целом будет значимо, но окажется ложным. Значит, ни одно из
несостоятельных доказательств, касающихся нереальных сущностей (subsistent éntities), к такому
утверждению отношения не имеет.
Чтобы показать, что Рассел ошибочно решил поставленную им проблему, и найти для нее
верное решение, мне прежде всего потребуется провести некоторые различия. С этой целью я буду
в дальнейшем называть выражения, имеющие референтное употребление, просто "выражениями",
а предложения, содержащие такие выражения, просто "предложениями". Проводимые мной
различия довольно приблизительны и упрощенны, для более трудных случаев, несомненно,
потребуется их детализация. Но думаю, что для поставленной цели они достаточны. Я различаю
следующие случаи:
(Ах) предложение,
(А2) употребление предложения,
(А3) произнесение, или воспроизведение, предложения (an utterance of a sentence) и
соответственно: (Вх) выражение,
(82) употребление выражения,
(83) произнесение, или воспроизведение, выражения (an utterance of an expression).
Давайте снова вернемся к предложению "Король Франции мудр". Можно представить себе, что
это предложение произносилось по различным поводам, начиная, скажем, с XVII столетия, во
времена правления каждого из сменявших друг друга французских монархов; можно вообразить,
что оно произносилось и в последующие периоды, когда Франция уже не была монархией.
Обратите внимание, что я вполне естественно говорю, что по различным поводам в данном
промежутке времени произносилось "предложение" или "это предложение", или, иными словами,
вполне естественно и правильно говорить, что во всех этих случаях произносилось одно и то
же предложение. В типе (Ах) в термин 'предложение' я вкладываю тот смысл, в котором мы
совершенно правильно его употребляем, когда говорим, что во всех этих разнообразных случаях
произносилось одно и то же предложение. Однако между разными случаями употребления этого
предложения имеется заметная разница. Например, если один человек произнес его во время
правления Людовика XIV, а другой — во время правления Людовика XV, то естественно полагать,
что они говорили о разных людях; и можно также считать, что первый человек, употребив это
предложение, сделал истинное утверждение, тогда как второй человек, употребив то же самое
предложение, сделал ложное утверждение. Если же, с другой стороны/это предложение
одновременно воспроизвели два разных человека (например, один написал, а второй произнес его)
во время правления Людовика XIV, то естественно было бы считать (предполагать), что оба они
говорили об одном и том же лице, и в этом случае, употребив данное предложение,
они должны были либо оба сделать и тинное утверждение, либо оба сделать ложное утверждение.
Здесь мы имеем дело с тем, что я называю употреблением предложения. В случае когда один
человек произнес это предложение в период правления Людовика XIV, а другой — в период
правления Людовика XV, имело место два разных употребления одного и того же предложения; в
случае одновременного воспроизведения этого предложения двумя разными людьми в период
правления Людовика XIV имело место одно и то же его употребление 1х. Очевидно, что в случае с
данным предложением, равно как и во многих других случаях, мы не можем говорить об
истинности или ложностипредложения, а только о его употреблении для того, чтобы сделать
истинное или ложное утверждение, или (что то же самое) выразить истинное или ложное
суждение. Не менее очевидно, что предложение не может быть об определенном лице, так как
одно и то же предложение может быть по разным поводам употреблено для того, чтобы высказать
что-то о совсем разных лицах; об определенном лице можно вести речь, когда мы говорим
об употреблении предложения. Наконец, чтобы ясно показать, что понимается под
воспроизведением предложения, достаточно будет сказать, что когда данное предложение
одновременно произнесли два разных человека во время правления Людовика XIV, то имело
место два разных воспроизведения одного и того же предложения, хотя его употребление было
одно и то же.
Если мы теперь возьмем не все предложение "Король Франции мудр", а только ту его часть,
которую составляет выражение "король Франции", то мы, очевидно, можем провести аналогичное,
хотя и не тождественное, различие между (1) выражением, (2) употреблением выражения и (3)
воспроизведением выражения. Различие не будет в точности таким же: очевидно, что нельзя
говорить об употреблении выражения "король Франции" для того, чтобы сделать истинное или
ложное утверждение, так как вообще истинно или ложно могут быть употреблены только
предложения; ясно, что об определенном лице можно высказаться, только употребив
предложение, а не одно только именное выражение. Вместо этого мы в данном случае будем
говорить, что выражение употребляется для того, чтобы с его помощью упомянуть определенное
лицо, или произвести к нему референцию с тем, чтобы что-либо о нем высказать. Но очевидно,
что в этом случае, как и во многих других, нельзя говорить, что выражение (Вх) соответствует
упоминанию, или референции к чему-либо, так же как нельзя говорить, что истинным или
Слово "употребление" здесь, разумеется, используется в смысле, отличном (а) от распространенного смысла, когда
"употребление" (определенного слова, сочетания, предложения) = (приблизительно) "правила употребления" = (приблизительно)
"значение", и (б) от того смысла, в котором я сам использовал это слово, говоря об "употреблении выражений с единичной
референцией", где "употребление" = (приблизительно) "способ употребления".
1
ложным является предложение. Одно и то же выражение может употребляться для упоминания о
разных объектах, как одно и то же предложение может быть употреблено в утверждениях с
разными истинностными значениями. "Упоминание", или "референция",— это не свойство
выражения, это то, для чего говорящий может его употребить. Упоминать, или иметь референцию
к чему-либо,— это характеристика употребления выражения, точно так же, как быть истинным
или ложным — это характеристика употребления предложения.
Эти различия еще отчетливее выявляются на примере совершенно иного рода. Обратимся к
другому разряду выражений, употребляющихся с единичной референцией. Возьмем выражение
"я" и рассмотрим предложение "Я замерз". Это предложение может быть употреблено
бесчисленным множеством людей, но для двух разных людей одно и то же употребление этого
предложения логически невозможно, или — что то же — невозможно его употребление для
выражения одного и того же суждения. Выражение "я" может быть правильно употреблено,
только когда любой из бесконечного множества людей производит референцию к самому себе. А
это уже как-то характеризует выражение "я", то есть в каком-то смысле определяет его значение.
Таким путем можно охарактеризовать выражение. Но о выражении "я" никак нельзя сказать, что
оно имеет референцию к определенному лицу. Так можно охарактеризовать только его отдельное
употребление.
Будем для краткости пользоваться словом "тип" вместо "предложение или выражение". И тогда
о предложениях и выражениях (типах), и их употреблении, и их воспроизведении я говорю совсем
не так, как о кораблях, и башмаках, и сургуче 2. Я имею в виду, что о типах, употреблении типов и
воспроизведении типов нельзя сказать одно и то же. А ведь мы постоянно говорим о типах, и
если при этом мы не замечаем различий между тем, что может быть сказано о типах, и тем, что
может быть сказано об употреблении типов, то легко может возникнуть путаница. Нам кажется,
что мы говорим о предложениях и выражениях, тогда как мы говорим об употреблении
предложений и выражений.
Как раз это и делает Рассел. В самых общих чертах я расхожусь с Расселом в следующем.
Значение (хотя бы в одном из важных смыслов этого слова) является функцией предложения или
выражения; референция, а также истинность или ложность являются функциями употребления
предложения или выражения. Определить значение выражения (в данном смысле) — значит
дать общие правила его употребления для референции к отдельным предметам или лицам;
определить значение предложения — значит дать общие правила его употребления для того,
чтобы высказать истинные или ложные утверждения. Это совсем не то, что описывать какой-либо
отдельный случай употребления предложения или выражения. Значение выражения не может
быть отождествлено с тем объектом, для референции к которому оно употреблено в том или ином
случае. Значение предложения не может быть отождествлено с тем утверждением, которое с его
помощью делается в том или ином случае. Говорить о значении выражения или предложения —
значит говорить не об отдельном случае его употребления, а о тех правилах, традициях и
конвенциях, которые определяют правильность его употребления во всех случаях, когда требуется
произвести
референцию
или
утверждение.
Следовательно,
вопрос
о
том, я в л я е т с я предложение или выражение з н а ч и м ы м и л и н е т , не имеет ничего
общего
с
вопросом
о
том,
употреблено
ли
предложение, п р о и з н е с е н н о е в к о н к р е т н о м с л у ч а е , для того, чтобы в данном
случае высказать утверждение, имеющее истинностную ценность, или нет, или вопросом о том,
употреблено ли в данном случае выражение для референции к чему-либо.
Ошибка Рассела коренится в том, что он считал, что референция, если она имеет место, должна
быть значением. Он не различал ( В г ) и (В2), он смешивал выражения и их употребление в
определенном (отдельном) контексте и, таким образом, смешивал значение с референцией. Если я
говорю о своем носовом платке, я, может быть, и могу продемонстрировать предмет, к которому
производится референция, вынув его из кармана. Но я не могу продемонстрировать значение
выражения "мой носовой платок" тем, что выну носовой платок из кармана. Смешивая значение и
референцию, Рассел считал, что если и существуют предназначенные для единичной референции
выражения, которые в самом деле являются тем, чем они кажутся (то есть логическими
субъектами), а не скрывают иной сущности, то их значением и должен быть тот определенный
объект, на который они указывают. Отсюда и возник миф о логически собственных именах и
«... of ships and shoes and sealing wax» (то есть о самых разнообразных предметах для разговора) — известная цитата из
стихотворения "Морж и плотник" Льюиса Кэррола,— Прим. перев.
2
связанные с ним затруднения. Однако если меня кто-то спрашивает, какое значение имеет
выражение "это" — некогда излюбленный Расселом пример логического собственного имени,— я
не предъявляю ему тот предмет, для референции к которому я только что употребил это слово,
добавляя при этом, что значение этого выражения изменяется в каждом случае. Я также не
предъявляю ему все те объекты, для референции к которым это выражение когда-либо
употреблялось
или
могло
быть
употреблено.
Я
объясняю
и
иллюстрирую
правила (conventions), регулирующие употребление этого выражения. Это и е с т ь раскрытие
значения выражения. Оно заключается вовсе не в предъявлении объекта, к которому выражение
имеет референцию — ведь оно само по себе не имеет референции к чему бы то ни было,— хотя и
может быть в разных случаях употреблено для референции к бесчисленному множеству
предметов. Вообще-то в английском языке у глагола mean (значить) есть значение, близкое к
значениям слов indicate 'указывать', mention 'упоминать', refer to 'отсылать к чему-то'. В этом
значении mean употребляется, например, когда говорят (обычно нелюбезно): "I mean уou" ('Я вас
имею в виду*)— или когда показывают на что-нибудь, говоря: "That's the one I mean" ('Именно это
(этот предмет) я имею в виду*).
Но тот предмет, который я имел в виду (the one t meant)— это совсем не то же, что значение
выражения, которое я употребил, говоря о нем. В этом особом смысле mean — это действие,
которое производят люди, а не свойство выражений. Люди употребляют выражения для
референции к определенным предметам. Но значением выражения нельзя считать все множество
предметов или даже единичный предмет, для референции к которым оно употребляется:
значение — это множество правил, навыков и конвенций, которым подчинено употребление того
или другого выражения для референции к предметам.
Это же относится и к предложениям, и даже с большей очевидностью. Каждый знает, что
предложение Стол завален книгами значимо, и всем известно, что оно значит. Но если я спрошу, о
каком объекте это предложение, то вопрос будет абсурдным. Такой вопрос нельзя задать о
предложении, можно только об употреблении предложения, а в данном случае это предложение не
употребляется, чтобы что-то высказать о чем-то, оно берется просто как пример. Зная, что оно
значит, вы знаете, как правильно его употреблять для высказывания о предметах. Как видим,
между знанием значения и знанием того, что в отдельном случае предложение употребляется для
высказывания о чем-либо, нет ничего общего. Сходным образом, если я спрашиваю: "Истинно или
ложно это предложение?", я задаю абсурдный вопрос, который не станет менее абсурдным от
того, что я добавлю: "Если оно значимо, то оно должно быть либо истинным, либо ложным". Это
абсурдный вопрос, потому что предложение ни ложно, ни истинно, так же как оно не является
предложением о каком-то предмете. Разумеется, то, что предложение значимо, равносильно тому,
что оно может быть употреблено, чтобы произвести истинное или ложное утверждение, и,
употребляя его соответствующим образом, говорящий сделает либо истинное, либо ложное
утверждение. Добавлю, что оно будет употреблено, чтобы произвести истинное или ложное
утверждение, только если при его употреблении говорящий высказывается о чем-то. Если же,
произнося его, он ни о чем не высказывается, тогда имеет место не подлинное, а искусственное
употребление, или псевдоупотребление: говорящий не делает ни истинного, ни ложного
утверждения, хотя сам он, возможно, так не считает. Это нас подводит к правильному решению
той задачи, которая в теории дескрипций получает неверное решение со всеми вытекающими из
него последствиями. Суть нашего решения заключается в том, что вопрос о наличии значения у
предложения совершенно не зависит от вопроса, возникающего в связи с его конкретным
употреблением, такого, например, как: имеет ли в данном случае место подлинное употребление
или псевдоупотребление, употреблено ли оно для высказывания о чем-то, например в сказке, или
же оно употреблено в качестве философского примера. Вопрос о значимости предложения — это
вопрос о том, существуют ли в языке такие навыки, конвенции и правила, согласно которым
данное предложение может быть логично употреблено для высказывания о чем-либо, и этот
вопрос, следовательно, совершенно независим от вопроса, употребляется ли предложение таким
образом в данном отдельно взятом случае.
* III *
Вернемся еще раз к предложению Король Франции мудр и рассмотрим те истинные и ложные
утверждения, которые делает о нем Рассел.
Об этом предложении Рассел мог бы высказать по крайней мере две истинные вещи!
(1) во-первых, что оно значимо; если бы его сейчас кто-нибудь произнес, то он произнес бы
значимое предложение;
(2) во-вторых, что тот, кто произнес бы это предложение, сделал бы истинное утверждение,
только если в настоящее время существовал бы один, и только один, король Франции и если бы он
действительно был мудр.
Какие же ложные положения мог бы высказать об этом предложении Рассел? Он мог бы
сказать:
(1) что тот, кто бы сейчас произнес это предложение, обязательно сделал бы либо истинное,
либо ложное утверждение;
(2) что в нем между прочим утверждается, что в настоящее время существует один, и только
один, король Франции.
Я уже привел ряд доводов, позволяющих считать эти два утверждения неверными. Но
допустим теперь, что вам на самом деле кто-то с самым серьезным видом объявит: "Король
Франции мудр". Скажете ли вы на это: "Это неправда"? Я совершенно уверен, что нет. Но
допустим, что он будет настойчиво с п р а ш и в а т ь вас, считаете ли вы, что сказанное им
истинно или ложно, согласны вы или не corласны с тем, что он только что сказал. Думаю, что,
скорее всего, вы после некоторых колебаний скажете, что не считаете это ни истинным, ни
ложным, что вопрос об истинности его утверждения просто неуместен, потому что такого
человека, как король Франции, не существует. И если бы он это спрашивал совершенно серьезно
(с озадаченным видом человека, забывшего, в каком веке он живет), вы могли бы еще сказать чтото вроде: "Боюсь, что вы заблуждаетесь. Франция — не монархия. Короля во Франции нет". Это
говорит о том, что если человек произносит это предложение серьезно, то сам факт его
произнесения является в каком-то смысле с в и д е т е л ь с т в о м того, что он полагает, что во
Франции существует король. Но свидетельства о том, что человек полагает, могут быть разными.
Если человек тянется за своим плащом, это свидетельствует о том, что он полагает, что идет
дождь, но свидетельствует об этом по-другому. По-другому об этом же могут свидетельствовать
его слова "Идет дождь". Характер свидетельства в нашем случае можно было бы объяснить
следующим
образом.
Сказать:
"Король
Франции
мудр"— значит
в
каком-то
смысле имплицировать, что во Франции есть король. Но мы употребляем здесь
глаголимплицировать в особенном и необычном значении. Имплицирует в этом смысле не то же
самое, что 'влечет за собой'(entails) (или "логически имплицирует"). И это явствует из того факта,
что когда в ответ на сообщение о мудрости французского короля мы скажем (что будет
естественно): "Короля во Франции нет", то такой ответ будет не контрадикторен по
отношению к данному утверждению; мы этим не говорим, что оно ложно. Мы, скорее, таким
образом указываем на причину неуместности вопроса о его истинности или ложности.
И здесь нам приходит на помощь проведенное выше различие. Предложение "Король Франции
мудр", безусловно, значимо, но из этого не следует, что любое его употребление является либо
истинным, либо ложным. Мы его употребляем истинно или ложно тогда, когда говорим о ком-то,
когда, употребляя выражение "король Франции", мы относим его к конкретному лицу. Из того
факта, что предложение и выражение значимо, следует только, что предложение может, при
определенных обстоятельствах, стать истинным или ложным высказыванием, а выражение, в свою
очередь при определенных обстоятельствах, может быть употреблено для референции к
определенному лицу; знать их значения — это то же самое, что знать, что это за обстоятельства. И
когда мы произносим данное предложение и при этом не употребляем выражения "король
Франции" для референции к определенному лицу, предложение не утрачивает смысла: мы просто
не высказываем ничего ни истинного, ни ложного, потому что употребленное при этом вполне
значимое сочетание мы не относим ни к чему. В этом случае имеет место псевдоупотребление
предложения и псевдоупотребление выражения, хотя сами мы можем считать или не считать это
употребление подлинным.
Такое псевдоупотребление2 широко распространено. Оно особенно характерно для
современной художественной литературы, отвергающей традиционные, устоявшиеся приемы3.
Если бы я начал рассказ словами: "Король Франции мудр", а затем продолжал: "Он живет в
золотом дворце и имеет сто жен" и так далее, то слушатель меня бы прекрасно понял и не
вообразил бы, что я говорю о реальном лице или что я делаю ложное утверждение, что якобы
существует человек, соответствующий моему описанию. (Стоит добавить, что, когда предложения
и выражения употребляются для высказывания о явно вымышленных ситуациях, значение
слов быть о может измениться. Как говорил Мур, вполне естественно и правильно считать, что
некоторые утверждения в "Записках Пиквикского клуба" являются утверждениями о мистере
Пиквике. Но когда предложения и выражения употребляются для описания ситуаций,
вымышленный характер которых не столь очевиден, такое употребление слов "быть о"
представляется менее правильным, то есть вообще неправильно говорить, что данное
утверждение есть утверждение о мистере Иксе или "the so-and-so", если в действительности
такого лица или предмета не существует. И в тех случаях, когда вымысел может быть принят за
правду, как раз можно ответить на вопрос "О ком он говорит?" словами: "Он говорит ни о ком"
(Не is not talking about anybody), но этим мы не хотим сказать, что сказанное является либо ложью,
либо бессмыслицей.)
2
Термин "псевдоупотребление" ("spurious" use) мне сейчас кажется не слишком удачным, во всяком случае, он применим не ко всем
видам нестандартного употребления. Сейчас такие случаи я назвал бы "вторичным" употреблением.
3
Немудрящим началом является 'Жили-были...* (Once upon a time there was...).
Если оставить в стороне употребления в явно вымышленных ситуациях, то можно сказать, что,
начиная предложение с выражения the king of France 'король Франции', мы в особом смысле
"имплицируем", что король Франции существует. Когда говорящий употребляет такое выражение,
он не высказывает суждения о существовании единичного предмета, и такое суждение также не
является логическим следствием сказанного. Определенный артикль в одной из своих функций
выступает в качестве сигнала того, что производится единичная референция,— сигнала, но не
скрытого утверждения. Когда мы начинаем предложение с формы the such-and-such, употребление
артикля the показывает, но не констатирует, что мы производим или намерены произвести
референцию
к
одному
определенному
представителю
рода such-and-such. Какой
именно отдельный представитель имеется в виду, определяется контекстом, временем, местом и
другими чертами ситуации высказывания. А когда человек употребляет то или иное выражение,
обычно предполагается, что он считает, что употребил его правильно, и если он употребляет
выражение the such-and-such с единичной референцией, то предполагается, что он считает,
что какой-то представитель этого рода существует, а также что контекст употребления с
достаточной ясностью определит, какого именно представителя он имеет в виду. Употребить
таким образом артикль the — значит имплицировать (в соответствующем смысле этого слова), что
экзистенциальные условия, описанные Расселом, соблюдены. Но использовать the таким путем —
еще не значит констатировать, что эти условия выполнены. Если я начну предложение с
формы the so-and-so, но мне что-то помешает продолжить его, то я не сделаю никакого
утверждения, но, возможно, мне и удастся произвести референцию к кому-то или к чему-то.
Утверждение о существовании единичного объекта (uniquely existential assertion), входящее, по
мнению Рассела, в состав любого утверждения, в котором для единичной референции
употребляется выражение формы the so-and-so, в свою очередь, как он замечает, состоит из двух
утверждений. Утверждение о существовании одного какого-то ср не исключает возможности
существования нескольких ср, а утверждение о том, что существует не более одного ср, допускает,
что вообще не существует ни одного ср. Утверждение о том, что существует один и только один
ср, совмещает оба эти суждения. Из двух видов утверждений, которые якобы входят в состав
рассматриваемых предложений, я пока уделил утверждениям экзистенциальным гораздо больше
внимания, чем утверждениям единичности. Следующий пример, переносящий акцент на эти
последние, позволяет также более четко уяснить, что представляет собой „импликация" в том
смысле, в каком мы говорим, что употребление выражений с единичной референцией
имплицирует утверждение о существовании единичного предмета, но не влечет его за
собой (entails) как логическое следствие. Возьмем предложениеThe table is covered with
books 'Стол завален книгами*. Можно совершенно определенно сказать, что при любом
нормальном употреблении этого предложения выражение the table (стол) будет употреблено с
единичной референцией, то есть с референцией к одному какому-то столу. Здесь определенный
артикль the употреблен совершенно строго в том смысле, в каком это слово употребляет Рассел на
с. 30 своей книги "Principia Mathematica" *, когда он говорит о "строгом употреблении артикля",
то есть употреблении с импликацией единичности. На той же странице Рассел говорит, что
сочетание, имеющее форму the so-and-so, при строгом употреблении «применимо только в случае,
если существует не более чем один so-and-so». Но ведь мы явно исказим факты, если скажем, что
выражение the table в предложении The tableis covered with books при нормальном употреблении
«применимо только в случае, если существует не более чем один стол». То, что при таком
употреблении выражение the table будет применимо, только если существует один, и не более чем
один, стол, к которому производится референция, действительно истинно в силу своей
тавтологичное™ мы можем сказать, что оно применимо только в том случае, если существует
только один, и не более чем один, стол, поскольку к нему производится референция. При
употреблении предложения не утверждается, а имплицируется (в особом, уже описанном смысле),
что существует только один предмет, который принадлежит к обозначенному роду (то есть стол)
и вместе с тем является тем объектом, к котором у говорящий производит референцию. Но
имплицировать, безусловно, не то же самое, что утверждать.
* См. W h i t e h e a d , A. N., R u s s e l l , В. Principia Mathe na-tica, Vol, I. Cambridge, 1925, p, 30t
Производить референцию — это не то же самое, что говорить, что она производится. Сказать,
что существует тот или иной стол, к которому производится референция,— это не то же самое,
что произвести референцию к определенному столу. Если бы не было ничего, что называлось бы
референцией, нам не нужны бы были такие выражения, как the individual I referred to [букв,
'человек, к которому я произвел референцию', то есть 'человек, о котором шла речь']. (Так, не было
бы смысла говорить, что вы указали на что-то, если бы не было такого действия, которое
называлось бы "указанием".) Таким образом, я снова прихожу к выводу, что референция к
определенному предмету не может раствориться в каких-либо утверждениях. Производить
референцию — не значит утверждать, хотя мы ее производим для того, чтобы затем перейти к
утверждению.
Теперь возьмем пример выражения с единичной референцией, не имеющего формы the so-andso. Допустим, я протягиваю кому-то сложенные ковшиком ладони и говорю: "Вот какой это
отличный красный экземпляр". Посмотрев в мои ладони и ничего там не увидев, мой собеседник
может сказать: "Что именно? О чем вы говорите? " Или: "Но у вас в руках ничего нет". Абсурдно,
конечно, говорить, что словами "У вас в руках ничего нет" он отрицает сказанное мной или
мне противоречит. Слово это не является скрытой дескрипцией в расселовском понимании. Оно
не является и логически собственным именем. Ведь для того, чтобы отреагировать подобным
образом на какое-либо высказывание, необходимо знать, что оно значит. Я могу, употребляя
слово это, притвориться, что я им произвожу референцию, именно потому, что его значение не
зависит от конкретной референции, которая может производиться с его помощью, хотя и зависит
от способа его употребления для референции.
Общая мораль, которая следует из всего сказанного, такова: в общении явному или скрытому
утверждению отведено гораздо меньше места, чем полагали логики. Меня эта мораль больше
всего интересует в применении к конкретному случаю единичной референции. Часть значения
выражений, о которых идет речь, состоит в возможности их употребления в огромном количестве
контекстов для целей единичной референции. Но в значение их не входит утверждение о том, что
они именно так употребляются в каждом данном случае или что условия для такого употребления
соблюдены. Итак, особо важное для нас различие проводится между:
(1) употреблением выражения для единичной референции и (2) утверждением, что существует
один, и только один, объект, обладающий определенными характеристиками (например,
принадлежащий к определенному роду, или находящийся в определенном отношении к
говорящему, или и то и другое вместе).
Это различие можно представить также как различие между:
(1) предложениями, включающими выражение, употребленное для того, чтобы указать или
обозначить определенное лицо или предмет, или для референции к нему, и
(2) предложениями о существовании единичного предмета.
Рассел упорно стремится сблизить предложения типа (1) с предложениями типа (2) и в
результате сталкивается с непреодолимыми трудностями, связанными с проблемой логических
субъектов и вообще значений для индивидных переменных. В попытке преодолеть эти трудности
в конце концов и была создана катастрофическая с логической точки зрения теория имен, которую
Рассел развил в трудах "Исследование значения и истинности" [4] *и "Человеческое познание"
13].
Концепция значения логических субъектов (1оё1са1-зиЬ^ес^ехргеззюпБ), послужившая стимулом
для создания теории дескрипций, в то же время исключила для Рассела всякую возможность найти
выражения, которые бы полностью удовлетворяли требованиям, предъявленным к логическим
субъектам, и которые могли бы быть полноправной заменой выражений, которым он отказывает в
статусе логических субъектов 4. Причина коренится не просто в том, что он не преодолел
притягательной силы отношений между именем и его носителем, как это иногда считают. Этим
требованиям неспособны удовлетворить даже имена! Причина, скорее, кроется в двух ошибках
более радикального свойства: во-первых, не признается важное различие (см. выше, раздел II)
между тем, что может быть названо выражением, и тем, что можно назвать употреблением
выражения; во-вторых, употребление выражения для единичной референции не признается тем,
чем оно на самом деле является,—
4
И все это несмотря на сигнал тревоги, заключенный в словах "ненадежная грамматическая форма".
вполне безобидным и необходимым явлением, отличным от предикатного употребления
выражений, но дополняющим его. На самом деле, в роли единичных логических субъектов могут
выступать выражения тех разрядов, которые были мною перечислены в самом начале
(указательные местоимения, субстантивные выражения, собственные имена, личные
местоимения), а это значит, что такие выражения вместе с контекстом (в самом широком смысле)
употребляются для единичной референции. Цель конвенций, регулирующих употребление этих
выражений, состоит в том, чтобы вместе с ситуацией высказывания обеспечить единичность
референции. Большего от них и не требуется. Производя референцию, мы никогда не доходим до
открытой констатации того, что она производится. Это и невозможно, поскольку сама
референтная функция в таком случае выражением уже не будет выполняться. Если имеет место
действительная единичная референция, то она заключается в определенном употреблении в
составе определенного контекста; значением же употребленного с этой целью выражения является
набор правил или конвенций, дающих возможность произвести такую референцию. Поэтому-то
мы и можем, употребляя значимые выражения, осуществлять фиктивную референцию, как,
например, в вымысле или в литературе, либо ошибочно полагать, что осуществляем референции 6.
Это свидетельствует о необходимости различать (среди многих других) два типа языковых правил
и конвенций: правила референции и правила атрибуции и предикации — и изучать первые. Если
мы признаем это различие, то перед нами откроется возможность найти решение для ряда древних
логических и метафизических головоломок.
В самом общем виде эти вопросы рассматриваются в следующих двух заключительных
разделах.
5
[Это предложение кажется мне теперь в ряде отношений неточным, главным образом из-за невольно суженного употребления
термина "иметь референцию". Сейчас я бы предпочел следующую редакцию: «Поэтому-то мы и можем, употребляя значимые выражения,
осуществлять вторичную референцию, как, например, в вымысле или в литературе, либо ошибочно полагать, что мы осуществляем
первичную референцию к чему-либо, тогда как на самом деле такого рода референция не производится».]
6
Я здесь не затрагиваю реляционных предложений: для них требуется
не модификация этого принципа, а большая его детализация.
Одна из главных целей употребления языка — это констатация фактов о предметах, людях и
событиях. Чтобы достичь этой цели, мы должны каким-то образом ответить на вопрос "О чем
(ком, котором из них) вы говорите?", а также на вопрос "Что вы говорите об этом (о нем, о ней)?".
Ответить на первый вопрос — задача референции (или идентификации). Ответить на второй
вопрос — задача предикации (или характеризации). В обычном английском предложении, которое
употребляется для констатации или по крайней мере с намерением констатации какого-либо факта
об индивидном предмете, лице или событии, эти две функции можно приблизительно
распределить между отдельными выражениями 6. В таких предложениях закрепление отдельных
ролей за выражениями совпадает с традиционным грамматическим различением подлежащего и
сказуемого. Использование отдельных выражений для этих двух функций не является каким-то
непреложным правилом. Есть и другие способы. Например, можно произнести отдельное слово
или атрибутивное сочетание, когда имеется налицо сам предмет, к которому производится
референция. Примером аналогичного способа служит, скажем, надпись на мосту "Грузовой
транспорт запрещен!" или бирка с надписью "Первый приз", прикрепленная к тыкве. Можно
также представить себе сложную игру, правила которой запрещают произносить выражения с
единичной референцией, можно произносить только единичные экзистенциальные предложения,
так чтобы слушатель смог идентифицировать предмет речи при помощи совокупности
относительных придаточных предложений. (Сам факт, что это закрепляется в правилах игры, как
раз и делает ее игрой — в нормальных условиях экзистенциальные предложения таким образом не
употребляются.) Следует особо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, необходимость
выполнения этих двух задач для констатации фактов не требует какого-то трансцендентального
объяснения. Привлекая к ним внимание, мы уже частично разъясняем значение слов "констатация
факта". Во-вторых, даже это разъяснение дается в терминах, производных от грамматического
описания предложений с единичным субъектом. Даже явное функциональное разграничение
между идентифицирующей и предикатной (attributive) ролями, выполняемыми словами в языке,
подсказано тем, что в обыденной речи эти две функции, говоря с известной степенью допущения,
закрепляются за раздельными выражениями. Это функциональное различие отбросило в
философии длинные тени. Различие между частным и общим, а также различие между
субстанцией и признаком и являются такими псевдоматериальными тенями, отброшенными
конвенциональной грамматической структурой предложения, в котором с очевидностью
разграничиваются роли, выполняемые раздельными выражениями 7.
Первая из двух названных функций выполняется при употреблении выражения с единичной
референцией. Хочу высказать некоторые общие соображения об особенностях такого
употребления
выражений
в
сопоставлении
с
особенностями
предикатного (ascriptive) употребления. Далее я кратко проиллюстрирую эти общие замечания и
рассмотрю некоторые следствия, вытекающие из них.
Для того чтобы вообще произвести единичную референцию, очевидно, необходим какой-то
прием или приемы, позволяющие указать, с одной стороны, на /по, что имеет место единичная
референция, а с другой — указать, что именно является объектом референции, то есть прием,
позволяющий читателю или слушателю идентифицировать предмет речи. Здесь очень многое
зависит от контекста высказывания, а "контекст" в моем понимании по меньшей мере включает
время, место, ситуацию, личность говорящего и предмет, который находится в центре внимания, а
также личный опыт как говорящего, так и тех, к кому обращена речь. Кроме контекста, есть еще,
конечно, и конвенция — языковая конвенция. Во всех случаях, за исключением подлинных
собственных имен, на которых я остановлюсь ниже, для правильного референтного употребления
выражений по конвенции (или логически в широком смысле этого слова) требуется, чтобы
выполнялись более или менее четко определимые контекстные условия, что не распространяется
на правильное предикатное употребление. Для правильного отнесения предиката к предмету
требуется только, чтобы
7
Сейчас то, что сказано в двух последних предложениях, мне уже не кажется безусловно истинным, оно требует весьма существенных
оговорок.
этот предмет принадлежал к определенному классу, обладал определенными характеристиками.
Для правильного употребления выражений с референцией к определенному предмету требуется
нечто сверх того, что было бы достаточно для правильного предикатного употребления данного
выражения, а именно: требуется, чтобы предмет находился в определенном отношении к
говорящему и к ситуации высказывания. Назовем это требование контекстным требованием. Так,
например, в наиболее четко определенном случае со словом "я" контекстным требованием
является совпадение объекта референции с говорящим, но в большинстве других случаев для
выражений, употребляющихся референтно, контекстные требования нельзя сформулировать с
такой точностью. В самом общем плане между конвенциями референции и конвенциями
предикации прослеживается различие, с которым мы уже сталкивались, а именно: условия
правильного предикатного (аБСПрНуе) употребления выражения выполняются при утверждении;
выполнение условий правильного референтного употребления выражения не входит в состав
утверждаемого, хотя им и имплицируется (в соответствующем значении этого термина).
Логики либо пренебрегают правилами референции, либо неправильно их истолковывают.
Причины такого пренебрежения нетрудно обнаружить, хотя изложить их кратко не так-то легко.
Можно, пожалуй, сказать, что две из них следующие: (1) озабоченность большинства логиков
дефинициями; (2) озабоченность некоторых логиков формальными системами.
(1) Дефиниция в самом распространенном смысле слова — это уточнение условий правильного
характеризующего (азспрЫуе) или классифицирующего употребления выражения. В дефиниции
не принимаются во внимание контекстные требования. Поскольку дефиниция отождествляется со
значением либо с анализом выражения, правила других видов употребления, кроме предикатного,
неизбежно остаются вне поля зрения. Может быть, лучше сказать (ибо я не собираюсь диктовать,
что должно понимать под "значением" или "анализом"), что логики не замечали того, что
проблемы, связанные с употреблением, гораздо шире, чем проблемы анализа и значения.
(2) Влияние математики и формальной логики ясно видно (если не говорить о более близких
нам временах), когда мы обратимся к Лейбницу и Расселу. Создатель исчисления высказываний,
не имеющих отношения к суждениям о фактах, подходит к прикладной логике с предубеждением.
Он по вполне понятным причинам полагает, что те типы правил, в адекватности которых для
одной области он убежден, должны быть адекватны и в применении к совсем другой области — к
области высказываний о фактах. Нужно только увидеть, как их к ней приложить. И вот Лейбниц
предпринимает отчаянные усилия, чтобы сделать проблему единичной референции предметом
чистой логики (в узком смысле слова), а Рассел делает отчаянные попытки сделать то же самое, но
другим способом — он связывает эту проблему как с импликацией единичности, так и с
импликацией существования.
Я хотел бы уточнить, что я пытаюсь разграничить прежде всего различные роли, или функции,
в языке, которые могут выполняться выражениями, а не различные группы выражений — есть
такие выражения, которые способны выступать в обеих ролях. Некоторым видам слов
преимущественно, если не исключительно, присуща референтная функция. Это со всей
очевидностью относится к местоимениям и обычным собственным именам. Но есть слова,
которые могут — самостоятельно или совместно с другими словами — образовывать выражения,
имеющие преимущественно референтное употребление, либо — тоже самостоятельно или в
составе других выражений — употребляться по преимуществу в характеризующей или
классифицирующей роли. Примерами таких выражений, очевидно, являются нарицательные
существительные или нарицательные существительные с прилагательными или причастиями в
препозиции; менее очевидно это для самостоятельного употребления прилагательных и
причастий. Выражения, способные к референтному употреблению, также отличаются одно от
другого — самое меньшее — тремя следующими связанными между собой признаками:
(1) Они различаются по степени зависимости производимой с их помощью референции от
контекста высказывания. На одном конце этой шкалы, который соответствует максимальной
зависимости, находятся такие слова, как я, оно, а на противоположном — такие сочетания,
как автор "Ваверлея" или восемнадцатый король Франции.
(2) Они различаются степенью "дескриптивности значения". Под "дескриптивностью
значения" я понимаю традиционное ограничение употребления выражений кругом предметов,
принадлежащих к одному роду или обладающих определенными общими характеристиками. На
одном конце этой шкалы находятся собственные имена, широко распространенные в обыденной
речи; так, именем Хорейс могут называться люди, собаки или мотоциклы. У чистого имени нет
дескриптивного значения (кроме тех случаев, когда оно приобретается в результате одного
какого-либо его употребления в качестве имени). У такого слова, как он, дескриптивное значение
минимально, но оно имеется. Субстантивные сочетания типа круглый стол обладают
дескриптивным значением в максимальной степени. Интересным промежуточным случаем
являются "квазиимена", как, например, "Круглый Стол" — субстантивное сочетание, у которого
"выросли" заглавные буквы.
(3) Наконец, их можно разделить на следующие два класса: (i) выражения, правильное
употребление
которых
регулируется
некими общими конвенциями
референции
и
предикации; (ii) выражения, правильное употребление которых регулируется не общими
конвенциями референтного или предикатного типа, а конвенциями ad hoc — конвенциями для
каждого отдельного случая употребления (хотя и не для каждого конкретного речевого
воспроизведения). К первому классу принадлежат как местоимения (обладающие значениями с
наименьшей степенью дескриптив-ности), так и субстантивные сочетания (обладающие
дескриптивностью в наивысшей степени). Ко второму классу можно в общем отнести самые
обычные собственные имена. Не знать имени человека не означает не знать языка. Вот почему мы
не говорим о значении собственных имен. (Однако из этого не следует, что они не являются
значимыми.) И снова в промежуточном положении оказываются такие выражения, как "Старый
Притворщик". Референтом в этом случае может быть только какой-то старый притворщик, но к
какому именно старому притворщику относится это выражение, определяется не общей
конвенцией, а конвенцией ad hoc.
В случае референтного употребления выражений с формой the so-and-so использование
артикля the, а также позиция выражения в предложении (то есть начальная или следующая сразу
же за переходным глаголом или предлогом) служит сигналом того, что производится единичная
референция, а последующее имя или имя с прилагательным показывает, к чему производится
референция. В общем функциональное различие между нарицательными существительными и
прилагательными состоит в том, что первые естественно и регулярно употребляются для
референции, тогда как для последних подобное употребление довольно редко и не так
естественно, кроме тех случаев, когда они определяют существительные; однако они способны
употребляться и употребляются подобным образом также самостоятельно. Для
функционирования, безусловно, имеет значение дескриптивная сила, присущая каждому слову.
Можно предположить, что существительные в общем обладают такой дескриптивной силой,
которая позволяет им наиболее успешно уточнять, к чему производится единичная референция,
когда имеется сигнал о ее наличии; можно также предположить, что у слов, естественно и
регулярно употребляющихся для единичной референции, дескриптивная сила отражает наиболее
для нас важные заметные, относительно постоянные и прагматические характеристики предметов.
Эти два предположения каким-то образом обусловливают друг друга, и если мы рассмотрим
различия между наиболее типичными нарицательными существительными и наиболее типичными
прилагательными, то мы обнаружим, что они оправдываются. Это различия такого рода, о
которых очень своеобразно говорит Локк, когда он определяет наши идеи субстанций
как совокупности простых идей, когда он пишет, что «если речь идет о субстанциях, то чаще
всего мы имеем дело с идеями сил и способностей» [1, с. 468], и когда он противопоставляет
тождество реальной и номинальной сущностей, которое свойственно простым идеям и
невозможно для субстанций с их подвижной номинальной сущностью. В самом понятии
"субстанция" Локк закрепляет смутно ощущаемую им, но не признаваемую открыто функцию
языка, которая сохраняется, даже если существительное развертывается в более или менее
неопределенную цепочку прилагательных. Рассел по-своему повторяет ошибку Локка, когда
доводит свое признание возможности распространять факты синтаксиса на реальность до такой
степени, что начинает считать, что, только очистив язык от референтной функции вообще, можно
будет устранить белое пятно в философии, и выдвигает свою программу "упразднения
индивидов",— программу, которая фактически упраздняет то различие в логическом
употреблении, которое я здесь настойчиво провожу.
В некоторых случаях контекстные требования для референтного употребления местоимений
можно установить о очень большой точностью (например, для я, ты), а в других — они очень
неопределенны (оно и это). На местоимениях я задерживаться не буду, укажу только на еще один
симптом неправильного понимания сути единичной референции, а именно на тот факт, что
некоторые логики, стремясь раскрыть природу переменной, давали такие п р е д л о ж е н и я,
какон болен и оно зеленое, в качестве примеров того, что в обыденной речи
соответствует сентенцио-нальной функции(sentential function). Что слово "он" может быть в
разных ситуациях употреблено для референции к разным людям или к разным животным,
конечно, верно, но ведь так же может употребляться и слово "Джон" и сочетание "the cat" 'кошка*.
Признать же эти два выражения за квазипеременные логикам мешает в первом случае
укоренившийся предрассудок, что имя логически привязано к одному-единственному индивиду, а
во втором случае — наличие дескриптивного значения у слова "кошка". А слово "он", обладая
способностью соотноситься с широким кругом индивидов и минимальной дескриптивной силой,
может употребляться только как референтное слово. Это, а также отказ отвести референтно
употребляющимся выражениям их законное место в логике (место, куда допускаются только
мифические логически собственные имена) и может объяснить, почему природу переменной
пытаются раскрыть на примере слов типа "он", "она" и "оно", что только затемняет суть дела.
Об обычных собственных именах иногда говорят, что это прежде всего слова, каждое из
которых употребляется для референции только к одному индивиду. Очевидно, что это не так.
Многие из обычных личных имен — имен par excellence— правильно употребляются с
референцией к большому числу лиц. Обычное личное имя можно огрублен-но определить как
референтно употребляемое слово, использование которого не обусловливается каким-либо
возможным для него дескриптивным значением и не предписывается каким-либо общим
правилом употребления в качестве референтного выражения (или в составе референтного
выражения), подобным тем, которые существуют для слов типа "я", "это" или определенного
артикля, а предписывается конвенциями ad hoc для каждого из возможных его употреблений по
отношению к определенным лицам. Здесь важно, что правильность отнесения собственного имени
к определенному лицу не вытекает из какого-либо общего правила или конвенции употребления
слова как такового. (Попытка представить имена как расселовские скрытые дескрипции является,
по-видимому, пределом абсурдности и заводит в порочный круг. Ведь когда я прибегаю к
собственному имени для референции к кому-то, то этим имплицируется в описанном нами, а не в
логическом смысле только то, что есть некто, конвенционально идентифицируемый при помощи
данного
имени.)
Однако
даже
эта
черта
имен
является
только
производной (is only a symptom of) от той цели, для которой они используются. В наше время
выбор имени частично произволен и частично определяется соблюдением юридических и
социальных норм. Совершенно не исключена возможность создания единой системы имен,
основанной, скажем, на датах рождения или на детальной классификации анатомических и
физиологических различий. Эффективность такой системы будет всецело зависеть от того,
окажутся ли предписываемые ей имена удобными для целей единичной референции — а это будет
определяться числом признаков, положенных в основу классификации, а также тем, насколько
такая классификация расходится с традиционной социальной группировкой людей. При
достаточности того и другого остальное довершится избирательностью контекста —как раз так,
как это происходит при существующих традициях выбора имен. Если бы у нас была такая
система, мы могли бы употреблять имена как референтно, так и дескриптивно (сейчас
нерегулярно и на другой основе мы употребляем таким образом имена некоторых известных лиц).
Но адекватность любой системы имен оценивается по критериям, отражающим их пригодность
для целей референции. И с этой точки зрения ни одна классификация не будет иметь
преимущества перед другой, если принимать во внимание только характер признаков,
положенных в ее основу,— неважно, привлекаются для этого обстоятельства рождения или
анатомические особенности.
Я уже упоминал о квазиименах, то есть о субстантивных сочетаниях, у которых "выросли"
заглавные буквы, таких, например, как The Glorious Revolution (Славная Революция),
The Great War (Великая Война), The Annunciation (Благовещение), The Round Table (Круглый
Стол). У них дескриптивное значение слов, следующих за определенным артиклем, остается
релевантным для референции и в то же время заглавные буквы свидетельствуют об
экстралогической избирательности референтного употребления, которая характерна для чистых
имен. Такие сочетания употребляются в письменном тексте, когда один представитель какоголибо класса событий или предметов представляет особый интерес для данного общества. Такие
сочетания являются зачатками имен. Обычное сочетание может, при соответствующих
обстоятельствах, стать квазиименем и может опять выйти за пределы этого класса (ср. "Великая
Война").
V.
В заключение я хочу вкратце рассмотреть следующие три проблемы, связанные с референтным
употреблением.
(а) Неопределенная референция. Не во всех случаях выражения, употребленные с референцией к
одному предмету, отвечают на вопрос "О ком (чем, котором из них) вы говорите?". Существуют и
такие, которые либо вызывают подобный вопрос, либо свидетельствуют о нежелании или
невозможности
дать
на
него
ответ.
Таковы
предложения,
начинающиеся
со
слов: A man told me that. . . 'Один человек сказал мне. . .\ Someone told me that. . . 'Кто-то сказал
мне. . В соответствии с ортодоксальной (расселовской) доктриной такие предложения являются
экзистенциальными, но не единично экзистенциальными. Это, по-видимому, неверно в
нескольких отношениях. Нелепо представлять дело так, будто в состав утверждаемого входит
сообщение
о
том,
что
класс
людей
не
является
пустым.
Разумеется,
это имплицировано артиклем theв известном уже смысле слова "имплицировать", но наряду с этим
имплицируется и единичность объекта референции, точно так же, как если бы я начал
предложение с такого сочетания, как the table '(этот) стол*. Различие в употреблении
определенного и неопределенного артиклей можно очень приблизительно представить себе
следующим образом. Определенный артикль the употребляется, либо если уже имела место
предшествующая референция, и тогда the сигнализирует о том, что производится та же
референция, либо — при отсутствии предшествующей неопределенной референции — контекст
(включая и предполагаемое у слушателя фоновое знание) должен определить для
слушателя, какаяконкретно производится референция. Неопределенный артикль а употребляется,
либо если эти условия не выполняются, либо если мы не желаем раскрывать, кем именно является
лицо, к которому производится референция, хотя и могли быпроизвести определенную
референцию. В этом случае имеет место "вуалирующее" (arch) употребление таких выражений,
как a certain person 'один (некий) человек* или someone •кто-то*, и их можно развернуть
в someone, but Г m not telling youwho 'кто-то,
но
кто,
я
вам
не
скажу*,
а
не
в someone, but you wouldn't (or I don't) know who 'кто-то, но вам (или мне) неизвестно, кто именно*.
Под ними я понимаю такие утверждения, как:
(ia) Это тот человек, который в один день дважды переплыл Ла-Манш.
(б) Утверждения идентичности»
(Па) Наполеон был тем человеком, кто приказал казнить герцога Энгьенского.
Особенность этих утверждений состоит в том, что грамматические предикаты употребляются в
них, по-видимому, не для характеризации, как грамматические предикаты в предложениях:
(ib) Этот человек в один день дважды переплыл Ла-Манш.
(lib) Наполеон приказал казнить герцога Энгьенского.
Но если различие между (ia) и (ib) и (па) и (ïib) объяснять тем, что именные группы в
предикатной части (ia) и (iia)употреблены референтно, то непонятно, что же утверждается в этих
предложениях. Тогда создается впечатление, что мы производим референцию к одному и тому же
лицу дважды, ничего при этом о нем не сообщая и, следовательно, не делая утверждения, или же
что мы отождествляем его с самим собой, таким образом утверждая тривиальный факт тождества
объекта самому себе.
Тривиальности опасаться здесь нечего. Такое впечатление создается только у тех, кто
принимает объект, для референции к которому употреблено выражение, за значение выражения и,
таким образом, считает, что субъектная и предикатная части в этих предложениях имеют одно и
тоже значение, потому что их можно было употребить с референцией к одному и тому же лицу.
Думаю, что различия между предложениями группы (а) и предложениями группы (Ь) легче
всего понять, приняв во внимание различие между обстоятельствами, при которых
говорится (ia), и обстоятельствами, при которых говорится (ib). (ia), а не (ib) будет сказано в том
случае, если мы знаем или полагаем, что слушатель знает или полагает, что кто-то в течение
одного дня дважды переплыл Ла-Манш.
Мы скажем (ia), если ожидаем от слушателя вопрос: "Кто в один день дважды переплыл ЛаМанш?" (И, задавая такой вопрос, он не говорит, что кто-то в самом деле это сделал, хотя то, что
он его задает, имплицирует — в соответствующем смысле этого слова,— что кто-то сделал это.)
Такие предложения подобны ответам на подобного рода вопросы. Их лучше назвать
"утверждениями идентичности", чем "тождествами". В предложении (ia) утверждается ровно то
же, что и в предложении (ib). Вся разница в том, что (ia) говорится человеку, от которого вы
ожидаете знания некоторых вещей, которые, по вашему предположению, неизвестны адресату
предложения (ib).
Таково в самых общих чертах решение расселовской головоломки об обозначающих
выражениях (denoting phrases),присоединяемых глаголом быть,— одной из тех головоломок, на
которые, по его мнению, дает ответ теория дескрипций.
(в) Логика субъектов и предикатов. Многое из того, что выше было сказано об употреблении
выражений для единичной референции, можно распространить — с соответствующими
модификациями — на употребление выражений с не-единичной референцией, то есть на
некоторые случаи употребления выражений, состоящих из the, all the, all, some, some ofthe ('все*,
'некоторые*) и т. п. и последующего существительного с определением или без него, на некоторые
случаи употребления слов they, them, those, these ('они*, 'эти*, 'те*), а также на конъюнкции имен.
Особый интерес представляют выражения первого типа. Можно сказать, что критика таких
традиционных учений, как учение о "логическом квадрате" и некоторых формах силлогизмов, со
стороны современных ортодоксальных философов, воспитанных на формальной логике,
основывается опять же на непризнании того факта, что при референтном употреблении
выражений экзистенциальные утверждения имплицируются в особом смысле этого слова. Они
доказывают, что всеобщие суждения, входящие в квадрат, должны либо интерпретироваться через
отрицательные экзистенциальные суждения (например, для А— всеобщих утвердительных
суждений — "не существует таких Х-ов, которые не были бы Y-ами"), либо интерпретироваться
как конъюнкции отрицательных и утвердительных экзистенциальных суждений с такой,
например, формой (для А ) : "не существует таких Х-ов, которые не были бы Y-ами, а Х-ы
сущеcтвуют". Суждениям формы 1 (частноутвердительным) и О (частноотрицательным) обычно
дается интерпретация через утвердительные суждения. Из этого тогда следует, что, какой бы из
двух названных вариантов мы ни приняли, мы должны отказаться от тех или иных законов
традиционной логики. Однако это мнимая дилемма. Если суждения, входящие в квадрат, не
интерпретировать
ни
как
утвердительные,
ни
как
отрицательные,
ни
как
утвердительные и отрицательные экзистенциальные суждения, а видеть в них такие предложения,
для которых вопроса, употребляются ли они для того, чтобы производить истинные или ложные
утверждения, не может возникнуть, если не соблюдено экзистенциальное условие для
субъектного члена, то тогда все традиционные законы логики окажутся применимыми. И такая
интерпретация в гораздо большей степени соответствует большинству случаев употребления
выражений, начинающихся словами все и некоторые, чем любая альтернативная интерпретация
Рассела. Дело в том, что эти выражения обычно используются референтно. Если у бездетного
человека, понимающего все буквально, спросить, все ли его дети спят, то он, конечно же, не
ответит "да" на том основании, что у него нет детей, но он и не ответит "нет" на этом же
основании. Раз у него нет детей, вопрос попросту неуместен. Это, безусловно, не значит, что я не
могу употребить предложение "Все мои дети спят", чтобы дать кому-то знать, что у меня есть
дети, или чтобы обманом внушить ему, что они у меня есть. Мой тезис также ни в коей мере не
будет поколеблен тем, что таким же образом могут иногда употребляться и сочетания с
формой the so-and-so в единственном числе. Логика употребления любого выражения в
обыденном языке не определяется точно ни правилами Аристотеля, ни правилами Рассела; в
обыденном языке нет точной логики.
ЛИТЕРАТУРА
1. Локк Д. Избранные философские произведения, т. 1. М., 1960.
2. Рассел Б. Дескрипции (см. наст, сб., с. 41 - 54).
3. Р а с с е л Б. Человеческое познание. Перев. с англ. М., ИЛ, 1957.
4. R u s s e l l , В. An Inquiry into Meaning and Truth. London, 1940.
П. Ф . Стросон
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ
ИИСТИННОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ *ii*
Предметом обсуждения настоящей работы являются: одна хорошо известная и очень важная
речевая функция, одна контроверза в философской логике и две-три простые истины.
Мы будем рассматривать высказывания, в которых сообщается о каком-нибудь, быть может
вымышленном, историческом факте, событии или ситуации. Эти высказывания могут быть как о
прошлых событиях, так и о настоящих, как о значительных, так и о незначительных, например о
том, как император проиграл сражение, или о том, как ребенок потерял погремушку, о том, что
император умирает, или о том, что ребенок плачет. Точнее, нас будет интересовать один важный
подкласс таких высказываний, а именно те, в которых задача воспроизведения исторической
картины включает в себя в качестве существенного компонента более частную задачу
обозначения некоторого исторического объекта или объектов, входящих в эту картину. Не всякое
решение более общей задачи предполагает решение этой частной задачи, которую я будут
называть проблемой идентифицирующей референции языковых выражений к индивидным
объектам. Так, не требуется решать эту проблему для высказываний, сообщающих о том, что
сейчас идет дождь или что дождь здесь шел час назад. Однако одной из составляющих функции
высказывания Цезарь умирает (помимо констатации исторического факта или ситуации, для чего
и предназначено само это высказывание) является обозначение конкретного исторического
лица —Цезаря,— вовлеченного в описываемую ситуацию. И эта составляющая функции всего
высказывания является единственной функцией имени Цезарь.
Таким образом, интересующая нас речевая функция — это функция идентифицирующей
референции к некоторому историческому объекту, когда она осуществляется компонентом
высказывания. Мы хотим рассмотреть ее в связи с одним из пунктов философской контроверзы, а
именно вопросом о том, приводит ли полная неудача в осуществлении этой функции к особому
случаю ложности высказывания или же она приводит к тому, что У. Куайн
называет истинностно-значным,
или
функционально-истинностным,
провалом (truthvalue gap). Мы вовсе не ставим себе целью продемонстрировать абсолютную правоту
приверженцев одной точки зрения и абсолютную неправоту приверженцев другой; наша цель —
предложить совместное рассмотрение этой речевой функции, упомянутой контроверзы и однойдвух весьма избитых истин.
Начну с двух взаимодополняющих друг друга истин. По-видимому, основной, но, безусловно,
не единственной целью утвердительного предложения является сообщение некоторой
информации слушающему или слушающим, читающему или читающим, то есть определенной
аудитории. Поскольку нет никакого смысла (или, вероятно, следовало бы сказать —возможности)
информировать человека о чем-то, что тому уже известно, утвердительное высказывание, или
предложение,— в случае, когда его основное назначение — выразить некоторое утверждение,—
имеет презумпцию со стороны говорящего, что какая-то часть заключенной в этом высказывании
информации неизвестна слушающему. Этот тривиальный тезис можно было бы
назвать Принципом презумпции неосведомленности, или незнания. Обычно ему придают слишком
большое значение в философских концепциях, относящихся к анализу или моделированию
естественного языка,— концепциях, в основании которых, как нам представляется, лежит
ошибочный Принцип презумпции полной неосведомленности. Чтобы предостеречь читателя от
этой крайности, следует указать, что не менее важен и другой, также достаточно тривиальный
принцип, дополняющий первый. Назовем его Принципом презумпции осведомленности, или
знания. Суть его состоит, попросту говоря, в том, что, когда делается утверждение с целью
сообщить какую-нибудь конкретную информацию, обычно или по крайней мере часто говорящий
исходит из презумпции, что слушающий обладает знанием определенных эмпирических фактов,
относящихся к сообщаемому. Это с л и ш к о м приблизительная формулировка. Связь между
презумпцией знания и намерением передать слушающему именно данную информацию может
быть теснее простой ассоциации; связь между этой информацией и видом предполагаемого знания
может быть большей, чем простая релевантность. Подобно тому как было бы неверно утверждать,
что говорящий намеревался сообщить слушающему те или другие сведения, если он не думал, что
они
ему неизвестны, можно часто
считать
неверным, что
говорящий был
намерен с о о б щ и т ь слушающему и м е н н о э т у информацию, если он не предполагал,
что тот владеет некоторыми эмпирическими знаниями. Таким образом, в основном интересующий
меня второй принцип действительно находится к первому в отношении дополнительности.
Все это может показаться несколько таинственным, но по крайней мере мы не будем
испытывать никаких затруднений, если примем общее и достаточно неопределенное допущение,
согласно которому мы всегда предполагаем со стороны той аудитории, к которой обращены наши
утвердительные высказывания, как знание, так и незнание некоторых эмпирических фактов, и как
та, так и другая презумпция оказывает существенное влияние на выбор того, что мы говорим. Это
носящее весьма общий характер допущение я хочу применить к случаю идентифицирующей
референции. Для этого необходимо ввести не слишком глубокое понятие идентифицирующего
знания индивидных объектов.
Всякий человек знает о существовании разных объектов, каждый из которых он может в том
или ином отношении, хотя и не обязательно во всех отношениях, отличить от остальных.
Например, он может отличить один объект от другого, если объекты попали в поле его
восприятия; или он может знать, что есть объект (который не находится непосредственно в поле
его восприятия), к которому применима некоторая дескрипция, не применимая ни к какому
другому объекту; эту дескрипцию я буду называть идентифицирующей. Наконец, человек может
знать имя объекта и узнать объект, неожиданно с ним столкнувшись, даже тогда, когда он не в
состоянии дать его идентифицирующего описания, отличного от того, которое включает имя
объекта. Если одно из этих условий удовлетворено, то можно считать, что человек обладает
идентифицирующим знанием соответствующего объекта. Тогда мы вынуждены определять это
понятие в терминах минимального и относительно изолированного идентифицирующего знания.
Поэтому нужно особо подчеркнуть, что в противоположность случаям минимального и
относительно изолированного идентифицирующего знания имеется масса случаев очень полного
и богатого знания и что, как правило, наше идентифицирующее знание объектов образует
исключительно сложную и запутанную паутину связей и отношений. Можно было бы сказать, что
последние отражают общую картину нашего исторического и географического знания, если не
истолковывать передающие такие связи прилагательные как квалифицирующие одни только
исторически отмеченные объекты, а считать, что они отражают также знание самых простых
вещей о предметах и лицах, с которыми мы ежеминутно или изо дня в день соприкасаемся в мире.
Понятие идентифицирующей референции тесно связано с понятием идентифицирующего
знания. Когда люди разговаривают друг с другом, то они обычно справедливо полагают, что
обладают большим фондом общих знаний об отдельных объектах. Очень часто говорящий знает
или предполагает, что объект, идентифицирующим знанием которого он обладает, также известен
слушающему. Зная или предполагая это, говорящий может захотеть сообщить какой-либо факт об
этом объекте (например, что объект такой-то и такой-то). Тогда он обыкновенно включает в
высказывание выражение, которое в данном контексте считает самым подходящим для указания
на то, какой из объектов в области идентифицирующего знания слушающего он характеризует. В
естественном языке есть всем хорошо известные типы выражений, предназначенные для
выделения объекта тем или другим способом. К таким языковым выражениям относятся имена
собственные, определенные (definite), притяжательные и указательные дескрипции, личные и
указательные местоимения. Я вовсе не утверждаю, что в с е выражения такого рода хорошо
приспособлены для этой цели; также я не хочу сказать, что выражения, которые вполне пригодны
для указания на объект, не могут регулярно использоваться в других целях.
Когда выражение одного из перечисленных типов применяется по назначению, то есть для
выделения объекта, я буду говорить, что оно апеллирует к идентифицирующему знанию, которым
предположительно или в действительности обладает слушающий. Теперь было бы довольно
просто определить понятие идентифицирующей референции: выражение только тогда выполняет
идентифицирующую функцию, когда оно апеллирует к идентифицирующему знанию. Однако,
несмотря на то что такое определение упростило бы описание (поскольку мы бы ограничились тем
случаем идентифицирующей референции, который при любом определении этого понятия занял
бы центральное место), его нельзя признать полностью удовлетворительным. В самом деле, есть
ситуации, которые нельзя в точности охарактеризовать как случаи апелляции к
идентифицирующему знанию. Однако они н а п о м и н а ю т те, которые м о г у т быть так
охарактеризованы, и поэтому их удобно рассматривать в одном ряду со случаями
идентифицирующей референции. Например, в поле восприятия человека может оказаться объект,
который человек не заметил и потому фактически не отличил от других объектов, но говорящий,
употребив одно из языковых выражений вышеназванных типов, намеренно привлек внимание
человека к данному объекту. Так как в намерения использующего такое выражение говорящего
входит не столько с о о б щ и т ь слушающему о существовании этого, в каком-то отношении
уникального, объекта, сколько сделать так, чтобы слушающий с а м п о н я л , что такой объект
существует, вероятно, имеет смысл рассматривать описанный случай вместе с основными
случаями идентифицирующей референции. Кроме того, бывают ситуации, когда, строго говоря,
слушающему нельзя приписать з н а н и е существования некоторого, в определенном смысле
уникального, объекта, но можно считать, что у него на этот счет имеется
твердая п р е з у м п ц и я . В таких случаях уместнее говорить об идентифицирующей
презумпции, чем об идентифицирующем знании. Апеллировать к такой презумпции можно тем же
способом, что и к идентифицирующему знанию.
Итак, мы можем допустить расширение понятия идентифицирующей референции, выйдя за
пределы ситуаций обращения к идентифицирующему знанию. Но тогда нам придется столкнуться
с нисколько не удивительным следствием: если мы хотим (а мы действительно этого хотим)
различать ситуации, когда говорящий использует языковое выражение для идентификации
объекта, и ситуации, в которых целью и результатом использования говорящим языкового
выражения является информирование слушающего о существовании некоторого уникального
объекта, то мы не сможем избежать промежуточных случаев, которые н е л ь з я с
у в е р е н н о с т ь ю причислить ни к одному из двух указанных классов и которые могут
казаться сомнительными кандидатами в каждый из них. Все же — с философской точки зрения —
это не вызывает затруднений, и я в дальнейшем буду для простоты считать, что все случаи
идентифицирующей референции, по крайней мере по своей интенции, являются случаями
апелляции к идентифицирующему знанию.
Все, о чем говорил я до сих пор, описывая функцию идентификации объектов, не может
служить, как я полагаю, предметом для дискуссии, поскольку я не занял никакой позиции ни по
одному из ее неоднократно обсуждавшихся и потому приевшихся пунктов. Отсюда вытекает одно
следствие, которое уже вскользь упоминалось и которое также не может быть предметом для
полемики. Сейчас я чуть более подробно остановлюсь на нем, частично с целью отделить его от
какого бы то ни было prise de position (то есть от какой-либо определенной точки зрения) в этом
несомненно спорном вопросе.
Я предложил объяснение идентифицирующей референции — точнее, ее основного случая —
как включающей в себя в качестве существенного элемента презумпцию говорящего о наличии у
слушающего идентифицирующего знания о некотором объекте. Идентифицирующее знание —
это знание о существовании объекта, в каком-то отношении выделенного слушающим среди
прочих. Говорящий, употребляя кажущееся ему подходящим языковое выражение в составе
некоторого высказывания, апеллирует к соответствующей части идентифицирующего знания
слушающего для того, чтобы указать ему, к какому из объектов в области его
идентифицирующего знания относится сообщаемая в этом высказывании информация. В
зависимости от природы объекта и от условий употребления высказывания используемое
говорящим выражение может быть именем или местоимением, определенной или указательной
дескрипцией. Тем не менее отнюдь не обязательно, чтобы имя или дескрипция
применялись т о л ь к о к данному объекту — при условии, что выбор языковой единицы в
общем контексте высказывания является адекватным для указания слушающему, какому именно
из объектов, находящихся в области его идентифицирующего знания, приписываются
соответствующие качества.
Пока что представляется совершенно очевидным только то, что в случае таких высказываний в
намерения говорящего не входит с о о б щ и т ь слушающему о с у щ е с т в о в а н и и объекта с
данным именем или удовлетворяющего данной дескрипции, при помощи которых, а возможно, и
еще дополнительных данных он был выделен среди других объектов. Наоборот, сама проблема
идентификации, так, как она здесь поставлена, может быть успешно решена говорящим, только
если он рассчитывает на то, что слушающий уже обладает знанием о существовании и
единичности объекта. Задача установления референции о п р е д е л е н а в терминах типичных
намерений говорящего, что не позволяет нам приписать ему желания сообщить слушающему
информацию о существовании и единичности объекта. Все это, вполне естественно, можно
изложить и другими словами. Например, сведения о том, что существует объект, носящий
конкретное имя или к которому применима данная дескрипция, и такой, что он, если и не
уникален в каком-то отношении, удовлетворяет некоторому условию единичности, известному
слушающему (а также некоторому условию единичности, известному говорящему), не являются
частью того, что у т в е р ж д а е т говорящий в высказывании, содержащем предназначенные
для выполнения функции идентификации объекта имя или дескрипцию. Факт существования
такого объекта составляет, скорее, пресуппозицию говорящего.
Такая формулировка все еще не подлежит полемическому обсуждению, поскольку она
естественно выражает то, что само по себе бесспорно. Однако при этом вводится
противопоставление
между утверждаемым и предполагаемым
(presupposed) в
терминах,
ассоциируемых с одним из пунктов контроверзы.
К обсуждению этого пункта мы можем подойти, начав с анализа тех случаев, в которых
попытка идентифицировать объект либо терпит неудачу, либо не является вполне успешной.
Существует несколько разных ситуаций, когда такая попытка может провалиться. Например,
может оказаться, что слушающий не обладает идентифицирующим знанием исторического
объекта, которым располагает говорящий; он приписывает слушающему идентифицирующее
знание, которым тот не владеет. Может случиться, что, хотя слушающий обладает необходимым
идентифицирующим знанием объекта, выбранное говорящим языковое выражение не
устанавливает связи с нужной частью этого знания и оставляет слушающего в недоумении или
даже вводит его в заблуждение относительно того, о каком объекте идет речь. Такого же типа
неудачи могут, хотя и не обязательно, возникнуть из-за ошибок совсем другого рода. Так, бывает,
что выбор говорящим конкретного языкового выражения обусловлен ошибочным представлением
о том или другом факте или вызван языковой ошибкой. Такие ошибки тоже нарушают
коммуникацию, даже если они не вводят слушающего в заблуждение, подобно тому как,
например, его не сбивает, по всей видимости, с толку, когда Великобританию называют Англией,
а президента Кеннеди — государственным секретарем США.
Хотя это все примеры неудачной или совершенно не достигшей цели референции, они не
являются наиболее яркими примерами подобного рода. Ведь в моем описании предполагается,
что, даже если какие-то условия успешной коммуникации не соблюдаются, по крайней мере одно
из ее важнейших условий выполнено, а именно в области идентифицирующего знания говорящего
действительно существует тот исторический объект, о котором делается сообщение. Пусть не все
представления говорящего о нем могут оказаться верными, он может путем удачного подбора
языкового выражения апеллировать к идентифицирующему знанию этого объекта, которым, по
его предположению, обладает слушающий. Но и это условие может нарушаться, причем в силу
разных обстоятельств. Так, может вообще не существовать объекта, выбираемого говорящим в
качестве объекта референции; может оказаться, что то, что говорящий и, возможно, также
слушающий рассматривают как идентифицирующее знание некоторого объекта, фактически не
составляет знания, будучи абсолютно неверным представлением об объекте. Это лишь один
пример ситуации, которую можно было бы назвать "поражением" пресуппозиции существования
идентифицируемого объекта.
Здесь поведение говорящего не является морально позорным. Другой случай представляет собой
поведение говорящего, знающего, что представление слушающего неправильно (ложно), и
обращающегося с явным намерением установить референцию к той информации, которую (в
соответствии с его знанием или предположением) слушающий считает своим идентифицирующим
знанием. В этом случае говорящий на самом деле может не иметь намерения обозначить
некоторый исторический объект и потому, строго говоря, не может потерпеть неудачу в
осуществлении своего намерения. Он может намеренно вводить адресата в заблуждение,
и т о г д а коммуникация может быть успешной. Полное исследование данного вопроса
потребовало бы тщательного изучения всех видов поведения говорящего. Для простоты я не буду
разбирать притворного поведения с его стороны, а сконцентрирую свое внимание на том случае
неэффективной референции, когда причина неуспеха кроется не в моральной сфере.
Один из пунктов контроверзы связан со следующим вопросом: если имеется высказывание,
страдающее от неверной референции, то следует ли считать, что перед нами особый случай
ложного предложения или что дефектность высказывания лишает его параметра истинности? Из
тех философов, кто в последние годы участвовал в обсуждении этого вопроса, одни категорически
настаивали на первом варианте ответа, другие столь же бескомпромиссно отстаивали второй,
третьи были эклектичны, выбирая один ответ в одних ситуациях, а другой — в других, четвертые,
наконец, вели полемику с каждой предлагавшейся теорией, благоразумно воздерживаясь от
выдвижения своей точки зрения, которая могла бы послужить удобной мишенью для критики.
Благодаря своей теории дескрипций и трактовке собственных имен как конденсированных,
скрытых дескрипций первую группу философов, придерживающихся мнения о ложности такого
высказывания, возглавил Б. Рассел. К этой же группе недавно явно примкнул и Даммет,
опубликовавший интересную статью на эту тему х«
М. D u m m e t t. Truth.— In: «Proceedings of the Aristotelean Society», 1958—1959, Vol. 59, p. 141—162.
1
Ко второй группе философов — тем, кто считает высказывание такого типа ни истинным, ни
ложным,— можно, с определенными оговорками, отнести У. Куайна, Дж. Остина и меня. У. Куайн
предложил исключительно удобный термин "истинностно-значный провал" (truth-value gap) для
характеристики возникающих в этих случаях ситуаций 2. Дж. Остин противопоставляет этот вид
дефектности, или, как он сам говорит, "осечки" (infelicity), высказывания случаям прямой
ложности и предпочитает говорить, что обладающее такой дефектностью предложение
"беспредметно" (void) — "беспредметно из-за отсутствия референции" 3.
Оставим в стороне, по крайней мере на некоторое время, последние две группы философов и
обратимся к первым двум непримиримым сторонам. Я не думаю, что имеет какой-то смысл
доказывать, что одна из них абсолютно права, а другая абсолютно неправа. Перед нами знакомая в
философии картина, когда одних привлекает одна теоретически упрощенная концепция
истинности или ложности, а других — другая. Возникает вопрос: "О чем свидетельствует на этот
счет обычное языковое употребление?" И, как всегда, вопрос этот является весьма поучительным.
Тем не менее обычное языковое употребление не выносит ясного и окончательного приговора
какой-либо из сторон. Но откуда, собственно говоря, следует, что оно должно это делать?
Обычное языковое употребление имеет слишком сложные и разнообразные функции и цели,
чтобы служить решающей поддержкой для той или другой у п р о щ е н н о й концепции. Тот
факт, что оно не выносит окончательного вердикта, разумеется, не означает, что нет иного способа
продемонстрировать неправоту по крайней мере одной стороны. Так, можно было бы пытаться
показать, что та или иная теория противоречива или в каком-то отношении непоследовательна,
однако этого нельзя сказать ни об одной из них. Обе теории довольно последовательны и
обладают достаточной объяснительной силой, каждую можно было бы абсолютно
непротиворечивым путем довести до логической завершенности. Еще более существенно то, что
они обе р а з у м н ы . Поэтому вместо бесплодных попыток демонстрации правильности одной
концепции и неправильности другой более поучительным представляется проследить, каким
образом получается, что обе теории приемлемы, и как каждая из них по-разному интерпретирует
факты.
Q u i n е, W. О. Word and Object. New York, 1960.
A u s t i n , J . Performative utterances.— In: A u s t i n , J . Philosophical Papers. New York, London, Oxford U. P., 1961; idem. How to do
things with words. Cambridge, 1962.
2
3
В качестве отправного пункта уместно разобрать безусловно ложные предложения, с тем чтобы
сопоставить им затем спорные случаи и увидеть, что одна сторона больше внимания уделяет
сходству, а другая — различию между бесспорными и спорными случаями. Бесспорные примеры
ложных предложений бывают, очевидно, двух типов. Первый тип образуют высказывания, в
которых успешно осуществлена идентификация объекта и выполнены все условия
удовлетворительного или во всех отношениях успешного акта эмпирического утверждения,
однако идентифицируемый объект, о котором в высказывании говорится, что он обладает такимито свойствами, на самом деле н е т а к о в . О мистере Смите, новом жителе Грэнджа, говорится,
что он холост, тогда как в действительности он женат — вот пример во всех отношениях
нормального высказывания, за исключением того, что оно ложно. Второй тип ложных
предложений составляют те, в которых эксплицитно утверждается существование и единичность
объекта. Скажем, говорится, что в Заливе Благословения имеется не более одного острова, а это
высказывание является ложным либо из-за того, что там совсем нет островов, либо из-за того, что
их там более одного.
Теперь можно было бы, с одной стороны, показать, сколь глубоко содержательное отличие тех
неправильностей, которые присущи каждому из выделенных типов ложных предложений, от
неправильностей, характерных для предложений с полной неудачей референции. Суждение об
истинности или ложности предложения есть суждение о том, что утверждает говорящий. Однако
мы уже отмечали тот бесспорный факт, что условие существования, которое нарушается в случае
безуспешной референции, составляет пресуппозицию высказывания, а не его ассертивную часть.
Поэтому утверждение говорящего нельзя считать ложным экзистенциальным утверждением.
Также, очевидно, нельзя оценить его как ложное в силу тех причин, по которым был оценен как
ложный первый из бесспорных примеров, то есть в силу неверной характеристики обозначаемого
объекта: ведь здесь нет такого объекта, о котором можно говорить как о неправильно
охарактеризованном. Вообще в тех ситуациях, когда имеется объект, которому говорящий
присваивает имя и относительно которого нечто утверждает, утверждение говорящего правильно
оценивается как истинное, если объект действительно удовлетворяет описываемым свойствам, и
как ложное в противном случае. В ситуации полной неудачи референции имеющий честные
намерения говорящий п р е д п о л а г а е т , что его утверждение будет оценено именно таким
образом,— ведь он точно так же утверждает об объекте, что тот обладает некоторым свойством.
Между тем условия, в которых говорящий делает свое высказывание и которые сам искренне
считает выполненными, в действительности не выполняются. Можно признать, что намерения
говорящего и природа речевого акта соответствуют акту утверждения, но нужно также признать,
что его намерения не осуществились и что его высказывание не может быть квалифицировано как
утверждение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но тогда это высказывание вовсе
нельзя оценить с точки зрения истинности — ложности. Все смелое предприятие, намеченное
говорящим, рушится из-за ошибочности пресуппозиции высказывания.
Но, с другой стороны, можно было бы сказать, что сходство между спорными и бесспорными
случаями ложных высказываний значительно важнее различий между ними. Во всех подобных
ситуациях можно считать, что сделано подлинное эмпирическое утверждение: слова в
предложении используются так, что если бы на самом деле в мире (в пространстве и во времени)
существовал данный объект или объекты с данными характеристиками, если бы, говоря другими
словами, в мире (в пространстве и времени) были выполнены некоторые сложные условия, то
утверждение было бы истинным. Есть, однако, принципиальное отличие тех ситуаций, когда такие
сложные условия выполняются, от тех, когда они не выполняются. Различие между ними — это
различие между тем, как нам следует употреблять по отношению к утверждениям
слова истинное и ложное, и его в равной степени можно провести как среди спорных, так и среди
бесспорных случаев. Эмпирически ложное утверждение — это просто произвольное утверждение,
терпящее неудачу поф а к т и ч е с к и существующим причинам, то есть из-за реального
положения в мире. Случай полного провала референции — всего лишь один из классов ложных
утверждений.
В настоящее время мне не кажется больше существенным, на чьей стороне быть в
обсуждаемом нами философском споре. Каждая концепция подчеркивает один аспект
высказывания так, как я описал, и каждая из них имеет свои преимущества. Я решил рассмотреть
здесь предмет философской дискуссии по трем причинам, две из которых себя уже частично
проявили.
Во-первых, я хочу отделить обсуждаемую контроверзу от других вопросов, с которыми ее
иногда смешивают. Во-вторых, мне хочется развеять иллюзию, что эту контроверзу можно быстро
разрешить тем или иным способом путем беглых и неформальных рассуждений. В-третьих, я хочу
указать на один путь (их, несомненно, больше), следуя которому можно, не присоединяясь ни к
какой из противоборствующих теорий, увидеть, однако, что поставленные в них проблемы
достойны внимания и дальнейшей разработки. Я скажу несколько слов по каждому из этих трех
пунктов, но основное внимание уделю третьему.
Спор между сторонниками теории функционально-истинностного провала и теории ложности,
принявший столь широкий размах во всей области философских дискуссий развивался таким
образом, что мог ввести в заблуждение, создать ложное впечатление, будто он является
решающим, так сказать, ключевым для всех философских позиций. Например, можно было бы
думать, что всякий, кто отрицает, что теория дескрипций обеспечивает адекватный общий анализ
или правильно объясняет языковое функционирование определенных дескрипций, тем самым
вынужден быть безусловным приверженцем теории истинностно-значного провала и
категорически отвергать в случае полной неудачи референции теорию ложности. Это, однако,
абсолютно неверное представление.
Различие между идентифицирующей референцией и утверждением существования и
единственности предмета есть, и это бесспорный факт. То, что существование объекта,
удовлетворяющего определенной дескрипции, примененной для его идентификации, и
способность слушающего отличить данный объект от других составляют пресуппозицию, а не
ассертивный компонент высказывания, несомненно и не зависит от того, придерживаетесь вы или
нет того взгляда, что полная неудача референции лишает предложение истинностного значения.
Остается одно важное возражение против Теории дескрипций, рассматриваемой как теория,
обычно дающая правильный анализ предложений с определенными дескрипциями: она не
проводит этих бесспорных различий. Я чувствую себя обязанным несколько более подробно
остановиться на этом месте, так как сам отчасти несу ответственность за смешение двух
концепций, используя термин пресуппозиция одновременно и для установления функциональных
различий, и в теории провала. Но я лишь частично виноват в этом, поскольку логическая связь
между Теорией дескрипций и Теорией истинностно-значного провала, хотя и не является
неизбежной, устанавливается довольно естественно. К тому же, хотя эта связь в одном
направлении не является логически вынужденной, она оказывается логически необходимой в
другом. Тот, кто считает, что Теория дескрипций дает правильный анализ, в ряде случаев обязан
также принять теорию ложности и отвергнуть теорию функционально-истинностного провала. Но
вместе с тем по указанным выше причинам можно совершенно непротиворечивым образом
отвергнуть представление о том, что Теория дескрипций обеспечивает, как правило, верный
анализ, и вместе с тем не принимать теорию провала.
Перейду теперь ко второму вопросу. Я утверждаю, что краткими рассуждениями невозможно
убедительно доказать несостоятельность какой-либо одной теории, и хочу подтвердить этот тезис,
процитировав и прокомментировав несколько типичных доказательств, которые иногда
предлагаются для ниспровержения той или иной теории. Сначала приведу ряд доказательств
против теории ложности и тем самым в поддержку теории функционально-истинностного
провала.
А. (1) Пусть Ра обозначает предложение, в котором а — определенная дескрипция. Если теория
ложности верна, то обратным утверждению Ра должно быть не ~ Р а , а дизъюнкция~ Р а и
отрицательного
экзистенциального
предложения.
Однако
противоречием Ра я в л я е т с я ~ Р а . Следовательно, теория ложности ложна.
(2) Если слово ложно употреблено в обычном смысле, то из предложения Ложно, что 5 есть
Р можно правильно вывести 5 не есть Р . Между тем обе теории соглашаются с
утверждением, что предложение 5 не есть Р истинно, только если 5 существует.
Следовательно, раз слово ложно употреблено в его обычном смысле, то предложение
Ложно, что Б есть Р истинно лишь в том случае, когда 5 существует. Но тогда, если
слово ложно используется в его обычном смысле в теории ложности, то эта теория ложна.
(3) Вопрос "Есть ли 5 — Р?и и команда "Сделай так, чтобы 5 было Р!" могут страдать от
точно такого же полного провала референции, что и утверждение "5 есть Р". Но коль скоро
утверждение, терпящее неудачу в референции, оказывается в связи с этим ложным, то
следует то же самое сказать о вопросе и о команде. Между тем считать вопрос или команду
ложными нелепо. Поэтому теория ложности ложна. Теперь приведем ряд доказательств в
пользу теории ложности:
Б. (1) Пусть Ра — предложение с определенной дескрипцией (например, Король Франции
лыс). Тогда может найтись эквивалентное предложение вЬ (например, Во Франции лысый
король), которое, очевидно, ложно, если такого объекта, как а , не существует. Однако
предложения Ра и вЬ эквивалентны, поэтому Ра ложно, если объекта а не существует.
Следовательно, теория функционально-истинностного провала ложна.
(2) Пусть Р — предложение, которое, согласно теории функционально-истинностного провала, не
является ни истинным, ни ложным. Тогда утверждение, что Р истинно, ложно. Но если то,
что Р истинно, ложно, то Р ложно. Аналогичным рассуждением можно из той же посылки вывести
заключение, что Р истинно, а тогда Р одновременно истинно и ложно. Отсюда вытекает, что
предложение Р внутренне противоречиво, а потому внутренне противоречива также исходная
посылка. Сторонник любой из альтернативных теорий легко найдет контрдоводы к каждому из
процитированных доказательств. Так, на Б2 он может ответить, что если предложение не имеет
истинностного значения, то любое предложение, оценивающее первое как безусловно истинное
или как безусловно ложное, просто тоже не имеет истинностного значения. Поэтому никакого
противоречия нельзя вывести. На Б! он скажет, что рассуждение либо совсем неубедительно, либо
весьма спорно. Если слово эквивалентные означает попросту 'такие, что если одно истинно, то
другое с необходимостью также истинно', то приведенное доказательство неубедительно. Если это
слово означает к тому же 'такие, что если одно из предложений ложно, то другое необходимо
также ложно', то доказательство спорно. На А3 ответ может быть таким: нет оснований думать, что
то, что верно для утверждений, должно быть также справедливо для вопросов и команд. На
А2 можно сказать, что вывод не является строго корректным, хотя естественно, что мы обычно
делаем именно такой вывод. На А4 легко возразить, что в строгом смысле слова вывод
некорректен, хотя опять же абсолютно естественно, что мы склонны думать о противоречиях
именно таким образом.
Считать, что можно встать на какую-то одну точку зрения в результате этих беглых и кратких
рассуждений, представляется нам чистой иллюзией. Фактически, с энтузиазмом отстаивая ту или
иную теорию, философы обнаруживают лишь некоторые различия в своих интересах. Те, кто
проявляет интерес к реальным речевым ситуациям в плане режиссуры пьес, главные роли в
которых отведены участникам коммуникативных речевых актов, скорее, сочтут неадекватной
более простую теорию ложности и станут симпатизировать — хотя, как я утверждаю, без какого
бы то ни было принуждения — теории функционально-истинностного провала. Те же, кто более
беспристрастно и объективно смотрит на предложение, для которых нужды, цели и презумпции
говорящего и слушающего имеют хоть малейшее значение — для которых, так сказать, есть, с
одной стороны, предложения, а с другой стороны — мир, который эти предложения призваны
отражать,— те, очевидно, отметут теорию функционально-истинностного провала и станут
приверженцами теории ложности. Иными словами, для таких философов темой каждого
предложения является мир вообще, тогда как для их оппонентов темой служит некоторый объект,
о котором идет речь в предложении, хотя иногда случается (редко и достаточно
непоследовательно), что предложение не описывает никакого объекта.
Обратимся теперь к третьему из перечисленных выше вопросов; как мы сейчас увидим, он
тесно связан с предыдущим. Думается, что, защищая одну из обсуждаемых теорий или не
защищая ни одной, можно равным образом без всякого риска признать, что интуитивная
привлекательность или кажущаяся с первого взгляда правдоподобность теории функциональноистинностного провала отличает далеко не все типы ситуации полного краха референции, которые
можно воспроизвести или представить себе. Не беря на себя никаких обязательств по отношению
к какой-либо из теорий, попытаемся объяснить наши колебания по поводу их интуитивной
оценки. Это в свою очередь позволит нам выделить и несколько явлений, любопытным образом
соотносящихся с речевыми ситуациями вообще и с ситуацией идентифицирующей референции в
частности. Я рассмотрю всего лишь один фактор (их, несомненно, больше), в ряде случаев
способствующий объяснению описываемых явлений. При этом я сначала разберу еще одно
тривиальное положение и попытаюсь связать его с теми, к которым мы уже обращались.
Прежде всего отметим, что теорию функционально-истинностного провала можно выразить на
языке известной теории предикации для того, чтобы достичь определенной гибкости ее
возможных приложений. Назовем языковое выражение референтным, е с л и и к о г д а о н о
употребляется в предложении для
идентификации
о б ъ е к т а , причем независимо от того, достигает ли оно своей цели. Теперь каждое
предложение, содержащее референтное выражение Е, можно рассматривать как состоящее из двух
частей —самого выражения Е, называемого субъектным выражением, или субъектным
термом, и
остальной
части
предложения,
называемой предикатным
выражением, или предикатным термом. Если предложение содержит более одного, например два
референтных выражения, имеется выбор, какому из них отвести роль субъекта; при этом другое
выражение поглощается предикатным термом и присоединяется к субъектному, образуя вместе с
последним суждение. Сторонник теории функционально-истинностного провала может тогда
изложить свою точку зрения следующим образом4. Предложение (или суждение) истинно только в
том случае, когда предикат действительно характеризует объект (является на самом деле
"истинным" относительно объекта), который идентифицирован субъектом предложения.
Предложение (или суждение) ложно, если к такому объекту применяется отрицание предиката, то
есть если отрицается истинная характеристика объекта. Случай,, когда субъектный терм терпит
полную неудачу в идентификации объекта, не относится ни к одному из двух указанных типов.
Это случай функционально-истинностного провала.
4
Этот способ изложения содержится фактически в основном определении предикации, которое приводится У. Куайном на с. 96его
работы «Word and Object
Рассмотрим теперь предложение с двумя референтными выражениями, из которых одно
виновно в неудаче референции, а другое нет. Можно расчленить это предложение двумя
способами, и разные членения могут привести к разным истинностным оценкам предложения.
Первый способ заключается в том, что референтное выражение, которое виновно в неудаче
референции, "прячется" в предикатном терме, который присоединяется к "невиновному"
выражению, образуя вместе с ним суждение (statement). Второй способ состоит в том, что в
предикатном терме спрятано "невиновное" референтное выражение, которое присоединяется к
"виновному" и образует с ним суждение. Если мы членим предложение вторым способом, то
должны признать, согласно теории провала, что оно не имеет истинностного значения. Однако
если мы членим его первым способом, то мы м о ж е м сказать, что оно ложно (или иногда, в
случае отрицательного суждения, что оно истинно), поскольку членить таким способом
предложение означает представить его как составленное из "хорошего", или "невиновного",
референтного выражения и общего терма, или предиката, который поглотил "виновное"
референтное выражение. На вопрос, применяется или нет предикат к объекту, обозначенному
"хорошим" референтным выражением, очень легко дать ответ, и тот факт, что предикат включил
"виновное" референтное выражение, для большинства по своей форме утвердительных
предикатов влечет правильный ответ: "Нет". Таким образом, если взглянуть на суждение под этим
углом зрения, то вполне естественно объявить его ложным, или неверным, и утверждать, что
его о т р и ц а н и е истинно в силу неудачи референции "виновного" выражения.
Может показаться, что таким путем теория функционально-истинностного провала может быть
приспособлена к объяснению некоторых трудных случаев. Рассмотрим такой пример. Известно,
что во Франции нет короля, и пусть в данном месте нет бассейна. Далее, пускай в городе
происходит некая выставка и пусть никто не сомневается в существовании некоего Джоунза. Если
теперь обратиться к предложениям
( 1 ) Джоунз провел утро в местном бассейне.
и
(2) Вчера выставку посетил король Франции.,
то, видимо, довольно естественно будет сказать, что неверно, или ложно, что Джоунз провел утро
в местном бассейне, так как бассейна ведь нет, и что хотя он где-то провел утро, но уж никак н е в
местном бассейне, поскольку такого места нет. Аналогично о предложении (2) можно сказать, что
абсолютно неверно, или ложно, что вчера выставку посетил французский король: если кто-то и
посетил вчера выставку, то это заведомо б ы л н е король Франции, поскольку такого человека не
существует. Модифицированная теория функционально-истинностного провала дает интуитивно
вполне приемлемый анализ этих предложений, так как допускает, чтобы виновные в неудачной
референции выражения местный бассейн и король Франции в обоих примерах входили в состав
предикатных выражений.
Несмотря на то что такая модификация теории функционально-истинностного провала
выглядит естественной и изящной, она вряд ли является адекватной. Во-первых, она годится не
для всех интуитивно неблагоприятных примеров, а только для тех, которые содержат более чем
одно референтное выражение. Во-вторых, до тех пор пока она не дополнена некоторым принципом
выбора между альтернативными способами членения предложений, она остается неполной внутри
своей собственной области. Теория функционально-истинностного провала способна решить
последнюю проблему лишь ценой самопожертвования, заявляя, что членение должно всегда
проводиться так, чтобы предложение всякий раз, когда это возможно, допускало приписывание
ему истинностного значения. Но такой поворот, обращающий друзей во врагов, а интуитивно
благоприятные примеры — в интуитивно неприемлемые, был бы для этой теории
катастрофичным.
Поэтому лучше продолжим рассуждения. Столкнувшись с классическим примером Король
Франции лыс, мы ощущаем естественную потребность сразу же сказать, что вопроса, истинно это
предложение или ложно, не возникает, поскольку короля Франции не существует. Но пред*
положите, что это предложение встречается в контексте множества ответов на вопрос: "Каких вы
знаете знаменитых современников, являющихся лысыми?" Или представьте себе, что кто-то
заполняет анкету, отвечая на вопрос "Кто недавно умер?", и вносит туда терм король
Франции. Или вообразите себе человека, включающего предложение Король Франции опять
женился во множество ответов на вопрос "Какие замечательные события произошли недавно в
общественной и политической жизни, если таковые вообще имели место?". В первых двух случаях
король Франции упоминается как представитель или как пример ранее введенного класса, а в
последнем предложение претендует на то, чтобы сообщить о некотором событии
как представителе ранее введенного класса.Вопрос в каждом случае задает область интересов в
виде класса — класса лысых людей, класса недавно скончавшихся выдающихся личностей, класса
замечательных недавно происшедших событий в определенной сфере,— и смысл вопроса
заключается в том, чтобы выяснить, какие объекты (если таковые имеются) входят в эти классы.
Поскольку несомненно ложно, что классы в каждом случае содержат те объекты, которые, как
следует из ответов, они должны содержать, сами ответы без особой щепетильности можно
попросту охарактеризовать как неправильные. Признать их неправильными означает отвергнуть
их не как ответы на вопросы, которые не возникают, а именно как ответы на возникающие
вопросы. Все же в ответы необходимо включается о д н о референтное выражение для данного
объекта — то, которое виновно в неудаче референции, — а вопросы могут вовсе не содержать
референтных выражений.
Сказанное определяет направление, в котором можно было бы искать недостающий принцип
выбора для приведенных выше примеров о бассейне и выставке, содержащих по два референтных
выражения. Дело не в том, а точнее, не столько в том, что каждое предложение имеет "плохое" и
"хорошее" референтные выражения. Более важно то, что мы могли каждый раз легко выявить из
вопроса область интереса; ср. How Jones spent the morning? 'Как Джоунз провел утро?' или How the
exhibition is getting on? 'Что происходит на выставке?'. И естественность постановки такого рода
вопросов была вполне обеспечена тем, что удовлетворительное референтное выражение мы
ставили в качестве грамматического субъекта предложения п е р в ы м , а неудовлетворительное
— последним. Вероятно, мы бы почувствовали себя как-то неуютно, если бы написали Король
Франции посетил вчера выставку вместо Вчера выставку посетил король Франции. Мы именно
потому так неохотно воспринимаем предложение Король Франции лыс в отрыве от контекста, что
сразу не можем себе представить контекст, в котором вопрос Какие существуют лысые
выдающиеся исторические личности? звучал бы естественнее, чем Что собой представляет
король Франции? или Король Франции лыс? Разумеется, ответы на эти два вопроса не были бы
просто неправильными. Н а э т и вопросы правильных ответов не существует, а следовательно,
в каком-то смысле не существует также и неправильных. Это вопросы, которые вообще не
возникают,
однако
последнее
не
означает,
что
на
них
нельзя
правильно о т р е а г и р о в а т ь (reply).Правильной реакцией будет предложение Короля
Франции не существует, но эта реплика является не ответом (answer), а отклонением
вопроса (rejection of the question). С другой стороны, на вопрос о лысых знаменитостях
ответить можно (правильно или неправильно). Если ответ предполагает упоминание какого-то
объекта, но такого упоминания на самом деле не содержит, то ответ неправильный, причем он
остается неправильным даже в том случае, когда такого лица, которое требуется упомянуть в
ответе, вообще не существует.
Теперь мне хочется представить свои схематично уже изложенные соображения в несколько более
общем виде, по возможности не опираясь на понятие вопроса. Суммарно мои предложения
сводятся к следующим: (1) Вначале напомню, как обещал, еще одну тривиальную истину. У
предложений (statements) или фрагментов текста, к которым принадлежат эти предложения, есть
субъекты, причем субъекты не только в относительно точном смысле этого понятия логики и
грамматики, но и в менее строгом и более неопределенном смысле, с которым я связываю
слова тема (topic) и предмет сообщения ("about"). Выше я использовал идею вопроса, чтобы
ввести в рассмотрение, возможно с излишней резкостью, представление о теме, или центре
предложения, в котором сфокусировано то, о чем в нем идет речь. Однако даже в тех случаях,
когда реально не существует такого вопроса первого порядка, который подсказал бы нам ответ на
вопрос более высокого порядка: О чем ( в указанном смысле) идет речь в данном сообщении?— на
этот последний можно дать вполне определенный ответ. Ведь утверждение не есть форма
беспричинной и произвольной деятельности челобека. Исключая ситуации массового безумия, мы
не обмениваемся друг с другом отдельными, никак между собой не связанными порциями
информации. Наоборот, мы, как правило, хотим сообщить друг другу новую или пополнить
старую информацию по интересующему или важному для нас вопросу. Имеется множество
возможных вариантов ответа на вопросы, какова тема предложения, или "о чем" оно — о свойстве
"быть лысым", о том, какие великие люди были лысыми, какие страны имеют лысых правителей, о
Франции, о короле Франции и т. д.,— причем не все ответы исключают друг друга. Эту простую
истину можно возвести в ранг Принципа релевантности. (2) Этот принцип можно поставить в
один ряд с другой простой истиной, которую я ранее назвал Принципом презумпции
осведомленности. Напомню, что последний состоит в том, что предложения с точки зрения своей
информативности, вообще говоря, не самодостаточны, не независимы от того, что, по
предположению говорящего, должен знать или уже знает слушающий. Эффективность
коммуникации обычно зависит от того знания, которым предположительно уже обладает
слушающий. Когда я говорю, что эти две простые истины тесно связаны, я имею в виду, что
области (а) того, о ч е м и д е т р е ч ь в адресованном к слушающему предложении, и (б) того,
что в момент произнесения этого предложения говорящий предполагает известным слушающему,
часто и естественным образом перекрывают друг друга.
(3) Однако совсем не обязательно, чтобы эти области совпадали полностью. Так, если имеется
предложение, содержащее референтное выражение, то в определение его темы, то есть того, о
чем говорится в предложении, очень часто входит реальное или мнимое упоминание объекта,
обозначать который призвано данное референтное выражение. Тем не менее иногда тему
предложения, содержащего такое выражение, легко установить и без упоминания объекта.
Назовем первый тип случаев — тип 1, а второй — тип 2. (Очевидно, что предложение может
быть типа 1 по отношению к одному референтному выражению и типа 2 по отношению к
другому.)
(4) Оценка утверждений (statements) как истинных и ложных обычно, хотя и не всегда,
ориентирована на тему, так же как и сами оцениваемые утверждения; и в тех случаях, когда это
так (что обычно и бывает), можно говорить, что утверждение оценивается по содержащейся в
нем информации о теме.
(5) В том случае если референция потерпела полную не-, удачу, объяснение последствий
несостоявшейся идентификации объекта теорией функционально-истинностного провала
выглядит, как нам кажется, более естественным, если предложение с неудачным выражением
относится к типу 1 (касательно этого выражения), а не к типу 2. Действительно, когда оно
относится к типу 2, неудачная референция не влияет на тему, а воздействует на то, что
предназначается в качестве и н ф о р м а ц и и о т е м е п р е д л о ж е н и я. Мы по-прежнему
можем оценивать предложение как сообщение некоторой информации о его теме и говорить,
что неудача референции сделала его неинформативным по отношению к теме. Однако если
предложение относится к типу 1, мы так говорить не можем, поскольку здесь неудача в
референции затрагивает уже саму тему, а не просто информацию о ней. Если нам известно о
провале референции, то мы знаем, что на самом деле предложение не может иметь
соответствующей темы и, следовательно, не может оцениваться как информация об этой теме.
На него нельзя смотреть как на сообщающее правильную или неправильную информацию
освоей теме.
Нам тем не менее можно было бы возразить, сказав, что данное объяснение внутренне
противоречиво, так как подразумевается, что в случае полного провала референции предложение
типа 1 фактически н е и м е е т т е м ы , которую вместе с тем, в соответствии с нашими
посылками, оно имеет, то есть как бы получается, что из нашего объяснения следует, что
предложение "ни о чем", тогда как на самом деле в нем сообщается информация о б объекте, если
придерживаться прежних исходных посылок. Отвечая на это возражение, мы проведем
следующее различие. Если я считаю, что легенда о короле Артуре есть историческая правда, когда
в действительности такого исторического лица не существовало, то при одном понимании я могу
строить утверждения о короле Артуре, о п и с ы в а т ь короля Артура, делать его т е м о й моих
утверждений. Но есть и другой взгляд на эту ситуацию, согласно которому я не могу строить
утверждений о короле Артуре, описывать его и делать его темой своих утверждений. Это второе
понимание сильнее первого; я могу считать, что делаю утверждение о короле Артуре во втором,
более сильном смысле, тогда как на самом деле делаю его в первом, более слабом смысле. Если
же, однако, мои представления о короле Артуре были верными, и я действительно строил
утверждения о нем во втором смысле, то я также делал утверждения о нем и в первом смысле.
Именно поэтому первое понимание не просто отлично от второго, но и слабее его (то есть
является более широким).
Имея в виду это различие, мы можем предложить методику разделения тех случаев
нереферентности, с которыми теория функционально-истинностного провала справляется
сравнительно легко, и тех, которые представляют для нее относительную трудность. Эта методика
такова. Нужно рассмотреть взятое в контексте предложение с нереферентным выражением и
построить описание соответствующего речевого эпизода. Описание должно начинаться
словами Он (то есть говорящий) говорил (описывал)..., далее должно следовать вопросительное
местоимение, прилагательное или наречие, вводящее предложение, синтаксически зависящее от
первого. Это придаточное предложение вместе с предваряющим его союзом или союзным словом
определяет т е м у сообщения, о ч е м (в слабом смысле) в этом сообщении идет речь (а если
неудачи референции нет, то и в более сильном смысле). В то же время т о , ч т о г о в о р и т с я
о с а м о й т е м е , устраняется из описания и заменяется на косвенный вопрос. Приведем
примеры транспозиций ранее рассмотренных высказываний:
(а) Он описывал, к а к Д ж о у н з п р о в е л у т р о ;
(б) Он говорил о том, к т о и з з н а м е н и т ы х с о в р е м е н н и к о в л ы с ;
(в) Он говорил о том, к а к в ы г л я д и т к о р о л ь Ф р а н ц и и .
Если нереферентное выражение сохраняется в вводимом вопросительным словом придаточном
(ср. (в)), придаточном, определяющем тему исходного высказывания, то перед нами сообщение,
которое следует считать беспредметным. Если же нереферентное выражение устраняется из
косвенной речи (ср., например, (б)) и тем самым принадле
жит к информации о теме исходного высказывания, то это последнее следует трактовать как
ложное. Не бывает ни истинных, ни ложных описаний того, что представляет собой или как
выглядит король Франции, поскольку короля Франции не существует. Но бывают правильные или
ошибочные описания того, как Джоунз провел утро; и описание, говорящее, что он провел его в
местном бассейне, ошибочно, так как такого места не существует.
Легко понять, почему философы, в том числе и я, разбиравшие несколько примеров
изолированно от возможных контекстов их употребления и пытавшиеся применить, а также
обобщить теорию функционально-истинностного провала, прошли мимо указанных важных
факторов. Причина состоит в том, что, во-первых, тема предложения часто представляет собой
или включает в себя объект, обозначаемый референтным выражением, а такое выражение
обращено к знанию или представлениям слушающего, и то, что слушающего интересует, нередко
бывает тем, что он уже знает или представляет. Во-вторых, часто постановка выражения в начало
предложения, в позицию подлежащего, служит, так сказать, для объявления темы предложения.
Философ, который пытается понять природу неудачной референции, опираясь лишь на один-два
коротких и изолированных от контекста примера, начинающихся с референтных выражений,
видимо, попадет под влияние соответствующих фактов, а в с е остальные он попросту не заметит.
Поэтому он будет склонен приписать свое ощущение чего-то скорее неправильного, чем ложного
единственно присутствию в предложении референтного выражения, которое не обозначает
никакого объекта, и, таким образом, совсем не обратит внимания на чрезвычайно важное понятие
темы, о котором мы говорили.
В заключение подчеркну, что я не утверждаю, что мне удалось сделать нечто большее, чем
выделить один фактор, который может иногда обусловливать то, что теория функциональноистинностного провала в случае полной неудачи референции кажется интуитивно более
приемлемой в одних ситуациях, чем в других.
i
Strawson, P. F. On referring.—"Mind", L IX , 1950, p. 320– 344 (пер. из кню: "Philosophy and ordinary language", ed. by Cb. E. Catón. Urbana, 1963.
НОВОЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
ВЫПУСК X I I I ЛОГИКА И ЛИНГВИСТИКА (Проблемы референции)
Составление, редакция и вступительная статья н. Д АРУТЮНОВОЙ
МОСКВА « Р А Д У Г А » 1982
Рецензенты: академик АН СССР Г. В. Степанов, доктор философских наук проф. В. А. Смирнов
В настоящий сборник включены важнейшие работы по теории референции, которые легли в основу дальнейших исследований на эту
тему и составляют фундамент логико-лингвистических знаний по данной проблеме. Теория референции — это активно развивающаяся и
относительно недавно сложившаяся область исследований. Сборник открывается вступительной статьей, которая служит введением в
проблематику референции в ее лингвистическом аспекте. Завершает книгу послесловие В. В. Петрова, в котором рассматриваются логикофилософские аспекты референции.
СОДЕРЖАНИЕ
H. Д. А р у т ю н о в а . Лингвистические проблемы референции 5 Б. Р а с с е л . Дескрипции. Перевод с английского Н . Д . Арутюновой.......................................................................................... 41
П. Ф. С т р о с о н. О референции. Перевод о английского
Л . Б . Лебедевой.............................................................................. 55
У.
О. К у а й н . Референция
и
модальность. Перевод
с
ского Е . В . Падучевой................................................................... 87
П. Ф. С т р о с о н . Идентифицирующая референция и истинностное значение. Перевод с английского Г . Е . Крейдлина 109
К. С. Д о н н е л а н. Референция и определенные дескрипции.
англий-
Перевод с английского Е . В . Падучевой...................................... 134
Л. Л и н с к и й . Референция и референты. Перевод с английского
Л . Б . Лебедевой.............................................................................. 161
Дж.
Р. С е р л . Референция
как
ского Т . В. Радзиевской................................................................. 179
3. В е н д л е р .
речевой
акт. Перевод
с
англий-
Сингулярные термы. Перевод с английского
Г . Е . Крейдлина............................................................................. 203
A. В е ж б и ц к а я . Дескрипция
или
цитация. Перевод
с
ского С . А . Крылова...................................................................... 237
О. Д ю к р о. Неопределенные выражения и высказывания. Перевод с французского Л : Б . Лебедевой и Т . В . Радзиевской 263
С. К у н о. Некоторые свойства нереферентных именных групп.
англий-
Перевод с английского С . А . Крылова......................................... 292
С. К р и п к е . Тождество
и
необходимость. Перевод
ского Л . Б . Лебедевой................................................................... 340
X. П а т н э м . Значение и референция. Перевод с английского
с
англий-
Л . Б . Лебедевой.............................................................................. 377
П.
К
о
у
л.
Референтная
формативная
гипотеза. Перевод
евской .............................................................................................. 391
B. В. П е т р о в . Философские аспекты референции ..................... 406
непрозрачность,
с
атрибутивность
и
перанглийского Т . В . Радзи-
P. F. S t r a w s o n . Identifying reference and truth-values.— "Theoria", XXX, 1964, p. 96-—118. Переведено по
перепечатке в сб. "Semantics" (edited by D. D. Steinberg and L. A. Jakobovits). Cambridge University Press, 1971, p. 86—
99.
ii