сожженное письмо
advertisement
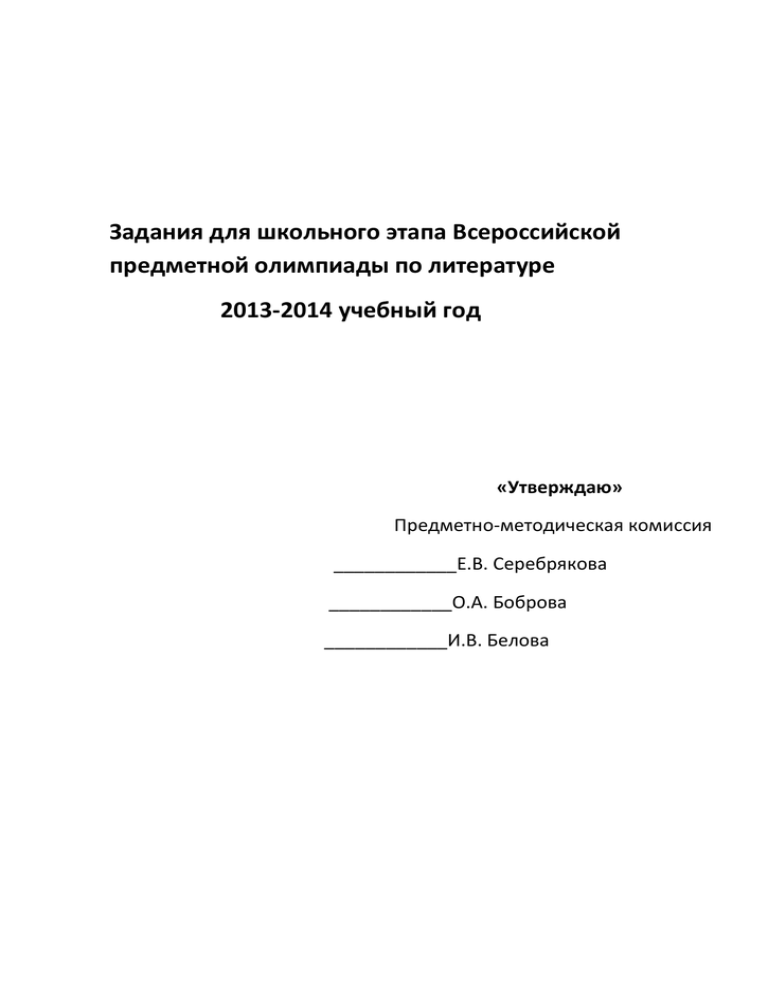
Задания для школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады по литературе 2013-2014 учебный год «Утверждаю» Предметно-методическая комиссия ____________Е.В. Серебрякова ____________О.А. Боброва ____________И.В. Белова Методические рекомендации по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе (2013/2014 учебный год) 1. Олимпиада проводится 26 октября 2013г. 2. Форма проведения – письменная творческая работа. Оргкомитет школьного этапа олимпиады самостоятельно принимает решение о выборе варианта работы для всех классов или отдельной параллели: 1) комплексный анализ прозаического текста (8-11классы) или отзыв о произведении(5-7классы); 2) Сопоставительный анализ стихотворных текстов (9-11 классы) или интерпретация поэтического произведения (5-8 классы). Возможно также предоставление участникам олимпиады права выбора одного из двух вариантов. 2.1. Время выполнения работы для 5-6 классов – 2 астрономических часа. 2.2. Время выполнения работы для учащихся 7-8 классов – 3 астрономических часа. 2.3. Время выполнения работы для учащихся 9-11 классов - 4 астрономических часа. Система оценивания заданий Все олимпиадные задания выполняются письменно. Оценка выставляется в баллах. Работы пишутся в прозаической форме, грамотность не оценивается, но учитывается. Объём работы не регламентируется и не влияет на оценку выполнения задания. Если участник использовал черновик, он сдает его вместе с работой. Черновик может быть учтён при оценке работы в пользу участника олимпиады. Критерии оценивания работ в 9-11 классах (сопоставительный анализ стихотворений): 1.Глубина и полнота интерпретации содержания произведения – до 10 баллов. 2. Владение основами сравнительного анализа поэтического текста, осознанность обращения к художественным средствам – до 10 баллов. 3. Оригинальность работы (индивидуальность восприятия текста, глубина ассоциативных рядов, широта эрудиции и др.) – до 10 баллов. 4. Понимание поэтической индивидуальности авторов, осознанность цели (-ей) сопоставления произведений – до 10 баллов. 5. Композиционная стройность, язык и стиль работы – до 10 баллов. Общая сумма баллов - 50 Критерии оценивания работ в 7-8 классах ( анализ 1 стихотворения): 1.Глубина и полнота интерпретации содержания произведения– до 10 баллов. 2. Владение основами анализа поэтического художественным средствам – до 10 баллов. текста, осознанность обращения к 3. Восприятие образа лирического героя и умение истолковать его – до10 баллов. 4. Оригинальность работы ( индивидуальность восприятия текста, глубина ассоциативных рядов, широта эрудиции и др.) – до 10 баллов. 5. Композиционная стройность, язык и стиль работы – до 10 баллов. Общая сумма баллов – 50. Работа с поэтическим текстом в 5-6 классах оценивается по критериям оценивания отзыва (см .ниже) или разрабатывается самостоятельно. Критерии оценивания работ в 5-7 классах ( отзыв о прозаическом произведении): 1.Глубина и самостоятельность понимания произведения – до 10 баллов. 2. Владение основами анализа текста – до 10 баллов. 3. Умение определять авторскую позицию– до 10 баллов. 4. Умение выражать свои мысли и чувства – до 10 баллов. 5. Композиционная стройность, язык и стиль работы – до 10 баллов. Общая сумма баллов - 50 Критерии оценивания работ в 8-11 классах (проза) 1.Глубина понимания произведения, позиции автора – до 10 баллов. 2. Анализ элементов художественной формы, роли языковых средств в раскрытии идеи произведения и позиции автора– до 10 баллов. 3. Индивидуальность восприятия и трактовки текста– до 10 баллов. 4. Оригинальность работы (глубина ассоциативных рядов, широта эрудиции и др.) - до 10 баллов. 5. Композиционная стройность, язык и стиль работы – до 10 баллов. Общая сумма баллов - 50 11 класс Комплексный анализ текста Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ Шопен и Мендельсон Одна женщина всё жаловалась, каждый вечер за стеной та же музыка, то есть после ужина старики соседи, муж с женой, как по расписанию, как поезд, прибывают к пианино, и жена играет одно и то же, сначала печальное, потом вальс. Каждый вечер шурум-бурум, татати-татата. Эта женщина, соседка стариков, смеясь, всем своим знакомым и на работе рассказывала об этом, а самой ей было не до смеха. Всяко ведь бывает: и голова болит, и просто хочется отдохнуть, невозможно ведь каждый вечер затыкать уши телевизором — а у стариков всё одна и та же шарманка шурум-бурум, татати-татата. Они, старики, и выходили всегда только вместе, чинно и благородно семенили в магазинчик тоже по расписанию, раненько утром, когда взрослые, сильные и пьяные находятся на работе или спят, и никто не обидит. Короче, со временем эта соседка даже узнала их репертуар, спросила довольно грубо, в своём шутливом стиле, столкнувшись с ними (они как раз шли в магазинчик во всём светлом и выглаженном, как на бал, она в поношенной панамке, он в белой кепочке, глазики у обоих радужные, ручки сморщенные) — чё это вы всё играете, здравствуйте, не пойму — то есть она-то хотела сказать “зачем вы всё играете мешаете”, а они поняли ровно наоборот, всполошились, заулыбались всеми своими ровными пластмассовыми зубками и сказали, она сказала, старушка: «Песня без слов из цикла Мендельсона и вальс какая-то фантазия Шопена» («тьфу ты», подумала соседка). Но всё на свете кончается, и музыка вдруг кончилась. Соседка вздохнула свободно, запела и завеселилась, она-то была одинокая брошка, то есть брошенная жена, вернее даже не жена, а так, получила по разъезду однокомнатную квартиру, и кто-то у неё поселился, жил, приколачивал полку на кухне, даже кое-что купил для снаряжения уборной как настоящий хозяин, пришёл с седлом в упаковке и поставил его на болты, приговаривая, что что же это за сиденье, сидеть нельзя. А потом вернулся обратно к себе к матери. И тут эта музыка каждый вечер за довольно тонкой, как оказалось, стеной, вальс Шопена и с ошибочкой в одном и том же месте, с запинкой, как у застарелого патефона, можно убиться. Телевизор же стоял у другой стены, а здесь был диван, как раз патефон оказывался каждый вечер под ухом. То есть слух у этой соседки обострился как у летучей мыши, как у слепого, сквозь весь грохот телевизора она различала проклятых Мендельсона и Шопена. Короче, внезапно всё кончилось, два дня музыка молчала, и спокойным образом можно было смотреть телевизор, петь или плясать, правда, кто-то отдалённо как бы плакал, как ребёнок пищит выше этажами, но это тоже кончилось. “Ну и слух у меня”, — потом сказала на работе эта соседка стариков, когда всё выяснилось, то есть что этот писк был писк мужа старушки пианистки, она была найдена не где-нибудь, а под мужем на полу, он уже, оказывается, давно лежал парализованный в кровати (“а я-то думала нет, я вроде их встречала, но это было ведь давно?” — сама с собой продолжала этот рассказ молодая соседка), он лежал парализованный, а жена каждый вечер, видимо, играла ему свой репертуар под ухом у соседки, чтобы его, видимо, развеселить, а потом она как-то упала, умерла у его кровати, и он стал сползать, видно, к телефону и в конце концов рухнул на свою жену, и из этого положения всё-таки позвонил как-то, квартиру вскрыли, оба они уже были неживые, быстрый исход. “Ну и слух у меня”, — жаловалась их молодая соседка всем подряд по телефону, вспоминая тот отдалённый писк или плач и рассчитывая то время, которое понадобилось (вечер и вся ночь и весь следующий день), чтобы старик дотянулся до телефона, это он пищал, старичок, видимо. “Ну и слух у меня, — с тревогой думала соседка о будущих соседях и вспоминая про себя с любовью и жалостью Шопена и Мендельсона, — вот это были люди образованные, тихие, пятнадцать минут в день шумели, и всё, кто придёт им на смену? И умерли с разницей в день, как в сказке, жили долго и умерли с разницей в день”, — примерно так она думает, оглушённая тишиной, Шопен, Шопен и Мендельсон. 1999г. 11 класс. Сопоставительный анализ стихотворений С. Есенин День ушел, убавилась черта, Я опять подвинулся к уходу. Легким взмахом белого перста Тайны лет я разрезаю воду. В голубой струе моей судьбы Накипи холодной бьется пена, И кладет печать немого плена Складку новую у сморщенной губы. Юрий Кузнецов Звякнет лодка оборванной цепью, Вспыхнет яблоко в тихом саду, Вздрогнет сон мой, как старая цапля В нелюдимо застывшем пруду. Сколько можно молчать! Может, хватит? Я хотел бы туда повернуть, Где стоит твоё белое платье, Как вода по высокую грудь. С каждым днем я становлюсь чужим И себе, и жизнь кому велела. Где-то в поле чистом, у межи, Оторвал я тень свою от тела. Я хвачусь среди замершей ночи Старой дружбы, сознанья и сил И любви, раздувающей ноздри, У которой бессмертья просил. Неодетая она ушла, Взяв мои изогнутые плечи. Где-нибудь она теперь далече И другого нежно обняла. С ненавидящей тяжкой любовью Я гляжу, обернувшись назад. Защищаешься слабой ладонью: – Не целуй. Мои губы болят. Может быть, склоняяся к нему, Про меня она совсем забыла И, вперившись в призрачную тьму, Складки губ и рта переменила. Но живет по звуку прежних лет, Что, как эхо, бродит за горами. Я целую синими губами Черной тенью тиснутый портрет 1916г. Что ж, прощай! Мы в толпе затерялись. Снилось мне, только сны не сбылись. Телефоны мои надорвались. Почтальоны вчистую спились. Я вчера пил весь день за здоровье, За румяные щёки любви. На кого опустились в дороге Перелётные руки твои? Что за жизнь – не пойму и не знаю. И гадаю, что будет потом. Где ты, Господи… Я погибаю Над её пожелтевшим письмом 1967г. 10 класс Комплексный анализ текста Владимир Богомолов Первая любовь Мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, и земля не казалась нам жесткой, холодной и сырой, какой была на самом деле. Мы встречались уже полгода - с тех пор, как она прибыла в наш полк. Мне было девятнадцать, а ей - восемнадцать лет. Мы встречались тайком: командир роты и санитарка. И никто не знал о нашей любви и о том, что нас уже трое... - Я чувствую, это мальчик! - шепотом в десятый раз уверяла она. Ей страшно хотелось мне угодить: - И весь в тебя! - В крайнем случае согласен и на девочку. И пусть будет похожа на тебя! - думая совсем о другом, прошептал я. Метрах в пятистах впереди, в блиндажах и прямо в окопах, спали бойцы и сержанты моей роты. Еще дальше, за линией боевого охранения, освещаемой редкими вспышками немецких ракет, затаилась скрытая темнотой высота 162. На рассвете моей роте предстояло совершить то, что неделю назад не смогла сделать рота штрафников - захватить высоту. Об этом в батальоне пока знало только пятеро офицеров, те, кого вечером вызвал в штабную землянку майор, командир полка. Ознакомив нас с приказом, он повторил мне: - ...Значит, помни: сыграют "катюши", зеленые ракеты, и ты пойдешь... Соседи тоже поднимутся, но высоту будешь брать ты! ...Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и, целуя ее, я не мог не думать о предстоящем бое. Но еще более меня волновала ее судьба, и я мучительно соображал: что же делать? - ...Я должна теперь спать за двоих, - меж тем шептала она окающим певучим говорком. - Знаешь, по ночам мне часто кажется, что наступит утро и все это кончится. И окопы, и кровь, и смерть... Третий год уже - ведь не может же она продолжаться вечно?.. Представляешь: утро, всходит солнышко, а войны нет, совсем нет... - Я пойду сейчас к майору! - высвободив руку из-под ее головы, я решительно поднялся. - Я ему все расскажу, все! Пусть тебя отправят домой. Сегодня же! - Да ты что? - привстав, она поймала меня за рукав и с силой притянула к себе. Ложись!.. Ну какой же ты дурень!.. Да майор с тебя шкуру спустит! И, подражая низкому, грубоватому голосу командира полка, натужным шепотом медленно забасила: - Сожительство с подчиненными не повышает боеспособность части, а командиры теряют авторитет. Узнаю - выгоню любого! С такой характеристикой, что и на порядочную гауптвахту не примут... Выиграйте войну и любите кого хотите и сколько хотите. А сейчас - запрещаю!.. Голос у нее сорвался, а она, довольная, откинулась навзничь и смеялась беззвучно, чтобы нас не услышали. Да, я знал, что мне не поздоровится. Майор был человеком самых строгих правил, убежденным, что на войне женщинам не место, а любви - тем более. - А я все равно к нему пойду! - Тихо! - Она прижалась лицом к моей щеке и после небольшой паузы, вздохнув, зашептала: - Я все сделаю сама! Я уже продумала. Отцом ребенка будешь не ты! - Не я?! - Меня бросило в жар. - То есть как не я? - Ну какой же ты глупыш! - весело удивилась она. - Нет, не дай бог, чтобы он был похож на тебя!.. Понимаешь, в документах и вообще отцом будешь ты. А сейчас я скажу на другого! Она была так по-детски простодушна и правдива, что подобная хитрость поразила меня. - На кого же ты скажешь? - На кого-нибудь из убывших. Ну, хотя бы на Байкова. - Нет, убитых не трогай. - Тогда... на Киндяева. Старшина Киндяев, красивый беспутный малый, был выпивоха и вор, отправленный недавно в штрафную. Растроганный, я откинул полу шинели и рывком привлек ее к себе. - Тихо! - Она испуганно уперлась кулачками мне в грудь. - Ты раздавишь нас! (Она уже начала говорить о себе во множественном числе и по-ребячьи радовалась при этом.) Глупыш ты мой!.. Нет, это твое счастье, что ты меня встретил. Со мной не пропадешь! Она смеялась задорно и беззаботно, а мне было совсем не до смеха. - Слушай, ты должна пойти к майору сейчас же! - Ночью?.. Да ты что?! - Я тебя провожу! Объяснишь ему и скажи, что тебе плохо, что ты больше не можешь! - Но это ж неправда! - Я прошу тебя!.. Как ты будешь?.. Ты должна уехать! Ты пойми... а вдруг... А если завтра в бой? - В бой? - Она вмиг насторожилась, очевидно, все поняв. - Нет, это правда? - ДаНекоторое время она лежала молча. По ее дыханию - такому знакомому – я почувствовал, что она взволнована. - Что ж... от боев не бегают. Да и не убежишь... Все равно, пока меня комиссуют и будет приказ по дивизии, пройдет несколько дней... Я пойду к майору завтра же. Решено? Я молчал, силясь что-либо придумать и не зная, что ей сказать. - Думаешь, мне легко к нему идти? - вдруг прошептала она. - Да легче умереть!.. Сколько раз он мне говорил: "Смотри, будь умницей!"... А я... А еще комсомолка... Всхлипнув, она отвернулась и, уткнув лицо в рукав шинели, вся сотрясаясь, беззвучно заплакала. Я с силой обнял ее и молча целовал маленькие губы, лоб, соленые от слез глаза. - Пусти, я пойду, - отстраняя меня, еле слышно вымолвила она. – Ты проводишь?.. ...Мы спускались в темную, сырую балку, где помещался батальонный медпункт, и я поддерживал ее сзади за талию, чуть начавшую полнеть. Я поддерживал ее обеими руками, страховал каждый ее шаг. Чтобы она не оступилась, не оскользнулась, не упала. Словно я мог уберечь ее, оградить от войны, от боя на заре, где ей предстояло бегать, падать и перетаскивать на себе раненых... С тех пор прошло пятнадцать лет, но я помню все так, будто это было вчера. На рассвете сыграли "катюши", неистово били минометы и дивизионная артиллерия, взлетели зеленые ракеты... А когда взошло солнце, я с остатками роты ворвался на высоту. Спустя полчаса в немецкой добротной траншее командир полка и еще кто-то, поздравляя, обнимали меня и жали мне руки. А я стоял, как столб, как пень, ничего не чувствуя, не видя и не слыша. Солнце... если б я мог загнать его назад, за горизонт! Если б я мог вернуть рассвет!.. Ведь всего два часа назад нас было трое... Но оно поднималось медленно, неумолимо, я стоял на высоте, а она... она осталась там, позади, где уже лазали бойцы похоронной команды... И никто, никто и не подозревал, кем она была для меня и что нас было трое... 1958 г. 10 класс. Сопоставительный анализ стихотворений А.С.Пушкин СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО Прощай, письмо любви! прощай: она велела. Как долго медлил я! как долго не хотела Рука предать огню все радости мои!.. Но полно, час настал. Гори, письмо любви. Готов я; ничему душа моя не внемлет. Уж пламя жадное листы твои приемлет... Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым Виясь, теряется с молением моим. Уж перстня верного утратя впечатленье, Растопленный сургуч кипит... О провиденье! Свершилось! Темные свернулися листы; На легком пепле их заветные черты Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, Отрада бедная в судьбе моей унылой, Останься век со мной на горестной груди... 1825г. А.Вознесенский E. W. Как заклинание псалма, безумец, по полю несясь, твердил он подпись из письма: "Wobulimans" *- "Вобюлиманс". "Родной! Прошло осьмнадцать лет, у нашей дочери - роман. Сожги мой почерк и пакет. С нами любовь. Вобюлиманс. P.S. Не удался пасьянс". Мелькнет трефовый силуэт головки с буклями с боков. И промахнется пистолет. Вобюлиманс - С нами любовь. Но жизнь идет наоборот. Мигает с плахи Емельян. И всё Россия не поймет: С нами любовь - Вобюлиманс. 1977г. * - нераскрытая подпись письма к Пушкину принадлежит Е.Воронцовой и является зашифрованной анаграммой. 9 класс Комплексный анализ текста Н.С. Лесков Дурачок Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке неодинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что "дурак слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный, шут...". В подкрепление такого толкования приведен словесный пример: "Он был и будет дурак дураком". "Дурачок – смягчение слова дурак". Ученее этого объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют... Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу. Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы "всем помогать"; это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню: бывало, зимою, - у нас зимы бывают лютые,- когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везет на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаем, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика. Спросишь его, бывало: - Что ты, Паня, один сухой хлеб жуешь? А он шутя отвечает: - Как так "с ухой"? - он, гляди-ко, с чистой водицею. - А ты бы еще чего-нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки! А Паня головой мотнет и отвечает: - Ну, вот еще чего!.. Я и так наелся, - слава те Господи! Подпояшется и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилась, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, еще себе и другим лапти плетет, и ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех до света и одет был всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят: - Ему ведь ничего, - он дурачок. - А чем же он дурачок? - Да всем... - А например? - Да что за пример! - вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдает, а он, хоть бы что ему... и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак! Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки не слыхали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туесочки из бересты, -- однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить. Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит: нет ли где какой неисправности? И если заметит что-нибудь в беспорядке - сейчас же остановится, подзовет виноватого и приказывает: - Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе двадцать пять розог; а если слукавишь - я тебе вечером при себе велю вдвое дать. Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и еще прибавлял наказание. Вот раз, летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелени рвут, сколько ее топчут и копытами с корнями выколупывают... Управитель и расшумелся. А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, - сын той самой Ариныкоровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала. Петруша этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и понежнее, за это его и дразнили "творожничком" - словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он жеребят рано утром "на росу", и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашел сон - он и заснул,а жеребятки в это время в хлеб и взошли. Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и говорит: - Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе двадцать розог дал; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам. Сказал это и уехал. А Петруша так и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говорит он Паньке: - Брат милый, Панюшка, очень страшно мне... скажи, как мне быть? А Панька его по головке погладил и говорит: - И мне тоже страшно было... Что с этим делать-то... Христа били... А Петруша еще горче плачет и говорит: - Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я в воду кинуся. А Панька его уговаривал-уговаривал, а потом сказал: - Ну, постой же ты: оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом,а я скорей сбегаю, за тебя постараюся, - авось тебя Бог помилует. Видишь, ты трус какой. Петруша спрашивает: - А как же ты, Панюшка, постараешься? - Да уж я штуку выдумал - постараюся!- И побежал Панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идет, улыбается. - Не робей, - говорит, - Петька, все сделано; и не ходи никуда – с тебя наказанье избавлено. Петька думает: "Все равно: надо верить ему", - и не пошел; а вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе: - Что, пастушонок утром приходил сечься? - Как же, - говорит, - приходил, ваша милость. - Взбрызнули его? - Да, - говорит, - взбрызнули. - И хорошо? - Хорошо, постаралися. Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь. Что же, - говорили, - уже если дурак его выручил, нехорошо двух за одну вину разом наказывать. Ну, не дурак ли, взаправду, наш Панька был? И так он все и дальше жил. Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошел: никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются - всякой своего сына жалко. А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к помещику и сам просится: - Велите, - говорит, - меня отвести в город - в солдаты отдать. - Что же тебе за охота? - Да так,- отвечает, - очень мне вдруг охота пришла. - Да отчего? Ты обдумайся. - Нет, - говорит, - некогда думать-то. - Отчего некогда? - Да нешто не слышно вам, что вокруг плачут, а я ведь любимый у Господа, - обо мне плакать некому, - я и хочу идти. Его отговаривали. - Посмотри-ка, мол, какой ты неуклюжий-то: над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочутся. А он отвечает: - То и радостней: хохотать-то ведь веселее, чем ссориться; если всем весело станет, так тогда все и замирятся. Еще раз сказали ему: - Утешай-ка лучше сам себя да живи дома! Но он на своем твердо стоял. - Нет, мне, - говорит, - это будет утешнее. Его и утешили, - отвезли в город и отдали в рекруты, а когда сдатчики возвратились, - с любопытством их стали расспрашивать: - Ну, как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи-то? - Как же, - говорят, - видели. - Небось, смеются все над ним, - какой увалень? - Да, - говорят, - на самых первых порах-то было смеялися, да он на все на два рубля, которые мы дали ему награждения, на базаре целые ночвы пирогов с горохом и с кашей купил и всем по одному роздал, а себя позабыл... Все стали головами качать и стали ломать ему по половиночке. А он застыдился и говорит: - Что вы, братцы, я ведь без хитрости! Кушайте. Рекрута его стали дружно похлопывать: - Какой, мол, ты ласковый! А наутро он раньше всех в казарме встал, да все убрал и старым солдатам всем сапоги вычистил. Стали хвалить его, и старики у нас спрашивали: "Что он у вас дурачок, что ли?" Сдатчики отвечали: - Не дурак, а... малость с роду так. Так Панька и пошел служить со своим дурачеством и провел всю войну в "профосах" за всеми позади рвы копал да пакость закапывал, а как вышел в отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны пасти. Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней, где-то вдали, около безводных Рын-Песков, где тогда кочевал большой местный богач Хан-Джангар. А Хан-Джангар, когда приезжал на Суру лошадей продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал; кого хотел - казнил, кого хотел - того миловал. За отдаленностью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один: находились и другие такие же само- управцы, и в числе их появился один лихой вор, по имени Хабибула, и стал он угонять у Хана-Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать. Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Хан-Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулой суд и казнить его такою страшною казнью, чтобы навести страх и ужас на других воров. Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких местах, где русские власти есть, Хан-Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конем и раненого Хабибулу, окованного в конских железах. И оставил им пшена и бурдюк воды и наказал Паньке настрого: - Береги этого человека как свою душу! Понял? Панька говорит: - Чего ж не понять-то! Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю. Хан-Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле: - Вот до чего тебя твое воровство довело! Такой ты большой молодец, а все твое молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился. А Хабибула ему отвечает: - Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда. - Как это "некогда"! Только в том ведь и дело все, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное все само придет... В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях: брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнет помогать делать хорошее, вот и пойдет все хорошее. А Хабибула слушает и вздыхает. - Нет, - говорит, - уже про это некстати и думать теперь! - Да отчего же некстати-то? - Да оттого, что я окован и смерти жду. - А я тебя возьму да и выпущу. Хабибула ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит: - Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя "как свою душу берег", а ведь знаешь ли, как надо сберечь душу-то? Надо, брат, ее не жалеть, а пусть ее за другого пострадает - вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, где надеешься, а если станешь опять зло творить - ну, уж тогда не меня обманешь, а Господа. И с этим присел и сломал на Хабибуле конские железные путы, и посадил его на коня, в сказал: - Ступай с миром на все стороны. А сам остался ожидать здесь возвращения Хана-Джангара, - и ждал его очень долго, пока ручеек высох и в бурдюке воды осталось очень немножечко. Тогда и прибыл Хан-Джангар со своей свитой. Осмотрелся Хан и спрашивает: - А где Хабибула? Панька отвечает: - Я отпустил его. - Как отпустил? Что ты такое рассказываешь? - Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по своему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближнего... Ты ведь хотел замучить Хабибулу, а я терпеть не могу, чтобы других мучили, - вот возьми меня и вели меня вместо его мучить, - пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других никого не боюся ни капельки. Тут Хан-Джангар стал водить глазами во все стороны, а потом на голове тюбетейку поправил и говорит своим: - Подойдите-ка все поближе ко мне; я вам скажу, что мне кажется. Татары вокруг Хана-Джангара стеснилися. А он сказал им потихонечку: - А ведь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был... - Да, - отвечали татары все одним тихим голосом, - нельзя нам ему вредить: мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновенье всем нам ясен стал: он ведь, может быть, праведный. 1891 9 класс. Сопоставительный анализ стихотворений Сравните две басни русских поэтов 19 века. Какая общая идея пронизывает содержание обоих стихотворных произведений? В чём вы видите их сходство и различие? И.Крылов ЛИСТЫ И КОРНИ В прекрасный летний день, Бросая по долине тень, Листы на дереве с зефирами шептали, Хвалились густотой, зеленостью своей И вот как о себе зефирам толковали: "Не правда ли, что мы краса долины всей? Что нами дерево так пышно и кудряво, Раскидисто и величаво? Что б было в нем без нас? Ну, право, Хвалить себя мы можем без греха! Не мы ль от зноя пастуха И странника в тени прохладной укрываем? Не мы ль красивостью своей Плясать сюда пастушек привлекаем? У нас же раннею и позднею зарей Насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами Почти не расстаетесь с нами". "Примолвить можно бы спасибо тут и нам",Им голос отвечал из-под земли смиренно. "Кто смеет говорить столь нагло и надменно! Вы кто такие там, Что дерзко так считаться с нами стали?" Листы, по дереву шумя, залепетали. "Мы те,Им снизу отвечали,Которые, здесь роясь в темноте, Питаем вас. Ужель не узнаете? Мы корни дерева, на коем вы цветете. Красуйтесь в добрый час! Да только помните ту разницу меж нас: Что с новою весной лист новый народится, А если корень иссушится,Не станет дерева, ни вас". Д. Давыдов Голова и ноги Уставши бегать ежедневно По грязи, по песку, по жесткой мостовой, Однажды Ноги очень гневно Разговорились с Головой: "За что мы у тебя под властию такой, Что целый век должны тебе одной повиноваться; Днем, ночью, осенью, весной, Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться Туда, сюда, куда велишь; А к этому еще, окутавши чулками, Ботфортами и башмаками, Ты нас, как ссылочных невольников, моришь,И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами, Покойно судишь обо всём, Об свете, об людях, об моде, Об тихой и дурной погоде; Частенько на наш счет себя ты веселишь Насмешкой, колкими словами,И, словом, бедными Ногами Как шашками вертишь". "Молчите, дерзкие,- им Голова сказала,Иль силою я вас заставлю замолчать!.. Как смеете вы бунтовать, Когда природой нам дано повелевать?" "Все это хорошо, пусть ты б повелевала, По крайней мере нас повсюду б не швыряла, А прихоти твои нельзя нам исполнять; Да между нами, ведь признаться, Коль ты имеешь право управлять, То мы имеем право спотыкаться, И можем иногда, споткнувшись,- как же быть,Твое величество об камень расшибить". Смысл этой басни всякий знает... Но должно - тс! - молчать: дурак - кто всё болтает. 8 класс Комплексный анализ текста А. Грин Пропавшее солнце I Страшное употребление, какое дал своим бесчисленным богатствам Авель Хоггей, долго еще будет жить в памяти всех, кто знал этого человека без сердца. Не раз его злодейства - так как деяния Хоггея были безмерными, утонченными злодействами - грозили, сломав гроб купленного молчания, пасть на его голову, но золото вывозило, и он продолжал играть с живыми людьми самым различным образом; неистощимый на выдумку, Хоггей не преследовал иных целей, кроме забавы. Это был мистификатор и палач вместе. В основе его забав, опытов, экспериментов и игр лежал скучный вопрос: "Что выйдет, если я сделаю так?" Четырнадцать лет назад вдова Эльгрев, застигнутая родами в момент безвыходной нищеты, отдала новорожденного малютку-сына неизвестному человеку, вручившему ей крупную сумму денег. Он сказал, что состоятельный аноним - бездетная и детолюбивая семья - хочет усыновить мальчика. Мать не должна была стараться увидеть или искать сына. На этом сделка была покончена. Утешаясь тем, что ее Роберт вырастет богачом и счастливцем, обезумевшая от нужды женщина вручила свое дитя неизвестному, и он скрылся во тьме ночи, унес крошечное сердце, которому были суждены страдание и победа. II Купив человека, Авель Хоггей приказал содержать ребенка в особо устроенном помещении, где не было окон. Комнаты освещались только электричеством. Слуги и учитель Роберта должны были на все его вопросы отвечать, что его жизнь - именно такова, какой живут все другие люди. Специально для него были заказаны и отпечатаны книги того рода, из каких обычно познает человек жизнь и мир, с той лишь разницей, что в них совершенно не упоминалось о солнце1. Всем, кто говорил с мальчиком или по роду своих обязанностей вступал с ним в какое бы ни было общение, строго было запрещено Хоггеем употреблять это слово. Роберт рос. Он был хил и задумчив. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, Хоггей среди иных сложных забав, еще во многом не раскрытых данных, вспомнив о Роберте, решил, что можно, наконец, посмеяться. И он велел привести Роберта. III Хоггей сидел на блестящей, огромной террасе среди тех, кому мог довериться в этой запрещенной игре. То были люди с богатым, запертым на замок прошлым, с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой. Кроме Фергюсона, здесь сидели и пили Равным образом, ни о чем светящемся в небе - луне, звездах. Фергюсон - правая рука Хоггея, - чаще других навещавший Роберта, приучил его думать, что люди сами не желают многого в этом роде. А.Г. 1 Харт - поставщик публичных домов Южной Америки, и Блюм - содержатель одиннадцати игорных домов. Был полдень. В безоблачном небе стояло пламенным белым железом вечное Солнце. По саду, окруженному высокой стеной, бродил трогательный и прелестный свет. За садом сияли леса и снежные цепи отрогов Ахуан-Скапа. Мальчик вошел с повязкой на глазах. Левую руку он бессознательно держал у сильно бьющегося сердца, а правая нервно шевелилась в кармане бархатной куртки. Его вел глухонемой негр, послушное животное в руках Хоггея. Немного погодя вышел Фергюсон. - Что, доктор? - сказал Хоггей. - Сердце в порядке, - ответил Фергюсон по-французски, - нервы истощены и вялы. - Это и есть Монте-Кристо? - спросил Харт. - Пари, - сказал Блюм, знавший, в чем дело. - Ну? - протянул Хоггей. - Пари, что он помешается с наступлением тьмы. - Э, пустяки, - возразил Хоггей. - Я говорю, что придет проситься обратно с единственной верой в лампочку Эдисона. - Есть. Сто миллионов. - Ну, хорошо. - сказал Хоггей. - Что, Харт? - Та же сумма на смерть, - сказал Харт. - Он умрет. - Принимаю. Начнем. Фергюсон, говорите, что надо сказать. Роберт Эльгрев не понял ни одной фразы. Он стоял и ждал, волнуясь безмерно. Его привели без объяснений, крепко завязав глаза, и он мог думать что угодно. - Роберт, - сказал Фергюсон, придвигая мальчика за плечо к себе, - сейчас ты увидишь солнце - солнце, которое есть жизнь и свет мира. Сегодня последний день, как оно светит. Это утверждает наука. Тебе не говорили о солнце потому, что оно не было до сих пор в опасности, но так как сегодня последний день его света, жестоко было бы лишать тебя этого зрелища. Не рви платок, я сниму сам. Смотри. Швырнув платок, Фергюсон внимательно стал приглядываться к побледневшему, ослепленному лицу. И как над микроскопом согнулся над ним Хоггей. IV Наступило молчание, во время которого Роберт Эльгрев увидел необычайное зрелище и ухватился за Фергюсона, чувствуя, что пол исчез, и он валится в сверкающую зеленую пропасть с голубым дном. Обычное зрелище дня - солнечное пространство - было для него потрясением, превосходящим все человеческие слова. Не умея овладеть громадной перспективой, он содрогался среди взметнувшихся весьма близких к нему стен из полей и лесов, но наконец пространство стало на свое место. Подняв голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось, его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нем, зазвучав вихрем, и догадка, что до сих пор от него было отнято все, в первый раз громовым ядом схватила его, стукнувшись по шее и виску, сердце. В этот момент переливающийся раскаленный круг вошел из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки, по глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах. - Он ослеп, - сказал Харт. - Или умер. Фергюсон расстегнул куртку, взял пульс и помолчал с значительным видом. - Жив? - сказал, улыбаясь и довольно откидываясь в кресле, Хоггей. - Жив. V Тогда решено было посмотреть, как поразит Роберта тьма, которую, ничего не зная и не имея причины подозревать обман, он должен был считать вечной. Все скрылись в укромный уголок, с окном в сад, откуда среди чинной, но жестокой попойки наблюдали за мальчиком. Воспользовавшись обмороком, Фергюсон поддержал бесчувственное состояние до той минуты, когда лишь половина солнца виднелась над горизонтом. Затем он ушел, а Роберт открыл глаза. "Я спал или был болен", - но память не изменила ему; сев рядом, она ласково рассказала о грустном и же стоком восторге. Воспрянув, заметил он, что темно, тихо и никого нет, но, почти не беспокоясь об одиночестве, резко устремил взгляд на запад, где угасал, проваливаясь, круг цвета розовой меди. Заметно было, как тускнут и исчезают лучи. Круг стал как бы горкой углей. Еще немного, - еще, - последний сноп искр озарил белый снег гор - и умер, - навсегда! навсегда! навсегда! Лег и уснул мрак. Направо горели огни третьего этажа. - Свалилось! Свалилось! - закричал мальчик. Он сбежал в сад, ища и зовя людей, так как думал, что наступит невыразимо страшное. Но никто не отозвался на его крик. Он проник в чащу померанцевых и тюльпанных деревьев, где журчание искусственных ручьев сливалось с шелестом крон. Сад рос и жил; цвела и жила невидимая земля, и подземные силы расстилали веера токов своих в дышащую теплом почву. В это время Хоггей сказал Харту и Блюму: "Сад заперт, стены высоки; там найдем, что найдем, - утром. Игрушка довольно пресная; не все выходит так интересно, как думаешь". Что касается мальчика, то в напряжении его, в волнении, в безумной остроте чувств все перешло в страх. Он стоял среди кустов, стволов и цветов. Он слышал их запах. Вокруг все звучало насыщенной жизнью. Трепет струй, ход соков в стволах, дыхание трав и земли, голоса лопающихся бутонов, шум листьев, возня сонных птиц и шаги насекомых, сливалось в ощущение спокойного, непобедимого рокота, летящего от земли к небу. Мальчику казалось, что он стоит на живом, теплом теле, заснувшем в некой твердой уверенности, недоступной никакому отчаянию. Это было так заразительно, что Роберт понемногу стал дышать легче и тише. Обман открылся ему внутри. - Оно вернется, - сказал он. - Не может быть. Они надули меня. VI За несколько минут до рассвета Фергюсон разыскал жертву среди островков бассейна и привел ее в кабинет. Между тем в просветлевшей тьме за окном чей-то пристальный, горячий взгляд уперся в затылок мальчика, он обернулся и увидел красный сегмент, пылающий за равниной. - Вот! - сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться. - Оно возвращается оттуда же, куда провалилось! Видели? Все видели? Так как мальчик спутал стороны горизонта, то это был единственный - для одного человека - случай, когда солнце поднялось с запада. - Мы тоже рады. Наука ошиблась, - сказал Фергюсон. Авель Хоггей сидел, низко согнувшись, в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец, бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, заставил его прижать руки к глазам; сквозь пальцы потекли слезы. Проморгавшись, мальчик спросил: - Я должен стоять еще или идти? - Выгнать его, - мрачно сказал Хоггей, - я вижу, что затея не удалась. А жаль. Фергюсон, ликвидируйте этот материал. И уберите остатки прочь. 8 класс Проанализируйте стихотворение Ярослава Смелякова «Русский язык». Проследите вместе с поэтом историю народа и её отражение в развитии языка. Ярослав Смеляков Русский язык У бедной твоей колыбели, еще еле слышно сперва, рязанские женщины пели, роняя, как жемчуг, слова. Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли, чтоб им не одним доставалась ученая важность земли. Под лампой кабацкой неяркой на стол деревянный поник у полной нетронутой чарки, как раненый сокол, ямщик. Ты, пахнущий прелой овчиной и дедовским острым кваском, писался и черной лучиной и белым лебяжьим пером. Ты шел на разбитых копытах, в кострах староверов горел, стирался в бадьях и корытах, сверчком на печи свиристел. Ты - выше цены и расценки в году сорок первом, потом писался в немецком застенке на слабой известке гвоздем. Ты, сидя на позднем крылечке, закату подставя лицо, забрал у Кольцова колечко, у Курбского занял кольцо. Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка. Вы, прадеды наши, в неволе, мукою запудривши лик, на мельнице русской смололи заезжий татарский язык. 1966 7 класс Напишите отзыв о произведении Б.Шергин Ваня Датский У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани – воды не видно; народу по берегам – что ягоды морошки по белому мху; торговокпирожниц, бражниц, квасниц – будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить. Горожане дивились на Аграфену: – Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный. – Умрем, дак выспимся,– отвечала Аграфена.– Я тружусь, детище свое воспитываю! Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его угощают солеными "бишками" – бисквитами, рассказывают про дальние страны. Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную: – Мама, как хошь, благослови в море идти! Мама заревела, как медведица: – Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам! – Ну, я без благословенья убежу. Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану: – Кэптен, тэйк эборд! (Возьмите с собой!) У капитана не хватало матросов.. Бойкий парень понравился. – Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!) Ваня и спрятался в трюме. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море. Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь. "На озерах с ребятами рыбу ловит". Через неделю она выла на весь рынок: – Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец! И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет… Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала: Гусем бы я была, гагарой, Все бы моря облетела, Морские пути оглядела, Детище свое отыскала. Зайком бы я была, лисичкой, Все бы города обскакала, Кажду бы дверь отворила, В каждо бы оконце заглянула, Всех бы про Иванушка спросила… А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце. Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая… А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит – грузится корабль. Спрашивает: – Куда походите? – В Россию, в Архангельский город. Забилось сердце у нашего детинушки: "Маму бы повидать! Жива ли?.." И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса. Жена с плачем собрала Ваню в путь: – Ох, Джон! Узнает тебя мать – останешься ты там.. – Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу. Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега. На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: "Ежели мама жива, она булочками торгует". Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит: – Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла! Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски. У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит… Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает: "Открыться бы! Нет, страшно она заплачет, мне от нее не оторваться А семья как?" В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке сунул под булки двадцать пять рублей. Так, не признавшись, и отошел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать – двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань: – Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой! Твенти файф рубель! Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра. После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону. Опять Иванушко места прибрать не может: "Надо сплавать на Русь, надо повидать маму". Опять жена плачет: – Ох, Джон! В России строго: узнает мать – не от пустит. – Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу. Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик: – Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели! Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые… Упасть бы в ноги! Может бы, и простила и отпустила!.. Нет, страшно! Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать – пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились: – Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает? – А и верно, сын! Больше некому! – И заплакала. – Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя… Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть. Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена: – Ох, Джон. Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать… Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега… Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки? Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит. И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит. Как он деньги-то пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба: – Кара-у-ул! Грабя-ят!! Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию. Аграфена тихонько говорит приставу: – Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался. Пристав подступил к Ване: – Признавайтесь, вы ей сын? – Ноу, ноу! Ноу андестенд ю! Аграфена закричала с плачем: – Как это "но андерстенд"! Не поверю, чтобы можно было отеческу говорю забыть… Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь! Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила: – Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом. Пристав приказывает Ивану: – Раздевайтесь! Тогда Ваня пал матери в ноги: – Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги пятьсот рублей. Возьми, только отпусти! Аграфена застучала кулаком по столу: – Убери свои деньги! Мне не деньги – мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала… Заплакал и Ваня: – Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца. Заревели в голос и торговки: – Аграфена Ивановна, отпусти ты его! Аграфена говорит: – Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь. Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила: – Я внученька русской речи, русскому обычаю научу. Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать: – Джон! Останемся тут! Здесь такие добрые люди. Аграфена веселится: – Вери гут, невестушка. Где лодья не рыщет, а у якоря будет. Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси. По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их – Датские. 7 класс. Перед Вами стихотворение учёного- филолога М.В.Панова, который не только анализировал поэтические тексты, но и создавал свои. Напишите о Вашем восприятии стихотворения «Ода Земле». Подумайте, что хотел сказать автор, как раскрывает он свои мысли в произведении. М.В.Панов «Ода Земле» Прилетели с другой планеты. Там у них всё, что ни возьми – либо твёрдое, тяжкий кусок, со стуком, либо мучнистое, пересыпается и першит. Славу, здоровье, веселье у них насыпают в пакет. Честь отхватывают куском и – в коробку. Эти пыльные инопланетцы на Земле увидели воду. Сосредоточенны, лохматы. Не верят: -Это чего? Какая-то чушь…вода… Льётся..Как это? А вот она: льётся,видно, а непонятно. Может, просто мелко пересыпается? А брызги? Не пыль. Следовательно, нет никакой воды. Наука не допускает! …Чёрт возьми! Руку сунешь – обволакивает, холодит. Им объясняют: это-де влажность. Они: не бывает! Им: можно пить, Они: то есть грызть? Зубами – раз, раз? Если жрать, то надо это мелкосыпучее тело Сначала ручной машинкой трах!- спрессовать в пилюлю. И – в рот! А просто так, без машинки, не проглотить, куда! Станет в горле колом… Будет першить…замучит… Оглядываются, наблюдают – никто не прессует воду в пилюли. Пьют. Дай-ка…Ишь, как вкусно! Видно, здесь рай. И не полетели назад. Остались в раю, у воды. …В память о прежней далёкой планете придумали порошковое молоко. А разве только вода хороша? А ласковые руки? А смех, утро, стихи? Хороша Земля! 5-6 класс Напишите отзыв о рассказе В.Ю.Драгунского. Подумайте, что хотел сказать автор читателям, что он делает для того, чтобы раскрыть основную мысль рассказа. «Тиха украинская ночь…» Наша преподавательница литературы Раиса Ивановна заболела. И вместо нее к нам пришла Елизавета Николаевна. Вообще-то Елизавета Николаевна занимается с нами географией и естествознанием, но сегодня был исключительный случай, и наш директор упросил ее заменить захворавшую Раису Ивановну. Вот Елизавета Николаевна пришла. Мы поздоровались с нею, и она уселась за учительский столик. Она, значит, уселась, а мы с Мишкой стали продолжать наше сражение – у нас теперь в моде военно-морская игра. К самому приходу Елизаветы Николаевны перевес в этом матче определился в мою пользу: я уже протаранил Мишкиного эсминца и вывел из строя три его подводные лодки. Теперь мне осталось только разведать, куда задевался его линкор. Я пошевелил мозгами и уже открыл было рот, чтобы сообщить Мишке свой ход, но Елизавета Николаевна в это время заглянула в журнал и произнесла: – Кораблев! Мишка тотчас прошептал: – Прямое попадание! Я встал. Елизавета Николаевна сказала: – Иди к доске! Мишка снова прошептал: – Прощай, дорогой товарищ! И сделал «надгробное» лицо. А я пошел к доске. Елизавета Николаевна сказала: – Дениска, стой ровнее! И расскажи-ка мне, что вы сейчас проходите по литературе. – Мы «Полтаву» проходим, Елизавета Николаевна, – сказал я. – Назови автора, – сказала она; видно было, что она тревожится, знаю ли я. – Пушкин, Пушкин, – сказал я успокоительно. – Так, – сказала она, – великий Пушкин, Александр Сергеевич, автор замечательной поэмы «Полтава». Верно. Ну, скажи-ка, а ты какой-нибудь отрывок из этой поэмы выучил? – Конечно, – сказал я, – Какой же ты выучил? – спросила Елизавета Николаевна. – «Тиха украинская ночь…» – Прекрасно, – сказала Елизавета Николаевна и прямо расцвела от удовольствия. – «Тиха украинская ночь…» – это как раз одно из моих любимых мест! Читай, Кораблев. Одно из ее любимых мест! Вот это здорово! Да ведь это и мое любимое место! Я его, еще когда маленький был, выучил. И с тех пор, когда я читаю эти стихи, все равно вслух или про себя, мне всякий раз почему-то кажется, что хотя я сейчас и читаю их, но это кто-то другой читает, не я, а настоящий-то я стою на теплом, нагретом за день деревянном крылечке, в одной рубашке и босиком, и почти сплю, и клюю носом, и шатаюсь, но все-таки вижу всю эту удивительную красоту: и спящий маленький городок с его серебряными тополями; и вижу белую церковку, как она тоже спит и плывет на кудрявом облачке передо мною, а наверху звезды, они стрекочут и насвистывают, как кузнечики; а где-то у моих ног спит и перебирает лапками во сне толстый, налитой молоком щенок, которого нет в этих стихах. Но я хочу, чтобы он был, а рядом на крылечке сидит и вздыхает мой дедушка с легкими волосами, его тоже нет в этих стихах, я его никогда не видел, он погиб на войне, его нет на свете, но я его так люблю, что у меня теснит сердце… – Читай, Денис, что же ты! – повысила голос Елизавета Николаевна. И я встал поудобней и начал читать. И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал. … Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты Над Белой церковью сияет… – Стоп, стоп, довольно! – перебила меня Елизавета Николаевна. – Да, велик Пушкин, огромен! Ну-ка, Кораблев, теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов? Эх, зачем она меня перебила! Ведь стихи были еще здесь, во мне, а она остановила меня на полном ходу. Я еще не опомнился! Поэтому я притворился, что не понял вопроса, и сказал: – Что? Кто? Я? – Да, ты. Ну-ка, что ты понял? – Все, – сказал я. – Я понял все. Луна. Церковь. Тополя. Все спят. – Ну… – недовольно протянула Елизавета Николаевна, – это ты немножко поверхностно понял… Надо глубже понимать. Не маленький. Ведь это Пушкин… – А как, – спросил я, – как надо Пушкина понимать? – И я сделал недотепанное лицо. – Ну давай по фразам, – с досадой сказала она. – Раз уж ты такой. «Тиха украинская ночь…» Как ты это понял? – Я понял, что тихая ночь. – Нет, – сказала Елизавета Николаевна. – Пойми же ты, что в словах «Тиха украинская ночь» удивительно тонко подмечено, что Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, Кораблев! Договорились? Читай дальше! – «Прозрачно небо», – сказал я, – небо, значит, прозрачное. Ясное. Прозрачное небо. Так и написано: «Небо прозрачно». – Эх, Кораблев, Кораблев, – грустно и как-то безнадежно сказала Елизавета Николаевна. – Ну что ты, как попка, затвердил: «Прозрачно небо, прозрачно небо». Заладил. А ведь в этих двух словах скрыто огромное содержание. В этих двух, как бы ничего не значащих словах Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно, благодаря чему мы и можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила пушкинского таланта? Давай дальше. Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то все сразу надоело. И поэтому я наскоро пробормотал: … Звезды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух… – А почему? – оживилась Елизавета Николаевна. – Что почему? – сказал я. – Почему он не хочет? – повторила она. – Что не хочет? – Дремоты превозмочь. – Кто? – Воздух. – Какой? – Как какой – украинский! Ты ведь сам только сейчас говорил: «Своей дремоты превозмочь не хочет воздух…» Так почему же он не хочет? – Не хочет, и все, – сказал я с сердцем. – Просыпаться не хочет! Хочет дремать, и все дела! – Ну нет, – рассердилась Елизавета Николаевна и поводила перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получалось, как будто она хочет сказать: «Эти номера у вашего воздуха не пройдут». – Ну нет, – повторила она. – Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около семисот сорока миллиметров. А как известно, воздух в циклоне движется от краев к середине. И именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки: «Чуть трепещут, м-м-м… м-м-м, каких-то тополей листы!» Понял, Кораблев? Усвоил! Садись! И я сел. А после урока Мишка вдруг отвернулся от меня, покраснел и сказал: – А мое любимое – про сосну: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…» Знаешь? – Знаю, конечно, – сказал я. – Как не знать? Я выдал ему «научное» лицо. – «На севере диком» – этими словами Лермонтов сообщил нам, что сосна, как ни крути, а все-таки довольно морозоустойчивое растение. А фраза «стоит на голой вершине» дополняет, что сосна к тому же обладает сверхмощным стержневым корном… Мишка с испугом глянул на меня. А я на него. А потом мы расхохотались. И хохотали долго, как безумные. Всю перемену. 5-6 класс Составьте связный текст о том, как вы поняли стихотворение Л.Н.Мартынова «Вода», какие ассоциации и чувства возникли у вас при чтении? Чем стихотворение Л.Н.Мартынова вам понравилось? О чём, по вашему мнению, поэт хотел рассказать читателям? Л.Н.Мартынов ВОДА Вода Благоволила Литься! Она Блистала И горечи цветущих лоз; Ей Водорослей не хватало И рыбы, жирной от стрекоз. Ей Столь чиста, Не хватало быть волнистой, Что – ни напиться, Ей не хватало течь везде. Ни умыться, Ей жизни не хватало – И это было неспроста. Чистой, Ей Не хватало Ивы, тала Дистиллированной Воде!
