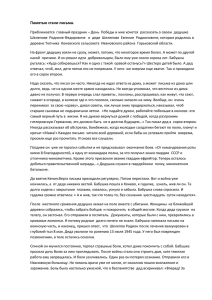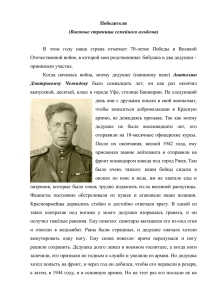ПОКОЙНОЕ
advertisement
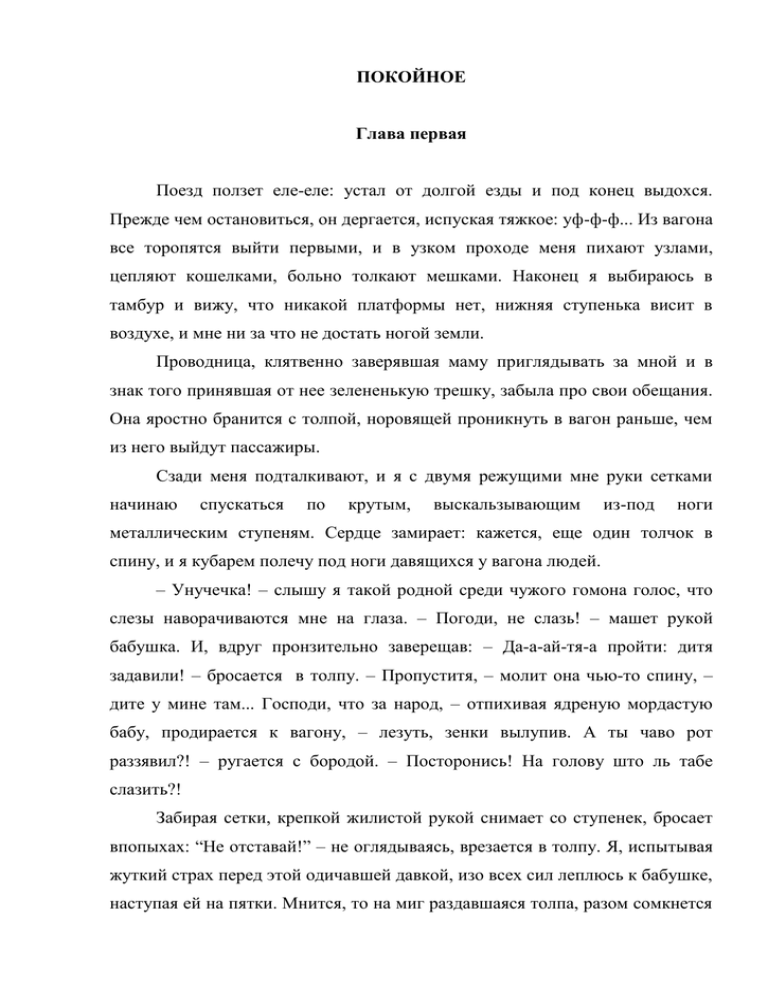
ПОКОЙНОЕ Глава первая Поезд ползет еле-еле: устал от долгой езды и под конец выдохся. Прежде чем остановиться, он дергается, испуская тяжкое: уф-ф-ф... Из вагона все торопятся выйти первыми, и в узком проходе меня пихают узлами, цепляют кошелками, больно толкают мешками. Наконец я выбираюсь в тамбур и вижу, что никакой платформы нет, нижняя ступенька висит в воздухе, и мне ни за что не достать ногой земли. Проводница, клятвенно заверявшая маму приглядывать за мной и в знак того принявшая от нее зелененькую трешку, забыла про свои обещания. Она яростно бранится с толпой, норовящей проникнуть в вагон раньше, чем из него выйдут пассажиры. Сзади меня подталкивают, и я с двумя режущими мне руки сетками начинаю спускаться по крутым, выскальзывающим из-под ноги металлическим ступеням. Сердце замирает: кажется, еще один толчок в спину, и я кубарем полечу под ноги давящихся у вагона людей. – Унучечка! – слышу я такой родной среди чужого гомона голос, что слезы наворачиваются мне на глаза. – Погоди, не слазь! – машет рукой бабушка. И, вдруг пронзительно заверещав: – Да-а-ай-тя-а пройти: дитя задавили! – бросается в толпу. – Пропуститя, – молит она чью-то спину, – дите у мине там... Господи, что за народ, – отпихивая ядреную мордастую бабу, продирается к вагону, – лезуть, зенки вылупив. А ты чаво рот раззявил?! – ругается с бородой. – Посторонись! На голову што ль табе слазить?! Забирая сетки, крепкой жилистой рукой снимает со ступенек, бросает впопыхах: “Не отставай!” – не оглядываясь, врезается в толпу. Я, испытывая жуткий страх перед этой одичавшей давкой, изо всех сил леплюсь к бабушке, наступая ей на пятки. Мнится, то на миг раздавшаяся толпа, разом сомкнется за ее спиной и, неумолимая, захлестнет меня, задушит. Но все обходится благополучно, и кое-как мы выбираемся на волю. – О-о-ох! – притуляет бабушка сетки к кирпичной кладке, слегка похожей на зародыш станционной ограды. – Чижелые... – С удовлетворением оглядывая мою поклажу, заискивающе спрашивает: – Сахар? – Получив утвердительный ответ, ласково говорит, едва коснувшись сухими губами моих щек: – Давай жа я табе поцалую... Ишь, как ты вы-ы-росла... А я, – винится смущенно, – чуток припоздала... Бегаю, как полоумная... Не найду десятый вагон – и все тут! Куды к лихоманке запропастилси? А потом глянула – Иисуси Христи! – я мимо яво другой раз бягу! Бабушка говорит быстро, но также быстро работают ее руки. Она уже поправила платок на голове, проверила, цела ли за пазухой тряпица с деньгами, вытащила из-за пояса какую-то бечевку, и, связав ею сетки, перекинула их через плечо. – Ну, в добрай час, – трогается с места и уже на ходу продолжает: – А мы телеграмму от матери еще учерась получили. Дед спокой потерял: хух ды хух! И где у Нюрки голова?.. Да как такую махонькую одну отправлять... Денег рази пожалела? Не доедить девчонка... Либо кто спихнеть, либо – сама такая ж вертлявая! – под колесы шмыгнеть... Меня был на ночь у город погнал. Иди да иди. Вдруг поезд загодя придеть? На станции переночуешь. “А то чаво ж, – говорю,– дялов у мине дома нетути – на станции ночевать”. Еле отговорила. Так он за ночь разов пять будил: “Мать, не пора?”. Так и встала, чуть тольке завиднелось. Корову подоила и пошла. Ишшо и на базар успела: полсотни яиц продала. Стой! – вдруг цепляет меня бабушка за руки: – Ленты-та у табе целаи? Коски-та жиденькаи – сползуть ленты, не услышишь. Мать твоя нам задасть. Давай выплетем? – Ну-у, – не хочу я расставаться со своей красой – розовыми атласными лентами. – Тады гляди за ими, – приказывает бабушка. – Тут у городе и вытащить недолго. Город... Саманные низенькие хаты сплошь под камышовыми крышами. Замусоренный сквер, где по-хозяйски разгуливающая коза ощипывает листочки с низеньких жилистых акаций. Ухабистая дорога, изрытая с боков канавами, заросшими лебедой. Под ногами желтовато-серая глина, сцементированная каждодневным нестерпимым зноем. И теперь уже сухменная жара с утра раскалила воздух, и он, как из горячей печи пышет в лицо. – Бауш, а куда мы идем! – осмеливаюсь я. – Ды куды ж? У Покойное. Щась до элеватора дойдем, а потом на Гаранжевку. Тута ближе. А по шоссейке тольке ноги бить... Они, машины, редко да редко идуть, а шофера не дюже перед нашим братом останавливаются. – А мама денег на автобус дала, пять рублей. – Ох и ох...– с укорой глядит бабушка. – Головушка горькая, да ты их небось уж и потеряла?! – Нет. Они у меня в кармашке, булавкой пристегнуты... Бабушка живо снимает с плеч поклажу. – Дай-ка отстебну! Поди уж один карман бережешь... Она отстегивает булавку и достает из кармашка моего платья носовой платок, осторожно разворачивает его: – Це-е-е-лая, – расправляет пятерку на заскорузлой ладони. Вздыхает: – И чаво ж нам делать? Назад итить? На автостанцию?.. Тань? – заглядывает бабушка мне в глаза. – И чума с ею, с пассажиркой. Она пассажирка-та, ишшо тольке у двенадцать часов пойдеть... И народу завсегда пропасть!.. Там задавять пока влезешь. А мы потихонечкю, холодком, глядишь, и без пассажирки в обеде дома будем. Ну, унучечка? – прячет мою пятерку бабушка за пазуху. – Ладно... – отвожу я глаза от ее ласкового, бесхитростного взгляда. Город уже позади. И мы идем степью. Пыльной, выжженной зноем сизо-серой степью. Ни кустика, ни деревца, ни живой зеленой травинки. Полынь. Горечью напитанная полынь-трава сизым покрывалом принакрыла степь. И разве что золотая колючка, вынырнув, просияет загоревшимися на солнце навостренными иголками или верблюжатник прыснет кизиловыми кровавыми цветочками, а то и страшная бесюка бросится в глаза жирным, словно маслом смазанным, листом... Бабушка идет швыдко. Черные порепанные пятки так и мелькают изпод юбки. Она, как только мы вышли из города, сняла чувяки, а подол тяжелой сборчатой юбки, чтоб не путался под ногами, заткнула за пояс. Я еле поспеваю за ней. Уже до волдырей натерла ноги, но разулась только что. Бабушка сомневалась, смогу ли я идти босиком. Теперь сомневаться нечего: в новых кожаных туфлях я не могу сделать и шагу, но и босиком с непривычки не разбежишься. Изнеженной городским асфальтом ноге колко, и горячо, и непривычно. – Заморилась, унучечка? – участливо спрашивает бабушка и, сбавляя шаг, подбадривает: – Ну-ну, скоро и Гаранжевка, к Князьку зайти можна... Виноград-цу-та у него ишшо нетути, а майки уж поспели... Ох, у него майки, сильнаи да сладкаи... – Лучше сразу домой, – уныло отвечаю я, не спрашивая, кто такой Князек и почему к нему можно зайти. – Гляди, гляди, – соглашается бабушка, – твоя воля. А к Князьку так и так придется теперя итить. Надысь у лавке перестрела я Донькю, жану его, ды по глазам: что ж ты, мол, кума, родства меж нами не признаешь? Али в уши табе хто надул, навроде я сплетала, что ты дюже жадная и оттого тебе и сродственники поперек горла, и ты лучше свиньям кусок кинешь, чем людям отдашь... Той деваться некуда, уж не знаю как, а выдавила: “Присылай Верку, как вышник поспеить” – и губы разом поджала. А я думаю: поджимай не поджимай, а куды ж денешьси, ежли мужик твой мине сродствие, да ишшо какое!.. Значить так, – соображает бабушка, – Князькова двоюродная тетка моему крестному снохой доводилася, потому как по первому разу выходила она замуж за яво троюродного брата... Вот, унучечка, – победно глядит на меня бабушка, – скажи ты мине, можно после этого друг дружку не признавать?.. Я молчу: в таком сложном родстве разобраться мне не под силу, но чувствую, что бабушка права. – То-то и оно, – говорит бабушка, улавливая мое настроение и призадумываясь, размышляет. – Да... правду сказать, дед твой любимый Князька-та не дюже жалует, но, как ни крути, а Бог моего сродственника умом не обидел... Он, Князек-та, как царек, и Донькя за им кохается, не то, что я – и в буден день, и в праздник все в той же юбке. Я деду как говорила: брось отцово подворье, какой с него толк, тольке и дялов, что у центре села, на главной улице. И слухать не хотел. И до се все не налюбуется на родительские хоромы, каждому саману кланяется. А Князек-та пожил-пожил с отцом со своим в таких же хатах, с высокими-та потолками, видить: дурна шутка, потолки-та, они не кормють, да и плюнул на отцово наследство, и сляпил кухню у черта на куличках, на краю села, на самой на Гаранжевке. Плохонькаю сляпил, низенькаю, такую, что, пока войдешь, все притолоки лбом поперешшитаишь. Зато кухня-та эта окошками в ерик глядить. Водица, вот она, вольная. Лей, хучь залейся. И все двадцать пять соток Князек-та не картошкой, а чубучком виноградным засадил... Кажную осень по двести литров вина продаеть, по десяти рубликов литра. Вот и шшитай, что у яво за доход... Бабушка горько вздыхает, а глаза ее, голубенькие, приветливые глазки, наполняются бессильной тоской. – А у нас на подворье, – продолжает она передохнувши, – одна лебеда. Какое семечко ни воткни, а ему воды дай! А воду-та за километру с артезиану назыбаешь цибарками? Ну, я раз схожу, да Верка два раза... Так воды этой тольке на варево да скотине, и то цади по капельке да гляди лишнего не налей... О-ох! Вот девка-та с коромыслами не расстаетси. У ей, у Верки, – бабушка останавливается, дожидаясь, пока я поравняюсь с ней, – не поверишь, Тань, от коромысел плечи не заживають... Эт не твое житье у городе, у Синтуках-та: вода во дворе, да и поливать рази что асфальт. Тут у нас другие курорты... Бабушка, коротко взглядывая на меня, усмехается: – Хорошо, хучь у садах землю стали давать. Картошку посодишь, мы с Веркой-та над ней бьемси-бьемси, только что ни слезьми ее поливаешь, ды мешков двадцать соберешь, из них, как ни крутись, боле десяти не продашь, на яду надо оставить, скотине, на семена ну, хорошо-хорошо, ежли в округу рубля по полтора за килограмм выручишь – копейку и заработаешь... У нас копейка, а у Князька – тышши... Вот и рассуди, – требовательно вопрошает бабушка, – де-ед, желаннай твой дед, каких дялов наделал? Век прожил – жить не научилси! Толку-та, что у конторе булгахтером сидить. Другой ба на яво месте, как сыр у масле каталси. Ты спроси, табе любой скажить: у колхозе хто как у Бога за пазухой живеть? Одни головки. Председатель, булгахтер, кладовщик. А твой дед, должно, от большого ума и сам не живеть, и людям не даеть. Дюже совестливый: и это нельзя, и то не по закону. Яво и от должности отстранить хотели, не знаю, писал вам, нет ли. Щитоводом ставили. А Манькю, сопливку, какую он сам учил, – на яво место. Спасибо, Манькя ничаво в ентом деле не смыслить, не хуже мине долбешка. Пришла к председателю, аж кричить, от слез опухла: не буду булгахтером и конец! Тольке это деда и спасло, а то – не хочешь? – у Маньки в помощниках бы ходил... Да, нечего душой кривить, – тяжко вздыхает бабушка, – уж хлебнула я, моя унучечка, с дедом твоим горюшка, и не пересказать всего. Как сватал он мине, была я лицом белая да пригожая и телом вся, как налитая, а ныне куды че и делося... Я смотрю на бабушкину костлявую, тяжким трудом сгорбленную спину, на большие порепанные ее руки, на коричневое от несмываемого загара морщинистое лицо, и мне трудно представить ее белой да пригожей. Кажется, только голубенькие глазки не утратили блеска и зоркости... Привез он мине к сабе на двор, – продолжает бабушка, – я как глянула, так рученьки мои и опустилися: хата немазаная, печь у хате небеленая, потолки пооблупилися, полы и те глины просють... Детей трое: Витьке лет пять, матери твоей не то десятый, не то одиннадцатый годок пошел, Алексей, тот уж большой был, годов пятнадцать яму.. Ну, думаю, тута моим рученькам работы хватить, а дед хоть бы словечко какое приветное сказал. Нет и нет. Каменюка. Как умерла у яво жана, бабка твоя родная, Мотька, он ровно онемел, и с соседями слова не проронил, и не жанилси цельных два года, пока двоих детей не уморил: Колька помер, годовалый от матери осталси, ды Любка не то пяти, не то шасти лет... К яму Буханчиха, тетка моя двоюродная, и так, и эдак подъезжала: что ж ты, мол, кум, думаешь, дитям-та без матери да рази можна, они в чем виновати? Их обстирать и накормить надоть, да и слова ласкового от вас, от мужиков, не дюже добьешьси жаниться табе – край! Так он сопнеть – и молчком у сторону. А потом уж и не знаю, какой стих на яво нашел, ко мне все ж таки посваталси... Ну, думаю, видать, судьба. Да и чаво ждать-то? Уж мине тридцатый год пошел. Мужик мой ишшо в гражданскую сгинул, без вестяв пропал. А тут и колхозы приспели. Ну, я к тому времени усе распродала. Мине, бывало, Буханчиха: “Чаво ж ты, девка, делаешь, хворостина по табе плачить: все добро отцово по ветру пустила”. А я сабе думаю: все одно пропадать. Как в воду и глядела. Их, хозяевов-та, кто добро усю жизнь горбов своим наживал, по хуторам-та и распихали, а я, можно, сказать, по тому времени чуть не за первого человека на селе замуж вышла. Да-а... Но тольке, моя унучечка, видать, не угадала я свово счастья. Ни одного-та я денька не кохалася, и не ела-та я сладкого, и не пила, и одежи-та добрай не носила, да и праздников не видела... И спасибо я ни от кого не слыхала: ни от деда, ни от приемных деточек. Что ни сделаешь, как ни повернешьси, – все мачеха, а не мама родная. Но всего горше мне, что и Верка яму, деду-та, скажи, как чужая. Когда народилась она у мине, так он и к качке ни разу не подошел, да и до се на ее все косится. А она, Верка-та, и обличьем, и карактером – вылитая Евсичиха! В деда, де-е-да!.. Глава вторая Ну вот и церковь. А то все только церковная колокольня маячила вдалеке. На углу – сельсовет. Облупившаяся, посеченная не одной осени дождями саманная хатенка. Широкая улица, словно из пуха, по щиколотку пыль. А вот и... Что ж такая низенькая?! Побеленная хата в три окна. Заскорузлые акации. Мазанная глиной, гладкая завалинка. Ах!.. И откуда только силы берутся? Бегом, бегом! Выщербленный, словно рябой, обтерханный ногами камень. Две ступеньки. Темные прохладные сенцы. – И-и-их!.. Ждала-ждала, да и проглядела! Че ж так долго? – кричит, тиская меня такими же сильными, как у бабушки, руками, худощавая, но крепкая, жилистая девочка-подросток. Это и есть Верка. Моя тетка. Неродная мне по бабушке и родная по деду. Ей пятнадцать лет, и она старше меня всего тремя годами. – Ох, устретились, уж такие родные, уж такие жаланнаи, – переступая порог, сладко говорит бабушка. – Верка, чаво у сенцах-то? У хату гайда... у хату... В хате все знакомо, и все так, как было год, и два, и пять назад. Земляной пол приятно холодит ногу, вальяжная, как полнотелая деревенская красотка, печь устроилась на виду, заняв чуть не треть хаты, напротив посудный шкаф по-сиротски втиснулся в простенок, две кровати да рассохшийся стол в междуоконье... А из переднего угла с темных ликов глядят зоркие глаза, будто выпытывают что-то. – Вы че ж не пассажиркой? – забирая поклажу у бабушки, спрашивает Верка. – О-ох... – садится бабушка на кровать. – Моченьки нету... Отец-та приходил завтракать? – Ишшо у десять часов. – Ну, и чаво говорил? – Хы! А он когда со мной говорить? – Ну, ты б яво о чем бы ни то спросила! – Да, нужен он мне, спрашивать яво... Яишню сжарила, он поел молчком, да и пошел. – А чаво ж приказывал? – Как придеть пассажирка, чтоб Танька у контору прибегла. – Мы про ее, про пассажирку, – позевывая, говорит бабушка, – с разговорами-то и забыли. – Эт ты пешком ишла? – таращит глаза Верка. – А то чаво ж, – отвечает за меня бабушка, – унучечка-та у нас уж большая. Она у меня, как козленочек, усю дорогу: прыг-скок, прыг-скок. То отстанить, то обгонить бабку. И не заметили, как и дошли... А пассажирка, – вдруг спрашивает у Верки бабушка, – давно пришла? – Да только. Вот она пассажирка, вот они и вы... – Ну, – поднимаясь с кровати, говорит бабушка, – ты, унучечка, бяги к деду-та, он там небось уж все глаза проглядел... Тань, знаешь чаво, – будто спохватываясь, просительно заглядывает мне в глаза бабушка, – ты деду-та, должно, не сказывай, што мы пешком ишли... А то он, дед-та, хуже малого, будить увесь вечер... Хух ды хух... Надоисть... Ну? – гладит она меня по голове. – Ладноть? Вот и хорошо. Ну, бяги теперя… – Сейчас, – берусь я за сетки. – Тут же подарки для вас. Мама передала. – Ты ж моя хорошая, – всплескивает руками бабушка. – Это ты, окромя сахару, и ишшо гостинцев привезла? Дожила бабка-та, дожила, – берется за сетки. – Не все она деткам – теперя детки ей. Гляди, Верка, гляди, – достает бабушка кульки, – унучечка и конхветы ты привезла, кругленькаи и подушечки... Чайкю попьется бабка... Ох, и польется! Верка, – спохватывается бабушка, – принеси безмен-та, взвесим, сколь тут будя… – Да я знаю, – поспешно говорю я, – сахару десять килограмм и по килограмму подушечек и кругленьких. Мы с мамой вместе покупали. Тут ведь, погоди, – отстраняю я бабушкины руки, – тут еще сверток есть... Вот, – отыскиваю я среди кульков нужный пакет. – Вера! – кидаюсь я к застывшей у стола Beрке. – Это тебе. Ленты. Смотри, и коричневые для школы, и белые на праздник, и розовые, как у меня... – Ой! – взвизгивает Верка. – Ды таких же ни у кого нетути! Длиннаи какие, лощенаи... – Атласные, – радуюсь я за Верку. – Разрежешь, как раз на две косы хватит. – У-у... – прижимает Верка ленты к груди.– Резать не буду. Ишшо спортю. Пусть так. – Тю-у... – презрительно кривит губы бабушка. – У табе коски-та, што у Таньки, – мышиные хвосты! Куды такие ленты у косу? Сразом потеряешь. Дай мине сантиметру – смерим, тут небось метра цельная в одной ленте... – Погоди, бабушка, потом, – берусь я за пакет. – Тут и тебе подарок. А ленты, как мои, в каждой мет двадцать... – Слыхала? – говорит Верке бабушка. – Тут и на три можна разрезать. – Ишшо чего! – сердится Верка. Она уже достала сантиметровую ленту .и на кровати измеряет ев богатство. – На куски што ли искромсать?! – Ну ее, – тормошу я бабушку, – ты лучше посмотри, что тебе мама передала. Вот, – достаю вчетверо сложенный головной платок, – кашемировый, с розами… А еще и ситчику на кофту. А ситчик – прелесть! Голубенький и синие незабудки... Бабушка принимает из моих рук платок и материю и растерянно глядит на меня. – Унучечка, – говорит она неуверенно, – унучечка... Да спасибо ж тебе, моя родная... Да бабке-то твоей отродясь никто ничаво не даривал... – Да это же не я покупала, – неловко мне от бабушкиной растерянности, –это же мама... – Ну да, – соглашается бабушка смущенно, – хто жа ишшо, как не Нюрка? – Мам, – вихрем налетает Верка. – Платок чур мне! Тута вона какие розы красные... Че, ты такой носить будешь?.. – А чаво ж, – все еще в смущении говорит бабушка. – Он темнай... Што ж, што с розами? – и она повязывает платок на голову. – Личить мине? – Личить, личить, – дуется Верка и берется разглядывать ситчик. Бабушка сняла платок. Развернула его, щупает корявыми пальцами. – Нитки повыдергиваешь, – с упреком говорит Верка. – Пальцы-та шаршавые... Бабушка вздыхает. Сворачивает платок, говорит удовлетворенно: – Новай... – Мам, – подмаргивает мне Верка. – Тебе платок, мне ситчик... – Давай, давай, – притворно сердится бабушка, – раздевай матерю, а то у ей одежи многа... – Куды тебе ходить-та? – дуется Верка. – Ну, ладно, – отбирает бабушка у Верки ситчик, – тады видать будить… – И нет, – не соглашается Верка. – Я хочу такую платью, как на Таньке, чтоб шестиклинка и крылушки заместо рукавов. – Ох, упрямая... Евсикова-та порода, – все еще притворно серчает бабушка. – Дай-ка сантиметру. Ну, – измеряет она материю, – чаво я говорила, тута тольке на кофту, два с половиной метра, а табе на платью три надо! – Ну, почему?! – кричит на бабушку Верка. – Ды потому. Не шить жа такую короткую, как на Таньке... – Ну, по колена... – Вот и по колена. Три метра – край. – Может, получится? – канючит Верка. – Ничаво не получится, – всерьез сердится 6a6yшка и, снова измеряя ситчик, говорит Верке: – Два с половиной. Куды ж ты денешьси? – Танька вон у шестой класс только перешла, а ей платьев: и маркизетовая, и из майи, а у меня ни одного доброго нету, – чуть не плачет Верка. – Чтоб ей, Нюрке-та, – вздыхает бабушка, – полметра больше взять... Он же недорогой, ситец-та, его тольке достать трудно... – Почем мать брала? – допрашивает меня Верка. – Не знаю, – винюсь я. – Да по двенадцати рублев, не дороже, – встревает бабушка. – Это всего-та на шесть рублей докупить надо было?! – гневается Верка. – Ну да, – подтверждает бабушка, – на шесть. Он весь отрез-та стоить, значить... – считает она в уме, шевеля губами, – тридцать рублев, а так бы тридцать шесть стоил... – Может, мама больше достать не смогла? – неуверенно вступаюсь я за маму. – Прямо што, – не соглашается Верка, – полметра, да и не достала. Небось не наш брат – колхозник, – сердито говорит она, – медсестра, да у такой больнице, где все операции делають. Там везуть-та и несуть... Вон как нашей фельшерице... Заболеешь, так усе отдашь… – И нет, – еле выговариваю я, – никто нам не везет и не несет... А мама на полторы ставки сутками работает. – А то мы тута не работаем, – отмахивается Верка. – Дед твой с утра до вечера у конторе пропадает, должно, к стулу прилип, да и Витька, родный твой дядюшка, круглогодно у стене... А получают че? Xopошо, как у конце года пашеницы на трудодни дадут, а то и так не пропадуть колхознички... Я вон тоже на току у прошлом годе лопатой ворочала наровне с бабами а заработала? Кошкины слезки. И нынче у садах виноградник полола, был руки отвалились, там земля – камень! Так осенью, если принесешь цибарку виноградцу, то и хорошо, коль не отымуть. А мать твоя... – Верка! – прикрикивает бабушка. – Че Верка? – огрызается Верка. – Правду говорю. А мать твоя, – пуляет она в меня без промаху липучими словами, – у белом халатике, и што ни месяц, двести девяносто рублей в кармане, да и на тебя за отца сто шестьдесят целковых получаить. Можна и шестиклинки носить, и ленты атласнаи... С повинной головой стою я у стола, на каком беспорядочно разбросаны привезенные гостинцы, подбородок мой дрожит, и предательская слеза уже готова выкатиться из глаза... – Верка! Дурища здоровая! – взглядывая на меня, кричит бабушка. – Чаво языком ляскаешь?! Головы на плечах нетути? – и, протягивая ко мне руки, говорит жалостливо: – Иди сюды, иди, моя унучечка! Не слухай ее, то она так, сама не знаить, чаво мелить... Глава третья –Де-е-ду-шка-а, – говорю я шепотком, выглядывая из-за двери. В низенькой сумрачной комнатенке он за столом один, заглядывая в бумаги, щелкает косточками на счетах. – Дедушка! – окликаю я его во весь голос, перескакиваю через высокий порог, бегу к нему; обняв за шею, целуя отвисшие гладко выбритые щеки, прижимаюсь к его груди и слышу, как глухо-глухо, словно за каменной стеной, бьется его сердце. – Дедушка! – Хух! – тяжело выдыхает он, – притискивая меня к себе. – Ну, наконец! Уж я и не знал, что и думать. – А что ты думал, дедушка? – заглядываю в его тревожные глаза. – Да как же мать тебя одну отпустила?! – Дедушка! – звонко целую его в обе щеки. – Миленький ты мой! Ведь я уже большая! Писала: в шестой класс перешла. Не читал разве? – Как не читать? – приглаживает мои порастрепавшиеся волосенки дед. –Читал, да и не один раз. Письмо твое при мне. До се цело. Только писарь из тебя никудышний. Все новости твои: здравствуй прощай. – Как это? – поражаюсь я дедушкиной неблагодарности. – Как это здравствуй да прощай? Разве не описала первомайский утренник? Как танцевала вальс в марлевой пачке? Знаешь, какая была пачка? Как у настоящей балерины! Жаль, мама распоров ее на оконные занавески, а то бы ты приехал и посмотрел... А еще я писала тебе про Люду, подружку, помнишь? – Ну, Бог с ней и с Людой, – нетерпеливо прерывает меня дедушка. – Скажи... ты дюже хворала зимой? – Нет. Только кашляла долго. – Когда ж твой кашель совсем пройдет? – спрашивает дедушка себя самого, а говорящие глаза тоскливой болью глядят на меня. – Какой ты смешной, дедушка! – тороплюсь yспокоить его. – Мой кашель никогда не пройдет. Я каждую зиму болею. И болеть буду. – Хух! Ты что такое говоришь?! – обжигает он меня острым, как лезвие бритвы, взглядом кричащих глаз. – Что ты говоришь?! – Это не я говорю, – уже сердито разъясняю бестолковому деду. – Это врач так говорит, пока мы мамой будем жить в подвале, мой кашель не пройдет, потому что там очень сыро и никогда не бывает солнца… – А что ж, квартиру вам не обещают? – Обещают… Только мама говорит, если еще столько лет обещать будут, то квартира может нам и не понадобиться… – Хух,– тяжело выдыхает дед. – Какая ж беда-а… – Да какая же беда, дедушка! – успокаиваю его. – Какая беда? Мы живем хорошо. У соседей наших спроси. Знаешь, над нами, на первом этаже, живет Люда. Она учится со мной в одном классе. Плохо учится. Ей ничего не дается. И Вера Степановна, наша учительница, ее не любит. Посадила со мной. Говорит, сядь рядом с Таней, может, ума от нее наберешься. И вот весь год я над Людой шефствовала, учила ypoки вместе с ней. Сначала сама выучу, потом ей объясню, потом заставлю ее выучить, потом она мне пересказывает… – Хух! Ды к чему ж ты, такая хворая, так себя обременяла? Энта дура учиться не хочет, а ты... – Нельзя, дедушка! Она в моем звене, а я звеньевая, значит, и за Люду в ответе... Зато Люда разрешала поиграть мне на своем пианино, и я без нот, по слуху, подобрала “Во саду ли в огороде...” Не веришь? – Почему не верю? Я и сам раньше пел в церковном хоре, и слух у меня, дай Бог всякому... – А у бедной Люды слуху нет, – вздыхаю я. – И она разучивает ноты с учительницей. Потом по нотам и будет играть. А учительница строгая и, если Люда возьмет не ту ноту, бьет ее по рукам. Люда плачет и учиться музыке не хочет, а ведь ее мама платит учительнице сто пятьдесят рублей в месяц… – И откуда ж люди такие деньги берут? – удивляется дедушка. – Ты, дедушка, не волнуйся: Люда говорит, у них денег полно. Ее мать работает на маслозаводе, а отец шеф-поваром в санатории. У них соседи по дешевке покупают мясо, масло и сметану. – Что ж, они разве скотину держут? – Дедушка, ну какая скотина на курорте? Скажешь тоже. Сметану и масло Людина мать с маслозавода приносит, а мясо отец с санатория... – И не боятся люди... – А чего бояться? Люда говорит, они каждый раз помалу берут, за это не посадят... – Да оборони тебя Господь! – пугается дед. – Это и ты хочешь такую пианину?! – Что ты, дедушка. – успокаиваю я его. – Мало ли чего я хочу? Пианино стоит шесть тысяч, а мама говорит, что таких денег ей за всю жизнь не накопить. Зато она обещала купить мне металлофон, если я и шестой класс окончу на отлично. Он стоит семьдесят пять рублей, и на нем можно научиться играть без учительницы. Знаешь, такие металлические трубочки, и по ним слегка надо ударять палочками... – Ну-ну, – сжимает мою руку в своей ладони дед. – Ничего, вырастешь, выучишься и купишь... Разве такие трубочки? Как у подружки и купишь, настоящую... Только гляди... сытая жизнь с виду легкая, и лучше хлеб черный исть да водой запивать – только по ночам спать спокойно… – Дедушка! Как плохо ты обо мне думаешь! – Ды не плохо, не плохо. Мала ты ишшо и проста очень. И ни слово при тебе, а ты при нем так и мать в трату введешь… – В какую еще трату, дедушка? Я никогда у нее не прошу лишнего... – Хух! – безнадежно машет рукою дед. – Что ты все вздыхаешь? Когда мама уходит в дежурство, она оставляет мне три рубля. И я покупаю себе, что захочу... – Ну и что же ты покупаешь? – пытает дед. – Да все. Можно купить сто грамм подушечек и два молочных мороженого, а можно двести грамм подушечек и одно мороженое. Только, – спохватываюсь я, – ты не говори маме, потому что она мне велит покупать двести грамм чайной колбасы, это два сорок стоит, и на шестьдесят копеек булку, городская называется... – И это твоя еда на целый день? – Не-ет. Почему? Я еще варю себе суп. На два дня. Мама придет с дежурства, а у меня и суп готов. Знаешь, как надо? В кастрюлю наливаешь воды, туда три картошки, потом стакан вермишели, поджаришь лук на маргарине, если есть помидорчик, и помидорчик туда... Все. Суп готов. – А что ж, суп каждый раз у тебя пустой? – мрачнеет взгляд деда. – Почему пустой? Ты разве не слышал? Я ж тебе говорю: наливаешь воды... – Да это я слышал, – печально откликается дед и пытает дальше. – А что, мясо мать никогда не покупает? – Она и на базар никогда не ходит... – Почему? – Говорит, не с нашими деньгами туда ходить... – Ну, а как же вы без базару обходитесь? – В том-то и дело, что без базара нам никак не обойтись. И хочешь-не хочешь, в воскресенье на базар иду я покупать продукты на неделю. Мама дает мне десять рублей. Надо обязательно взять два килограмма картошки, это четыре рубля стоит, летом я покупаю еще килограмм помидоров, маленькие и чуть примятые можно за три рубля выторговать, а на оставшиеся три рубля купить огурцов или брынзы, греки продают, вкусная… А зимой вместо помидоров я беру квашеную капусту или кислое молоко, пол-литровую баночку с пенкой… Знаешь, дедушка, а Людина мать прет с базара такие тяжеленные сетки, что я ей помогаю. Она покупает все подряд... и черешню, и клубнику, и виноград, и арбузы, и даже зимой яблоки и груши... Деньги есть, отчего не покупать? Когда я вырасту и у меня тоже будет много денег, я буду идти с базара, а сумки у меня будут, как у Людиной матери, правда, дедушка?.. Дед молчит, я тоже умолкаю, но, взглядывая в его сумрачное лицо, говорю: – Да ты не расстраивайся, дедушка, я кушаю хорошо, а мама ест на дежурстве, что от больных остается... – Ху-у-ух, – вздыхает дед и снова спрашивает: – А что, мать часто дежурит? – Часто, еще как часто! – вспоминаю я свои домашние печали.– Ей мало одной больницы, так она еще и в санатории на полставки работает. Ты напиши ей, дедушка! Она тебя послушает! А я как ни прошу ее, как ни плачу, все равно она оставляет меня одну, да еще и накричит, и уйдет на свое дежурство. А знаешь, как я боюсь? Ночью одной, знаешь, как страшно? И я прячусь под одеяло и даже голову боюсь высунуть... – Танька, ты, Танька, – качая головой, печально глядит на меня дед, – а говоришь, большая... – Да ну тебя, дедушка! – дую я губы. – Тебе меня нисколечки не жалко. Правду говорит бабушка: ты только маму одну и жалеешь. Глаза деда неожиданно теплеют, и, гладя своей ласковой рукой меня по голове, он говорит: – Ах ты, моя говорунья!.. Как же мне тебя, да и не жалко? Мне всех вас жалко. Но беда: старый я. Седьмой десяток пошел. И сердце у меня что-то дюже болеть стало, помру, кто ж матери подмогнет тебя на ноги поставить? Ведь она у городе одна, как рыба об лед бьется. И жить там тяжельше: все с базару, все купить надо. Где ж таких денег набраться? Пока живой, я ж то муки, то яиц – бабка соберет – привезу. А меня не будет? На Витьку надежи нет. Женится – и как с возу упало. Верке, той самой ума ишшо давать надо, просится ж осенью у город, у восьмой класс… А ты говоришь, не жалко. Как вы жить без меня будете, ума не приложу! – Дедушка! – кидаюсь я к нему на грудь. – Родненький дедушка! – и жгучие мои слезы обжигают его руку. – Я не хочу... не хочу, слышишь, не хочу, чтобы ты умирал... – Ну-ну, – обирает ладонью мои слезы дед. – Hе плачь... Не помру... То я так, должно, тебя долго не видал... Соскучился... Глава четвертая Дверь с грохотом откидывается, и на высокий порог вступает похозяйски нога в пропыленном хромовом сапоге и защитных галифе. Сильная рука, ухватившись за косяк, вносит в проем часть большого, обтянутого выгоревшей гимнастеркой тела. А головы не видно: она в коридоре, отдает приказания властным, но веселым голосом. – Ступай домой, – строго говорит мне дедушка и, видя, что я хочу просить позволения остаться, повторяет непреклонно: – Ступай. И я иду к дверям. Жду, когда хозяин властного веселого голоса переступит порог. А он все еще кричит в просвет коридора: – Гляди у меня, чтоб одна нога там, другая здесь! А не то – дух из тебя вон! – Ла-а-дно, – слышится с улицы не шибко почтительный мальчишеский голос и вслед за тем важное причмокивание: – Н-но-о-о!.. Глухо стучат копыта, и председательская линейка, знакомая мне по слуху, отъезжает от крыльца. Наконец дверной проем свободен, но выйти из комнаты я не могу: вошедший, насмешливо глядя на меня, обращается к дедушке: – Эта еще откуда барышня? Дедушка отвечает неохотно: – Внучка приехала... – Стоп, – с упорством человека, решившего до всего дознаться, разглядывает меня мужчина. – Это какая? – Одна она у меня, – все так же неохотно говорит дедушка. – Нюркина что ли? – радуется незнакомец. – Нюркина, – сухо подтверждает дедушка. – То-то я гляжу, городская... Ишь, сероглазая, – дружески треплет меня по щеке незнакомец и заявляет категорически: – На Нюрку не похожа. В кого ж она? – Должно, в отца, – отвечает с явным неудовольствием дед. – Слыхали про такого, – иронично замечает мужчина, пропуская дедушкин тон мимо ушей. – Слыхали, как же, – подмаргивает он мне. – Орел, говорят, был. Не чета некоторым. – И неожиданно спрашивает меня: – А что мать, все такая ж королева? Несмотря на обидный тон и насмешливые речи, мне нравится этот дерзкий человек с сияющими глазами, но я чувствую недовольство и настороженность деда и зазвеневшим от смущения голосом говорю: – А почему я должна рассказывать Вам про маму? Я же не знаю Вас. – О! – с восторгом восклицает незнакомец. – Это Нюркина дочь. Вот теперь я вижу: гонор-то материн. Ну, – протягивает мне, как лопату, широченную ладонь, – давай знакомиться. Латышев... Иван Семеныч, твой земляк. Ведь ты тут, в Покойном, родилась? – И, крепко сжимая мою ладошку: – Ну вот, значит, мы с тобой почти что родичи: на одной земле встали на ноги! А я ведь с матерью твоей вместе учился, – хвалится Латышев. – Сперва здесь, в Покойном, потом в городе. Правда, она по медицинской части пошла, а я в сельхозтехникуме обосновался, но все равно, виделись мы не меньше десяти раз на день. По моей милости. Понимаешь, – доверительно говорит Иван Семеныч, – такое дело: влюблен был в твою мать без памяти. Да на беду свою в те времена был я тонкий, звонкий и прозрачный, и штаны на мне висели, как макароны. К тому же улеплен конопушками, словно по мне просо веяли. Ну, – спрашивает он всерьез, – можно было с такими данными влюбляться? Я гляжу на него с сочувствием, а он, вздыхая, заключает: – Нет, конечно, сам теперь понимаю. А нынче, – убеждает он меня, – куда те конопушки и делись? Через войну прошел. Жив остался. Рубаха – во! – аж трещит на плечах, вроде я по курортам слоняюсь. Чтоб такие данные да тогда иметь? На кой они мне щас? Кого завлекать? Женой уж я давно обзавелся. Пацанов двое. Да и дел – дохнуть некогда. Тах-та, – вздыхает Иван Семеныч. – Значит, мать ты с собой не прихватила? Жаль. Хорошо б увидеться. А то я уж полгода в родимом колхозе ошиваюсь, а с кем в кулючки играл да в сопливой юности под гармонь чечетку выбивал, тех уж нет, а кто далече... Да... А с матерью твоей, ох, как хотелось бы мне увидеться!.. Как бы я щас показался, а? – и, угадывая мои мысли: – То-то и оно... Ну, ладно, – выпускает наконец он мою руку, – дуй до дому да жди своего твердолобого деда... Я совсем забыла про дедушку, а он сидит, опустивши голову, теребя мальчишеский редкий свой чубик. Перехватив мой взгляд, Иван Семеныч говорит непонятно: – Ничего, это нам обоим полезно. И, когда я уже толкаю тяжелую дверь, догоняет меня словами: – А будет надобность, заходи. Уважу. Я ведь тут, между прочим, председателем маюсь. Ты на линейке прокатиться не хочешь? К дядьке своему, например, чабану знаменитому? А? Ах, какой он хитрюга, этот Иван Семеныч! Как он может знать, чего я хочу больше всего на свете. Даже дедушка поднял голову и глядит на меня вопросительно. Поехать к Вите, в отару, и привезти его домой не на быках слюнявых, а на быстроногих лошадях, запряженных в председательскую линейку... – Нет, – вздыхаю я, стойко глядя в победное блестящее око Ивана Семеновича. – Нет, – помню я дедушкину склоненную голову и грубое председательское слово “твердолобый”... И, прикрывая за собой двери, слышу, как Иван Семенович говорит деду: – Ну, считай Михаил Матвеич, что жизнь прожил ты не зря. Внучка твоя мне дюже понравилась... Я делаю несколько шагов по коридору и вдруг останавливаясь, на цыпочках возвращаюсь назад к тяжелой, неуклюжей двери. Меня бросает то в жар, то в холод от страха – вдруг дверь откроется? – и от стыда – нехорошо же подслушивать! Но сильнее всего во мне: жалость к виновато склоненной голове деда, с редким мальчишеским чубиком на лбу, и любопытство к тому, что будет говорить Латышев Иван Семеныч, дерзкий человек с праздничными глазами... Глава пятая – Ну? – сурово вопрошает Иван Семенович. – Я уж сказал, – уклоняется от разговора дед. – Слыхал. Сенька переказывал, – неумолимо давит председатель. – От тебя теперь услышать хочу. – Разговор напрасный: другого ничего не услышишь, – неохотно откликается дед. – Ловко, – ерзает на скрипучей табуретке Иван Семенович. – Только вот что я тебе скажу: не верю я в твою честность. Извиняй на грубом слове: серливый ты – и все. Оттого у тебя: и сам не гам, и другому не дам. Ну, насчет тебя самого мне начхать. Это твое личное дело. Может, ты смальства привык и тебе нравится каждый день: щи пустые, щи густые, щи с квасом, щи без мяса, щи два ведра и одна луковица... Но есть, как говорит одна умнейшая голова, твоя соседка Парашка Маслова, дела “обчественные”. Так вот, исходя из обчественных интересов, мне коровник перекрывать надо. Заметь, не хату собственную. Но удивительное дело: в наше время, как правило, за огрехи в работе шею мылят руководителю, а за успехи в пояс кланяются коллективу. Поэтому, когда зимой завеет и в колхозной развалюхе, обзываемой коровником, начнется падеж, тогда спросят не с тебя, не с Сеньки, не с Князька – божьего угодника, не с Парашки Масловой, что хайло на собрании только разевать и умеет, а спросят с председателя, Латышева Иван Семеныча: где он, сукин сын, был летом и каким местом соображал насчет зимовки скота? И не станут уточнять, мог или не мог Лытышев уговорить бухгалтера колхоза списать десять килограмм барашки... – Доставай фонды, выкупай железо и крой крышу, – невозмутимо отзывается дед. – Ах, благодетель! – ерничает Лытышев. – Так, значит, и фонды доставай?! Разрешаешь? А где я их – мать твою так! – достану?! У каких районных дверей милостыню прикажешь просить?! И не лучше ли сунуть кому надо задок барашки и достать без всяки фондов две тонны листового железа? – Не доставай. Бери, что положено. – А ты не знаешь, что, согласно райплану, нашем коллективному хозяйству заместо железа на этот год, и последующие обозримые лета положен кукиш с маслом?! И если я буду надеяться на что и кем положено, то уже через год у нас рухнет не только коровник. Tы не любишь заходить на склад, а напрасно. Ты б зашел к Сеньке-та, да поднял бы голову, да разглядел бы, что стропила там, на складе, давно на ладан дышат, как Сенька жив, одному Богу известно... – Ты за него не беспокойся... – А че ты в него такой влюбленный? Ворует он вроде не шибко? – Окромя воровства, хватает в нем баловства... – Ну, это ты брось... В душу каждому не заглянешь! А на склад самого распрочестного поставь, с голоду не помрет. Так что Сеньку и заодно с ним колхозную пашеничку придется спасать и в пожарном порядке менять стропила. Но! Фондов на лес мне, как ты уже догадался, тоже не обещают. Так что придется и тебе к спасению колхозного имущества, в том числе и Сенькиной жизни, руку приложить. Не могу же я в самом деле только с поллитрами наступать?! Они денег стоят. А карман у меня не шибко тугой. Да и сама, председательша то исть, помаленьку во вкус входи! Как ни крути, председательская женка. Черт знает как их, баб этих, жизнь меняет. Была девка как девка с телячьими невинными глазками, а теперь – хрен ее знает! – за войну что ли наголодовалась, все мало! – Пропадешь… – вырывается у деда. – А ты по мне сногсшибательный марш не завод! – усмехается Иван Семеныч. – Раньше надо было остерегать, когда я в председатели шел. А теперь поздно Я, видишь ли, к председательской табуретке привык. И хоть сидеть на ней неудобно, а самолюбию приятно. Не рядовая табуретка-та. И потом, как ни крути, другой на моем месте будет, третий ли, а кухня одна. Meня один районный товарищ по-свойски учил: че ты, говорит, маешься? Вон в Прасковее Краснокутский без всяких фондов живет: и железо, и гвозди, и запчасти – все, как в снабсбыте. А откуда? Мы с тобой, Михаил Матвеевич, зарезали валушка и куда его? В бригаду. В котел. Уборочная. Людям жрать даем получше. И ни грамма на сторону. А у Краснокутского как? Полбарана в котел, а половину нужным людям, но все чин чинарем. Выписано. За денежки. Вернее, за копейки. А взамен Краснокутский получает от тех самых нужных людей и лес, и железо, и машины, и птичье молоко. Но не подумай плохого. Язык, он без костей, а народ у нас продувной – не обманешь. Я был у Краснокутского в хате: так же, как и мы, живет, чуток получше. Зато колхоз – не наша богадельня: подайте Христа ради. Тах-то. Дожил ты, Михаил Матвеевич, до седин, а приходится толковать с тобой про то, что малому дитю известно... – Ничего нового ты мне не сказал... – Ну?! – насмехается Иван Семенович. – Так что ж ты тогда в бутылку лезешь? С другими-то у тебя как было? – Их, других-то, – иль забыл? – сурово спрашивает дед, – на пальцах не перечтешь... Только здороваться да прощаться успевали... – Крупно тебе повезло. Когда начальников часто меняют, у подчиненных не жизнь – малина. Но я помню, при Оладине ты года два в бригаде работал. Правду говорили, за Алексея? – Сам у бригаду пошел... – Че ты сказать боишься? Время теперь другое, погляди в окошко: на дворе год пятьдесят четвертый. Может, и сына твоего еще оправдают. Парень-то был боевой. Помню, в буденовке, со звездой... Уж я, на него глядя, обзавидовался... Дедушка молчит, Иван Семенович, тоже помолчавши, весело: – Слыхал, Парашку Маслову в район вызывали? Ну, думаю, пропала чертова баба и я вместе с ней. Дюже в лавке разорялась: сахар, видите ли, ей понадобился. Однако вечером встречаю: “Ну, принципиальная колхозница, ты что же это председателя под монастырь подводишь?” – “Да уж ты прости меня, – говорит, – то я так, сдуру”. – “Э, – мыслю, – значит, мозги тебе добре вправили”. – А сам интересуюсь: “Ну, и как там, в районе?” – “Да никак, – отвечает, – разъяснили, почему нехватка с сахаром. На Украине свекла не уродилась...” Да... – постукивает сапогом Иван Семенович. – Ладно. Наговорились мы с тобой досыта. Значит так, в город я завтра утречком отправляюсь, а Сенька к тебе вечером зайдет, оформишь накладную: валушка на бригаду спишешь... – Я ж сказал, – невозмутимо отзывается дед. – Ты че, смеешься надо мной? – ледяным тоном ошпаривает деда председатель. – Я не погляжу, что тебя еще в тридцатом году как дюже совестливого обчество посадило в контору блюсти колхозные интересы. Теперь не тридцатые годы, и блюсти интересы не с кого: врагов всех поизвели, остались одни сознательные колхозники, что родимый колхоз до ручки довели… А раз ты, твердолобая голова, не понимаешь задачи… этого... сегодняшнего дня... сдавай дела Маньке и дуй в бригаду щи с бараниной хлебать. Ну че глядишь? Из души три души вынимаешь? Нет у меня время тебя уговаривать. Колхоз с карачек поднимать надо. Понял? – Когда дела сдавать? – Че-о?! – Бумаги сдавать когда? – спокойно спрашивает дед. – Вона?! – с грохотом отшвыривает табуретку Латышев. – Дня тебе хватит? Вот и хорошо. И начинай сегодня же. А завтра в бригаду. Поворочаешь лопатой – поумнеешь. – Это ты напрасно, – с сожалением говорит дедушка. – Мы к труду привычные... Куда ни поставь... – Ну... но... Я ж на это и надеюсь. Глава шестая Грозный человек с веселыми глазами, развернув руки, точно метровые крылья, идет на меня, настойчиво приговаривая: – Будешь есть барашку? Будешь?! Я, забившись в угол и цепенея от ужаса, гляжу, как завороженная, ему в глаза и не могу разлепить губы, чтобы сказать: “Я не ем баранину”... А он вот-вот, как петлей, захлестнет меня своими длинными руками, и они у него жалобно скрипят: “Скры-ры-ры-и-и...”. Я хочу втиснуться в стену и прижимаюсь что есть силы к шершавому саману, но поздно. Его рыжебровое, горбоносое лицо с отчаянно блестящими глазами уже нависло надо мной: – Бу-бу-бу, – невнятно бормочет он отчего-то теперь уже другим, знакомо-родным голосом... – Буду... Наливай... Исть хочу, – уже явственно слышу я этот голос и, вздрагивая, открываю глаза: – Витя! – кричу, соскакивая с кровати. – Витенька! – подбегаю к нему.– Ты узнал про меня и приехал? Да? – целую колючее лицо. – Тишай, Танькя, – цыкает бабушка и разъясняет непонятно: – Тишай, суседи услышат... – Витя, – не обращаю я на бабушкины слова внимания. – Витя, – ласкаюсь к нему. – Ну, здравствуй, – обветренными губами чмокает меня куда-то в ухо Витя. – Здравствуй, – повторяет он смущенно и, берясь за ложку, виновато улыбается. – Я ж не знал, что ты приехала... Вы ж хучь бы с кем переказали, – упрекает он бабушку. – Ой, Господи! – гремит в шкафу бабушка. – Какая бяда-а!.. Не учера, так сегодня увиделись... – и добавляет ласково: – Не горюй, унучечка, ишшо надоисть тебе Витька за лето. Он теперя часто домой приезжаить. Не один у отаре. Князек сменшшиком у яво работаить. А ты скорей, – говорит она Вите, – а то отец рассерчаить... Деревянной ложкой Витя черпает молоко, подцепляя разбухшую мякоть накрошенного в миску хлеба, а я, глядя в его худое небритое лицо, на остриженную под машинку угловатую голову, на серую истасканную одежду, пахнущую тяжело и нечисто, говорю: – Ты устал, Витя? – Жалельщица, – усмехается Витя, взглядывая на меня такими же, как у деда, маленькими, но мягкими, добрыми глазами. – Эх ты, усех не пожалеешь, – вздыхает он и, дочерпывая молоко, выкрикивает бабушке: – Мам, неужели ничего больше нет? – Ды, Господи, – отвечает бабушка, – хто ж знал, что ты приедешь? – Да ты сроду не знаешь – безнадежно машет рукой Витя. – Когда ни приедешь, исть нечего. – Ox, уж кому угождать… – начинает бабушка, но входит дед, и она умолкает. Дед садится к столу с другого, противоположного Вите конца, исподлобья смотрит, как он, облизывая ложку, кладет ее на край миски. – Господи! – всплескивает руками бабушка. – Головушка горькая! Памяти совсем нетути... Забыла… Сынок, у мине ж лапшевничек есть, такой же хороший лапшевничек... Щас принесу... У кухни... Бабушка выскакивает в сенцы, оставляя дверь открытой, и мы слышим, как она гремит на дворе, в летней кухне, печной заслонкой. Возвращаясь, бабушка прикрывает за собой дверь и ставит перед Витей противень с остатками запеченной лапши. – Ишь, сынок, досыта ишь, – говорит бабушка сладко. – Наголодался у степе-то... Витя, ни слова не говоря, придвигает к себе противень, а дед все так же тяжело глядит на него. – Ну, чаво ж там? – бодро спрашивает бабушка у деда. – Я Верку-та не окликнула, опасаюсь Масловых, не дай Бог услышуть... – Ты меньше языком, – поднимает голову дед. – И Масловых опасаться не придется, – и, не давая бабушке выговорить ни слова, добавляет: – Ступай. – Ды щас. Сыночка ж покормлю... – Не маленький. Сам поисть... – Ну-ну, – соглашается бабушка, но у порога медлит. – А ты бы ложилась, – говорит мне дед. – Ну, – не гляжу я ему в глаза. – Я с Витей... – С дядей Витей, – сурово поправляет дед. – Ды он, дядюшка твой, – певуче говорит бабушка, – щас быков распрягать пойдеть... – И я с ним, – упрямлюсь я. – И чаво тебе по темноте лазить-та? Ишшо ноги наколишь... – убеждает бабушка. – Не наколю... – Нечего на дворе тебе делать, – строго бросает дед. – Нет, я... с ним, – не зная, как назвать Витю, потупив голову, ковыряю столешницу. – Ды называй, как привыкла, – улавливая мою заминку, усмехается Витя и добавляет. – Не боись... Никуды я не денусь... Я ж дома ночевать останусь... А там, на дворе, – взглядывая на деда, с усмешкой продолжает он, – воз цельный травы. Я тайком накосил в степи, до свету убрать в сарай надо... Верка одна не управится... – Тебе ночевать дома нельзя, – хмурится дед. – Езжай в отару... – Че ради? – Ничего. А поняй – и все. Князек же там? – А то он знаить, куды я мотнулся. Че я ему, докладаться буду? – Сопливый ты ишшо, чтоб Князька провесть... – Хо?! Дед поднимает глаза: – Сколько разов говорить? Довольно уже. Довольно с травой этой, пока беды не нажил... – Баба с воза – кобыле лекше. Думаешь, мине легко косить ее? Пригадываешь, пригадываешь, и куды выехать, и когда, и с Князьком с этим мороки... Давеча косу беру, а он: на что она тибе? – Ну вот, – роняет, как гири, тяжеленные слова дед. – Че, ну вот? Языка что ли у мине нету? Я яму: другой раз поедешь, косу тоже не бери. Он и умылси... – Хух, Боже мой, Боже мой!.. – Тольке хухкать и умеешь! – не выдерживает бабушка.– Ежли Витька сена на зиму не навозить, корову со двора долой! – Тебя не слыхали, – обжигает взглядом бабушку дед. – Жрать-та ты чаво будешь?! – визгливо вскрикивает бабушка. – Довольно! – чуть повышая голос, приказывает дед. – Ну и черт с тобой! – полушепотом, полувслух ругается бабушка, но двери за собой прикрывает тихо. – Я тоже пойду, – отодвигает пустой противень Витя. – А то ночь короткая... – Быков не распрягай. Сразу поедешь... – Жалезный я што ли? Устал. Спать хочу. – Другой раз выспишься. – Можно я с тобой в отару поеду? – бросаюсь я к Вите. – У деда свово любимого спрашивай, – отстраняя меня, идет к двери Витя. Глава седьмая Ночь. Темная-темная ночь принакрыла землю мягким, душным крылом. Ни ветерка. Ни звука. Молчит таинственная степь и каждая травинка в ней. Молчит, пригорюнилась, устала за день пыльная дорога, и тол ко колеса подводы жалобно поскрипывают в томящей тишине, да одинокая звезда там, вдали, на востоке, ярко возгораясь, утешает путника тем, что все в мире преходяще... – Ты не спишь, Витя? – шепотом спрашиваю я. – Не, – отвечает Витя приглушенно, – а то и под колеса недолго свалиться. А тебе, должно, тряско? Бабка сена пожалела, а то б мякше было... – Витя, а сена много еще надо, чтобы на зиму хватило? – Не... чуток осталось... Подводы две бы ишшо привезть, и хватит. – А как же дедушка сказал: больше не привози? – Хух, его слухать, так и вовсе возить не надо было. – Витя, он же не за себя, а за тебя боится... – Меньше боялся бы, лучше было... – Ты не любишь его, Витя? – Че он, девка, чтоб любить его? Сроду так: приедешь с травой, без травы, прицепится: езжай да езжай в отару, че случится, ты ответчик. А то без яво не знаю. Ровно я не человек: ни в клуб сходить, ни ишшо куды... – А председатель вчера дедушку с бухгалтеров снял... Я сама слышала... Дедушка дела уже сдавать начал... – Давно б пора... – Почему ты говоришь так?! – Ды потому. От людей совестно. Все на его жалятся. – Ну кто все-то?! – Ху-ух, и брыгадир, и кладовщик, и ветеринар, и народ же... Сроду людям лишнего не прибавить... Ни-ни... Где рубль надо б заплатить, он пятьдесят копеек, а где пятьдесят, там, глядишь, и двадцать норовит сунуть... Все боится, как бы колхоз не обеднял. – Ну, а если колхоз богатый, то и всем лучше? – Слыхали мы эту песню. То-то мы все забогатели. Он, колхоз-та... ежли б в нем один дед был, а то каждый себе тянить... – Ну почему?! – Ды все потому же: колхоз дюже бедный. – Так это от самих колхозников зависит! – Ежли б только от колхозников... – Ничего я не пойму... – Мала ты ишшо во всем разбираться. Люди постарше тибе, да не поймуть. – Ну а при чем тут дедушка? – Ды притом. Лезить, куды его не просють. На май мы валушка прирезали. По закону ж оформили: ветеринар справку написал, навроде перелом... – У кого? – Хух, у валушка, у кого ж ишшо!.. – А у него правда был перелом? – Ды нет. Я ж сказал: навроде. – Ну? – Ну што ну? Вот дед, не хуже тибе, к ветеринару прицапилси: че это, как праздник, так у вас овцы ноги ломают? Вот и возьми его за рупь двадцать... Ну, людям-та надо хучь в праздник мясца поисть? – А что, всем колхозникам хватило? – Хух, глупота! Одного валушка – в ем боле двадцати кило не будить – на весь колхоз хватит? По головкам разошелси... – Как это? – Ды так. Ветеринар, брыгадир, председатель тоже, должно, выписал. Все, окромя деда. Тому все совесть не велить. Ежли бабка за его спиной ухватить кусок, то и хорошо. Да и то скандалу не оберешьси... Куды ж с энтим мясом? Дед сразу засекеть. Ложку в щи, и глаза на бабку. Уж та на что брехливая, а перед им не отвертится... – И правильно дедушка делает: стыдно так! Всем надо поровну! – Где это на всех наберешьси? Это от моей отары за полгода ничего не останется. ...Такая тоска в черной степи, такая тоска... – Витя... Но Витя не слышит меня. – А то стрыжка была. Стал шерсть сдавать, опять дед лезить: чего у тебя настрыг не по норме? А то не понимаить, что ветеринару дай, брыгадиру дай, стрыгалям тоже дай, а не то сами больше упруть, бабке нашей, и той надо – иначе со двора сгонить. – А ты не давай. – А как же к людям подходить? – Да зачем тебе к ним подходить?! – Хух!.. Ты навроде деда. Ды ежли я с ветеринаром, к примеру, ладить не буду, он мине справку какую подпишить? В землю я заройся – не докажу, что овца от болезни пала. Он вскрытие произведеть – я в ем че понимаю? – скажить: недогляд. Все. На мою шею. Я в жись не рашшитаюсь... Так что деда да-а-вно надо было гнать, и правильно Латышев исделал... – Ты гадкий человек, Витя! – выкрикиваю я, и злые слезы брызгают у меня из глаз. – Хух! И че ты слезы льешь? – примиряюще говорит Витя. – За деда? Так он из бухгалтеров сколько разов просился. И у Латышева. Я слыхал. И тот сулился поставить его щитоводом. То он его сгоряча у брыгаду сунул. А без деда ему не обойтись. Не-е... то до первой ревизии. Там Манькя таких дялов наворочаить, что и Латышеву головы не сносить... Не горюй. Можа, одно лето дед у степе и прокантуется... Ему полезно. Жир порастрясти. – Да ты не знаешь, что у него сердце больное? Мама говорит: оттого он и полный. – С чего это? Что-то я не слыхал, чтоб он на сердце жалилси. ...Что же это такое в самом деле? Я не понимаю Витю, Витя не понимает меня, а деда не понимает никто? – А насчет Латышева ты напрасно, – разговорился Витя. – Он мужик стоящий. Голова, каких мало. Он и мине помог. Я раз осерчал, да и то сказать, сколько можно одному с отарой венчаться? Домой съездить на час и то не могу. Одежу переменить. Харчей привезть. Как дед Мороз помер, про меня ровно забыли. Сидишь у степе, ну и сиди. А могу я один с такой оравой управиться? Не шутка, пятьсот голов. Я раз брыгадиру сказал, другой – как по ветру слова пустил. Тут слух и до меня дошел: председатель новай. Ну, думаю, наш жа человек, покоинский. Я ж его знал распрекрасно, когда он парнем был. За матерью твоей ухлестывал. Бывало, все на завалинке нашей отирается. Родители его в войну померли, а сам он, как призвали в сорок первом, так в армии до се и был, до лейтенанта дослужился. Ну, а потом демобилизовался и вернулся у село, а тут его разом в председатели и захомутали... Боле желающих, должно, не было. Ну, я как услыхал, душа загорелась новому начальству представиться, а овец, хоть плачь, оставить не на кого. Я, не долго думавши, и погнал отару у село. Стоял недалеко, километрах в десяти. Тронулси с места, как солнце встало, а у часиков у семь вот он и я. Застал председателя в конторе. Они меня торжественно ветрели: и Латышев, и дед, и Манькя, и Сенька со склада прибег, и ишшо кой-какой народец поднабрал-си... Баранта моя на все село: бе-е-е... Ну, гляжу, дед туча тучей, и у председателя вот-вот молонья из-под рыжих бровей секанеть... А я себе думаю: брешете, ничего вы не исделаете. Помощник мне по закону положен. Латышев в хромовых сапогах сходить с крыльца и – кошки в дыбошки... Ладноть. Поори, думаю, поори, можа, полегчает. И верно. Оторалси. “Че молчишь?!” – “Ды как же, – говорю, – ты верешшишь, ровно недорезанный баран, куды уж тут слово молвить...” Он на той ж... и сел. Обсказал я ему, что и как, вижу ж, человек умнай, он помолчал, гонор-та не велить сразу вину признать, а потом – на! Кнут из моих рук береть. Я, признаться, оробел: думаю, не кнутом ли потчевать мине собралси? Нет, гляжу, рот у его ишшо дергается, а сам: “Сутки тебе отдыху!”. И кнутом оземь – шшо-о-олк! Навроде усю жись при овцах околачивалси. Я и рот раззявил... – А потом? – А потом он у степь Князька откомандировал, а я домой... – А дедушка? – И не говори. Я думал, он мине съисть. Ежли б не он, я б цельные сутки дома и побыл, а через его раньше времени в отару подалси... – А потом? – Ды че? Латышев мне Князька в помощниках и оставил... – А почему Князек? – Ды хтонь... У нас ведь прицопят – не отлепишь. Говорят, в роду у их, у Князька, усе были дюже гордаи да гневливаи... Ну, и жили, конечно, справно. А этот Князек тоже... гневливый? Не... Може, и был когда, да жись его хорошо обкатала... А почему дедушка его не любит? – Хы!.. Дедушка твой себя и то раз в год любить… А Князьку он не может простить Алексея... Рассказывала мать? – Нет. Мама не рассказывает про это. – Во-во. Мама твоя – второй дед. Я раз заговорил с ей, за что, мол, брата безвинно посадили, а она: “Ты, – говорит, – запомни: у нас безвинно не сажають”. Я в спор. Начал доказывать: “Што ж он, действие какое против власти исделал или ишшо што?” – А она: “Не лез бы, куда не следуить”. – “Так што ж, по-твоему, видишь, што черное дело творять – и молчи?” – “Да, – отвечаить, – на то и голова, чтобы соображать, што и когда говорить, а не то там же, где Алексей, будешь...” Вот тебе и сестрица родная. Пожалела брата... – А черное дело кто творил? – Да Оладин, председатель наш бывший... Ежли б не Алексей, он бы тут дялов наворочал. Оладин тольке его и боялся. Как жа? Партейный. Грамотный. Сельхозтехникум кончил. Первый на селе агроном. У нас про их, про агрономов, сроду не слыхали. А он ишшо и бывший красноармеец. Все приветы в письмах из армии слал: дорогому братцу, будущему большевику Вите. Как приехал, гостинцев навез. Мине – игрушку. Ясная такая – на солнце огнем горить... Дирижабель назывался. Усе ребята из-за этой игрушки возля меня цельный месяц толклись... – А маме он что подарил? – Маме? Не помню... А... ды как же! Матери твоей отломилось так отломилось. Боты он привез ей с опушкой. Таких бот я сроду не видал. Мать твоя тольке что не лизала их. А деду, помню, фуражку. С околышем. Прямо генеральскую. А сам явился у село в буденовке со звездой.. В петлицах два кубика, гаечкями прикрученные. Сапоги на ем хромовые со шпорами... Он же кавалеристом служил... А тут у нас часть временно стояла... Человек двадцать, тачанки, лошади... На праздник – скачки... Алексей – рубака добрай, на лошаде легкай: тольке первые призы и брал... Да… Куды ж... Брат родный... Я за им, как собачонка, бегал. Ежли б он жив осталси, я б тоже в техникум поступил, на агронома выучилси... – Мама говорит: тебе и сейчас еще не поздно... – Мама... без лысых знаем, что не поздно... А хто меня учить будить, то твоя мама подумала? А отцу хто подмогнеть? Не работай я щас у отаре, держали б наши корову? То-то что и оно. Не-ет, Алексея дюже жалко. Был бы он, у семье нашей все б по-другому повернулось: он бы и бабке такой воли не дал, и мать бы твоя у отцовой хате жила, а не чужие углы отирала... да и сам бы он да-а-а-леко пошел... Точно, до генерала дослужилси... – А за что его посадили? – А хто че знаить? Говорили, донос на яво был. Оладин написал, навроде Алексей против власти слова говорил... – Что ж, одному человеку поверили? – То-то и штука, что Князька на следствие вызывали, и он, говорят, те слова подтвердил. – Как же так?! – А вот так. Князек в ту пору возле Оладина кормился. Тот его в кладовщики поставил. Ну, Князек, должно, рассудил: либо на Алексея показать, либо с кладовщиков долой... А, можа, и побаивался, что ему старое припомнють... Отца-то его раскулачили, а сам Князек, как сын кулака, правов был лишенный... – А что Алексей плохого сделал Оладину? – Да мешал концы в воду прятать... Дело так было: у Оладина в дому, на потолке, пашеница сгорела... – Пожар был? – Ху-у-ух, толкушка! Какой пожар? Должно, не просушил зерно добром. Спортилась пашеница. Загорелась. Сивая стала да вонючая. А его, зерна-та, было немало, тонны три. Ну, Оладин, недолго думавши, и свез ее, тронутую, в колхозный анбар, а себе на двор отборное зерно привез, посевное. Сменял. Не растерялси. Ну а Алексея нашего разве ж проведешь, когда он ученый агроном? Ни в жись! Он трах да заметку напиши, и в район ее, у газету. А там возьми и заметку его напечатай, тоже горячая голова нашлась. Хух! Что тут поднялось?! Как же? То Алексей на собраниях Оладина кроет, а то на весь район ославил. Бабы наши только языками отсудачили, а тут – на! Комиссия к нам. Из району. Трое. Вовсе шум по селу. Оладина заарестуют. Все так и думали. Отворовалси. Заарестовать-то заарестовали, да не того, кого надо. Уж и не знаю, как Оладин комиссии той глаза замазал, должно, не замазал – залил. Поил их неделю, не меньше. Правда, там один добрай человек был и поначалу дело правильно повел, да его почему-то в район на второй день отозвали. Ну, и составили те проверяльщики бумагу, мол, факта подмены пашеницы председателем Оладиным не установлено, а по недогляду агронома Евсикова, то исть Алексея, значить, зерно у колхозном анбаре частично спорчено, что есть несомненное вредительство... Да... бумагу-та они составили, но по селу слух пошел – народ-та не обманешь – обошел, мол, комиссию Оладин, и Алексею писать на него дале надо... – Ну, и что же Алексей? – Он вначале как не в себе был, – не ожидал. А потом ничего, отошел. У город ездил. Но, видно, веры ему там уже не было. Ведь в бумаге той, окаянной, прописано, что он сам во всем виноватый. Как же ему было про Оладина говорить? Тут с себя грязь смывать надоть... Я в ту пору такой, должно, как ты, был, а переживал за него страшно. Он из города идеть – уж темно, а я его аж на Гаранжевке поджидаю. Замерзну, сопли текуть, сапожонки у мине подношенные были, а жду, не ухожу. Увижу его – кинусь, а он хочить повеселее сказать, а голос печальный: “Ну, большевик Витя, так какие у нас дела?” А что я скажу? И рад пособить, да чем? – А дедушка? – Да что? Переживал, конечно. Аж с лица спал. Да не боец он, не. За сына свово и то заступиться не смог. Раз, слышу, про Москву говорять. Видно, Алексей самому Сталину писать хотел. А дед возьми да и скажи: “Ты уж раз написал, гляди, допишишьси...” Уж сколько лет прошло, а я все слова те помню. Не скажи он этого, можа, по-другому дело бы повернулось... А так недели не прошло, к ночи время – стучать... Хто ж такой гость поздний? Я уж на печку залез. Бабка пошла открывать – ка-ак загремять у сенцах, должно, ведры у темноте ногами пораскидали. Гляжу, Алексей за столом сидел, писал чего-то, так и встал. Ну, они входят, двое, а ишшо один на крыльце осталси, и один из двоих Алексею: “Собирайся!..” Бабка заголосила, а они: “После голосить будешь”. Она так с разинутым ртом стоять и осталась. Алексея из хати выводить стали, он уж на пороге оглянулси, сказать чего-то хотел, да и не сказал... А дед как сидел на кровати, голову повесивши, так и не встал... – А мама? – Матери не было, она уж у городе училась... А я как шмыгану из двери, да на двор. Алексея на подводу, а я вот он, тута, вцапилси в его намертво, кричу: “Братец мой родненькай!..” Энти... отшвырнули мине... Я у грязе весь, грязь была сильная... Осенью дело... Портки у мине спадають, босой... бегу за подводой, шумлю: “Враги проклятые, куды вы его увозите?!”. Ды долго бежал, а отставать начал, заверещал что есть мочи: “Алешка! Да отзовись же ты! Что ж ты онемел?!” А он то молчал, ровно рот ему зажимали, а то с выходом выкрикнул: “Прощай, Витя...”, да и осекся... – А потом? Молчит Витя. Скрипят колеса. А в черной степи темь. Ничего не видать. – Витя, а потом?! – Цоб! – щелкает кнутом Витя. – Цобе... Окаянныe... ехать с вами... пятый день седьмую версту... – Витя... – Да чё? – неохотно откликается Витя. – С тем все. Не видали мы его больше. – Витя, а может, он жив? – Какой там жив... Пятнадцать годов прошло, его ишшо у тридцать девятом посадили... Я поначалу тоже надеялся: вот, думаю, в окно стукнить... Он, бывало, увечери идет домой – до крыльца далеко, так он в окно, торопится знак подать... вот он я – открывайтя... Жив... кабы жив, он же какнибудь да исхитрился бы известие об себе подать... Не... Теперь уж нет... Глава восьмая В свалявшихся черных космах собака положила тяжелую голову на вытянутые лапищи, прикрыла утонувшие в лохматой шерсти маленькие глазки, а сама подглядывает за мной, хитрюга... Стоит мне только шевельнуться, как тут же вздрагивают ее короткие уши. Где же Витя? И где отара? И что теперь делать? Проспала-а... Все проспала. Ничего не помню: и как приехали, и куда Витя делся, и где этот Князек распрекрасный... – Ты проснулась, деточка? – откуда ни возьмись вырастает возле подводы маленький, сухонький старичок с козлиной бородкой. – Вставай, не боись, – силится он дотянуться до меня рукой. – Кобель не тронить... Хорошенькое дело “не боись”, да и кого больше бояться: Князька или собаки? – А где Витя? – не собираясь слезать с подводы, натягиваю я на себя растопыренную овчинную шубу. – Вон у балки пасеть, – щурится Князек. – Видишь, вовцы уж вылазють наверх.... Ничего я не вижу. И видеть не хочу. Неоглядная пустынная степь вокруг, а в этой степи одинокая подвода, чужой, зловредный старик со страшной собакой да в стороне вросшая в землю саманная развалюха. – Ну, ты чаво? Дюже собаку боишьси? – мнется Князек. – Никого я не боюсь, – с вызовом отвечаю я, вылезая из-под овчины, и, с опаской поглядывая на собаку, лежащую неподвижно в двух метрах от колес, спускаю ноги. Князек протягивает ко мне большие мослоковатые руки, а я, отпихивая эти руки коленкой, говорю: – Ну... я сама... – и неловко спрыгиваю на землю. – Не ушиблась ли? – помогает он мне подняться. – Нет, – выскальзываю я из его рук. – Ну, ты со мной али как? – глядит он на меня часто моргающими слезящимися глазками. – Кизяки чей-то плохо горять, – жалуется он. – Тольке дым от их, – и, взглядывая на солнце: – А восьмой час уже. Вот-вот дядюшка твой пожалуить, а у мине и вода еще не вскипела... – Я тут буду, – цепляюсь я за подводу. – А собаки не забоишьси? – Нет, – не хочу я разговаривать с Князьком. …Шаркая самодельными чувяками, привязанными крест-накрест бечевкой к ноге, обутой в белый шерстяной носок, он идет, не разгибая колен, к костерку, чахло дымящемуся возле развалюхи. Сутулая спина его выпирает костлявыми лопатками из-под выгоревшей рубахи, а непокрытая голова сияет на солнце серебром редких, растрепленных ветром волосенок. Я вижу, как, ползая на коленках, он раздувает жиденький огонек, чихает, беспрестанно вытирая глаза ладонью... Ну что делать? Куда деваться? Как пройти мимо собаки? Было бы сидеть на подводе. Так не-е-ет. Князек этот... Я делаю несмелый шаг. Зверина приподымает веки. Замираю. Она глядит на меня сумрачным темным глазом, потом нехотя встает и, прихрамывая, направляется ко мне. – Ай! – кричу я не своим голосом. – А-ай! – взываю к Князьку. – Чернай! – оборачиваясь, все еще на коленках, кричит от костра Князек. – Чернай! – приподнимается он, опираясь на руки. – Куды тебе несеть?! – уже семеня трусцой, кричит он на ходу. – Пра-а-клятай! Пшел! Пшел вон! Но Черный, не поведя в сторону Князька и ухом, не торопясь, подходит ко мне. Принюхиваясь, раза два касается сопливым носом колен. – Ы-и, ы-и, – скулю я, не смея шевелиться. – Ох, ты, Господи! – поспевает наконец Князек. – Ды пшел же! – отпихивая одной рукой морду собаки, другой прижимая меня к себе, смешно притопывает ногами. – Пшел! – срывается его голос. Черный укладывается у самых моих ног. – Чистое наказание, а не собака, и пра!.. – теряется Князек. – Эт чаво ж такое? Не слухаить, и конец! Замучился я с ей. И кормлю усех же одинаково... – А что, здесь еще есть собаки? – в ужасе льну я к старику. – Без собак у степе нельзя. У нас, окромя этого оглоеда, ишшо трое: Лебедь, Матрос и Серко. Отрубей не напасешьси... – Что ж, они отруби едят? – А то чаво? Замешаю на водице – усе дочиста вылижуть. А этот, – старик кивает на Черного, – ох и нравнай... Крохи с моих рук не возьметь... Витька яво кормить... – Пойдемте, – трясу я Князька за рукав. – Пойдемте отсюда. – Да мы-та пойдем, – берет в свою корявую ладонь мою ладошку старик, – да тольке и он за нами поплетется... Я так гляжу, он как чуить, что вы с Витькой сродственники. И пра, чуить. Видал? За мной не по шел, а к тебе подалси... Подтверждая слова старика, Черный, как только мы делаем первый шаг, встает и, припадая на левую переднюю лапу, плетется за нами. – А почему он хромает? – забегая вперед и путаясь у Князька под ногами, взглядываю я на собаку. – Ох, – спотыкается Князек о мои ноги. – Бечевка развязалась, – виноватится он и, кряхтя, усаживается на землю. Непослушными пальцами силится развязать узелок. – Давайте, – с готовностью опускаясь на корточки, говорю я, – давайте развяжу... – Да не надо, – колупает он корявыми пальцами, – ишшо руки замараешь... – Ничего, вымою, – ловко принимаюсь я за узелок. – Ишь, – глядит на меня любовно старик, – пальчики-та у тебя проворнаи... – Расскажите, почему Черный хромает? – уже не с прежней боязнью гляжу я на улегшуюся возле собаку. – Чернай-та? – переспрашивает Князек, не сводя с моих рук заинтересованного взгляда.– То яво волки погрызли... – Как волки? – раскрываю я рот. – Да... Витька рассказывал... Прошлой осенью они с дедом Морозом – царствие ему небесное! – перегоняли отару на зимовку, на Черные земли, к калмыкам, ды привяжись волки... Следом ишли... Как ночь, и они тута.... Ну, Витька пуганеть их с ружья раза два, а ночь-то длинная, не будешь по всей ночи кружиться, вот собаки и обороняли отару. А Черный, должно, вожака кончал – волки и отстали. С той поры он и хромый... – А может, не Черный? – Чаво? – Не Черный вожака загрыз? – Он. Боле некому. Черный, словно понимая наш разговор, приподымает голову. – Ляжи, ляжи, – успокаивает его Князек. – Кобель добрай. И пра. Лучше и не надо: каждую овцу у отаре знаить. И опять же, ежли бяда какая, только на яво и надежа. Он и теперь, хучь и хромай, а собаки яво слухають. Право слово, чуть рыкнить – и готово дело... – А здесь волки есть? – Не... недалеко ж от Покойного стоим... Да и какие летом волки? – успокаивает старик. – Осенью, зимой – это да... Вот спасибочки, – любуется он завязанными мною на его ноге бантиками. – Как они у тебе ловко выходють, и пра... А я их, бантики эти, – признается он, – за всю жись вязать не научилси... У мине все узелки, все узелки выходють... Враз и не развяжешь... Ох, – пытается приподняться он. – И ноги ж гудять, а еще цельный день впереди. – Отдохните, – пристраиваюсь я возле старика. – Пора, деточка, – тянет к моей голове руку Князек и, не посмев погладить, оправляет на плече завернувшийся рукав платья. –Ну, – настойчиво уговариваю я, – посидите... – Нехорошо, Витька отару пригонить, а у нас и завтрак не готов... – Подумаешь, какой барин! – Нехорошо... Зачем ты так... – несмело укоряет Князек. – Витька усю ночь овец пас... Устал... – А откуда Вы про овец все знаете? – отвлекаю я его. – Вы же недавно с Витей? – Я чабаную давно. Ишшо у отца своего начинал... – Как у отца? А что, у него овцы были? – А то как же, почитай до тридцати голов доходило... – Тридцать голов?! – поражаюсь я. – У одного человека?! – Почему у одного? У нас семья большая была... – Все равно, – не принимаю я во внимание Князьковы доводы. – Тридцать овец!.. Куда ж вы их дели? – Ох, – вздыхает старик. – Прахом усе и пошло... Берягли, берягли – Боже сохрани, чтоб в буден день мясца съисть, по праздникам, по великим. А в кав-кав-лек-тивизацию, – еле выговаривает он, – усе у отца и забрали... – И правильно сделали, – ерзая, отсаживаюсь я от Князька. – Он, ваш отец, кулак был. – Так... так... – смиренно соглашается Князек.– Тольке и до се не пойму, за што яво раскулачили? – Как это не поймете? – подозрительно гляжу я на Князька. – Неясно разве: ваш отец – кровопиец, собственник! – Ды какой же он кровопивец? Господи, спаси да помилуй! – пугается Князек. – Што ты, – машет рукой. – Он сам с утра до ночи хребтину гнул, и нас смальства к труду приучил, и овец тех, каких я пас, своим горбом нажил... – А почему же дедушка мой не нажил? – Ды у твово дедушки хозяйство справное было... Как щас помню, пара быков, лошадь, корова с телкой ды, должно, десятка полтора овец, но у твово дедушки и семья поменьше нашей, а у нас отец с матерью... ишшо в силе, двое братьев, оба женатаи, ды две сестры, уж невесты, ды я, последний, одногодки мы с дедом с твоим... – И где ж они, все ваши родственники? – Ды все и погибли на чужой стороне... у холодных краях... Там, куды их сослали, край, говорят, есть такой Тмутаруханский, не слыхала? – А почему всех сослали, а Вас нет? По знакомству? – закрадывается в мою душу подозрение. – Ды какое же знакомство? – пугается Князек. – Тады никакого знакомства не знали. Тады чисто вычесывали, под самый что ни на есть частый гребень. И я б там же был, где все мои сродственники, ды отец – упокой, Господи, душу его – ишшо у двадцатом годе меня отделил... – Как отделил? – Ды просто сказать: со двора согнал... – Почему? – Ослухалси я, супротив яво воли жанилси... – На бедной? – Можно сказать, и так... – Правильно сделали. Слушать его, кулака-самодура... – Можа, правильно, а можа, и нет... Кто ж знаить? Отца-то ослухалси – жанилси, а доли так и не выпало... – Ну, какая же Вам еще доля нужна? Не раскулачили Вас, никуда не сослали, живете себе на здоровье... – Да это все так. Правильнаи твои слова, правильнаи. Тольке, – глядит куда-то далеко в степь прищуренными глазами старик, – не о себе я горюю, плачу я о детях своих и не хочу утешиться... Слыхала, в Евангелии так прописано... – Вы и в Бога верите? – с презрением гляжу я на Князька. – И не знаю, как тебе сказать, – чистосердечно признается он. – Верую, нет ли, а все думаю: можа, он есть, Бог-та, справедливай и милосерднай? – Да нет его. Неужели не понимаете: придумали люди сказку, – сержусь я. – Должно так, – смиренно вздыхает Князек, – иначе б за что яму моих детей карать, он бы мине и покарал... – Каких детей? – Ды моих. У мине ж были дети. А то как же? Пятеро было. Пя-а-теро. Да-а... Вот бяда-та какая... А теперя гляну на чужих, сердце так и зайдется... – А куда ж они, дети ваши, делись? – Померли. У двадцать втором Васятка, потом, должно, у двадцать четвертом Любонька... А двое годовалых близнят, Надежда да Маня, у голодном, у тридцать третьем... Тогда один Ягорка выжил, шел яму уж десятый годок... Как щас вижу, ляжить сынок мой на койке, губы у яво распухли, исть уж не просить, а только стонаить потихонечкю... И што ты будешь делать? Поплелси я вон из хати. Не могу на яво глядеть, не могу, и все тут. Ведь четверых уж похоронил, и никого вроде не было так жалко, как яво. Ведь какой малец шустрый, понятливый и сердцем мягкий... Вышел я из хати и спустилси к ерику водицы принесть. А он, ерик-та, навроде лужи стал. Сам досыти не пьеть... Глянул я, а на кочке лягушка сидить, гладкая такая, важная, ды ква... ква... Хорошо тебе, думаю, сытой квакать.. и тут мине Бог надоумил: ды вот же она, яда-та... – Это вы лягушек ели? – брезгливо морщусь я. – Гребостно тебе слухать? – смущается Князек. – Ну, я не буду, не буду... А так, чаво ж, у ей, у лягушки, мясо белое ды сладкое... Одна бяда: несноровистый я ловить их, лягушек-та... Спасибо Ягорка вскорости оклемалси да так навострилси черпачком их поддевать, что только держись... Да-а... деточка моя, тем и спаслись... – А где ж он сейчас? Егорка ваш? – То-то и оно, что одну бяду я от свово сына отвел, а другую не в моих силах отвесть было... Скажи, как напасть какая… Руському человеку сроду не везло. Несть числа и врагам нашим, и горю нашему, и слезам нащим. Я все думаю, за што ж нам такие спытания? Тольке разжилися, ничаво ж стало… У лавке и каросину, и соли – бяри…и калоши ж мине бабка купила, такие ж калоши – заместо зерькала глядеться… А она, вот табе – война... Стали воинов провожать, а тут и гармони, и песни, и винцо, и слезы. Думаю, люди вы неразумные, какие ж тут гармони-и, какие песни? Тут только слезьми и умываться. И скажи, у всех поначалу вера такая была: не сегоднязавтра герьманцу конец. И Ягорка мой одного боялси, как бы без яво война не кончилась... Я слова-та попридержал, а сердце мое криком кричить: ох, крови тута многа будить, ох, многа-а... Знаю я энтого распроклятого герьманца, сам с им воевал. Но делать нечего, проводил сына и слезу сдержал, а бабка, та досыти накричалась... И как ушел он, сын-та мой, и хоть бы одно словечушко, хоть бы весть какую ни то подал... Нет и нет. Ждал- ждал я, весь извелси, а через полгода, как раз под рождество, приходить бумага, маленькими буковками пропечатано: сын ваш, Воротынцев Ягор Иваныч, пропал без вести... Бабка в крик, а я: “Не гневи Бога. Без вести – значить, неизвестно куда. Значить, живой он. Ждать надо”. Ее-та кой-как утешил, а у самого на сердце камень... Ды побег у Совет, к председателю. Он жа человек-та ученай, больше нашего понимаить, можа, чаво и разъяснить... А он и разъяснил. Ты, говорить, меньше бумагой этой тряси. Можа, сын твой и живой. Не знаю. Можа, у плену. Но ждать ты яво не жди: слыхал, как фашист над руським человеком изгаляется, так что навряд твой Ягорка живым из плену вернется, а хоть и вернется, наши все одно не простить... Товарыш Сталин как учить? Пленных у нас нет, а есть одни предатели... Понял? Вот заверни свое горе у тряпочкю и помалкивай, а то ишшо и табе ворохнуть, отца припомнють... Как сказал он эти слова, у мине ноги так и подломилися: ды что ж ты, проклятая жись, со мной делаешь? Ды иду по улице, ровно очумелый, и слеза глаза застить... Опосля уж пораскинул умом да думаю: по мне вы что хотите говоритя, а он, мой сын, отечество защищал. Что ж, ежли бяда с им приключилася, яво пожалеть надо, а не корить... Да и какая ж война без пленных? Хто ж такую выдумал? Я сам у перьвую мировую воевал, три года маялси, страсть-то какая… Мине Бог оборонил и от смерти, и от раны, и от вражьей неволи, а скольке народу гибло?.. Беднаи же люди!.. И наш же, покоинский, Ванька Бобришев, у герьманца у плену два года мучилси, ды рассказывал опосля, ды не приведи Господь! Это хто войны не видал, тот легко и судить... Не-ет... Вы што хотитя говоритя, а я свово сына ждать буду до самой смерти... – Так ведь уж девять лет после войны прошло, как же ждать? – поражаюсь я Князьковой неразумности. – Ну и што? – ясными глазками глядит он на меня, такими ясными, словно знает некую тайну, которая мне неизвестна. – А я вот сон видал, ишшо у сорок третьем. Навроде я у реки стою, и такая ж река широкая – птице не перелететь. Гляжу, на том берегу обличьем кто ж такой знакомай? А сумерки... Вгляделси, вгляделси я... Господи, помилуй! Это же Ягорка мой! Я шумлю что есть мочи: ты плыви сюды, плыви! Я ж знаю, он из Кумы из нашей не вылазил, хучь речонка не в пример этой, а плавать мой сын умеить... Он покачал головушкой ды с того берега шепотком, а я слышу: щас не могу, не время, я поутру, на зорьке... – Ну, как мой сон-та? – все так же ясно глядит на меня Князек. – Не знаю, – отчего-то шепотом отвечаю я. – Ну вот, – торжественно молвит старик. – Как не ждать? Воина, да и не ждать? Нельзя, деточка. Надо ждать, и яму там лекше спытания переносить... – Да где там-то? – А где он казнь принимает... У герьманца ли, где ишшо. – Что вы говорите?! – обретая душевную уверенность, вскрикиваю я. – Какую там еще казнь? Мой отец тоже без вести пропал, ну и что? Обязательно плен? Обязательно позор? Мама говорит: пропал – значит погиб... – Што ты! – пугается старик. – Што ты! – отмахивается рукой. – По мне лучше позор, пусть оно, по-вашему... Поги-и-иб... што ты, – укоризненно глядит он на меня. – Мой сын жив. Мине не было бумаги, что он убитый... – и, помедля, говорит доверительно: – Я уж у сорок шестом у Левокумку ездил. Слух прошел: из плену один вернулси и вроде мово парня у лагере видал... – Фашистском? – Ды нет. Они, хто у плену был, на границе проверку проходють... Наши ж проверяють... Ну ладно поехал... Но чтоб мине раньше, а то нынче да завтра со дня на день откладывал, боялси: вдруг он, солдат этот, недобрую весть для мине припас... А он, бедолага, до мово приезда за день помер. Но я опосля того в вере своей ишшо пуще укрепилси. Думаю, этого бедолагу, какой до дому добралси, чтоб помереть тольке, цельных полгода проверяли, а где месяцы, там и годы... На какого судью нападешь... И пра… Глава девятая Вы никогда не ели покойнинских галушек? Ни-и-ког-да?! Тогда за работу. Делайте так, как Князек. А он уже взял алюминиевый, помятый с боков таз – вы можете взять посудину и поновее, – влил полкружки воды, разбил пару яиц, со старческой бережливостью слив со скорлупы все до капельки, бросил щепотку серой крупной соли и порепанными пальцами разболтал яйца в воде. А теперь, согнув лодочкой ладонь, черпает из крапивного мешка муку-сеянку, белую да рассыпчатую, и, засучив рукава, месит тесто, подсыпая муку, да все круче и круче, так что получился у него тугой и гладкий валик. Как он его раскатает? Но у Князька ловко работают руки, и сбитый из кое-какого деревянного хламья стол так и ходит ходуном. Валика уже нет, а на столе круг тонко раскатанного теста. Повесив этот круг себе на левую руку, правой Княнзек, захватив тесто в жменю, ловко разрывает на куски и бросает в кипящую воду. А в той воде уже отварилось несколько картошин, и я, вынув их из кастрюли, размяла концом скалки. Когда через несколько минут всплывшие наверх галушки Князек тоже вытащит шумовкой, мятую картошку я смешаю с галушками, добавлю сливочного масла и растрясу хорошенько. Но кушанье еще не готово. Не-ет. Для галушек нужна приправа – тузлук. И я уже очистила с десяток блестящих крупных долек чеснока, нарезала их, присыпала густо солью, раздавила пестиком в алюминиевой мисочке и влила два половника той самой воды, в какой кипели галушки. Эта горько-соленая, остро пахнущая приправа и есть тузлук. А что выносит из саманной хибарки Князек? А-а... Сметану... Это дед приказал бабушке дать нам с Витей двухлитровую кринку сметаны. Вы думаете ее можно лить в галушки прямо из горлышка? Нет, ошибаетесь! Эту сметану нужно, как масло, резать ножом, и Князек теперь еле выковыривает ее из кринки ложкой. – Еще давайте, – говорю я. – Ды хватить... Куды ж... – счищая негнущимся пальцем с ложки сметану, говорит Князек. – Давай, давай, че жалеешь? – поддерживает меня Витя, кончая остругивать заостренные на конце палочки. Это вместо вилок. – Ну, племенница, – подсаживается он на чурбачок к столу, – тряхани еще разок. Я беру таз в руки, плотно прикрываю крышкой и осторожно встряхиваю галушки. – Ну, добре. Становь! – командует Витя. – А то и с голоду помереть недолго. – Припоздал я нынче, – винится Князек. – Че там припоздал! Сгодится. Садись, че сам-то стоишь? – снимает с таза крышку Витя. Князек осторожно присаживается рядом со мной на скрипучую узенькую скамейку. Глядит на меня: – Ну, пробуй... Ах, какие галушечки! Одна к одной. Все в сметане и чуток в картошке. Я нацеливаюсь на ту, что в середке, самую большую, с лопушиный лист, но она скользит, пытаясь спрятаться меж своих товарок, и я никак не могу подцепить ее на острый конец палочки. Вытянувши от усердия язык, наконец накалываю ее и через весь таз несу к краю. Та-ак... Теперь в тузлук ее, в тузлук! А она – плюх! – и сорвалась с палочки... – Ну Витя, ну неужели нет ни одной вилки?! – Хух, Господи, – с набитым ртом говорит Витя, – Ды бери руками... – И в тузлук что ли руками?! – возмущаюсь я . – Че они у тебя, заразнаи? – Не буду я есть так, и все... – Не ишь, оголодаешь – наишься, – ухмыляется Витя. ...Противный Витька... Не поеду с ним больше никогда... Завез в свою степь... Скажу дедушке. Скажу. – Ну ты че? Готова уже? Наквызилась? – глядит на меня Витя и Князьку: – Отлей тузлуку у другую посудину. Есть у нас ишшо какая миска? Ды галушек отложи. Ай ты галушки из общей чашки исть будешь благородие? Опустивши голову, чтоб Витька не видел моих слез, я тихонько вылезаю из-за стола и плетусь за угол хибарки. Колупая саманную стенку, плачу. Слышу Витино неясное: – Черти накачали... Поисть не даст... Кружись теперя... – и громко: – Тань! Ну ты че там стоишь? Иди сюды! А то щас Чернай за задницу хватить... ...Спрятаться бы так, чтоб Витька не нашел... Убежать. Но куда? Степь и степь. Без конца и без краю. Овцы, и те сбились в кучу. От жары, бедные, прячут головы одна под другую. И собаки... Ишь, как языки вывалили... Вон и Черный... Еще и правду хватит... Плакать не хочется. Есть хочется. Горячие, сладкие галушки. А еще Витьке отомстить хочется, чтоб ему от дедушки попало. – Ну, – приглушенный Витин голос за спиной, долго тут стоять будешь? – Витя, – оборачиваясь, гляжу умоляюще в его добрые, виноватые глаза, – я не могу так есть... – Ну пойдем, – смущенно говорит Витя. – То я, дурак, не сообразил, выстругал палочки однозубые... А ты ж с непривычки... Иди, Князек тебе хорошую, двузубую исделал... – Витя, – шепчу я, – нехорошо, что ты его все Князек да Князек. Как его зовут? – Да его все так кличуть, че там нехорошо... – Все равно нехорошо, – вздыхаю я. – Ну Тимофеич он, Тимофеич... – Надо же по имени и отчеству... – Хух, по имени-отчеству!.. По батюшке, и то куды добром!.. Мы выходим из-за хатенки. – Скореича, – зовет Князек от стола, – а то и галушки остынуть, – и, суетливо усаживая меня рядом, протягивает двузубую палочку. – На-кась, пробуй… Гляди, как я, – и он ловко подцепляет лежащую с краю галушку, накалывая оба конца острым зубцом и, словно парус, насаживая ее на палочку. –Во! – любуется сам. – Как она у мине сидить! Никуды не денется… – и советует: – Бяри с краю: с середки далеко несть. И какую поменьше, ее ловчее подцепить. А галушек много – наишьси... Во-во... – подбадривает меня и, придвигая миску с тузлуком: – Мочай... А то пальцами... Пальцами неловко... склизко... Я уписываю галушки, Князек глядит на меня любовно: – И-и-ых, ка-ак хорошо... – Че сам-то не ишь? – откашливается Витя и, подмигивая мне: – Тимофеич? – А?! – вскидывается Князек и, часто моргая засиявшими глазками, отвечает суетливо: – Ды я... Ды че мине надо... Как воробью... Девчоночкю накормить... – Девчо-о-ночкю-у? – сытно рыгает Витя и начинает с удовольствием: – Я через эту девчоночку что лиха принял – и не дай Бог.... – Ты ишь, не слухай, – успевает шепнуть мне Князек. – Да-а-а... – тянет Витя. – Хле-е-бну-ул... – и насторожившемуся Князьку: – И скажи, какая ушлая уродилась: года не сполнилось, а она уж лопотала – я тибе дам! Это не Верка, не-е... Та у нас немтырь... До шасти лет только и знала: “мамка” ды “дай”. Оттого, должно, и у первом классе два года сидела. А эта-а... Хух! Балабонила – надоисть за вечер... Спасибо, я у ей ниче не понимал... – А дедушка? – спрашиваю я, наперед зная, что скажет Витя. – О-о! Дедушка... Как же ему не разбирать, ежли он на тибе только што ни молилси! – А долго я у вас жила? – Ды, слава Богу, нет. А то б каюк мине. Дед когда б никогда, а голову за тибе оторвал. – А почему мы с мамой уехали? – Ды мать твоя дюже нравная, с бабкой не мирилася. Правду сказать, она и бабка хороша. Нюрке ж на работу надо – не будешь век на отцовой шее сидеть, – а бабка уперлася, мол, не буду Танькю нянчить, и конец. Руки, вишь, у ей срочным порядком заболели... Ну, мать твоя и подалась к тетке двоюродной, Наташке, у Синтуки… Спасибо, та ее приняла на время… – А что же дедушка? – Ды че он исделаить? Не выгонять же бабку из дому? У ей у самой уж Верка тогда народилася. – А что же ты меня не нянчил? – Кла-а-нялась тебе кривая Аришка! Не ня-а-нчил?! А хто ж тибе нянчил?! Я уж и так был сыт по горло… И потом, хто ж у школу б ходил, у шастой класс? – Ты же бросил школу... – То я на другой год бросил, а шастой я отходил. Ня-а-нчил... Нюрка, она тоже добрая. Как родить, так к отцу, а как замуж итить, враз из дому завеялась, за подол держи – не удержишь... Полетела не куды-нибудь, а у Степновск... – А как же, – потихонечку встревает Князек, – оно уж так исстари ведется: жана за мужем, как нитка за иголкой. Тут ничаво не исделаешь... – То-то, что ничаво, – косится на Князька Витя. – И скажи, какого мужика подцапила. Не халам-балам, а из начальников... Этот... хто у газетах пишить... – Корреспондент, – подсказываю я. – Во-во, да ишшо из краевой газеты. Черти его понесли, не сам он поехал у наши края... И не снилось небось, что яво тута захомутають... Приехал же у командировку, у Прикумск, ды заявись сдуру в больницу, насморк на яво напал... А Нюрка тут как тут, практику проходила... Ну и напрактиковалась на ем – ментом окрутила. – А ты его видел? – Ну а как жа! Он приезжал до нас. Насчет Нюрки с отцом говорил... – Красивый? – Ды ниче. Обходительнай. Голова, каких мало. Словом накормить. Говорить начнеть – заслухаешьси. Отважный был парень. Фашизм, сказывал, не пройдеть. Им на нашу землю ходу нету, а сунутся – укорот дадим... – Ох, Господи, – вздыхает Князек, – а то же, как и мой Ягорка... – Ты, Князек, яво со своим Ягоркой не равняй. Далеко твояму Ягорке. У Нюрки мужик – голова! Он жа в войну командиром был... чуть не цельной ротой заправлял... – Витя, а у него ордена были? – Я, правда, не знаю, но думаю, у охвицера, да и не было? Кого ж тогда и награждать, как не охвицеров? – А его когда на фронт взяли? – Да его и не брали. Он сам напросилси. Нюрка говорила, мог бы и на фронте при газете ошиваться, так он не схотел и добилси свово: на передовую послали, кажется, у сорок втором... Нюрка одно письмецо тольке от него и получила, а потом ждала-ждала у Степновске, а он, немец, ка-ак двинул на Кавказ – она к нам... Вскорости и ты нашлась... – А почему вы не эвакуировались? – Куды? У степь? С голоду подыхать? До калмыков далеко, а он с Минеральных пер дак пер, все путя разом отрезал. Ды нихто ж и не думал, что народ в трату такую введут, все ж верили: вот-вот наши немца остановють... Ну а нам ты руки повязала, куды ж с тобой? Первым мине приставили к твоей качке навроде почетного караула. Тут бои идуть чуть не у Прикумска, слышно уж, как артиллерия жахает, мине на улицу – край надоть! Я, бывало, с утра как завеюсь, бабка мине тольке и видела... А тут на тибе – не думал-не гадал – племенница... – А мама? – Мама только родила, а чуть ли не на другой день бабка откомандировала ее вместо себя у брыгаду капусту поливать... А я, скажи, как прокаженный, сиди сиднем цельный день у хате... Качаешь, качаешь тибе, ну, думаешь, уснула, ды на цыпочках тольке к порогу, а ты: а-а-а! – Что же, я все время плакала? – А то и нет? У мине до се в ушах звенит... – Должно, хворала, – жалостливо вставляет Князек, – а так чаво ж бедному дитю кричать?.. – Можа, и хворала, – соглашается Витя. – Хто ее знаить? Она же исть добром не ела, дюже благородных кровей! Сама козявка, а станешь рожок сувать, язычкем выпихиваить и ореть... Хух! Дед увечери приедить из степе: “Чертовы дураки, с дитем управиться не могут...” А хто дураки? Я один кругом и виноватый: бабка на дворе скотину убираить, Верка возле ее полозить – года три ей и было, – а Нюрка только из брыгады бредеть... Дед мине подзатыльник, а унучку свою ненаглядную на руки... А я, ляд с им и с подзатыльником, шмыг у двери... – Ох! – глядит на меня ласково Князек. – Как же дедушка унучку свою у степь отпустил? Сердце у яво теперя изболелося... – И не говори! – усмехается Витя. – Там приказывал, приказывал, и гляди, чтоб овцы не стоптали, и баран не пихнул, и быки, Боже сохрани, не понесли, а насчет собак цельную лекцию прочел. Ежли б не Taнькины слезы, в жись не отпустил... – Витя, расскажи, как дедушка, когда немцы бомбили, в комнате со мной оставался, а вы в погребе прятались? – Ды че рассказывать, ты же знаешь... – Расскажи... – Один раз только и бомбили... – Господи, спаси и помилуй, – поднимает на Витю тоскливые глаза Князек. – А што страху, Князек, помнишь? – хитро щурится на старика Витя. – Пресвятая матерь богородица, – шепотком откликается Князек. – Ка-ак она-а го-о-книть! – стращает Витя. – Возле сельпа... Гу-у-ох! Народ ка-ак сыпанеть! Хто куды... Я летел – пятки в зад влипали... И не помню, как до двора добег. Шнырь у погреб. Думал, там никого. Только через порог, а отец мине – цоп за шиворот: “Иде черти носят?!” Спасибо народу у погреба – дыхать нечем, а то б не миновать на этот раз пряжки. Окромя наших, ишшо и Масловы. У их погреб черти когда завалилси, и че ждали? Парашка, где бойкая, а тут язык прикусила, знает тольке вздыхать: Господи, помилуй, да Господи, помилуй... Ну а ты за свое – орать. Условия, должно, неподходящие. Ни мать, ни дед успокоить не могуть... Ну, дед взял да и вылез с тобой наружу, через весь двор поша-а-гал у хату... Бабка шипить на мать: “Через твою засранку и отец пропадеть”... Нюрке бы смолчать, а она – вон из погреба. А я слышу: самолет над нами гудить, по головам ходить. Ну, думаю, все, отжилися, и отец, и сеструха, и ажио тибе жалко стало... А оно опять ка-ак саданеть! Мнится, рядом рвануло. Бабка, распрочерт, и заголоси: “Ды, родимаи мои, ды на погибель вышли...” Я пулей из погреба. Ну и че? Заместо благодарностев опять жа от деда трепку получил: сиди и не суйся, куды не просють... Потом разузнал: бомба эта черте иде, за Кумой трахнула... Во-о! Помнишь, Князек? – Все дочиста, – откликается эхом старик. – Да-а... – тянет задумчиво Витя, – а как они хозяевами въезжали... а? – Кто, Витя, кто? – Ды враги, – выдыхает Князек боязливо, – хто же ишшо? Враги, деточка... Бяда-то была, ишшо какая бяда-а... Господь наказал, так наказал... – Какой Господь? – вскидывается Витя. – Че ты мелешь? Го-о-сподь... Где ж у его ум был? Хто ж так наказуить? И за че? – Должно, за грехи, – вздыхает Князек. – Не иначе за твои, – ехидничает Витя. – Можа, и так, – смиренно соглашается Князек. – А че ж, у немцев, у подлюгов этих, какие над нашим народом измывались, по-твоему, грехов не было? Как же твой Господь это допустил? – За то он их через спытания в прах низвергнул, – торжественно говорит Князек. – Низве-е-ргнул... – передразнивает Витя. – Кабы наши не всыпали, он бы их низвергнул... А то добре турнули... Не дюже гости загостевались... – А крови-то, крови-то сколько было, – тоскует Князек. – Не без того, – бодро соглашается Витя. – Да-а... – тянет задумчиво Князек. – А ведь каждый человек раз на белый свет рождается... Я вот думаю: и-и-их! Люди вы, люди! Ды откель же в ваших сердцах столько жестокости? Ды что ж вы друг дружку поядом ядите... Ды век же у кажного такой короткай, не успеешь оглянуться, а жись уж и пролетела... Что ж вы, люди, делаете? – Че ты распричиталси? В одну кучу сбираешь? Люди... То фашисты– варвары двадцатого века, понимаешь? Им бы вешать да расстреливать. – Господи, Господи, и среди нас же усяких хватаить. Рази ж человека обязательно вешать или расстреливать, яво и так убить можна – одним словом. – Других легко судить, – зло обрывает Князька Витя. – С сибе начинай. – Да... верно, – никнет Князек, – с сибе и надо... Тольке, – несмело добавляет он, – на мне вроде большой вины нету... – Не-е-ту-у?! – обжигает Князька дедушкиным жгучим взглядом сузившихся глаз Витя. – Не-ту?! Хм! Ну, молодец, Князек!.. – Витя! – вскрикиваю я. – Витя! – таращу я глаза указывая на сникшую, с реденькими волосенками старческую голову Князька. – Витя... Ты рассказывал... про Стародубцева... немцы... мучили его... за что? – Тибе ишшо че? – злится и на меня Витя. – А сколько ему лет было? – Кому? – Да Ванюшке твоему, Стародубцеву что ли? – Што ли? – гневно переспрашивает Витя и с прежним раздражением выкладывает: – Таких поболе, как Стародубцев, можа, и война не четыре года бы длилась... А то посдавались у плен... герои! А их теперь, героев этих, до се ждут... Тягостное молчание валуном виснет у каждого из нас на шее... Клонит голову, виноватит, не велит глазам в глаза взглянуть... Неловко, нехорошо... Но кому-то надо прервать молчание, попробовать навести мосток... – Стародубцев... – срывающимся голосом говорит Князек, – он... Чаво же? Парень... хоть куды был... Мояму Ягорке ровесник... Уместе они и призывалися... А как Ванюшка из госпиталя пришел, я заходил к яму, думал, можа, чаво про Ягорку вспомнить... – А он вспомнил? – всем сердцем жалею я виноватого старика. – Он и не забывал, – не дает вымолвить Князьку слова Витя, и, когда я взглядываю на него, он, вспыхнув, раздраженно продолжает: – Ты, Князек, думаешь, как у одной Куме болтыхалися, так и на фронте, как Маша с Кондрашей, не расстаются... Не-ет. Война разведеть... и точки поставить... – Все ж они умеете уходили, – еле слышно откликается Князек. – Ты русский? – с сердцем говорит Витя. – Тебе русским языком говорять: фронт, война... на тышши километров... – А мы у четырнадцатом годе усе с одного села в одной же роте были: и дедушка ваш, и Бобришев Иван, какой опосля у плен попал, и дед Кирьян Одноухий... – Че ты равняешь? У четырнадцатом годе... – передразнивает Витя. – Ты б ишшо вспомнил, че при царе гopoxe было!.. Сравнил, такой войны, как эта, ты и не нюхал!... Видел, у клуба кина показують? Там, что ни кино, наши как всыпють немцам, ка-ак всыпють... Хух! К примеру, “Падение Берлина”. О, кино! Всем кинам кино! Люблю я про войну глядеть – страсть. – Ды наши-то да, герои... – вздыхает Князек, – но и нашим досталося... Мине Ванюшка рассказывал, так я понял: у четырнадцатом годе лиха мы хватили, не приведи Господи, а эта война и вовсе всех досыта накормила... Ишшо долго горем отзываться будить... – Витя, – цепляю я Витю за рукав, – а почему Стародубцев из госпиталя не на фронт, а домой поехал? – У тибе не спросилси, – снова серчает Витя. – Ванюшке у госпитале руку оттяпали по самое плечо... Куды ж на фронт? Че делать? – А за что немцы его мучили? – Да нашелся один... – отворачиваясь, шепотом говорит Витя. – Чего ты сказал? – Хух! Наказание... Доказал на его один... Такой же гад, хоть и русский. Мол, красноармеец, с фронту... – А кто доказал? – Ну, тебе нужно? Все ей расскажи... Ну, Копылов... Доказал Игнашка Копылов... – А почему? – Господи-и! Откель же я знаю? Сволочь хорошая... вот почему... – Дело так, должно, было, – встревает Князек, вздыхая. – Эта история ишшо у двадцать девятом годе началась... У Игнашки был брат... старший..: Аким... Братья, они были дружнаи... Родители у их померли... а Аким Игнашке заместо отца родного был, хоть и сам женат, и дети у яво... – А жил он бедно? – спрашиваю я. – Да нет, – разочаровывает меня Князек, – Аким – мужик работящий, опять же Игнашка у него в помощниках... тоже парень хоть куды был. – А какое у них богатство было? – допытываюсь я. – Ды какое ж у хрестьянина богатство? – улыбается Князек. – Ну а у Акима, как и у всех, быки, конешно, были, корова с телкой, вовцы, птица разная... – Ого-о!.. – недовольно восклицаю я. – Че огокаешь? – сердится Витя. – Тогда у всех так было... Люди хозяевами жили... – И нет, – не соглашаюсь я. – Это у богатых быки... – Ну да, а бедные на себе пахали, – издевается Витя. – Без быков в хозяйстве нельзя, – встревая, гасит нашу ссору Князек. – Тогда, истинный Бог, уж быки – не знаю, как где, а у нас на кажном базу были... – Ну и что же ваши Копыловы? – не унимаюсь я. – Да что ж, – разводит руками Князек, – насчет колхозов приказ вышел: усем, значить, записываться... Аким возьми да и ослухайси того приказа... Помню, на собрании раскричалси: “Скотину, и ту в чужое стойло не поставишь, а вы людей загоняете...” Ну, яво и определили на выселение... Добро у колхоз забрали, а хату досками заколотили... Игнашку выселить не выселили – мол, человек самостоятельный, до Акима отношения не имееть, – но из хати Акимовой выгнали... прямо-таки на улицу... Он, Игнашка-то, ране тихий был... а тут обозлился на весь белый свет; а пуще всего на Стародубцевых, потому как отец Ванюшки у двадцать девятом годе самый заводила у нас и был... Он Акима и выселял... Да чаша горькая и яво не миновала. Лет десять спустя, уж не знаю за какие вины, яво самого заарестовали... Так и пропал без вестяв. Ну, а Игнашка, как немцы заявилися, у их полицаем стал... Зверь зверем... Он врагам все ходы и указывал... – Этим тольке нагадай, – потухшим голосом встревает Витя. – Уж они не упустють... Раскатились на мотоциклетках к хате Стародубцевых, а Ванюшка услыхал ды задами думал убечь. А они, борова здороваи, нашим салом кормленаи, на мотоциклетках неспособно, побросали их на дороге да на зады... Стали стрелять и, должно, в ногу ранили... Упал он... Они сапогами пинать... Он изловчилси и ударил одного в пах... Тот завизжал, как свинья... Ну, они понатешились, всю культю ему, бедному, искололи, а потом уж и застрелили... – А он кричал? – Кричал... – вздыхает Витя. – Я ж поблизости был… У Завяловых хоронился... Думал, Ванюшке помогу... – Ты маленький был, – жалею я Витю. – А как же взрослые? Трусы! Почему не заступились?! – Как же заступишься? Белый день на дворе... Ды и кому? Детишки да бабы. Один заступилси на свою голову... – Кто, Витя? – Ды дед наш, – усмехается Витя. – Он на немцев бросился? – Глупая ты ишшо... Ничего не мерекаешь... Куды ж безоружному на автоматы лезть?! – А ты же сам сказал, – сержусь я. – Как же тогда? – Ка-ак... А то ты деда свово не знаешь... Вздумал Копыла усовестить... Перестрел его, ды и говорить: “Че ж ты делаешь? Как же ты людям в глаза глядеть будешь?” – А... – разочаровываюсь я. – Че? – усмехается Витя. – Не признаешь за дедом геройства? А Князек,– кивает он на старика, молчаливо думающего свою думу, – Князек до се дюже восхищается... Так, Князек? Старик поднимает часто моргающие глазки на Витю: не-ет, он все слышал: – Не зря говорится: пуще стрелы разит правдивое слово, – смиренно откликается он.– Спасибо, вы дедушку тогда схорнили, а то и не приведи Бог... – То бабка надвое сказала, – прерывает Князька Витя. – Ей, Масловой, должно, померещилось. Прибегла, как полоумная: “Хоронитя Матвеича, хоронитя!.. Куды-нибудь пусть уходить... Завтра заарестують... Сама слыхала... Копылов хвалилси...” Бабка с матерью всполошились – еле ночи дождались, да на хутора деда и спроводили, ишшо мине заставили его, как персону, до самого Катасона провожать. – А дедушку искали потом? – Ды приходили... Спрашивали... Бабка: “Ушел, ушел, родимые... На Кубань наш дед подалси... Кой-какую одежу на кукурузу сменять...” Но Копылов, должно, не дюже бабке верил. Как вечер, гребется до нас с солдатами... – Ну, и нe нашли же дедушку? – Они добром и не искали, нужен он им был, как летошний снег... – Не-ет, – решительно встревает Князек, – не-ет, деточки: время их вышло, время-а... А то б они шкоды ишшо не такой наделали... Глава десятая На третий день, к вечеру, когда раскаленный солнечный шар наконец докатился до западного края степи и, прилепившись бочком, собрался уж улизнуть на ночь, Князек засобирался в село. – Поеду я, Вить, – просительно говорил он. – Поняй, поняй, – покровительственно разрешил Витя. – А ты как же управишься? – тут же засомневался Князек. – А то первый раз... – А девчоночка? – А че ей исделается? – Да ты ж усю ночь пасть будешь... – Ну, дак и че ж? – А она? – Хух, Господи! Об чем речь. Кину вон шубу у хати, да и нехай спить... – У хати она спать не будеть... Она у мине на подводе спала, на вольном воздухе... Или уж не ехать? – размышляет Князек, глядя, как я скармливаю Черному кусок белого хлеба. – Та-ань! – остерегает он. – Ишшо за руку схватить, куды ты яму прямо у poт суешь!.. – Нет, не хватит, – хвастаюсь я. – Да, Черный? – чешу за ухом сомлевшую от ласки собаку. – Видал? – гордится мною Князек. – Ты не гляди, что кобель – тварь бессловесная. Он хоть и Чернай, разом чуить, что за человек. – Дите, – довольный, возражает Витя. – Н-не говори, – со страстью доказывает Князек. – Помнишь, до нас на лошаде Машенца Николая паренек приезжал? О-ох! Чернай яво чуток не разорвал. – Ну, дак и че ж? – Ох, пла-а-хой, пла-а-хой парень!.. Оторви и выбрось!.. Там такой фулюган... Даром, что суседи... Hадысь чаво удумал? Поил свой огород, ды и пустил воду мне, а дома никого – усю посадку залил... – Можа, угодить тибе хотел? У их же моторчик... Че ему не поить? – Не-не-не... Хто ж у самую жару поить? Там вода бузовала... – Ну, ладно, ты езжай, – обрывает Витя словоохотливую речь старика. – Мине уж пора: овцы поднялись... – Дак ты же гляди, – идя вслед за Витей к подводе, советует Князек. – У хати ж ей боязно, а у степе да на земле ишшо простынет... – Ну, ты-то не простыл? – Я привычнай... Чаво обо мне толковать?.. А это дите... – Хух, ды залезай уже, подсаживает старика на подводу Витя. – Какнибудь без тебя разберемси... – Ну, я к утру буду, – кряхтя, устраивается Князек, – мине только травы подкосить, а то бабка ж негожа у сады ходить, она и мешка не подымить, ноги у ей распухли... И не придумаешь, как и быть: и без коровы бяда, и с коровой горе. – Ты б зарезал ее или продал, на кой она тибе? Хватить. И так сундуки небось ломются, – подначивает Витя. – Винцо давишь, кажную осень декалитров по двадцати продаешь. Люди вон говорять... – Они, люди, – разбирая вожжи, вздыхает Князек, – брешуть... Какие сундуки? С чего? И винограднику у мине осталось сотни две, не боле... А без корове нельзя, Ягорка ж вернется, женится, детишки народятся... Куды ж без молока? – Ну, ладно, надсаживайся! Жди свово Ягорку, – отмахивается от старика Витя. – Косу узял? А то соберешьси... – Узял, узял, – оглядывается Князек, проверяя глазами лежащую на дне подводы косу. – Ну, Тань! – елозит он на скрипучей доске, – до свидания... я ж поехал... – Езжайте, – откликаюсь я, не отрываясь от собаки. – Ты ж кушай пышки-та... Пока горячие... Ха-а-ро-шие пышки... Я ж напек на сале... Ну, – мнется Князек. – Счастливо, – подает старику руку Витя. – Ты не торопись. Че нужно, дома исделай. К вечеру приезжай. – Не... не... – обещает Князек, – я за ночь управлюсь, – и, взмахивая кнутом, не опуская его на воловьи спины, трогает. – Цо-об... – Ты че ж? – укоряет Витя, когда подвода, жалобно поскрипывая, отъезжает. – Че ж не попрощалась? – Да он же приедет завтра... – Так это же завтра... – корит Витя. – Чему вас только у городе и учат?.. – цедит он презрительно и идет к хатенке. – Витя, – бегу я за Витей. – Да он уж надоел мне... – А как охранять тибе по ночам да сладкий кусок у рот сувать, то не надоел? – жалит острыми глазами Витя и, перешагивая порог, скрывается в сумраке душной развалюхи... Чего пристал? Как сам орет на Князька, так ничего... А как я... – Витя! – Ну, ладно, – выходя из хатенки, говорит Витя. – Исть щас будешь? Нет? Ну, видала, где пышки? И сметана ж там. Поишь и спать ложись, я шубу кинул… – А ты? – Я с овцами... – А я? – Здорова была! – Не-ет, я одна здесь не останусь, – отбегаю на всякий случай от хатенки. – Я боюсь. – Ды Чернай с тобой будить. И кого у степе бояться? Тута днем с огнем никого не сыщешь... – Нет и нет! Ни за что! И не говори! – Ты че? – Ничего. Не останусь одна, и все. – Было б тибе с Князьком отправить, – грозится Витя. – И отправлял бы. Дедушка тебе говорил не оставлять меня одну. – Ды че ты, маленькая, уговаривать тибе?! Мине овец пасть надо. – Зачем их ночью пасть? Пусть днем пасутся... – Голова два уха! – презрительно сплевывает Витя. – В жару хто тибе пастись будить? Худоба тольке ночью теперя и живеть, хоть чуть прохладночка... – Тогда я с тобой пойду... – Че ж, усю ночь на ногах толочься будешь? – А ты? – Ты со мной не равняйся. Мы привычнаи. – И я привыкну... Витя глядит на меня с усмешкой: – Ну, гайда! Поглядим, как ты цельную ночь не спамши будешь, – и приказывает: – Фуфайку бяри!.. – Зачем? – Ты ж голой задницей на землю не сядешь? Аль ты усю ночь столбом стоять собираешься? Глянь вон на свою платью, надо бы короче, да некуды. Мать твоя дюже економная, заместо одного норовить же полторы сшить... – Дурак! – обижена я за маму. – Я не в твоем захолустном селе живу, а в городе. И у нас платья до пяток не шьют. Я же девочка... – То-то гляжу, что девочкам у городе и задницу прикрывать не надо. – Грубиян ты, – звенит уже от слез мой голос. – С чего это я грубиян? – не сдается Витя. – С того, что ты голой ж... сверкаешь? – А слова, – задыхаюсь я от обиды, – какие слова ты. говоришь?! Тебе не стыдно? – Какие ж такие слова? – искренне удивляется Витя. – Я ни одного черного слова тибе ишшо не сказал. Эт ты брось! Ишь, умная, – берет в руки ярлыгу – наговоришь сто бочек арестантов... Ишшо и посодишь... – Геть! – уже не глядя на меня, трогает Витя отару. – Ку-ды-ы! – замахивается кнутом на отбившихся овец. – Куды! – забегая, заворачивает их. Я плетусь следом, опустивши голову, волоча фуфайку по земле. За мной тащится Черный. Овцы, нагоняя нас, шарахаются в сторону, оттерявшиеся от маток ягнята жалобно блеют. У них растерянные, жалкие глазки, с розовой нежной радужкой. Без своих матерей они также беспомощны, как и я... ...Милая моя мама! Где ты? Что делаешь? Зачем ты отправила меня в это захолустное Покойное? Ведь ты же хорошо знаешь, что я люблю жить в городе, играть на асфальте в классы, покупать мороженое, люблю бегать с Людкой в парк, разглядывать там модно одетых курортниц и мечтать, что когда-нибудь и я в красивом платье буду важно прохаживаться по главной аллее и от нечего делать пить минеральную воду... Мама, мама! Ну почему каждое лето я должна жить в этом дурацком Покойном, где люди не умеют даже правильно говорить, где пыль, жара да колючки, какие называют травой, потому что здесь и травы-то настоящей в глаза не видели! И зачем мне хорошее питание? Я прекрасно могу обойтись и без него. Все равно я не люблю парное молоко, а яйца бабушка экономит, чтобы собрать их побольше и продать на базаре. Где же ей взять копейку? А тоже ведь надо купить и соль, и керосин, и мыло, еще сатину деду на рубаху: стыдно ему в конторе в выгоревшей рубахе сидеть. А мне ничего не надо... Ни пуховой шапки, ни валенок к зиме, что ты обещала купить на сэкономленные без меня деньги. Не надо мне и новой формы. Я не буду стыдиться, что она короткая и я из нее выросла. А порванные на локтях рукава можно аккуратно зачинить, сверху же носить нарукавники, тогда никто не увидит латки. Я не буду просить у тебя ничего! Пусть Людке покупают плиссированное платье, пусть у нее есть тридцать шесть цветных карандашей, пусть она ест хоть каждый день мороженое, я не попрошу, вот посмотришь. И буду есть только суп, как ты... Не хочу тут, не хочу! Я хочу домой, в Ессентуки. Все равно никому я тут не нужна. Верке некогда, она все время занята: то носит воду, то пропалывает картошку, то ходит в сады за травой. Дедушка отчего-то недовольный, а Витька... он стал обижать меня... Может быть, оттого, что он самый деревенский из всех. Потому он и говорит эти ужасные слова, от которых я краснею. А если бы он жил в городе, он никогда не сказал бы их. Он был бы культурный и не насмехался бы надо мной за мои платья. И caм бы вместо старой фуфайки да широченных помятых брюк носил бы модные, узенькие брючки, туфли на толстой подошве и клетчатый пиджак. Он не стригся бы под мальчишку, оставляя только коротенький чубчик, а отрастил длинные волосы, и мне не стыдно было бы появиться с ним даже в нашем парке.... Бедный, бедный Витя! Он должен помогать дедушке и потому не может уехать в город. Вот я вырасту, выучусь и стану балериной или пианисткой. Самой знаменитой в мире! У меня будет много денег: тысяча или целых две! Я выстрою новый дом для дедушки у самого ерика, куплю моторчик, чтобы можно было поить землю вволю. И тогда дедушка разведет виноградник и будет давить вино, и у него, как у Князька, наконец-то появятся деньги, и ему, старому и больному, не нужно будет работать в степи... А Витя наконец-то сможет уехать в город. Я куплю ему пальто вместо фуфайки, и ботинки вместо сапог, и модную шляпу вместо его затерханной фуражки, и никто тогда не заметит, что он не городской, что он приехал из Покойного... – Та-а-нь! – вздрагиваю я от Витиного голоса. – Тань! Ты че, оглохла? Иди сюда... – и сам идет ко мне. Отара уже успокоилась, все разобралось, и овцы, переходя с места на место, обрывая колючие, высохшие стебельки, сладко хрумкают. – Витя, а они знают, куда идут? – Хто? – не понимает Витя. – Да овцы. – А то и нет? – А куда? – Ды на ветер... – А ветра же нет?.. – Все одно, они чують, откель запах травы... – А овцы же глупые... – Хто тибе сказал? – В книжках так пишут. – Не знаю, че там пишуть, исть же надо, ишшо и не то напишишь... А овцы не глупые, не... – Ну как же? Ты куда захочешь, туда их и повернешь... – Да-да... Говори... Я их поверну, куда они сами повернули... – А зачем же тогда ты? – Без чабана овцы не отара. И умному поводырь нужен. – А они всю ночь пастись будут? – Почему? Середь ночи лягуть и ишшо перед светом зорюють часа два... – Глядя на меня с жалостью, говорит: – Заморилась ты. Было б мине Князька не отпускать. Вишь, как у нас: приехала, называется, племенница на отдых... – Да не казни ты себя! – неожиданно говорю я по-покойнински и поправляюсь: – Ты не виноват... – Хм! – хмыкает Витя. – Не нашей ты породы, должно, в отца пошла... – Почему? – Отходчивая... дюже... – А мама? – А то ты не знаешь свою маму!.. У ей, я так думаю, сердце аж крепче дедова. Режь – слезинки не выкатится. Ох, и муштровала она мине, было дело. Раз я со зла в чашку с борщам возьми ей да и плюнь, дак она – не поверишь? – неделю губ не размыкала. Аж в тоску мине ввела. И тоже ка-ак станить морали начитывать... – За кнуты? – А ты откель знаешь? – Мама рассказывала... – Во-во... И за кнуты. Нос же сувала, куды не просють... – А ты кнуты любил плести, потому и в чабаны пошел? – Ды почему? Я сперва объездчиком был. И лошадей я любил, а не кнуты. Там подо мною кобыла была – хух! Наметом пойдеть – пыль столбом! А ум у ей – человечий! Тольке што не говорила. А так дочиста все понимала. Бывало, к конюшне подхожу, метров за сто ишшо, уж она голос подаеть... Да... А те случай был... Напилси я раз, молодой же был, слабый ишшо, поднес мине тут один, Мишка, Завяловых зять, винца стакана два... А оно ж, знаешь, наше винцо: пьешь – как квасок, а потом враз у ноги ударить – и готов. Словом, отдал я Мишке кобылу, ему саманы первезть надо было – у ерика делал... Ну а сам я пеши отправился... А пьяненькай же пьяненькай... Ды доплелся до Кумы – мосточка не найду. А уж темно… Что ты будешь делать? И тут ноги у мине вконец подкосились, я брык наземь; не знаю, сколько времени прошло, тольке слышу, хто ж мине навроде копытой у бок ширяить да слюнявыми губами по морде елозить... Кады открыл глаза – Гнедая! Я цоп за землю, а из-под руки глина так комьями и посыпалась... Mине как ударить у голову, враз прояснило, это ж я на самом што ни на есть на краю, на круче на береговой угнездилси... Чуток бы, и ишшите, люди добраи, у Куме… Во че сотворил! Ежли б не Гнедая, наглотался бы я водички досыти... А Завялов мне опосля рассказывал... Перевез он саманы, да и не повел кобылу на конюшню, нехай, мол, до утра на базу постоить... А она увечери, брат ты мой, как накатило на ее: и копытом оземь бьет, и храпит, и с привязи рвется... И только, должно, хозяева у хату, она и сорвалась да не иначе через горожу маханула... И нашла ж мине, прибегла... О! А ты говоришь: кнуты... – А где ж она сейчас? – Война не только мою кобылу съела... – И тогда ты пошел в чабаны? – Ды и пошел. Надо ж было кому-то и овец пасти. – А почему ты седьмой класс не кончил, тебе ведь полгода оставалось? – Я ж тибе говорю: тады моды такой не было, чтоб учиться, тады на работу больше кидалися... – А если б ты школу кончил, ты б с нами в городе жил... – У го-о-ро-ди? Да ты че-о? Ни-ни-ни!.. Я б там на другой день с тоски помер. Цельный день ходишь, народу тьма, а словом перекинуться не с кем – усе чужие! – Ну и что? Зато в городе можно каждый день ходить в кино, в театр или в парк. И кино – не то, что в твоем Покойном, по частям крутят, кто первый место захватил, тот и сидит, а кому места не хватило, стой три часа.... А народу! Понабьются – дышать нечем! – Ну, дак и че ж? Зато усе посмотрють, не как в городи: билеты кончились, проси не проси, в жись не пустят… Ды и цены – дюже не находишьси, шутка сказать, до пяти рублей доходють, а про театр про энтат и говорить нечего, кажнай день ходить – без штанов останишьси... – Иди в парк. Бесплатно. – Че я там не видел? Мине он, твой парк, даром не нужен. Ходють там, ровно стреноженнаи... Жиры нагуливають... От чего отдыхають, не пойму. У колхоз бы их, глядишь, ментом вылечились. А то как у степе работать – некому, а жрать усем давай, да и послаще… – Пойми, у людей отпуск. – Во-во... Че-то я ни одного колхозника в отпуску не видал, да и то сказать, доброго колхозника у этот парк на аркане не затянишь. Страмы-то! Слоняются из угла в угол – дела себе не найдуть! Я раз с Нюркой тоже ж пошел эту воду с источника пить: она и вода-то какая-то неаккуратная; не то горькая, не то соленая... А отпускають же тольке стаканами. Добра-то. Один мужчина просил, просил: “У бутылку налейтя, пожалуйста”. Так она, подавальщица эта, как коза, морду воротить: “Читайтя, што написано...” А я сабе думаю: и унижаишьси ты, самостоятельный человек, перед такой гнидой, да приезжай до нас, бери с артезиану хучь ведрами, и рази ж такая вода! Ее же пьешь, и пить хочется, а от этой аж тошнить. Я ее цадил-цадил ды думаю: да когда ж ты кончишься? – Ну, ты б не пил! – Ды неловко как-то, узял стакан, куды ж деваться? А люди, вот толмачи! Табунятся на курортах этих в тесноте и в обиде, и воды, и той добрай не попьють, и жруть же – рази харч столовский сравнится с домашним? Там намешають, ровно свиньям, и усе пойдеть за милую душу. Но им же не втемяшешь, не! Мода ж такая, куды ж? Хучь плохо, ды на курортах! Да ишшо и приноровились странными делами заниматься... – Как так? – Ды так. Не сказал бы, да свои глаза видели. Идем с Нюркой, наглотались же этой воды, а ее, Нюрку-та, возьми да и окликни какая-та женщина. Ну, я, чтоб не мешаться, можа, у их какие секреты, отошел в сторонку. Стою. Огляделси. Вижу: горожа сплошная. У нас дощечки не сышшишь, а тута тес, ды какой же добрай! Думаю сабе, че ж они. огородили? Подошел поближе, в щель – глядь! Ды и лучше б не глядел... – Почему? – Совестно сказать: голаи мужики и бабы лежать!.. – В трусах небось? – Ну, дак ишшо бы и без трусов! – Да это солярий, – догадываюсь я. – Чего? – Курортники воздушные ванны принимают... – Чего-о?! – Ванны, говорю, воздушные... – Ну?! – не верит Витя. –Да... – начинаю сомневаться и я... – лечатся воздухом… – А че ж он, можа, какой особеннай? – глядит Витя с сомнением. – Нет, – теряюсь я, – обыкновенный... – Хм! – хмыкает Витя. – Обыкновенный? – подозрительно глядит на меня, и сам себе: – Не-ет, тут штой-то не так... – Чего не так?– раздражена я его недоверием. – Чего? – Да-а... – топырит он губы. – Ну и ну, – сдвигает кепку на затылок. – Воздухом, значить... – обмозговывает что-то свое. – Витя, – трясу я его за рукав. – Ну, что? – Да так, – машет он рукой, – много ишшо чудес на свете... Ох и многаа... Глава одиннадцатая На земле лежать жестко. Бедный Князек, как он эти две ночи спал? Телогрейка короткая – ноги не вытянешь. Но не холодно. Правда, Витя прикрыл меня своим пиджаком, а сам прикорнул возле, на голой земле. Отара улеглась, дремлет. Изредка спросонья проблеет ягненок. Так тихо в степи. И хочется на всю жизнь остаться здесь, слушать тишину и думать неторопливую думу. И что человеку нужно? Зачем ему плиссированная юбка, тридцать шесть цветных карандашей и даже пианино? Когда можно всю жизнь прожить здесь, в этой мирной степи, вдыхать пыльный запах сожженной солнцем травы, ощущая своим телом тепло родимой земли... И на душе так покойно, и не хочется ни с кем спорить и никого обижать... – Витя, а я Князька вспомнила... –– Че, скучилась за им? – А он хороший, Витя, и на дядю Алексея он не доносил... – Хто его знаить, хорошего этого... Чужая душа – потемки... – Нет, Витя, нет! Вот, честное слово, нет! Я знаю, что нет... – Хм, – недоверчиво усмехается Витя. – А как он сына ждет, а? Как ждет!.. – Из ума, должно, выжил, вот и ждеть. Да и было б кого ждать... пленнаго... Посдавались, а за их воюй. – А как же Князек говорит, что никакая война без пленных не бывает. Ведь они не нарочно сдавались? Они раненые! – Хто их знаить, – миролюбиво отвечает Витя и, раздражая меня зевотой, продолжает безразлично: – Это ишшо проверить надо, там, можа, и предатели были... – По-твоему, – жестко допрашиваю я, – и мой отец – предатель? – Хух! Господи! Прицапилася! – наконец задет за живое Витя. – Что же теперя, усех и прощать? – Да зачем их прощать, если они не виноваты? – Не винова-а-ти-и?! Так усе посдадутся, кому и воевать? – Не верю я, что все просто так сдавались. Не верю! Мой отец не мог по своей воле сдаться. И сын Князька тоже. А Князек молодец, потому что сына ждет и верит... А вот кто людям, попавшим в беду, не верит, тот сам хуже в сто раз! – зло бросаю я Вите. Витя, приоткрывши рот, с изумлением глядит на меня и неожиданно отвечает примирительно: – Шут с им, с твоим Князьком... Нехай сибе ждеть... Хто ему мешаить... – Да не мой он! Не мой! – кричу я. – Но он лучше тех, кто забыл своего сына или брата... и не ждет!.. и не верит! – Ну, это ж дед твой любимый и есть, – сражает меня наповал Витя. – Че ты зеваешь? Да-а... Дед, дед... – подтверждает, – любимый твой дед. – А ты? – подскакиваю, как ужаленная. – Что же ты не помог дяде Алексею? Ведь он твой родной брат! И ты отлично знаешь, что он не виноват?! – Че я? Че ты мелешь? Я сопли в то время ишшо утирать не научилси... Куды ж бы я? – А щас? – Че щас? Че теперя исделаешь? После драки кулаками не машуть... Прицапилася... А вы дюже с матерью свово отца ждетя? Получили ту же бумагу, что и Князек, и успокоились... Вон бабка говорить: мать твоя не нынче завтра замуж выскочить, и женихи уж ей находются... Небось, до вас не один заходил? – Кто-о? – Да ухажеры материны, хто ж ишшо? Тибе навроде рано, – в открытую издевается Витя. – Что ты говоришь?! – вскакиваю я, наступая на Витю. – Неправда! – топочу ногами. – Ты со зла! – захлебываюсь слезами от стыда за маму, и кидаюсь ничком на землю, и рыдаю, вздрагивая всем телом. – Со зла! – Тань! Хух! Свяжись с тобой, и сам не рад будешь, – бормочет Витя. – Тань! – склоняется надо мною. – С чего ты так убиваешься? Я ж ниче такого не сказал... Она, бабка-та, и сбрешеть, дорого не возьметь... Господи, ты Боже мой, я ж и не знал, што ты так дюже уж против... – Мама... Моя мама никогда не выйдет замуж!.. Ты все выдумал! – кричу я сквозь слезы. – Ну и ладно, – соглашается Витя. – Можа, и не выйдеть... Не плачь тольке, – осторожно дотрагивается до моего плеча... – Хух! – неожиданно признается он. – Сердце ты мине разрываешь... Ишь какая нравная, – приговаривает. – А как жа мы не противились, когда дед жанилси ды мачеху у дом привел?.. – Дедушке тяжело было... Вас пятеро... – Какой пятеро? Нас тогда, можно сказать, двое осталось: я ды мать. Колька с Любкой померли, а Алексей уж у городе училси... – Ну и что? – все еще хлюпаю я. – Дедушка – мужчина, ему тяжело... – А матери твоей легко? Ты подумай: день и ночь же работаить, чтоб тибе одеть-обуть ды накормить посытнея... И кругом же одна. А ты в институт собираешьси... Сколько ж ей тянуться? Да и молодая она ишшо... И поглядеть на нее – хух! Хучь она мине и сестра, а правду скажу, красивше ее в Покойном не то что бабы – девки нетути. Должно, в мать нашу пошла... И лицом, и статью. Правду говорит Латышев: одно слово – королева... На нее глядеть – и то боязно… – А ты свою маму помнишь? – Ды как тибе сказать? Помню. Лежала на кровати уж тощая, и лицо у ей ровно восковое. До-о-лго хворала... Месяца два али больше... А потом уж вставать стала, по хати ходить с бадиком... Нюрке указывала, че и как по хозяйству исделать... Помню, Кольку качала, Нюрка ей стулу поставить возле зыбки, она качаить зыбку-то ды глядить на Кольку, а по щекам у ей слезы текуть... Мы уж думали она подымется, и отец повеселел. А тут суседка пожалела, Шабаниха, тетка Аришка, возьми ды и принеси ей огурчика соленого. Нюрка опосля говорила: она съела-то всего половиночкю... А у ей же брюшняк был, и отец строго-настрого приказывал вострого ей ничего не давать... А мы отца страшно боялися... Што ты, чтоб его ослухаться? Мать, бывало, у Нюрки просить: принеси мине кваску али бублика соленого, уж дюже молоко приелося, а Нюрка мотнеть головой да вон из хати, а мать вздохнеть: сердцем дюже крепкая, вся в отца... Пригорюнился Витя, сидит, опустивши голову, и травинку, спаленную солнцем, тонконог золотистый, в руках мнет. – А потом, Витя? – С огурца ли того, нет ли, – раздумывает Витя, – только враз ей хуже стало... И опять несло ее одной кровью. Нюрка юбки материны споднии не успевала замывать... Ну, и померла она... вскорости... Помню, за день, должно, до смерти позвала нас – мине, Любку, а Алексея не было, он только по субботам из городу приходил... Ну, позвала да указываить: мол, сядьте, у ногах, чтоб ей видать, значить, нас было... И стала говорить, да тихо-тихо шелестить губами: “Мои детки, – говорить, – я помру, и отец женится на другой... Можа, Бог даст, мачеха когда и пожалеить моих сиротиночек, а станить она вас обижать ды отцу наговаривать, вы стойтя друг за дружку крепко и в обиду один другого не давайтя... Завсегда помнитя, что мать вам говорила: обидеть вас теперь каждому легко... Помню, аж застонала: “Господи, ды за што ж ты мине так наказуешь?! На кого ж я их покидаю?..” – Не надо, Витя, не рассказывай, – прошу я, обливаясь горькими слезами. – А я ж тогда, – качает головой Витя, – толмач толмачом был, ничего не понимал... Мать помираить, в последний раз говорить, тут бы каждое слово ловить, а я, оголец голозадый, на месте не стою: загорелось на улицу бечь... с товарищами же веселее... Нюрка, та усе понимала. Она тогда – ведь ей только десятый годок шел – при матери держалась, только губы кусала, а потом выскочила на двор, ды за сараем упала на землю, и криком кричала... Я ишшо и подивился на ее, и че реветь? Какая никакая, а мать-то будить... – А дедушка? – Тот ни единой слезинки не проронил. И на могилке. Уж бабы посудачили... Но матерю нашу дед долго помнил... Уж и эту привел, уж и жил с ей год, а може, и поболе, а останемся с им вдвоем у хати, он подзовет мине ды на карточкю материну на стене: “Витя, это твоя мама... мама твоя... Ты не забыл ее, Витя?” А я сибе думаю: “Че он мине все допрашиваить? Тронулси, что ля?” А бабка, распрочерт, раз пошла ставни закрывать ды подслухала, должно, ка-ак влетить у хату, ровно буря, и давай горло драть: “Я твою Мотьку в гроб не клала!.. Ты чему детей научаишь!” А на другой день дед из конторы пришел, а она готова, управилась: усе карточки материны пожгла... – А дедушка? – Ды че ж ей, взгальной бабе, исделаешь? Куды деваться? Он и так горя нахлебалси: троих схоронил. И по селу сплетали, мол, Евсик через ндрав свой дюже чижелый и жену у гроб вогнал, и детей же двоих... – А отчего Коля и Люба умерли? – Ды хто тады че знал? Отец привозил фершала и не раз, ды он, должно, столько ж в медицине знал, сколько я забыл... Потопчетсяпотопчется, как дряхлый кочет возле курицы, руками разведеть: кабы ж лекарства... Колька, я думаю, помер от той же болезни, што и мать. На его понос напал. Да и как не напасть, когда мы ему, младенцу, абы че у рот сували... Ему б грудь сосать... Так и загубили парнишечку... А уж он знал нас усех... Смирнай был, кричал мало, только кряхтел ды ручки к каждому тянул, возьмите, мол, из качки... А с Любкой, – вздыхает Витя, – цельная история вышла... Мы с ей дружнаи были... Она всего годом мине постарше... Значить, – вспоминает Витя, – мине шесть было, а ей восьмой годок пошел... Но у школу она ишшо не ходила... Не до школы с нашей бедой было... Вот схоронили, значить, мы Кольку следом же за матерью… должно, месяца через три... и пошел по селу слух: пропали, мол, Евсиковы ребятишки, не отпели мать у церкви, не успокоили ее дух, она усех детей к себе возыметь... А отец и вправду не велел отпевать ни мать, ни Кольку. Он, конечно, попов не жаловал, но, видно, больше боялси власти... А власть, она тогда круто против веры работала... – А чьи же иконы в доме у вас? – Это бабкины... Она с ими к нам прикомандировалась... Дед противилси-противилси, да и отступился. Видно, понял: это не мать наша... Мать была покладистая, отцу – Боже упаси! – перечить. А этой пройде сс... в глаза, она –божья роса... А мать, бывало, тайком от отца у церкву ходила... у соседнее село... у Ильичевку... Нашу-то церкву разорили... государственные головы, навроде Стародубцева-старшего, горлопана... Крест сбросили, железо с купола сорвали, притворы толом разнесли – словом, шкоды наделали, на то ума много не надо... Вот она и стоить теперь посреди села расхристанная, навроде женщины, какую ссильничали да на дороге и бросили... А я помню – мать нас, детишек, с собою у церкву брала – ох, какая ж там красота!.. Я в жись такой боле не видал... – Витя, а Бог есть? – Ты полекше че спроси. Откель же я знаю? Одни говорят – есть, другие и слухать про то не желають... Видно, скольке годов, столько умов. Но я так думаю, что ж, люди глупее нас были, когда не год, не два, а веками верили? – Не могли объяснить явления природы, вот и верили, – как затверженный урок повторяю я. – Хм, – усмехается Витя, – зато теперь усе объяснить могут, тольке тем объяснениям веры уже нет. Дурили народ, дурили, сколько ж можно дурить?... – А как дурили? За что? – Хух! Все тибе скажи ды расскажи. Дюже yмная. Кабы глупее была, лекше б жилось. Ум твой, он тибе до добра не доведеть... – Ну, что же с Любой случилось-то? – С Любой... с Любой беда-а случилась, – тоскует Витя. – После материных похорон, гляжу, моя Любка от мине стала откалываться, бывало, шмыганеть – и нету ее. Думаю, куды ж она шастаить? Подследил же. Она, оказывается, к монашкам приладилась бегать... – К настоящим? – Ды нет. К бывшим. Они через дом от нас жили. Хорошие такие женщины. Смирнаи. Тольке ходили у черном. Никого не судили, Боже сохрани. Их потом, должно, у тридцать восьмом годе выслали... – За что? – Хух, Господи! Ды откель же я знаю! Кабы усех за дело высылали, так бы и высылать было некого. А то народу погубили... Ну и этих же, женщин, тоже... А отец как чуял, он не дозволял нам, детишкам, к им ходить... Но я ишшо до Любки к их хате тропку проторил. Они, бывало, зазовуть мине, горячим покормють... Дед же станить варить, чугунок на рогаче из печки несеть, а он у его бух – и перевернется на самой загнетке! Дед плюнить – и у контору. Шшитай – наелись. Ну, я облизывалси-облизывалси у родном дому, да и пристроилси к тому, у кого чугуны на рогачах держутся. А тут Любка навроде дорогу перешла. Я и взревновал. Подумал, через ее сладкого куска мине не видать. Ну и нажалилси отцу. А тот, недолго размышлявши, и мине ввалил, и Любке: не собирай чужие куски, не ходи по дворам. Но Любка, оказывается, не на сладкий кусок польстилася, а наладилась с монашками у церкву ходить. Чем они ей голову заморочили? Можа, божьими сказками, можа, у церкви ей понравилось, не знаю. Но только колокол зазвонить, она из хати вон. Ни одной службы не пропускала: ни обедни, ни вечерни и к заутрени норовила убечь. Отец ее и бил, и уговаривал, она плачить-заливается ды причитывает, как старуха: “Батюшка мой родимый, пусти мине у церкву за ради Бога...”. Но отец же наш, что камень. Его слезьми не разжалобишь. Это он с тобой цацкается, я диву даюсь, а нас шкурил дак шкурил... Вот он строго-настрого приказал Нюрке за сестрой доглядывать, а не то грозился обеим пряжкой задницу раскрасить. Ну, Любка жалостливая была, навроде тибе, должно, старшую сестру пожалела, покорилась. С тех пор сидела у окна, кулачком голову подопреть, ды глядить на дорогу, ды тяжко так вздыхаить... Ей-ей, мине ее жалко было, и на отца я дюже о ту пору губы дул... А тут осень, дожжи зарядили, и стала наша Любка чахнуть: ни исть, ни пьеть, а потом и с кровати не стала подыматься. А вскорости и жар у ей открылся. Отец аж лицом почернел. Опять фершала привез, тот дал на этот раз каких-то капель. А че толку? У ей хоть жар и спал, а начался кашель. И не такой, чтоб уж сильный, но точил ее неустанно, как шашель зерно. Недели через две и померла наша Любка. Перед смертью, увечери, просилась с нами на полу лечь. Мы ж гуртом, а она одна на койке. Отец, конечно, не разрешил. А утром Нюрка проснулась да ка-ак закричить: Любка, уж холодная, в ногах у нас. Опосля этого и жанился отец. ...Зябкий рассвет чуть раздвинул дали, и в серой предутренней мгле замаячила тоже серая, зыбкая фигура. Черный, лежавший у моих ног, приподнял было голову, сторожко повел короткими ушами, но потом безразлично зевнул, потянулся и, положив голову на лапы, прикрыл глаза. – Не иначе свой, – проговорил неуверенно Витя, вглядываясь в приближающуюся фигуру. – Кому бы это быть? Человек шел, по-стариковски не разгибая колен, то и дело оступаясь, и даже послышалось как будто шарканье усталых ног. – Да это же Князек! – вскрикнула я. – Ды теперь и я вижу, – откликнулся Витя. – Че его черти в такую рань принесли? А иде ж быки? Князек медленно приближался, а подходя, казалось, еще сбавил шагу. – Я и не думал, что вы так далеко ушли, – виновато вымолвил он, – а то бы я на быках... – А иде ж они у тибе? – Ды на тырле... – Распряг? – Не... – А кого ж ты ждешь? – возвысил голос Витя. – Худобу загнать хочешь? Дома тебе не сидится… Князек поднял на Витю тоскующие глаза и обреченно вымолвил: – У село табе с Танькой ехать надоть... – Че мы там не видали? Князек сглотнул слюну и закончил косноязычно: – Б-бяда, Витька... О-ох, бяда-а... Де-е-душка помираить… дедушка ваш... Глава двенадцатая В хате темно. Солнечные лучи, стрелами пронзившие ставень, ослепивши подоконник, только на шаг матово высвечивают земляной пол. А там, в углу, на койке, где лежит дедушка, глухой, насторожившийся сумрак. Но глаза постепенно обвыкают, и я, боясь подойти к деду, вижу только его большое неподвижное тело, одетое, как обычно, в сатиновую рубаху навыпуск да суконные черные брюки. – Ну, че тут у вас? – бодро спрашивает Витя, присаживаясь у стола на лавку. Тяжелая тишина виснет в комнате, горбит Витины и без того сутулые плечи. – Пап! – вскакивает Витя с лавки и делает два неуверенных шага к койке. – Ты че молчишь? Тяжко тибе? – Ничего, – отвечает дедушка вяло. – Ну, ты захворал дюже? – допрашивает Витя, подходя теперь к самой койке. – Да не-ет, – тянет дедушка неуверенно. – Чертов Князек, – плюется Витя, – перепугал, поезжай, мол, отец помираить... Мы с Танькой сгреблись и не помню, как доехали... Дедушка молчит. – Учерась у степе прихватило? – добивается Витя. – Вчера, – вторит дедушка. – Сердце? – Ды хтонь... у груди болить... пекеть... Лежу – ничего, а как встану, ровно ножом кто саданеть... – Ну, не горюй, – успокаивает Витя, – денька два полежишь и оклемаешьси... Ты, должно, чижало поднял? – Да нет... зерно ж на току грузили… – Небось весь день до ночи? – Как стемнело, кончили... – Ну, ты сознаешь, плохо тибе, ты б не надсаживалси... – Люди ворочают, а я сложа руки сидеть буду? – Ну, если болит дюже? – Каждому ж не докажешь... – А медичкя была? – Увечери... – Ишшо позвать?.. – Ды че ее беспокоить... – Можа, Танька за лекаря сойдеть? – пытается шутить Витя. – А где ж она? – безразлично спрашивает дед. – Да тут, у хати... Вон у двери, как бравый солдат Швейк, стоить... Иди сюды, Тань, че к косяку прилипла? – Ну, – переминаюсь я с ноги на ногу. – Одна сиделка готова, – подтрунивает Витя. – Не тронь ее, – просит дед. – Нехай на двор идет либо к подружкам. – Ды нехай, нужна она мине, – отмахивается Витя. А то и возле деда посидела б, не прокисла... – Хух, – вздыхает дедушка. – Ну, я пойду на баз, у корове почищу, – говорит Витя, отходя от койки. – Ступай... – Я дверь открытой оставлю, шумни, если че... На дворе бабушка гремит ведрами. – Иде ж Верка? – Иде ж ей быть? – взвизгивает бабушка, сверля Витю злым зрачком ненавидящих глаз. – Иде ж ей, бедной, и быть, как не на артезиане! – захлебывается она в крике. – Вас же не допросишься бочкю воды привезть... Бассейн на дворе, а за водой... – Че орешь? – приглушенно говорит Витя. – Сказано, бочкя прогнила... днище... Я тибе че, с артезиану в пригоршне привезу? Посулились плотники новую исделать ды просят магарыч. А иде я его возьму? Денежки, какие за овец выручил, ты усе повыгребла, а винцо наш отец пока не давить. Мне забота – овец поить: у степь цибарками не наносишьси, а тут ты... Третий день к артезиану ходишь – крику на все село, а люди... – Наср... мне на твоих людей! – с чувством ругается бабушка... – То-то что и оно, – качает головой Витя и идет под сарай. Я стою возле порога как пришибленная. Идти за Витей неловко, возвращаться к деду совестно, слушать бабушку невмоготу. – Наделал дялов, – бушует она, – а теперь ляжить! Ведь ка-ак говорила: сидишь у конторе и сиди. Так не-ет... Все ндрав свой выказывал! Ну и довыказывалси! Налетел на такого ж, как сам... твердолобого... на рыжего энтого, конопатого!.. Чтоб на яво лихоманка напала, чтоб яво понос пробрал и у штаны б яму навалить при честном народе!.. Я до яво ишшо доберусь! – грозится бабушка, ни на минуту не прекращая работы (в руках у нее все так и горит). – Он от мине никуды не денется! Но ты-то, – с чугунком в руках вопрошает она в распахнутую дверь, – ты хто есть? Нет нихто, – отвечает сама себе. – Швыранул тибе Латышев из конторе, как котенка, и отправил с бабами у степь. Та-ак дураков и учуть, та-ак! Покидай теперя лопатой. Они, ма-шины-та, трехтонки, да рыжай этот, малахольный, какой самого черта вокруг пальца обведеть, велел им ишшо и борта нашить. Спробывал бы сам хучь бы одну нагрузить! Но он-та грузить не будеть, а ты, дурак старый, вдоволь накидаешьси... ...Бедный дед, в темном углу, на скрипучей койке... Ведь он же все слышит... – Привезли его со степе, – жалуется мне бабушка, – а он жа белайбелай, как побелка, белай! Ды победная моя головушка! Ды че ж теперя делать?! Ишшо не дай Бог помреть! А Верка у город, у восьмой класс сбиралась учиться... Выучилась! Я ж одна ее не подыму!.. Там за квартиру платить надоть ды приодеть девку: плюшку купить, шальку, у город-та не отправишь у наших лохмотах!.. А он – на табе! Завалился! Ну, учерась медичкя укол кольнула – пяток же яиц ей сунула, а нынче он еле до уборной дошел, волоком оттеда тянула... Ну, и опять укол энтот колоть? Эт каких же кур надоть? Чтоб по три яйца у день несли?! Головушка горькая! Не то нежнай уж такой? Не то и правда у яво дюже так болить? У самой поясница разламывается – мочи нету! И я б легла, но мине лежать-то не за кем. Дела, они усе мои... – Бабушка, – осмеливаюсь я, – давай я кур покормлю. – Толку с табе, – отмахивается она. – Ты ж у выходи боишьси... Ишшо зерно просыпишь... – Ну, давай я сливки в погреб отнесу... – Ды там же тоже темно, ишшо оступишьси ды разольешь... Иди уж у выход... Ды гляди, – наставляет она, – курям меру ячменя, а цыпляткам у загородку проса... Не дай Бог, ишшо наседку выпустишь... – Нет, – обещаю я и понуро бреду к выходу. Бабушка с минуту глядит мне вслед, а потом, подхватив ведро с обратом, так называет она пропущенное через сепаратор молоко, и кринку со сливками, спешит к погребу. В темном выходе – глухой, полуподвальной комнате без окон – пахнет сухим зерном, пылью и мышами. Мышей я боюсь. Поэтому, не дойдя до ларя на расстояние вытянутой руки, колочу ведром о его деревянный бок, а потом уже черпаю совком литой ячмень. Вот поспешила и просыпала мимо ведра. Ползаю теперь по земляному полу, на ощупь подбирая зернышки. Из-за кадок, мешков, ларей глядит на меня своим страшными глазами боязливый сумрак. Скорее, скорее отсюда! Ой! Да ведь про просо забыла! А оно в мешке. Вот развяжу мешок, а оттуда ка-aк выпрыгнет! Сердце колотится, как под бабушкиной рукой взбивалка в деревянной маслобойке. Ну и бабушка!.. На сколько же узлов бечевку она завязала? Пальцами не развязать. Я пробую зубами. Приученный бечевкой конец мешка торчит торчмя – раз туда совком! Не-ет мыши, нет. Просо маленькое, в нежной шелухе, я знаю, что по цвету оно похоже на латышевские веснушки... Бабушка говорила полсовка... Ой! А мешок-то и не завязала... Ну, все что ли? Скорей к двери! Вот теперь так и кажется, что сутемень хватит за пятку... Фух!.. Расплавленным золотом льется солнечный свет в глаза. Счастливое солнце! Весело ему по небу катиться! Ни забот, ни печали, ни ругани... Наседка, заботливая мама, усердно кормит своих деток. “Вот-вот-вотвот, – говорит, – вот самое сладкое зернышко!..” А цыплятки клюнут раздрутой, да и бегут сломя голову в сторону: может, у братца или сестрицы слаще... А наседка не сердится, снова скликает: “Вот-вот-вот...”. И когда сама ест? Куры ходят вокруг загородки, норовят к цыплятам перелететь, да мочи не хватает: бабушка крылья подрезала. Взмахнут бедолаги укороченным крылом, да и валятся на землю. А петух из себя выходит: “Ко-о, ко-ко…”. Глазом косит, шпорой – чирк! – о землю – чирк! Вот дурачок! Я тут причем, если бабушка ему тоже крыло укоротила. – Цып, цып, цып, – выхожу я из-за загородки. – Цып! – скликаю кур, и в то же мгновение раскрылившийся петух, подскакивая кверху, выбивает ведерко с ячменем из моих рук. Не давая опомниться, налетает с яростью на меня и, кажется, железным клювом долбит мои коленки: одну-другую, однудругую! Кровь течет по ногам, больно так, что слезы брызжут из глаз. – Дедушка! – воплю я что есть силы. – Родненький дедушка! Спаси! Помоги! – плачу и кричу, и, отбиваясь от петуха, бегу в сенцы. А забияка не отстает. Осатанел. Подпрыгивая, норовит в лицо клюнуть. Сталкиваясь на пороге с дедушкой, кидаюсь к нему в объятья и, забыв о его болезни, о бабушкиной ругани, обо всем на свете, плачу, заговаривая свою боль: – Дедушка, как больно! Как больно... Если бы ты знал, дедушка!.. – Ну, моя... жалкая моя, – неумело утешает дед, утирая ладонью мои слезы. – Кшы-ы! – сердито бросает вслед петуху, разом при виде деда метнувшемуся с порога. – Ну, будет, будет, – приговаривает с болью. – Довольно, не плачь... – Чаво это у вас тута стряслось? – влетает в сенцы бабушка. – Унучечка, – всплескивает, руками. – Ды хто ж тибе коленки так разделал? Не иначе треклятый этот кочет... У-у, нечистый дух! – грозит она куриной стае. – Чуяло мое сердце, ох, чуяло, – мельком, взглядывая в серое лицо дела, причитывает она. – Ведь как просила: сиди у холодочке, унучечка... Бабка сама управится... Нет и нет... – Я же упреждал тебя, – раздельно выговаривает каждое слово дед. – Зачем ты ее заставила?.. – Сама... сама... хучь спроси, – юлит бабушка.. – И ты знала, что кочет драчливый... И послала дите... –– Ум вышибло! Вышибло ум! – ясными правдивыми глазками глядит бабушка в дедовы мрачные глаза. – Ты своей хворобой ноженьки мои подкосил! Что ни делаю, что ни говорю, а голова все одним занятая: скажи ты мине за ради Бога, хучь чуток лекше тибе? – Ничего, – говорит дед сухо и, неуклюже поворачиваясь, не оглядываясь, на ходу уже добавляет, морщась: – Хух! Какой же беды наделала... На коленки-та глядеть страшно... Бедная ж девчонка... – и, держась за дверной косяк, приказывает: – Своди ее к фершелице, може, она мази какой приложит... А кочету голову нынче долой! Свари лапши. Исть давно пора. Где умная, а где подсказывать надо: со степе дети приехали, голоднаи... Глава тринадцатая Покойнинские сады на самом деле никакие не сады, а брошенная за Кумой земля, поросшая травою и кустарником. Кое-где, правда, тут растут еще раскидистые тутовые деревья да дающие мелкий плод одичавшие абрикосы. А раньше, то есть до коллективизации, рассказывала мне бабушка, здесь у каждой покойнинской семьи был надел земли, и росли на этой земле и яблони, и груши, по-местному дули, и рано поспевающие вишни, называемые майками, и шпанка–созревающая s конце июня мясистая крупная вишня, величиной с алычу, и сама алыча, красная и желтая, разумеется, абрикосы, ну и, конечно же, виноград. Виноградные чубуки сажали здесь в изобилии, до тысячи кустов, и особенно по нраву пришлась эта глинистая земля, прокаленная неистовым солнцем, мускату – сладкому, с медовым запахом винограду, из которого по осени давили вино, невзрачное, зеленоватое на вид, пьющееся легко, как квас, и сбивающее с ног ядреного мужика после третьего стакана. Вино это, в ту пору дешевле воды, на свадьбах, поминках и престольных праздниках лилось рекой и подавалось на стол только четвертями, иначе говоря, трехлитровыми бутылями, но горьких пьяниц – уверяла меня бабушка – на селе не было. Время шло. Многое изменилось в Покойном: уклад жизни, поведение людей и даже облик земли, и только слова, придуманные однажды, оказались долговечнее всего. И хотя сады за Кумой вместе с плантациями муската, ставшие, естественно, в период коллективизации уже не частной, а кооперативной собственностью, заглохли и одичали и, брошенные человеком – колхозу не до садов было, – уничтожились сами собою, название осталось. Но земля эта, благодаря близости к воде, не может быть в степи, истомленной вечной жаждой, брошена навсегда. И вот по воле ли мягкосердечного председателя, по настойчивым ли приставаниям колхозников, а скорее всего время подошло, в садах членам колхоза стали давать участки под огороды. Чтоб не разжечь частнособственнические аппетиты, давали экономно, по пяти соток на семью. Но брали не все. Сады далеко, лошадей или какого другого транспорта на дворе ни у кого нету, а у бригадира лошадки не допросишься, не зря гуляет по селу на досуге сочиненная частушка: Бригадир, бригадир, Лохматая шапка, Кто винца поднесет, Тому и лошадка... Только крайняя нужда заставляла теперь покойнинских жителей идти в сады, и шли, в основном, те, чья усадьба не только от Кумы, но и от тщедушного ерика верст за семь, и земля на подворье, измученная жаждой, могла прикрыть свою наготу только бурьяном. У дедушки в садах тоже теперь есть пять соток, но он их и в глаза не видел: бабушка и Верка обрабатывают эту землю. Сперва они мотыгами из слежавшейся, годами сцементированной почвы выбили траву, корнями, кажется, въевшуюся в самую сердцевину, потом мотыгами же раздалбливали каменистую твердь в мелкие комья, затем устроили борозды, чтобы по ним из общей канавы пустить воду; на тележках, а это все равно что на себе, притащили из села в сады мешки с мелкой семенной картошкой и под конец, кланяясь каждой картофелиной земле, под лопату засадили свой клочок, не оставив жировать и пяди... Все лето, два раза в неделю, с мотыгами на плечах и узелком, куда бережно увязаны калач да бутылка с молоком, бабушка с Веской ходят в сады. Первое дело, картошку поить надо. Поить досыта, чтоб вода в бороздах стояла. Ну и, само собой, полоть, окучивать, а по осени уродит земля, отобрать у нее, сердешной, все, что, несмотря на немилосердный зной, сумела она выпестовать. Но сегодня мы с Веркой идем в сады не на картошку. Мы идем за травой, потому что каждый вечер вернувшаяся со степи корова мычит, заглядывая в ясли: хотите молока – давайте травы. А где ее взять? В степи она еще в мае дочиста выгорела, и зачем туда коров гоняют, я не знаю. А вот в садах, по канавам, по кустам, под тутовыми деревьями, пожалуйста – жни серпом. Косой – Боже упаси. Объездчик тут как тут явится. А за серп никто не заругает. Им что нажнешь? Ну мешок, ну два. Сегодня мы с Веркой принесем два: один я, другой она, и тогда завтра в сады можно не тащиться. А завтра суббота... – Че эт ты молчишь усю дорогу? – прерывает мои размышления Верка и насмешливо глядит на меня. Размечталась... – Вер, а о чем ты думала? – Травы где больше нажать, о чем же ишшо... Счастливый человек Верка. Она никогда попусту не мечтает, а если и думает о чем, то все думы ее вполне реальные, практические. Уж она не станет, как я, плакать над книжкой или в кино, потому что твердо знает, что это вымысел, да и книжку она не будет читать, если учительница не заставит. “Читай не читай, – говорит Верка, – а от книг сыт не будешь”. И уж, конечно, Верка не станет строить воздушных замков, как я, мечтать о том, что когданибудь, став знаменитостью, всех смогу сделать счастливыми: и деда, и бабушку, и Витю, и саму Верку... Чтобы ей такое подарить, чтоб она была довольна?.. – Вер, чего тебе хочется больше всего на свете? – Не знаю, – пожимает плечами Верка. – Хочешь пианино? – Че я с им буду делать? – Играть... – До игрушек мине! – А новое платье хочешь? Или туфли с пряжками, как у меня? – Не с нашими деньгами их покупать, – поджимает губы Верка. – Ну, а сколько тебе денег нужно? – Ско-олько, – презрительно тянет Верка, – че об их говорить, когда в кармане не шиша... Дурак думками богатеет, так и ты... Иди, не отставай... Небось уж и заморилась, – не сбавляет Верка скорого шагу. – А далеко еще? – Тю-ю... С прошлого года и забыла? Щас вон до конца улицы дойдем и завернем у трувилевской хаты, а тада по проулочку, а тада завяловскими задами, а тада у Акимихи через горожу перелезем, вот она тибе и Кума, по мосточку перейдем, а там, сама знаешь, рукой подать... – Ого... – А как же ты собираешься с мешком обратно итить? Я растерянно гляжу Верке в глаза. – Вот горюшко, – качает головой Верка и на миг останавливается, – Можа, вернешься, пока дорогу сама найдешь? – А тогда тебе завтра идти... – Мине как с тобой путаться, лучше ишшо раз самой сбегать... Я с завистью гляжу на Верку. И правда, что за двужильный человек Верка?! Нет ей устали ни в работе, ни в ходьбе. Ишь, чимчикует, словно пятки ей маслом смазали. И жара нипочем. Вот так пе-екло. Четвертый час по полудни, а солнце жарит, не унимается. – Ну, – говорит, подходя к Акимихиной гороже Верка, – ежели Акимиха заметит – пропали! У ей кобель – живьем съисть... – Вер, давай обойдем лучше... А то нехорошо без спросу... Совестно… – Ой, Господи, дед да внучка, – сердится Верка. – Насаетесь вы с этой совестью, как дурень с писаной торбой. Иди подсажу! Она присела на корточки возле самой горожи. – Лезь! – командует, и я ногами взбираюсь ей на спину. – Хватайся за верх! – упершись руками в стенку, шипит она. Но саманная горожа, обмазанная глиной, гладкая, уцепиться не за что. – Ну?! – Никак, – стараюсь я изо всех сил ухватиться за верх. – Ну! – подталкивает своими выпирающими лопатками Верка. – Щас, – цепляюсь я наконец за верх и, с трудом оседлывая стенку ногами, взваливаюсь на нее. – А ты? Верка закидывает мешки на горожу и, как кошка, по отвесной стенке взбирается наверх. Р-раз – и перемахнула на другую сторону. – Ну, давай, – торопит меня, – слазий! – Боюсь, – угнездилась я на стене, как наездив на лошади. – Спускайся на руках, ну! – дергает меня Bepка за ногу. Где-то лает собака. – Дождешься ты, дождешься, – стращает Верка, и я мешком валюсь наземь. – О-ой! – Чего ишшо? – кидается она ко мне. – Локоть... – Вышибла?! – выдыхает с испугом Верка. – Ударила, – морщусь я от боли. – Ну-к, – сгибает мою руку в локте Верка. – Не, ничего, – удовлетворенно приговаривает она. – А то у мине уж у середке захолонуло: оторветь ведь за те голову дед! Ну, вставай, че уселась? – А с травой мы тоже через горожу? – Куды тебе с травой, горюшко! В обход придется... А вот и... Кума. Здравствуй, здравствуй, моя милая! Вот уж не ожидала, что при встрече с тобой радостно забьется мое детское сердчишко. Ах, Кума-Кума, не привлечь тебе своим неприглядным видом постороннего взора, и только человек, pодившийся и выросший в этой выжженной степи, после долгой разлуки потянется к тебе сердцем. И верно, мудрено с такой внешностью соперничать с синими северными раздольными реками России. Стиснутая крутыми глинистыми берегами, течешь ты, Кума, мутным-мутнешенька, неся свои желтые воды в дар древнему старцу Каспию. Но жаркие полупустыннные степи растрескавшимися, обветренными губами жадно припадают к тебе, утоляя вековую жажду, и выцеживают воду твою всю до капельки, так что, обессиленная, ты не можешь пробиться сквозь сыпучие пески и добраться до синего моря. Ах, Кума-Кума, трудно поверить, что рождена ты могучими и прозрачными льдами седого Кавказа, подобно грозному Тереку, полноводной Кубани или светлому, как слеза, речистому Подкумку. Но как бы эта безводная степь выжила здесь под немилосердным солнцем, не будь тебя, Золушка моя, Кума, отдающая себя до капли?! – Ну, че стала? – окликает меня Верка. Ребятишки визжат и плещутся невдалеке. Вылезая из воды, скользят по размокшей глине, словно по льду, и видно, как грязные струйки бегут по загорелому телу... – Вер, а тут глубоко? – Спробуй, – начинает спускаться Верка по крутой петляющей стежке, – с ручками и ножками будить, – и, спохватываясь, предупреждает: – Ты гляди, на кладке осторожней, а то ведь я тоже плавать не умею... Ну и кладка! Да она совсем развалилась! Перил нет, сама ходуном ходит, ни одной крепкой доски! Та подгнила и изъеденным концом еле цепляется за поперечину, эта в середке искрошилась, а вон и вовсе пролом такой, что телега ухнет. – Вер, а как же мы с травой пойдем? – Ногами, как же ишшо! – осторожно ступает на мост Верка. – Иди за мной, – выбирая доску покрепче, приказывает она. А доска: ры-ры-и, ры-ры-н-и... Аж мурашки по коже. – Вер, я боюсь, – замедляю шаг. – Не стой на месте! – оглядываясь на миг, кричит Верка. – Проходи быстрей! Делать нечего, боязно не боязно, а иди: Верка не будет со мною миндальничать. Вон сама-то как ловко, с досочки на досочку, раз – и на берегу. – Вер, ну боюсь я! – Головушка горькая! – всплескивает Верка руками. – Да она на месте стоить!.. И, тараща глаза, верещит с берега: – Ты ее, доску, на зуб спробовала, че прилипла к ей?! Глянь, труха вон с того конца сыплется!.. Я гляжу на “тот конец”, но вижу вовсе не его, а пролом в двух шагах по правую руку. Внизу, притягивая глаз, бушует, закручиваясь в воронке, ненасытная вода. – Не пойду, – говорю тихо, но так, что Верка понимает: я действительно не сделаю ни шагу. Она пытается вразумить меня: – Че ж, так стоять и будешь? – Буду, – глотаю я слезы. – Вот дура-то, вот ду-у-ра, – бросив мешки на берегу, ругает себя Верка. – Взяла ее на свою голову... По тому, как она суетливыми руками перевязывает потуже косынку на голове, я вижу, что ступать на кладку ей не очень хочется. – Дура! – гневно продолжает Верка клясть себя, но одной ногой уже ступает на кладку, выбирая дощечку ненадежнее. – Ведь ка-ак мать говорила: не бери ее, не бери... с ей одна морока, а толку, как с того козла молока-а... Ишшо и, не дай Бог, дед узнаить, что эта принцесса за травой пошла, – сосредоточенно балансируя на узенькой дощечке, бездумно высказывает Верка то, что хранила она в тайне, может, за семью печатями. – Давай руку, – наконец доползает она до меня и, перешагивая на другую доску, зло повторяет: – Давай!.. – Вер, – винюсь я уже на берегу, – а тебе страшно было? – Ну, а то! – снова перевязывает косынку Верка, и голосом помягче, словно сознавая и свою вину: – Он и правда, кладка, надо бы хуже, да некуда... С непривычки на ее и глянуть страшно, не то што идти по ей, – и, спохватываясь, отыскав изобретательным умом виноватого, она заканчивает гневно: – Латышеву бы тута походить кажнай день... – А он тоже здесь ходит? – Заставишь его пеши, как же... Он на линейке раскатывается. И то, губа не дура, как у брыгаду едить, по катасоновскому мосту переезжаить. – А давай и мы по катасоновскому... – Ты в уме? До него чапать километра два, не меньше... Притомилась Верка, с трудом взлезает по крутой тропке, я тащусь за нею. А еще траву жать, а еще мешки полные на себе тащить... – Вер, а ты серп для меня взяла? – Че делать? – Я тоже жать буду. – Ой, замолкни, жница! Я жалкую, что мешок второй зазря тащили. Ну ладно, пустой как-нибудь донесешь, – насмехается она. – Нет, я пустой не понесу, я – полный! – Полна-ай! – передразнивает Верка. – А про кладку забыла? – Через кладку ты перенесешь... – И тебе заодно? – Ну, Вер... – Видать будеть... Дай Бог, на мешок нажать... Завялиха говорила, и в садах гореть начало... Я вот – спасибо Витьке, привез воз травы – так тута неделю не была и не знаю, че мы нажнем. .“Где ж они, сады?” – втайне вздыхаю я. – Вот они, родимаи, вот они, кормильцы, – словно угадывая мои мысли, точь-в-точь как бабушка, приговаривает Верка, перепрыгивая через канаву. Ну и сады!.. Петляет канава с теплой, мутной водой, рядом полосы обработанной земли с темно-зеленой жирной ботвою картошки. А где же тутовник, белый и черный? И где трава? Чего тут жать? Я высказываю свое недоумение Верке. – Ишь, о чем мечтает, – смеется она. – Чтоб на самом краю и трава была. Можа, ишшо у своей калитки захотела. Тут все до былинки сжали... Видишь, самые огороды. Дальше, дальше, дорогая моя племенница, итить надо. Че близко лежить, то больно легко достается, а мы к такой жизни непривычнаи. Будить тибе и трава, будить тебе и тутовник... По стежке идти, как по асфальту, до того утрамбована, прокалена на солнце, заутюжена редкими дождями, хорошо-о! – Устала? – окликает Верка через плечо. – Нет. – Ох? – не верит она. – Да, – хвастаюсь я; сама радуясь и удивляясь неизвестно откуда взявшимся силам. Стежка петляет, за собой зовет, стелется под ногами... – Во-он, – приостанавливается Верка, – видишь – посадка? – Ага... – Вот тебе и тутовник... Щас опробуем, тута близко, километра полтора ходу, не боле... Километра полтора меня почему-то не пугают. То ли жара спала, то ли уж действительно стежка подвернулась такая ходкая, то ли канава, бегущая рядом, с теплою водою из Кумы действует благотворно, то ли вкус сладкой тутовой ягоды уже ощущается явственно языком, только не страшны отчегото полтора километра, кажется, так вот незаметно иди да иди – и больше пройдешь... И как-то исподволь – по канаве, по обочинам стежки, вокруг неожиданно появившегося кустарника, в тени редких жилистых деревьев показалась зеленая трава: жирная брица, молоком сочащийся на изломе молочай, заячий холодок с синими меленькими цветочками и даже тонконог – метелочка на длинной тонкой ножке, но не спаленная, как в степи, а лишь сморившаяся под солнцем. Верка уже распустила мешок, вытащила серп и ловко захватывая одной рукой траву, другой срезает ее под корень с хрустом: ж-жик, ж-жик. – Вер, давай с тобой напеременки... – Ой, ради Бога, не мешайся. – Ну, когда устанешь, ладно? – Ладно, ладно... У Верки только руки мелькают: хвать траву, ж-жик – в мешок, снова хвать, ж-жик – в мешок. – Вер, давай я мешок набивать буду... – Ты ж не сумеешь... – Сумею... – Ну, гляди, чтобы хорошочко набила... – Ага... Я знаю, как Верка набивает мешки травой: маленьким своим кулачком она втискивает траву во все углы так, что кажется, будто мешок, словно резиновый мяч, она надувает воздухом. Но чтобы ловчее нести его на плечах, Верка коленом приминает мешок, и он действительно, как мячик, пружинит. Чтобы оправдаться перед Веркой за свои дорожные вины, я стараюсь изо всех сил, подбирая сжатую Веркой траву. Стоя на коленях, отчего, несмотря на видимую гладкость стежки, кожа на них вдавилась оспинами, я набиваю мешок. Но как ни стараюсь, а вижу сама, получается худо: уж какой там мячик – словно свинья пятачком нарыла. – Ох, Акуля, ты моя Акуля, – замечает Верка тщетность моих стараний. – Ну, че это за мешок? Выгребай назад! Наконец мешки набиты. Верка мой делала “внатрусочку”, но я так канючила, так донимала ее тем, что и я понесу столько же, сколько она, что Верка сдалась. И мой мешок теперь не отличишь от ее. Наевшись сладкой тутовой ягоды, изрядно измазавши губы и пальцы фиолетовым тутовым соком (поблизости белого тутовника не оказалось), мы тщетно отмываемся теплой, будто подогретой, водой из канавы. У Верки лицо красное, распаренное от жаркой работы (она и на тутовник, как кошка, слазила, потому что с земли ветки не достать), теперь утирается косынкой. А я не устала. Довольна. Наелась ягоды, набранной для меня на дереве Веркой, ягоды сладкой, нежной, по виду похожей на малину, и теперь, кажется, готова нести не только свой, но и Веркин мешок. – Ну, Господи, в добрый час, – повязывает голову мокрой косынкой Верка и спрашивает меня: – Пошли? – Да, – соглашаюсь я бодро. – Пошли. – Ну, – говорит Верка не очень решительно, – пригнись, я тебе мешок подниму на спину. Она взваливает на меня мешок и неуверенно советует: – Крепче руками хватайся за углы... Держишь? Ну, теперь разгибайся. Ловко? – Aгa-a... – неуверенно отвечаю я. Он лежит у меня не на спине, а на шее и плечах, так что голова моя подбородком втиснута в грудь. – Ну как? Тяжело? – спрашивает Верка. – Не-е, – неуверенно отвечаю я. – Гляди, – предупреждает Верка строго, – дома не проговорись, а то дед мине взаправду голову оторветь. Ловким движением взбрасывает она свой мешок на правое плечо и, придерживая его только одной рукой, легкая, ладная, срывается с места. Идет Верка быстро, стремительно, едва касаясь пятками земли: мне только и видны ее пятки, потому что поднять головы я не могу. Очень скоро крапивный мешок натирает голую, тщедушную мою шею, и кожа на ней горит и саднит, а голова от непривычной и неудобной позы, кажется, вот-вот отвалится. Тяжелый мешок, что каменная плита, давит на плечи, норовя пригнуть к земле. Веркины пятки я уже не вижу: она где-то впереди. Мне так хочется сбросить мешок, разогнуть спину и плечи, шею, голову, мне хочется заплакать оттого, что Верке вовсе не жалко меня, и ей, в сущности, наплевать, что мне, болезненной и слабой, не привыкшей к такой работе, трудно и неспособно нести тяжеленный мешок. Я знаю, что она боится только прогневить дедушку, она боится наказания и не может пожалеть меня сердцем, так, как пожалели бы меня дедушка, мама, Витя... И при воспоминании о них слезы застилают мне глаза, но я не хочу, чтобы торжествовала Верка, не хочу, чтобы она, насмехаясь надо мной и захлебываясь от удовольствия, азартно рассказывала бы о моей жалкой неприспособленности бабушке, а та, обязательно взяв с меня обещание не проговориться деду о нашем с Веркой походе в сады, жадно слушала бы свою словоохотливую дочку и одобрительно и понимающе кивала головой. Затекшими руками я перехватываю мешок покрепче и иду, спотыкаясь, дав слово, что мешок этот я во что бы то ни стало донесу до дедушкиных ворот. Глава четырнадцатая Наконец-то наступила она, суббота, совершенно особенный день на селе! Это в городе все перемешалось: и праздники, и будни. В Покойном же никто не отдыхает в будний день. Только вечером древние старики да старухи, такие, что только себя с трудом обихаживают, сидят на завалинках. А все, кто гож к работе, работают до самого темна. А летний вечер ох как долог, и до темна на собственном подворье после трудового дня в колхозной бригаде так наломаешься, что только до кровати ноги и донесут. А в субботу, как испечет хозяйка на целую неделю хлеб, да как начнет из русской печи чугуны с нагретой водой таскать, тут держись: хочешь не хочешь, стар ли мал, а всем мыться. Здесь же в хате, у печи, на земляном полу, набросают соломы, чтоб водой пол не улить, поставят корыто – полезай! А потом разжигай утюг. Набросаешь в его нутро древесных угольев, разожжешь щепочками – и гладь до седьмого поту, пока все, что ни настирано за неделю, не перегладишь. А заодно выгладишь себе и платье к субботнему гулянью. А так, Боже сохрани, бабушка не разрешит угли даром жечь! А утюг распалится, да и начнет жаром пыхать, только руки береги. Beчером же, часам к восьми, как затарахтит в клубе движок, все что ни на есть молодого и даже еще чуток сопливого – все вон со двора, к клубу, на гулянье. Не беда, что начищенные черным кремом туфли да ботинки тут же покроются слоем серой, въедливой пыли, зато ситцевые платья наутюжены, зато рубахи парней призывно белеют в сгустившихся сумерках, зато наяривает гармошка, и под нее бойкая частушка расскажет в черной ночи обо всех местных секретах. Ах, что за отличный день – суббота, да если к тому же у бабушки вымолены два рубля на кино, цены этому дню нет! ...С утра бабушка печет хлеб. А печь она мастерица. В жизни своей, думается мне, вы не едали такого хлеба! Удивительно, как это в кино показывают караваи, украшенные разными фигурками из теста. Таким хлебом встречают важных гостей. Да разве это караван, который нужно украшать?! Каждый бабушкин хлеб сам себя хвалит. Он на загляденье: высокий – ей-ей, две четверти! – пышный, белый, сладкий! Не знаю, отчего у нее такой хлеб? Может, оттого, что испечен он из южной, прокаленной жарким солнцем, напоенной запахами вольной степи пшеницы, возросшей на жирной, точно смазанной маслом, земле? А потому и мука из такой пшеницы белая да рассыпчатая, мукасеянка?! А может, русская печь способна творить чудеса? А может, вековой опыт крестьянки отозвался в бабушкиных сильных, неутомимых, ловких руках, которыми она теперь вымешивает тесто, и на нас покрикивает: – Двери! Двери! Хлеб застудится... Это в такую-то жару, когда на дворе дышать нечем, а в хате еще и раскаленная печь пышет жаром?! Но бабушка печет хлеб... Она еще ночью ставила опару, старательно укрывая дежник – глиняный, без малого двухведерный горшок овчинным тулупом, чтоб, Боже сохрани, не озябла опара... Бабушка раза три за ночь вставала, пестала ее, и опара расстоялась на славу; запузырилась, завздыхала важно – пых-пых! – а потом тесно ей показалось в дежнике, она и пошла нарушу лезть, так что только гляди за ней, не зевай. Вот тогда поутру, когда уж печь кизяками протоплена и прикрыта заслонкой, чтобы сохранить в ней жар, бабушка долго и трудно на столе вымешивает тесто, а потом разделывает его на круглые пышные шары – попокойнински пироги, – даст им, в свою очередь, расстояться, смажет каждому сырым яйцом макушку, а тогда уж пожалуйте на жестяных противнях в печь... И пойдет не только по хате, но и по двору и по улице близ ворот хлебный сладкий теплый дух бродить... И кто ни пройдет мимо дедушкиной хаты, каждый скажет: “Ну, Евсичиха управилась: хлеб испекла”. И дух этот хлебный будет бродить еще долго, дразня обоняние, прячась по закоулкам двора, хаты, где на столе, под чистой холстиной, важно разместятся уже испеченные караваи... А самих караваев хлебный дух не покинет до тех пор, пока и пятницу вечером не будете съеден последний оставшийся ломоть. Хлеб будет и мягким, и душистым, и не утратит ни сладкого вкуса, ни хлебного запаха, он не будет крошиться, а последний несъеденный каравай для пробы можно от макушки до низу продавить пальцем, и каравай, будто живой, выдохнет, вынеся наружу вдавленную вмятину. Вот какой хлеб печет бабушка! Ах, как жалко мне, если вы в жизни своей ни разу не отведали такого хлеба! Бабушка печет хлеб. И мы с Веркой, сознавая важность момента, стараемся не только не мешать ей, но и помочь, в чем можно, так, чтобы у нее от начала до конца сохранилось азартное, боевое настроение. Мы с Веркой управляемся по двору, только корову ранним утром доила и выгоняла в стадо бабушка, а все остальное делали мы. Вернее, не мы, а Верка. Она пропустила через сепаратор молоко, отнесла в погреб сливки, а оттуда явилась с двухлитровой кринкой сметаны, на два часа определив мою дальнейшую судьбу. Верка приказала мне из этой сметаны взбивать в маслобойке масло. Я не осмелилась ей возражать. Бабушка печет хлеб, а Верка выполняет работу по двору: кормит поросенка, кур, а то вот взялась двор подметать... Я бы тоже лучше двор вымела, чем, как заведенной, вертеть маслобойкину ручку. А вертеть ее тяжело: масло начало взбиваться, и у меня на указательном пальце натерся волдырь… – Тань, – появляется в дверях бабушка, – иди деду пышки отнеси, нехай поисть и сама с им поишь... Бабушка на завтрак между основными делами напекла нам на сале пышек. Я знаю, что они очень вкусные, и, глотая слюну, со вздохом говорю: – Мне нельзя. Я масло взбиваю... Бабушка лучше меня знает, что маслобойку останавливать нельзя: взялся взбивать – взбивай до конца, а то тогда еще труднее будет. – А иде ж Верка? – тихо спрашивает бабушка, наверное, опасаясь, что дед в выходе может ее услышать. Дедушка не смог остаться в жарко натопленной хате – ему и так плохо – и перешел в выход. Лежит теперь в темноте один на скрипучей старой деревянной кровати и, должно быть, еще и мышей боится... – Она, наверное, за воротами подметает, – говорю я о Верке предположительно, потому что та уж давно скрылась с моих глаз. – Чаво ей приспичило? – спрашивает бабушка недовольно. – Гостей накликаить? Она идет за угол хаты, к воротам, а я верчу маслобойкину ручку... Через короткое время появляются бабушка и Верка. Бабушка сладко говорит мне: – Гайда, унучечка, у хату за пышками... Я встаю с малой табуреточки, уступая место Верке, а та шипит мне вслед: – Уж нажалилась, работница, за че ни возьмется, все ей дюже тяжко. – Вер, – говорю я виновато, – я ничего такого бабушке не говорила... – И говорить ничего, по твоему лицу видать, что дюже обиженная... В хате, подавая пышки, бабушка глядит на мои руки, увидев волдырь, цокает языком: – Головушка горькая, до чаво ж ты дюже нежная... Недовольно смазывает мне палец растительным маслом, ласково говорит: – Неси пышки деду да гляди, не приставай с расспросами, а то яму и так... тяжко. Я беру пышки и литровую банку молока и иду к выходу. Подойдя к порогу, ставлю на землю и тихонько приоткрываю тяжеленную дверь, она рычит сердито: – Ры-ы-и-и... Я поднимаю тарелку с пышками и банку и в нерешительности мнусь на пороге. – Не торопись, – упреждает меня дедушкин глухой голос из выхода, – нехай глаза пообвыкнуть, а то расшибешься... Глаза мои постепенно привыкают к темноте, я уже различаю деревянный, раскрашенный петухами ларь, старый громоздкий сундук, мешки, зерном из которых я кормила кур и петуха, приказавшего долго жить, и, наконец, в глубине выхода, в углу, я вижу широченную кровать... – Ну, огляделась? – подает с этой кровати голос дедушка. – Да... – боязно отвечаю я. С тех пор, как заболел дедушка, я боюсь не его, нет, а его страшной болезни, которая не позволяет быть ему прежним дедушкой, пусть хворающим понемногу, но не обессиленным, как теперь, придавленным к кровати. И я боюсь своим присутствием или неосторожным словом усилить эту болезнь, причинив тем самым деду непоправимый вред. – Иди, не бойся, – ободряет меня дедушка, и я подхожу к кровати. – Я тебе кушать принесла, – едва шевелю я губами. – А сама ела? – спрашивает дед. – Нет, – шепчу я. – Тогда давай вместе исть, – говорит дедушка, с трудом приподымаясь на кровати. Он одет так же, как на работу, в синей косоворотке и темных суконных брюках, я знаю, другой, домашней одежды, у него нет. – Садись рядом, – приглашает дед. Я ставлю пышки и молоко на табуретку, а сама взбираюсь на высокую кровать. Дедушка, прижимая меня к себе, неожиданно спрашивает: – Соскучилась за матерью? – Да-а... – шепчу я. – Ничего, потерпи, – говорит он бодро, – вот я чуток поправлюсь и отвезу тебя домой... Хочешь? – Да-а, – снова, как эхо, откликаюсь я, – а неудержимые слезы уже катятся по моим щекам, летним сплошным ливнем заливают мое лицо. Я отлично понимаю, что плакать нельзя, что я расстраиваю деда, тем самым помогая противной болезни, которую я боюсь и ненавижу, но скрыть слезы уже нет нкакой возможности, и я, падая головой в дедовы колени, плачу, приговаривая, как заклинание: – Я не хочу, чтобы ты болел... Я не хочу... Дед молчит и своей мягкой, ласковой рукой гладит меня по голове. Когда слезы мои внезапно иссякают и я только всхлипываю, дед глухим голосом говорит: – Ну, накричалась? К чему ж ты себе сердце надрываешь? А если я и впрямь помру, что ж тогда с тобой будет? – Не хочу, не хочу, – дрожащим голосом твержу я, имея в виду дедушкину смерть. – Бабушка говорит, что надо пить святую воду, – говорю то, что велела сказать мне бабушка, и добавляю от себя: – Но тебе она не поможет, потому что ты в Бога не веришь... – А ты веруешь? – усмехается дед. – А ты? – спрашиваю я его сейчас о том, о чем никогда бы в другую минуту не спросила. – Веру в Бога, – серьезно говорит дед, – у нас отняли, а другой веры взамен не дали, хотя земному Богу кланяются и до се... – Какому земному, дедушка? – Беда с тобой, – все так же серьезно говорит дед. – Бе-да-а... Умна не по годам... Вишь, чем интересуешься... А что дальше-то будет? – вопрошает он меня. – Умному в жизни труднее... – Почему, дедушка? – Не зря пословица говорит: не родись умен – родись счастлив... – Дедушка, ты не переживай, я буду счастливая... –Дай-то Бог... – Вот сам не веришь, а говоришь “Бог”... – Я, чтоб ты знала, не в Бога не верую – у каждого совестливого человека Бог в душе, – а не верю я тем служителям церкви, что от Бога отрекались. – Как это? – Да так. Боговы служители, от них и земные не отстали, не Богу теперь служат и не людям, а себе… – Как это, дедушка? – Да так, – снова повторяет дед. – Власть предержащие, в нынешнее время, может, не все, но многие меньше всего, так я думаю, верят в то, во что приказывают веровать другим… Оттого и беды наши: говорим одно – делаем другое. И мало кто понимает, что каждое произнесенное с умыслом ложное слово и каждый замысленный ложный шаг будут великою ценою оплачены... Обязательно оплачены... – В аду что ли, дедушка? – волнуюсь я оттого, что не понимаю не что он говорит, а что хочет сказать мне. – Хух, в каком аду? – морщится дед. – Князька наслухалась? – Нет, – боюсь подвести я Князька. – Его, должно, – проницательно замечает дед и добавляет устало: – Князькова вера слепая. А слепая вера – утешение для слабых или глупых людей... И от них не меньше вреда, чем от тех, кто ими помыкает... – Значит, не верить ни во что и никому? – раздражена я на деда за Князька, а пуще за умные его речи, которые, как ни силюсь понять, не пойму. – Я этого не сказал, – спокойно отвечает дед. – На то и ум тебе дан. Время придет, и поймешь, кому верить и во что... Дед задумывается. Я тоже молчу, потом он говорит безразлично: – Ну, ты ишь пышки... – А ты? – Я не хочу. Я лягу. – А ты попей молока, – прошу я. Он пьет, но, я вижу, через силу, только чтоб успокоить меня. Я уплетаю пышки: есть захотела. Дедушка ложится. – Дедушка, ты кем хочешь, чтобы я стала? – наевшись пышек, примирительно говорю я. – Ды кем никем, лишь бы человеком была. – Ну, это конечно, – соглашаюсь я, – но представь, что я стану знаменитой... И ты будешь мной гордиться… Вот возьму и придумаю новое слово, красивое-красивое, какое никогда никто не придумывал, и этим словом назовем твое Покойное... – Это ж к чему? – удивляется дед. – Да ты сам пойми, что это за название: По-кой-но-е... Покойников что ли здесь много было? – Ды почему покойников? – возражает дед. – А еще слово хочешь придумать, а слова-та и не слышишь… По-кой-но-е, – говорит он уважительно – покой, то ись место тихое, спокойное... Степь, одним словом.... Дышится легко. Потому люди из России и бежали сюда, в степи… на покойное, мирное, вольное житье... – Что ж, все тут жили спокойно и вольно? – Не все, конечно, – вздыхает дед. – Но люди верили и верой жили... – Где-то в углу, за ларями, явственно скребется мышь. Я мигом взлетаю к дедушке на кровать. – Ты чего? – Мышь... – от страха не могу я перевести дыхание. – Ну и что? – интересуется дед бесстрастно. – Hу дедушка, ну что ты говоришь?! Знаешь, как я мышей боюсь! Разом все важные разговоры вылетают у меня из головы, и я теперь думаю только о том, как же мне выбраться из выхода и преодолеть путь от дедовой кровати до двери. Дедушка, кажется, тоже утратил интерес к нашему разговору, хотя и замечает: – Дите ты ишшо, дите. Мышей чего бояться? Худого человека, вот кого опасаться надо. Но я уже не слышу его. К величайшей моей радости, в дверях появляется бабушка. Оглядевшись в полутьме выхода, она подходит к нам и ласково говорит, всплескивая руками: – А я ж думаю, иде ж моя унучечка, куды запропастилася, а она усе с дедом никак не наговорится... Ну, как вы тута? – обращается бабушка к деду. Тот отвечает нехотя: – Ничево... – Ну, лучше тибе? – Ничево.... – Вот горе-то, – осуждающе качает головою бабушка. Я соскакиваю с кровати, цепляюсь за бабушкину юбку. – Ты чаво? – Мыши… – Иде? – живо интересуется она. Я указываю на ларь. Бабушка, отстраняя меня, идет в угол, шарит в ларе, перетряхивает в углу тряпки, говорит: – Кошку у выходе на ночь закрыть надоть, а то, можа, тут уж и крысы завелись? Я пулей вылетаю из выхода. Слышу уж за порогом дедовы слова: – ...Дай денег на кино, а то, окромя трудов и болезней наших, девчоночка ничего не видит... Бабушка возражает деду, но что именно, я не слышу. Глава пятнадцатая В субботу первое лицо на селе - Сувориха. Как это, какая? Та самая, у какой брат киномеханик. Не Валька - рыжая, конопатая, визгливая, а Валентина, хоть и рыжая, и конопатая, и визгливая, но Валентина наиважнейшая фигура в субботу и воскресенье, поскольку может войти в клуб, когда ей только заблагорассудится, и, следовательно, занять самые что ни на есть лучшие места. Бывает, что Валентина держит целую лавку, и с ней никто не спорит. Одно слово: Сувориха. Не дай Бог, разобидят ее: глядишь, у киномеханика и начнет лента рваться, покажет он тогда одну-две части, и выгребайся из клуба. А то на самом интересном месте аппарат забарахлит, и будет чинить его Сувор, как говорит бабушка, до морковкиного заговенья. Тогда гадай, чем кино кончилось. Поэтому Верка, как только получили мы от бабушки четыре рубля, слетала к Суворихе, и теперь душа ее (и моя тоже) спокойна. Местами в клубе мы o6еспечены. Хоть и визглива Сувориха, но Верка в этом деле ее переплюнет, так что, я думаю, Валентина знает, что с Веркой лучше не связываться. Наконец наступил вечер. Прогнали стадо, и теплая пыль улеглась на дороге. Бабушка уже подоила корову, и я выпила кружку парного молока. Мама велела мне его пить, а дед приказал бабушке неукоснительно выполнять этот наказ. Мама с дедушкой тешатся мыслью, что от парного молока я окрепну, пополнею и не буду такой, что дунь ветер - и я упаду, тогда зимой ко мне, поздоровевшей за лето, не будет цепляться кашель. Но я не люблю парное молоко и пью его насильно. Оно теплое и пахнет травой, какую днем ела корова. И вообще я ем плохо, не как Верка, с жадностью, и бабушка говорит, что с меня толку не будет: по ее мнению, кто ест плохо, тот и работает так же. Есть над чем задуматься. Но задумываться особенно некогда, потому что к клубу по нашей улице уже потянулись девчата и парни. Сами по себе девчата, сами по себе парни. Это потом, после кино, уж в темной ночи, составятся парочки, совсем новые или уж те, каким свадьбу играть пора. А покуда перед лицом рассевшихся на завалинках стариков все чинно и благородно. Юнцы моего возраста, чуть постарше и помоложе, тоже спешат к клубу: детского сеанса, конечно же, нет, поэтому фильм они смотрят со взрослыми. Глядя на парней и девушек со стороны, так сказать, зрительски, они учатся танцевать под гармошку, петь частушки, образовывать парочки, мальчишки, сплевывая сквозь зубы, -отпускать бранные слова, а девчонки - визжать и кокетничать. Верка уже отделилась от меня, она со своими подругами прогуливается возле клуба чинно, благородно, важно, как и другие девчата, на виду стоящих поодаль гурьбой парней, возле которых отираются пацаны и пацанята. Меня Верка, из страха перед дедом - упаси Бог, какой нахальный покойнинский мальчишка обидит, - перепоручила живущей на нашей же улице бесстрашной, бойкой, быстроглазой моей одногодке Тае, в которую я просто-напросто влюблена, может быть, оттого, что сама Тая с обожанием глядит на меня, раскрывши рот, слушая мои рассказы о всякой всячине. И теперь я рассказываю Тае и ее подругам, Лизе и Кате, историю Овода, которую только что здесь, в Покойном, прочла, обливаясь слезами (книгу я нашла в выходе, пыльную, заброшенную, без начала, зато с концом). Девчонки глядят на меня как на существо высшего порядка, должно быть, оттого, что они, я знаю, не смогли бы пересказать содержание даже тонюсенькой книжки складно, как я. Они никогда, конечно же, не читали ни "Овода", ни других книг, которые читала я, не потому, что у них не возникало охоты к чтению, а потому, что зимой и летом, это я тоже знаю, бедные эти девчонки после школы выполняют настоящую взрослую работу, часто трудную и тяжелую. И если они, улучив минуту, берутся за книгу, тут же следует окрик старшего по дому: "Опять время зря проводишь?! А дела кто делать будет?!.." А моя мама всячески поощряла охоту к чтению. Впрочем, эта охота так скоро превратилась в неодолимую страсть, что погасить ее ни маме, ни кому бы то ни было уже не представлялось возможным. Чтение хорошей книги для меня стало высшим наслаждением, какое есть на свете, и маму только удивляла одна особенность моей страсти: как это я нахожу удовольствие в перечитывании одной и той же книги по нескольку раз, если я помню нетолько содержание, но и почти весь текст дословно. Когда я еще не умела читать, рассказывала мама, я мучила ее именно этим: бесконечными просьбами о перечитывании одной и той же книги. Иногда мама умыслом, стараясь сократить текст, пропускала фразу, я тут же поправляла ее, приводя фразу в точности. Мама сердилась и говорила: - Так зачем же читать, если знаешь наизусть?! - Читай, пожалуйста, - умоляла я маму, - читай… И моя бедная мама после ночной отработанной смены, невыспавшаяся, не евшая досыта, с вечными головными болями, моя очень красивая, так что ни один мужчина, ни молодой, ни старый, не проходит, не бросив на нее восхищенный, почтительный взгляд, моя по-королевски недоступная, но такая одинокая и несчастная мама, в темном, тесном, полуподвальном нашем углу читала и читала своей маленькой девочке выученные наизусть книжки... Выросшая в селе, в тяжком крестьянском труде с детства, с мачехой, грубым окриком убивавшей в ней самой охоту к чтению, она внутренним, врожденным чутьем осознала то неоценимое значение, какое будет иметь хорошая книга в жизни ее пока еще едва начинающей познавать мир дочери... ...Девчонки слушают историю Овода, какую они не читали и вряд ли прочтут скоро. Они с восхищением и завистью глядят на меня. Да и как не позавидовать речистой, развитой не по годам сверстнице, рядом с которой хорошо чувствуешь свою посредственность, сверстнице из другого, счастливого, как им представляется, городского мира... Они, конечно, видят разницу в моей и своей одежде. На них длинные, уродующие их и без того угловатые подростковые фигуры несуразно сшитые, платья, в волосах гребенки, воткнутые по-бабьи, а на ногах сшитые из серой парусины грубые чувяки. А моя голова в пышных бантах из розовых лент (Верка по моей слезной мольбе заплела мне косы, которые я сама заплетать не умею), на мне мое лучшее воздушное маркизетовое платье в оборках, а на ногах кожаные белые туфли с металлическими блестящими пряжками... "Счастливая эта Евсикова внучка, - должно быть, думают обо мне новые подружки, - счастливая..." Толпа у клуба ширится, раздается, как бабушкина опара в дежнике, а мы прогуливаемся с краю этой толпы, в сторонке, и я довожу рассказ до самого интересного места: - Падре, - говорю я прочувственно, представляя ослабевший голос Артура, - неужели Вы не узнаете меня?.. И в это самое значительное, по моему замыслу, мгновение в плечо летит прицельным попаданием сухой комок земли: бац! И тут же вслед за ним целая серия таких же комьев сечет наши головы, ноги, попадает за шиворот, в волосы... - Вот гады! - ругаются Тая, Лиза, и Катя, вмиг сообразив, чьих это рук дело. В стороне хохочут, указывая на нас пальцами, пацаны. Среди них выделяется особо разудалая физиономия. - Машенец... - поясняет мне Тая, - на линейке самого Латышева возить, - и кричит: - Щас Верке Евсичихе скажу, гад такой, она тибе ухи надереть... Землей пообсыпал. Машенец в Ответ корчит Тае рожу и нахально кричит: - Гляди, срань, а то мы твоей Евсичихе не только ухи надерем... Я таращу глаза на Машенцевы наглые речи, а Тая, Катя и Лиза бранятся не хуже его самого, пересыпая двусмысленные слова бранными, непроизносимыми, с моей точки зрения, такими, как "зараза", "гад", "проклятый"... Подобные слова, естественно, не употребляются в книжках, их никогда, конечно, не произносит моя мама, дедушка, я знаю, тоже терпеть не может этих слов, в моем присутствии их редко употребляют бабушка и Верка, а Витя краснеет, как бурак, если такое "черное" слово сорвется с его языка... Вот так да-а... Машенец со своей разудалой ватагой подходит нам. В это время, в палисаднике, у клуба, там, где растут заскорузлые акации и карагач, начинает играть гармошка. Весь гуляющий народ, конечно же, сыпанул ту да, даже Верка обо мне забыла. Затеваются частушки. И мы слышим, как две подруги начинают заводить нескончаемый дружеский разговор: Подружка моя, Ты не одевайси, Твой милый у меня, Ты не обижайси... Подружка моя, Милый ишшо дома, То мычала у ворот Пегая корова... ...Машенец выше меня на полголовы. Ему лет четырнадцать. У него бойкие зеленые глаза и торчащие жесткие вихры. - Чья ж такая? - нахально обращается он ко мне, игнорируя, как я понимаю, мою охрану. Я гордо молчу. - Михаил Матвеича внучка, - вразумляет Машенца Тая. - А... городская, значить... - издевается Машенец, ничуть не смутившись, и испытывающе смотрит мне в глаза. - А ты че, язык проглотила? Я молчу, презрением отвечая на его наглость. - Должно, со страху, - провоцирует меня Машенец, обращаясь с ухмылкой к ватаге послушных ему пацанов. - Я никого не боюсь, - отвечаю я с вызовом, хотя боюсь на свете очень многого: сердитых глаз мамы, дедушкиной болезни, мышей и, надо признаться, этого Машенца... - Хм, смелая: я смелых дюже уважаю... - и, протягивая мне руку, говорит важно: - Николай. - А я, - говорю, глядя уничтожающе в зеленые Машенцевы глаза, наглых терпеть не могу, и, к твоему сведению, первым подавать руку девочке воспитанный мальчик не должен: это ее привилегия... - и демонстративно прячу свои руки за спину. - Чево-о?! - поражен Машенец не меньше, чем его нахальная до этой минуты ватага. Моя охрана, я. это вижу, перепугана насмерть, и Тая предупредительно толкает меня в бок. - А тибе ишшо нихто не учил? - с издевкой справляется Машенец (как я понимаю, он намекает на расправу битьем). - Как ты смеешь со мной так говорить?! - вспыхиваю я и, топнув ногой, повторяю: - Как смеешь?! Добрая, смелая Тая вступается за меня: - Ты, Николай, не приставай... Ну, че человека пугаешь? Танюшка у гости приехала... из города... У них свои обычаи... у нас свои... Проводи нынче кого-нибудь ишшо... У тибе ведь каждую субботу сменные... Не все равно? - Кабы было все равно, я б глухую тетку Акульку проводил, - зло обрывает Таю Машенец и бросает мне строго: - Слухай сюды... городская! После кина не уходи. Жди возле вон того карагача. Я сам провожать тибе пойду. А ежли Верке своей вякнешь или ишшо кому, я тибе точно поучу маленько. У меня все внутри холодеет от страха, а под разыгравшуюся гармошку из палисадника летит во все концы неустрашимое: Берия, Берия Потерял доверие, А товарищ Маленков Надавал ему пинков. Глава шестнадцатая Воскресным утром бабушка, Верка и я идем подать телеграмму маме. Потом мы с Веркой, не возвращаясь домой, пойдем к Князьку. Так решила бабушка. "Вышник уже поспел, - сказала она, - пора и в гости итить". Поэтому в руках у Верки и у меня пустые цибарки. Совестно с такими пузатыми ведрами идти "в гости", но бабушке возражать бесполезно, уговорит... А деду субботней ночью снова было плохо, и мы с Веркой в непроглядной темноте бегали к медичке, чтобы упросить ее сделать дедушке укол. Как пришли из клуба, бабушка и бухнула: - По кинам ходитя? Все па сладкую жизнь не налюбуетесь... А тут дед опять помираить... Я, задрожав, мигом забыла и про Машенца, и про его угрозы, и про веселый фильм "Кубанские казаки", где действительно сладкая, не такая, как в Покойном, жизнь. Верка же, напротив, осталась невозмутимой и деловой: она велела мне снять мои белые туфли ("Хватить красоваться, а то и так от женихов отбою нету, пылью забьешь, мать же твоя мине косы выдереть"), не забыла про Машенца и его угрозы ("Задами пойдем, а то перестренеть, зараза настырная, и заступиться некому. Сосед-то наш, Завялов, Людку Шандариху провожать пошел"), сама Верка успела переобуться в стоптанные чувяки, и мы побежали... Медичка пришла. Сделала укол (я от страха и жалости забилась в угол, в сенцы, на сундук), бабушка пошла проводить ее, а вернувшись, отозвала меня на кухню и сказала: - Ну, унучечка, сама видишь, какие у нас дела... Дед пла-а-хой. Пла-ахой дед. Так думаю, помреть. И хоть не велить он твоей матери сообщать о своей болезни - все боится обеспокоить, - но ты сама подумай, что нам твоя мать скажить, если она на порог, а отец ее - на столе... И потом мать энти уколы, какие медичкя делаить. сама не хуже ее вколить... Своя... Платить не надо... Так што, я думаю, ждать нечего, и Нюрку надоть срочным порядком вызывать. Придется отбивать телеграмму, потому как письмо столько итить будить, что сам пешком скорея дойдешь. Хоть телеграммы, они и не по нашему карману, там председательша, жана Латышева начальницей на почте, она за эту телеграмму - своя ж воля - рубля три слупить. Но ничего не исделаешь: планида наша такая. Я молча, внимаю бабушке, и ни одна слезинка не выкатилась из моего глаза, хотя я слышу о смерти деда как о горе почти свершившемся. Оказывается, это гораздо тяжелее - не плакать. Тоска, и боль, и отчаяние сдавили мне грудь... - Унучечка, ты чаво так побелела? - хватает меня за руку бабушка и волочет к лавке, усаживая, говорит обеспокоенно: - Хух, как ты мине напужала! Ну, чаво ты раньше времени помираешь? Дед-та ишшо живой!.. И тут же она предупреждает меня: - Ты же гляди, не проговорись деду-та за телеграмму, а то он мине съисть. И матери тоже не сказывай, што я тибе научала. Скажешь, мол, сама надумала, а у бабки только денег выпросила... Поняла? - Да, - отвечаю я одними губами. - Ну, и ладно... утро вечера мудренее. Гайда спать, а завтра видать будить... Вот оно и наступило, завтра, и мы идем давать телеграмму моей маме. Верка с бабушкой оживленно разговаривают. Верка рассказывает о моем "женихе", Машенце, как он встречал нас после клуба, как спас меня от него наш сосед, Завялов Володя, только что срок в армии отслуживший. ("Не дрались, не дрались, - тараторит Верка, - Володька с им, Машенцем, переговорил, а тады подошел к нам, да и Таньке: "Ну, соседка, здорово ты Машенца за сердце подцапила, ишь, сероглазая, вон какого боевого парня в тоску ввела. Не боись. Он тибе не обидеть. Ты б поговорила с им...") - А ты б и правда поговорила с им, - обращается ко мне бабушка. - Он, Машенец, хоть и фулюган, но при лошадях, глядишь, бабку твою когда и у город, на базар подвезеть... Она б для вас, родных своих, копейку и заработала... - О чем говорить с ним? - откликаюсь я. - Видал, дюже грамотная, - подковыривает Верка. - Ты, унучечка, не брезгуй людьми, - наставляет бабушка, - с ими ладить надо, пользы-та больше... А Машенец - парень виднай, бойкай, сразу видать: толк в жизни будить. За таким не пропадешь. И опять жа одинразъединай сын у родителев, там живуть - лаптем не достанешь, недавно хату купили на Гаранжевке, у ерика. Не у Гужелей ли, что возле Князька жили? Ежели у них, то... - задумывается бабушка и добавляет: - Винограду тыщу корней, не мене... Тута вдаль глядеть надо... Вырастешь, - время подойдеть замуж итить, а он уж жених готовай... И будешь жить у Покойном хозяюшкой на радость деду... Вишь, какая ты у нас ловкая: у тибе яйца ишшо сырые, а уж крутются. А ты, Верка, учись, учись, как парней-то стоящих окручивать... - Не с нашими нарядами... - хмурится Верка. - Ну, ума у Таньки набирайси... - А че ж, я сама ниже табуретки? - поджимает губы Верка и добавляет обиженно: - Куды уж нам с посконным рылом в суконный ряд. - Ничего, - успокаивает бабушка Верку, - пойдешь у город, у восьмой класс... - С вами пойдешь... - вон как отец расхворалси... - На то и Нюрку вызываем, чтоб отца подлечить... Так, унучечка? Я молчу. Я представляю, как мама получит телеграмму, как распечатает ее дрожащими пальцами, как не скажет ни слова, и только глаза ее, карие темные глаза, сделаются еще темнее и закричат от боли... Бедная моя мама! Но что же делать? Дед действительно тяжело болен, и, может быть, она, приехав в Покойное, поможет ему преодолеть эту страшную болезнь. Мы подходим к почте. Она, конечно, закрыта. И надо идти-кланяться председательше, жене Латышева. Дом Латышевых рядом с почтой - обычная покойнинская хата, но не под камышом, а уж под новеньким шифером. Бабушка пошла поклониться председательше кусочком масла, что я накануне взбила в маслобойке. Может, тогда председательша и не возьмет с бабушки три рубля. Жена Латышева, неопределенного возраста, увалистая, толстая, в три обхвата баба с тройным подбородком выходит из ворот, сопровождаемая подобострастной бабушкой. Из-под ладони смотрит на меня. - Нюркина и есть? - спрашивает начальственно и в ответ на бабушкино поддакивание говорит: - Не похожа... Потом идет, раскорячив ноги, к почте, размыкает запоры. В полутемной прохладной хате сует мне бланк. - Пиши, - говорит, - адрес, - а потом начинает важно диктовать текст: Маманя дорогая... бросай все... приезжай до нас... Я молча гляжу на высокомерную председательшу и не вывожу на бумаге ни строчки. - Ты чаво, - кидается ко мне бабушка. - Пиши готовое... - шипит в ухо... - Не буду, - говорю тихо, но непреклонно. - Я знаю, что писать... - Ты подумай! - всплескивает руками бабушка, - головушка горькая! Што ж ты такая супротивная, што ни заставь, все исделаить поперек да надвое... Председательша поджимает губы: - Нехай пишить сама, коли она у вас дюже умная... Бабушка дышит мне в плечо, зорко наблюдая за буковками, которыми я начинаю заполнять чистый синий листочек. - Ну, чаво пишешь-та? - спрашивает она у меня: ни читать, ни писать бабушка не умеет, и Верка, заглядывая в листок через другое мое плечо, читает вслух: - Мамочка... тяжело заболел дедушка... Твоя Таня. - Хух! Чаво-то уж дюже коротко и нежалостливо, - сомневается бабушка. - Ты б написала про деда-то, мол помираить, и медичкя то и дело уколы колить... Бросай, мамочка, усе и приезжай... Председательша неожиданно поддерживает меня. Забирая из моих рук синий жалостливый листок, она говорит ехидно: - Сойдеть... Ежли дочери отца жалко, приедить... Бабушка сладко говорит ей в ответ: - Какая ж ты жаланная, Тимофеевна. Ну, дай Бог тибе здоровья. А к нам не побрезгуй, заходи, чем богаты, тем и рады... Милости просим... И я догадываюсь, что за телеграмму бабушка заплатила председательше маслицем... Глава семнадцатая Князькова хата и не хата вовсе, а так, сараюшка. Низенькая, в три малюсеньких окошка. Мы долго стучим кольцом у ворот, Верка не помнит, есть ли собака у Князька или нет. (А за соседским скрытым забором яростно брешет злая псина, но ей есть что охранять: дом под шифером, крашеные ворота. Верка вздыхает: "Живуть же люди..."). Мне не до людей: я сгораю от стыда и не придумаю, куда бы деть свою цибарку, а Верке все трын-трава: ее бесстыжим глазам каждый день базар, и теперь вот гремит кольцом у чужих ворот, как у собственных. - Вер, - говорю я просительно, - пойдем назад: их дома нет... - Ну, а то чиво ж? - совсем, как бабушка, поджимает губы Верка. Ходили за семь верст киселя хлебать, а тем киселем и губы не помазали... Нет уж, я домой с пустыми ведрами не пойду... И тут мы слышим, как гремят запорами в соседских воротах, створка отворяется, и я с ужасом вижу изумленное лицо Машенца. Верка в первое мгновение от неожиданности тоже язык проглотила, а потом, к моему величайшем удивлению, кидается к Машенцу как к закадычному приятелю, будто она накануне в клубе не верещала на него при всем честном народе, обзывая ругательными словами. - Господи, помоги! - всплескивает Верка руками. - Николай, да вы никак по соседству с Князьком живетя! Думаю, чья ж такая хата справная? Вот что значить, я с год на этом краю не была... Это вы у Гужелей купили? Ды как отделали, любо-дорого поглядеть! То-то мне мать, как сюды шли, про вас говорила, а я и ни к чему. Хоромы! Хо-ро-мы, - цокает языком и просит: Николай, пособи нам за ради Бога, иде ж Князек да его старуха? А то мы у гости до их пришли... за вышником, а их дома и нету? А моя племенница усю дорогу беспокоилась, как мы полные ведры отсюда до дому донесем, а я гляжу, тута и нести нечего будить... - Дома они, - говорит Машенец, потупя голову, и, глядя на меня исподлобья, добавляет: - картошку на задах подбивают... Князек седня поутру со степе приехал... - А ты их не покличешь? - просительно говорит Верка и обращается ко мне. - Тань, а можа, Николая попросим да через их двор пройдем? Я молчу. Верка сердится: - Че губы-то на неделю вперед надула? Сидела б дома, горюшко... Цибарку за спину хоронишь.. Вышник, небось, исть будешь?.. - Не буду, - говорю я тихо, но Верка знает, что я точно теперь не съем ни одной вишни. - Ну ты подумай, - обращается она за помощью к Машенцу, - что за характер, ровно у прынцессы какой, и передразнивает: - Не бу-у-ду... Машенец внимательно глядит на меня, обиженную. - Щас я их покличу, - говорит глухо. - Уж ты, пожалуйста, Николай, уж за ради Бога, - начинает Верка, но Машенец не слушает ее и скрывается за воротами. ...Князек так рад мне (не Верке, я вижу), что, суетясь, топчется на месте, не зная, что ему сделать в первую минуту: погладить ли по голове, вести ли нас в хату, знакомить ли с тут же стоящей сухонькой, маленькой старушкой. И я, преодолевая стеснительность, оставляя цибарку в стороне, обнимаю его своими худыми руками за шею и прижимаюсь к костлявой груди. У Князька слезы наворачиваются на глаза, и, смахнув их, он говорит прерывисто: - Ды какая ж радость!.. Вот Господь наградил, и пра... Старушка, глядит на меня тоже приветливо и тоже смахивает слезу, потом она, обращаясь к Верке, справляется о наших домашних делах. И Верка начинает скороговоркой рассказывать. А Князек спрашивает у меня шепотом: - Не лекше дедушке-то? - Нет, - печально говорю я. - Господи, спаси и помилуй, - эхом откликается на мою печаль Князек. Я добавляю: - Маму телеграммой вызвали... Князек понимает меня с полуслова. - Теперь, пока доедеть, сердце-то надорветь, бедняжка, - и гладит по голове. - Не горюй. Бог даст, обойдется, выздоровить дедушка... И мы идем в хату. Две каморочки, чистенькие, маленькие, игрушечные, с земляными полами. В первой - русская печь, лавка и стол, а во второй, куда проводят нас хозяева, - пышная кровать, сундук и тоже стол, но накрытый льняной скатертью. Опрятность во всем такая, какую я вижу только дома, у своей мамы, и у меня щемит сердце. Старушка чистым своим фартуком (у бабушки он всегда грязный, сальный) обмахивает и без того сияющие, покрытые лаком венские стулья и усаживает нас. Верка все тарахтит, она с одинаковым энтузиазмом рассказывает о дедушкиной болезни, о кочете, который раскровянил мне коленки, о бабушкиной ломоте в пояснице, о телеграмме, посланной маме, и, наконец, о моем "ухажере" Машенце... Я, заливаясь алою краской, пытаюсь остановить Верку, но она, отмахиваясь, говорит: - Ты знаешь, че у яво, у Машенца, на уме? А он тибе за вчерашнее сыграить бубны, подстерегеть, как отседа выходить будем... Князек очень обеспокоен сообщением о Машенце, а старушка, качая головой, твердо говорит Верке: - Не-не, я и слухать плохова об ем не хочу, - и как будто не Верке, а мужу: - Ты напраслину на парня не возводи: он на язык боек, а душа у яво золотая, последнее отдасть... Тольке попроси... Я осматриваю побеленные, с голубизной, стены хаты, на них множество фотографий в рамке, за стеклом, а поодаль одинокий портрет ясноглазого паренька в вышитой крестиком рубахе. Я гляжу на Князька, спрашиваю глазами: - Он? - Да, да, деточка, - понимает меня Князек. - Ягорка... Сынок наш... Старушка, услыхав эти слова, подносит конец фартука к глазам, сморкается, а Князек говорит жалостливо: - Ну, будя, будя. Ты лучше обдумай, чем гостей потчевать... В Покойном дорогих гостей потчуют мучными яствами. Это могут быть домашняя лапша с курицей (магазинной лапшой кормят гостей нежеланных), затерка молочная или клецки, вареники с вишнями, творогом, картошкой, капустой, пирожки - зимой с печенкой, сушеным виноградом, летом с томлеными абрикосами или сливами; это могут быть знаменитые покойнинские галушки и лапшевник, каким бабушка по забывчивости чуть не запамятовала угостить Витю; это могут быть жареные пышки на сале и круто соленые калачи, варенные в рассоле бублики и печеные ватрушки... Старушка останавливает свой выбор на варениках с вишнями и уходит с Веркой в сад обирать вишню, она - в миску, а Верка в наши цибарки. Мне же Князек взялся показать сад с огородом и виноградником. Верка от этой экскурсии отказалась: - Че там глядеть? - прокомментировала она свой отказ. - Ни помидоров, ни огурцов ишшо нетути, и виноград зеленай... - и добавила мне, взглянувшей на нее вопросительно: - Иди, ради Бога, иди: все одно, не куешь, не мелешь, толку с тибе, со сборщицы, тольке ныть будешь, как цибарки полнаи понесем... В саду и на винограднике у Князька такой же порядок, как в хате и на дворе. Весь сад разделен на одинаковые участки земли - гряды. На грядах растут деревья: вишневые, яблоневые, грушевые, сливовые, алычевые. Меж деревьями, исключая приствольные крути, посажены помидоры, огурцы, горький и сладкий ("болгарка") перец, синенькие, то есть баклажаны, морковь и прочая огородная снедь. По краю сад обсажен кустами смородины и малины. Каждая грядка отделяется от другой канавами, так что весь сад, как шахматная доска, поделен на клетки, а на изломе этой доски, по центру, разделяя сад на правую и левую стороны, проходит более широкая и глубокая канава. Ее-то, в первую очередь, и наполняет теплой речной водой из ерика Князек. Делает он это черпаком. Черпак - это семи-восьмилитровое ведерко из жести на длинном держаке. Чтобы напоить сад, то есть пустить воду по всем канавам - гряды должны плавать в воде, - нужно зачерпнуть из ерика не менее полутора-двух тысяч черпаков... В летнее покойнинское пекло землю под огородом, садом и виноградником поят два раза в неделю, иначе от жажды земля растрескается, а все живое на ней сомлеет, сникнет, обессилеет... Виноградник - особая, неустанная забота каждого рачительного покойнинского хозяина. Высаживают виноградную лозу на отдельном, лучшем в световом отношении участке земли и, кроме винограда, здесь не позволяют расти никакому огородному овощу, тем более сорной траве. Виноградные кусты располагаются строгими, словно прочерченными по линейке, ровными шпалерами, меж ними поильные канавы. Все кусты подвязаны к таркалам - деревянным кольям высотой не менее среднего человеческого роста, и глядятся они, как часовые на посту с ружьем. Теперь же, в конце июня, лист на виноградной лозе и незрелые ягоды в кистях сизо-зеленые, потому что опрысканы купоросом. Так виноград обороняют от вредителей. Князек водит меня меж виноградных рядов, любовно рассказывая чуть не о каждом кусте, что за сорт, винный или столовый, какой вкус, какая урожайность, сколько лозе лет... Потом мы садимся с ним на краю межи на теплую землю, я беру стариковскую распухшую руку в свои ладони и, прижимаясь к плечу Князька, спрашиваю: - Как это Вы все о винограде помните? - Как же, деточка, не помнить? Своими руками взрастил, как дите вынянчил, как же не помнить? - ласково отвечает он мне. - Но ведь Вам и жене Вашей тяжело работать в саду? Вы же старые... - Да, конечно, нелегко, - соглашается Князек. - Вот и не работайте, отдыхайте... С голоду ведь не умрете... уговариваю я. - Ды с голоду не помрем, - соглашается Князек, - уж если у тридцать втором и тридцать третьем выжили, то теперя вовсе выдюжим, привычные... Но, знаешь, деточка, без работы тоска изведеть, как же это жить, да и не работать? И от людей - стыда головушке: это што ж за хозяева такие, люди скажуть, ежели у них земля бурьяном поросла? - Ну, а зачем вам тогда с Витькой овец пасти? - Вот это правда твоя, правда... С вовцами уж мине кружиться ни к чему б. Но, знаешь, земля-то, она теперь не наша, теперь она колхозная. А хто у колхозе не работаить, тому усадьбу могуть и по крыльцо обрезать только что из хаты выйти и шагнуть... Такой закон нынче. - Все равно, - не понимаю я Князьковой логики. - Зачем вам столько всего сажать? Кому останется? Князек глядит на меня долгим ласковым взглядом и неожиданно выдыхает: - А можа... ты у нас поживешь заместо родного дитя... Мы тибе с бабкой кохать будем... ты и рук своих белых у нас не замараешь, только учиться будешь да книжки умные читать, а помрем с бабкой - все тибе останется... и пра... - Что Вы! - осторожно выпускаю я из своих ладоней его руку. - У меня мама есть и дедушка. - Ды мама твоя ишшо дюже молодая, - уговаривает он обреченно. - Ей замуж выходить надоть, - повторяет Князек противные слова Вити. - А дедушка... да... - соглашается старик с этим моим доводом, - он сам тобой тольке и живеть… Да и виноват я перед им, твоим дедушкой... - За дядю Алексея? - сурово спрашиваю я. - За яво, - виновато клонит Князек свою старческую голову. - За яво, повторяет он и добавляет: - Правильно в писании сказано: да воздается полною мерою каждому за грехи яво... И ты мине, деточка, прости... Более всего я перед тобой виноват... - Почему передо мной? - жалею я уже Князька. - Ды потому, что полюбил тибе усем сердцем и перед тобою вину свою сознаю... - А Вы писали на дядю Алексея доносы? - Какие доносы? Я и писать не умею... Я только расписываюсь буквами... - А как же тогда? - допытываюсь я. - Вызывали мине у город... Должно, на третий день, как заарестовали дядю твоего... - Ну? - Ды што ж ну? Там допрашивать стали, говорил ли Алексей супротив власти слова. Я поначалу твердо стоял: мол, ваших дел я не знаю, ничего не слыхал... Тогда военнай этот, какой допрос вел, молодой, горячий, достаеть бумагу, в той бумаге навроде те слова, что Алексей говорил при мне и при Оладине... - А что он говорил? - Ды не помню, деточка, теперя, хоть убей, не помню, помню только против власти Алексей не выступал, а против Оладина - да, было дело... - И что потом? - А потом энтот, хто допрашивал, велел мине у каталажку увесть ды напоследок сказал: "Будешь запираться, окажишьси там, откуда путя домой не будить... загремишь заодно с вражиной Евсиковым... И в каталажке продержал он мине сутки без куска хлеба и воды… А потом снова у кабинет вызываить и насмехаетси: - Вспомнил, такой-сякой-разэтакий? Я не об себе думал в ту минуту и никакой кары не боялси: о сыне сердце болело, о нем - разъедином. И вишь, што сотворил: свово сына пожалел, а чужого под казнь подвел... Поник Князек головою, а я добиваю его расспросами: - И что же Вы? - Я и вымолвил: можа, и говорил те слова Алексей, тольке я их не слыхал... А он, мучитель мой, тоже навроде не все мои слова услышал да разом мине за ворот: "Вот и хорошо, што вспомнил. Подписуйси..." Я молчу, а Князек поднимает на меня тоскующие глаза и говорит печально: - Вот, деточка, великая цена слабости человеческой... Оступись раз, а ответ за этот раз держать усю жизнь будешь перед Богом и людьми... и пра... Глава восемнадцатая Цибарки наши полны крупной, сладкой, мясистой вишней, попокойнински шпанкой. И мы собираемся в дорогу, то есть собирается Верка, поскольку она понимает, что такое ведрище я хорошо как дотащу до Князьковых ворот. Князек устал сокрушаться от того, что быков, на которых он приехал из степи, отдал куму "на час" подвезти в город на базар раннюю картошку, а "кум и пропал с концами". Князек все просит нас обождать, мол вот-вот кум подъедет, и тогда Князек подвезет нас до дому. Верка, узнав, что Князек был с быками и отдал их куму, послала шепотом уж сто ругательств в адрес старика и мне сказала, чтоб я пожаловалась Вите, а вслух она сладко говорит: - Ды не беспокойтеся Вы, не беспокойтеся... дайтя мине тольке коромысла: своя ноша не тянить... - и добавляет: - Спасибо Вам на добром угощении (это она имеет в виду вареники с вишнями), спасибо за гостинец (это за полные цибарки) и приходитя до нас... Я стыжусь говорить так сладко, как Верка, хотя в душе очень жалею и Князька, и его жену, сухонькую старушку с тоскующими глазами, и, наверное, я даже люблю их, может, не так, как дедушку, Витю и маму, но все же я чувствую, что Князька мне будет очень недоставать, и я не забуду ни его старческой шаркающей походки, ни согбенных плеч, ни ласковых рук, а более всего я буду помнить его глаза - виноватые, преданные, слезящиеся стариковские глазки... Верка спешит, а я медлю: сердце печалится, не велит со стариками прощаться, и Князек, словно угадывая мою печаль, говорит: - Когда еще свидимся? - Ды алыча поспеить, мы и придем до вас, - обещает Верка. Она уже водрузила коромысла на плечи, присела, захватив крючками дужки ведер, поднялась, чуть пошатываясь под тяжестью груза, и быстро и легко пошла к воротам, сопровождаемая старушкой. И мы с Князьком тоже идем вслед. Он молча вздыхает. Когда мы выходим с ним па улицу, то видим, что у машенцевых ворот стоит запряженная парой выхоленных коней председательская линейка, а Николай сидит на лавочке, поджидает кого-то... - Господи, милостивец! - кидается Князек к Машенцу. - Николай, ты навроде ехать куды собралси? Машенец важно смотрит на меня и говорит: - Собралси. - Можа, ты моих гостей подвезешь? - Ежели хорошо попросють, можна и подвезти... Верка мигом ставит цибарки на землю и подлетает к Машенцу: - Ды Господи, ды Николай, ды довези нас за ради Бога!.. Машенец легко поднимает цибарки и, хитро поглядывая на меня, устанавливает их одну за другой на ровной, гладкой, без всяких ограждений поверхности линейки (кажется, будто столешницу водрузили на колеса). Верка, взлезая на линейку и обнимая цибарки, по-хозяйски говорит: - Ну, Тань, считай, мы дома... Садись живея... Машенец лихо вскакивает на линейку и разбирает вожжи: - Ну-но... - покрикивает он на застоявшихся лошадей и, оборачиваясь ко мне, небрежно бросает через плечо: - Ну, городская, чего мнешьси? Садись. С ветерком прокачу. - Давай, деточка, подсажу, - шепчет мне Князек. А Машенец свысока смотрит на меня: - Или линейка тибе не по нраву и городским автомобиль подавай? - Да, автомобиль, - отвечаю я вызовом на наглые машенцевы речи и говорю старику тихо: - Не поеду я с ним... Но Верка слышит то, что я говорю Князьку, и верещит с линейки: - Вы гляньте, че вытворяить энта цаца! Чем же это тибе разобидели, што ты не поедешь? Ты подумала, как мине переть цибарки до дому?! Садись живо, враг тибе принес на мою голову с твоих курортов! Но я говорю еще тише: - Я пойду пешком, а ты поезжай... - Трогай, Николай, - говорит Верка решительно, - нехай из ног глухоту выбиваить, можа, пойметь, как выхваляться... Машенец мгновенье медлит, а потом, натягивая вожжи, срывает лошадей с места, и облако пыли поднимается вслед удаляющейся линейке. - Ну, ты чаво ж? - осторожно спрашивает меня Князек и добавляет про Машенца: - Он не хотел тибе обидеть… - А Верка? - предательски дрожат мои губы. - Ды што ж Верка? Сама видишь, што за человек. А старушка горестно вздыхает: - Настанить время, я так думаю, она и матерю родную не пожалеить: кусок изо рта вынить... Ну что так тоскливо на душе? Оттого, что линейка уехала? От машенцевых слов? От Веркиных обидных речей? Все так, но более всего жалко, очень жалко стариков, сиротливо стоящих у ворот... - Простите, - говорю я тихо, - простите меня... - Ды Бог с тобой! За што? - совестится Князек и утешает: - Не боись, я тибе провожу до бакалейной лавки... - Не-ет. Пожалуйста, не надо, - умоляю я его. - Вы и так устали. Я дойду сама. - А вдруг кто обидить тебя? - беспокоится Князек. - Что вы! - успокаиваю я старика. - Это меня только Машенец обижает. - Можа, ты ишшо вареников поишь? Со сметаной? - сердобольно спрашивает старушка. - Нет. Спасибо. Я наелась. - Не понравились? - сожалеет она. - Очень вкусные, - говорю я. - Ну, тогда... поняй... с Богом..: иди холодочком, возле хат, - советует старушка, поднося фартук к глазам, а Князек начинает сморкаться. - До свидания, - говорю я, а она, прижимая меня к себе, просит осевшим голосом: - Ты ж приходи, не забывай, а то я одна: дед-та мой у степе... - Ну, будя, - говорит Князек жене, - Бог даст, свидимси... - и мне на прощание: - Счастливый тибе путь, деточка... Доброй дороги... И я ухожу, глотая подступившие слезы. Отойдя к концу заулка, оборачиваюсь: старик и старушка смотрят мне вслед. Глава девятнадцатая - И зачем ты только приехала до нас? - серьезно спрашивает меня Машенец. - Как зачем? - теряюсь я. - Я приехала в гости к дедушке. - Да знаю, что к дедушке, - безнадежно машет он рукой и вдруг разом выдыхает: - Сердце ты мое изорвала... Я тибе так полюбил, аж истосковался весь-.места себе не нахожу... Так бы за тобой, как телок неразумный, и ходил... Я, ошеломленная этим неожиданным признанием, молчу. Боюсь произнести и слово: Машенец, по покойнинской молве, бесстрашный, речистый, разудалый, какому не то что Кума - океан по колено, этот Машенец стоит насупившись возле меня и, несмотря на сдвинутые свои брови и хмурый вид, умоляет по-собачьи преданными глазами: - Не уезжай от нас, - говорит он глухо. - Живи покуда у дедушки. Я тибе никому в обиду не дам, а вырастешь - замуж возьму... Хоромы тибе отстрою... Я, знаешь, какой работящий!.. - Ну, что ты говоришь?! - пламенем полыхают мои щеки. - Какой замуж? Я еще девочка: мне двенадцать лет! - Знаю, что не мальчик, - сердится Машенец. - Я ж не теперь замуж тибе собираюсь брать, а когда ты девкой станешь. Но, видно, противнай я тибе, оттого ты и понять моих слов не хочешь... - Да что понимать?! - теперь уже сержусь я. - Ты меня видишь второй раз... - Вто-о-рой... Я тибе ишшо высмотрел, когда ты к деду в контору приходила... Я тогда Латышева привез, лошадей во двор загнал, а сам на тибе тайком глядел: какая ж ты пригожая! А глаза твои да до того ж ясные, што я и глядеть боюсь в них! И речи твои, што мед... Да ты и говоришь не так, как мы: слова навроде все знакомые, но ты из их кружева плетешь... И голос у тибе особеннай, я как услышу его - сам не свой делаюсь... Увидал я тибе там, у конторе - и пропал... Латышев на што гневнай от деда твово выскочил, а и то приметил: "Ты што, - говорит, - на лицо сменилси?.." Я не слышу слов Николая: мне совестно их слушать. Единственное, что западает мне в память - это "Латышев" и "контора". Сердце мое замирает оттого, что, вероятно, Машенец видел, как я подслушивала тот латышевский разговор с дедушкой, и, чтобы стереть постыдное воспоминание из собственной памяти, я перебиваю Машенца: - Ну и что же теперь Латышев? Как он? - Ды, - безразлично отвечает Николай, - яво дело - кранты... - Как кранты? - не понимаю я. - Почему? - Сенька проворовалси... - Какой Сенька? - Хух, Господи! Ну и нужно это тибе? - совсем как Витя и дедушка удивляется Машенец и добавляет с горечью: - Не об этом нам надо говорить! Я сержусь на последние Машенцевы слова, он видит это и поспешно объясняет: - Сенька - кладовщик, может, слыхала? Складом колхозным заправляить, там с г... не расстанется, усе к сибе гребеть. Должно, половину колхоза перетащил на свой двор... - Ну и при чем тут Латышев? - Ды притом, - сердится Машенец, подозревая, что я намеренно отвлекаю его от того, неприятного мне разговора, - притом, што попер он Сеньку с кладовщиков... Боле терпеть сил, должно, нетути... Твой же дедушка, когда булгахтером был, Сеньке развороту не давал, а Маньку, сопливку, Сенька кругом обведеть и куды захочить выводить. Вот Латышев, должно, понял: дело дурное, и Сеньку на правлении рашшитал, а того голыми руками не возьмешь - он уж на самого Латышева телегу катить... - Как? - Ды так, жалобу у район написал. Я слыхал ту жалобу, Латышеву уж ее зачитывали... - Ну и что там? - встревожена я за Латышева, дерзкого человека с праздничными глазами. - Ды што? - увлекаясь, разудало рассказывает Машенец. - Сенька молодец! Не будь дурак, с больной головы ды на здоровую: мол, Латышев велел со складу воровать для него самого. А когда будто бы Сенька воспротивилси, он его, мол, за это и в шею... Там и про дедушку твоего Сенька не забыл. Значить, так, - вспоминает Машенец. - Сенька написал, што булгахтера Евсикова Латышев снял за то, што он, мол, Евсиков, ему, Латышеву, поперек горла встал, потому как пресекал латышевские темные дела на корню, за то Латышев его с булгахтеров и скинул, што он, Евсиков, может и подтвердить... Вот как! - торжественно заканчивает Машенец. - А почему ты с таким энтузиазмом об этом рассказываешь?! - вдруг обжигаю я Николая взглядом сузившихся, нетерпимых, я знаю, дедушкиных глаз. - Как это? - разом отрезвляется Машенец, пугаясь моей резкости. - Да так, - говорю я непримиримо, - так, будто ты этого негодяя, Сеньку, оправдываешь? - Ды нужен он мине?! - чистосердечно признается Машенец. - Мине все одно: што Сенька, што Латышев - оба хороши. Сеньку, конешно, пора бы давно турнуть, но и Латышев недалеко ушел... - Что он, такой вор, как Сенька? - Ды нет, - крутит головой Машенец и с обидой добавляет: - Но тоже хорош: ночь-полночь - запрягай лошадей и вези его... - Куда? - Ды у бригады, у степь, на ток или на ферму - усе контроль наводить, кабы люди у сумки зерна не насыпали, али доярки молока у грелки не налили... - Ну и правильно делает, - говорю я точно так, как Вите, - он же для колхоза старается, для колхозников то есть... - Для колхоза - это точно, а для колхозников вряд, - неожиданно твердо возражает мне Машенец. - Почему это? - Ну, а што, дедушке твоему лекше жить стало от латышевских ночных вылазок или, может, Князьку? Они што, сытнее исть стали или меньше работать? Все, что сбережет Латышев для колхозу, все государство дочиста выгребеть, а колхозникам - на тибе, Боже, што мине не гоже... Слышала я это уже, слышала, от Вити слышала, от Верки, бабушка причитала, Князек все про то же, да и дед, мудрый, осторожный мой дед, нетнет да и обмолвится о том же... и вот теперь Машенец, в сущности мальчишка, а говорит то же, что и взрослые... Что же, все они не правы, или лгут, или уж у всех у них, сказать Витиным любимым словом, тяму, то есть ума, не хватает, чтобы осознать для себя выгоды колхозного дела? Почему им, таким работящим, таким усердным, таким смирным и терпеливым, так трудно живется в колхозе, отчего эта страшная бедность, ведь они беднее даже нас с мамой, посиротски живущих тесном и темном городском углу... - Hу, ладно, - говорю я сурово Николаю. - До свидания. Я пошла... - Как пошла? - теряется Николай. Ты ж согласилась у Катасон на линейке съездить... Я ж тибе Катасон обещался показать... Там же, говорят, царица Катерина останавливалась, когда на юг ехала, и ночевала там... сон видала вещий... Катин сон... Погоди, - пытается он остановить меня. - Мы ж с тобой не поговорили ишшо ни об чем... - Поговорили, - непреклонно отвечаю я. - Вполне достаточно, - и добавляю: - Гадкий ты человек, понял? Гадкий. И я больше с таким разговаривать не буду. - Почему ж это гадкий? - с горькой обидой спрашивает Машенец, и у него дрожат губы. - Потому, - говорю я бесстрашно, хотя стоим мы на пустынной улице (Машенец, отвезя Верку, рванулся назад и на взмыленных лошадях "перестрел" возле того самого магазина - "бакалейной лавки", докуда хотел проводить меня Княнзек, и, соскочив с линейки, выдохнул сгоряча: "Прости меня ради Бога, если я тибе чем обидел, только выслушай..."), - потому, продолжаю я, уже не помня машенцевых хороших слов, - потому что ты не можешь отличить порядочного человека от негодяя и тебе все равно: победит добро или зло. Ты не можешь понять простой вещи, что Латышев старается и для тебя тоже... - Што ж он плохо старается, твой Латышев, для меня? - уже зло спрашивает Машенец. - Ведь я вон седьмой класс отучился и в конюхи... лошадям хвосты крутить... А ты небось институты кончать будешь... А мы, колхозники необразованные, тибе хлебом кормить. Вот и выходить, што Латышев не для мине, а для тибе старается, то ты его и защищаешь. Так-то, сплевывает Машенец мне под ноги и, лихо вскакивая на линейку, охлестывает коней вожжами. Глава двадцатая Латышев изменился: глаза у него не победные и дерзкие, а глаза человека, какого хочется пожалеть, и он, протягивая мне руку, вымученно улыбается: - Ну, выходила деда? - Нет, - вздыхаю я. - Плохо, - мрачнеет он и спрашивает: - Видеть его можно? - Проходите, - приглашаю я председателя в дедушкину хату. Он идет со мной, пройдя сенцы, на пороге комнаты задевает головой притолоку. Я, оборачиваясь, вижу, как он молча морщится от боли. - Дедушка, - подхожу я к кровати и, всматриваюсь в его лицо, спрашиваю осторожно: -Ты спишь? - Нет, - говорит дедушка тихим, слабым голосом, - а ты чего? Окошки растворены, но в хате сумеречно: на дворе свечерело. Слышны голоса, бабушкин и Веркин, они управляются на базу со скотиной. - А там, у дверей, кто стоит? - вглядывается дедушка. - Это я, Михаил Матвеич, - отзывается Латышев глухим голосом и, отходя от дверей, добавляет: - Навестить тебя пришел... Мгновение дедушка молчит, а потом приглашает председателя: - Проходи, - и говорит мне, стараясь каждое слово произнести твердо: Ступай во двор. Закрой двери. Бабке скажи моим словом: в хату покуда никому заходить... Я молча выполняю дедушкино приказание и слышу напоследок, как он просит Латышева взять табурет и сесть ближе к койке, потому что встать он не может: сердце дюже болит. Это дедушкино вынужденное признание звучит для меня убийственно: дедушка третий день не встает с постели, и, хотя эти дни я не отхожу от его кровати (бабушка наведывается изредка, сухо осведомляется у меня: "Ну, чаво твой дед?", а Верка и вовсе не появляется), помочь дедушке я ничем не могу. Я уже не боюсь его болезни, не страшусь оставаться с ним наедине, потому что желание облегчить его страдания сильнее, но деду день ото дня становится хуже. Он не стонет, не жалуется, но я вижу, как посерело его лицо, посинели губы, как обозначились, запали глазницы, как исхудало все его большое, совсем недавно полное тело. Он дышит теперь тяжело, хотя возлежит на высоких подушках, порою его дыхание прерывается, приподымаясь, он судорожно хватает воздух, рвет на себе ворот рубахи. Умирает мой дедушка, но я не плачу: у меня нет слез, я только сижу возле него и стараюсь предугадать его желания. Но у него нет желаний: болезнь вытравила их. Телеграмма маме послана, но мамы нет. Витя ездил в город к врачам в районную больницу, но ничего не добился: ни один из них не согласился приехать к дедушке, мол, врачи выезжают к больным на село только по вызову фельдшерицы, а так мало ли кому заблагорассудится врача вызвать (а фельдшерицу и просить об этом нечего, потому что ее отругают те же врачи: им ведь неохота ехать к больным за десятки верст). Взять же дедушку в больницу и подлечить там, оказывается, и вовсе невозможно. Один из наиболее доступных врачей, что снизошел до разговора с Витей, объяснил ему: старых больных они в больницу не берут, смысла нет. Если старый умрет, то с врачей и спросу никакого, старому и так пора умирать, там, в больнице, мест для молодых не хватает... Умирает мой дедушка, и мне вовсе не интересно, зачем пришел к нему Латышев и о чем он будет говорить с дедом. Теперь это уже неважно. И я не понимаю, как это может занимать бабушку или Верку и почему я не должна допускать их в хату. Да и сложно мне выполнять категоричные приказания больного деда: бабушка теперь совсем не та. Она уже не прежняя, желанная и угодливая, и не поит больше меня парным молоком. Теперь она едва разговаривает со мной сухо, сквозь зубы, а на мои просьбы сделать что-то приятное деду (сварить домашнюю лапшу, например, которую он так любил раньше, или затерку) просто отмахивается, мол, не до лапши. Резко изменилось поведение бабушки после недавнего разговора с дедом, случайной свидетельницей которого я стала. Дед, не повышающий голоса до известного, им самим положенного предела ни при каких обстоятельствах, вдруг так закричал на бабушку, что я, проснувшись, съежилась от страха. - И ты задумала, - гремел он, - чтоб я своею волею родных детей крова отцовского лишил, чтоб на Верку хату переписал?! Ты это задумала?! Ступай с глаз моих долой, бесстыжая!.. На эти гневные дедовы слова бабушка неожиданно для меня, усмехнувшись, спокойно заявила: - Нехай тада родные твои дети тибе до смерти и досматривають... - и ушла, хлопнув дверью. С тех пор она перестала церемониться со мной, перестала варить еду для Вити, наезжающего частенько домой проведать деда, перестала выполнять приказания самого деда, вероятно, почувствовав, что он из-за болезни уже утратил прежнюю власть над нею. Все это было так странно и нехорошо для меня, что я, стыдясь, не смела теперь поднять на бабушку глаза, она же, напротив, глядела на меня как ни в чем не бывало. Когда я поведала о своих душевных сомнениях Вите (Верка избегала со мною разговоров, да и виделись мы мельком, вечерами: бабушка откомандировала ее в сады, на прополку виноградника, "кусок зарабатывать"), он не удивился происшедшей в бабушке перемене: - Глупота ты, глупота, - усмехнулся Витя, - че ты душою маишьси, было б из-за кого... Я ж тибе и ране говорил: твоей бабушке сс... в глаза, она божья роса... Одно слово - пройда! Без мыла в задницу влезить, а надо - сквозь игольное ушко прошмыгнеть... Это она и мине, и мать твою, да и тибе, любимую унучечку, заодно с нами замыслила с родного двора согнать... Это при живом ишшо отце?! А как помреть, че будить?.. Я вот все думаю, как же она его в свое время окрутить смогла: ведь он таких наглых на дух не переносить. У него ж натура другая... И мать он нашу дюже любил и помнил долго, а вот поди ж, хоть и выгонял эту... до скольких разов, а свыкси и живеть... и дожил до того, что она ему, ишшо живому, своими речами могилу роить... ...Сижу я теперь на обтерханном, выщербленном, нагретом за день камне у порога и тоскливо думаю о том, почему не едет моя мама и что будет со мною, с дедушкой, с Витей, если она вообще не приедет к нам. - Ты чаво тут сидишь? - неожиданно окликает меня бабушка, подойдя неслышно с подойником, полным молока, и, усмехнувшись, направляется к выходу и добавляет: - Дед там без тибе не соскучился? - А он не один, - говорю я почему-то храбро. - А хто ж с им? - останавливается на ходу бабушка. - Латышев, - говорю я значительно, гордясь за дедушку (ведь его сам председатель навестил), тем самым стараясь поднять дедушкин пошатнувшийся авторитет в бабушкиных, с издевкой смотрящих на меня глазах. - Хто-о? - ставит она подойник на землю. - Иван Семеныч... - подтверждаю я. - А... а... - неожиданно взъяряется бабушка и, столкнув на ходу меня с камня, опрометью кидается в сенцы. - Погоди, - пытаюсь я уцепить ее за юбку, - дедушка не велел... Пожалуйста, не кричи, - молю вслед, - ну, пожалуйста... Но сильными своими руками она отшвыривает меня и, бурею врываясь в хату, орет, захлебываясь в крике: - Ну, председатель, ухватили тибе за ж..., так ты и деда вспомнил?! Небось не раз портки обмочил, комиссию дожидаючись?! Все-о знаю, все-о... Зашшиты ишшишь у Евсикова? А иде ж ты раньше был, когда твой Евсиков на току лопатой ворочал, остатнее здоровье гробил, сердце хворое надрывал, семью, можно сказать, сиротил?! Ты иде, рыжий, конопатый, недоделанный, был?! На линейке разъезжал, толстозадую дурищу cвою развозил?! А ей на той линейке ездить, как козе лифчик носить! Она ту линейку того и гляди проломить! Ишшо и идеть по улице и морду воротить... Хлопаить своими гляделками, как сова перед полетом... Не зря говорится: посади деревенскую овцу в почет, будить хуже городской козы!.. Иде только твои глаза были, когда ты ее в жены брал?! Погоди-и, приедить комиссия, я сама в ту комиссию пойду... Я все-о расскажу... Ты у мине узнаешь, как толстозадую свою бараниной кормить... Ты мине до самой могилы помнить будешь... Латышев, увлекая бабушку за собой, появляется на крыльце, говорит тихо, стараясь сдержать себя, но я вижу, как желваки ходят у него на лице под натянувшейся кожей: - Не ори, - говорит он. - Я не за тем пришел, зачем ты думаешь: слова про то не сказано. Мои думы щас о том, как помочь Михаил Матвеичу... Ты б лучше пришла ко мне вовремя, чем глотку драть... А то жену мою хаешь, а я ведь от нее узнал, что телеграммой вы Нюрку вызываете, что Михаил Матвеечу плохо... - А... а... - взъяряется бабушка с новой силою, - ты мине зубы не заговаривай!.. Ишь, какой жаланный нашелси! Ты иде живешь? На другой планиде? Ты мимо нашей хати день через день ездишь и не знал, что дед болеить?! - Знал, - обрывает Латышев расходившуюся бабушку, - но не думал, что так серьезно... - А ... а... а... - снова начинает она и вдруг осекается. Я сижу на земле, возле камня, у порога, там, куда отбросила меня бабушка, и, обхватив голову худыми своими руками, уткнувшись лицом в колени, трясусь как в лихорадке. Я уже ничего не понимаю, ничего не хочу, я только знаю, что бабушкина ругань, какую, кажется, невозможно остановить никакими силами, сейчас, сию минуту убьет деда... И в то самое мгновенье слышу голос, роднее которого нет для меня на свете и который я узнаю даже во сне. И этот голос наяву со скрытой тревогою, голос, полный достоинства и вместе с тем печали, голос моей мамы спрашивает: - Что это за крик на всю улицу? И разве можно что-нибудь выяснить подобным образом? Я еще не верю в реальность происходящего, я все еще думаю, что мамин голос мне только слышится, что мамы здесь нет и быть не может, но во дворе повисает настороженная тишина: разом смолкла бабушка, замер на месте Латышев, и тогда я открываю глаза и шепчу, все еще не веря самой себе: - Мамочка... И валюсь ничком на землю, и плачу навзрыд, приговаривая: - Мамочка... Ты приехала... Ты наконец-то приехала... Почему ты так долго не приезжала?... - Унучечка! - бросается ко мне бабушка и, поднимая с земли, утирает своим грязным, засаленным фартуком мое лицо. - Ды, головушка горькая, што ж ты так убиваишьси, што ж ты так убиваишьси, моя родная! Ну, приехала, приехала мать... Хучь и не сразу, но приехала... Не плачь! Будя, будя, а то и дед услышить, разволнуется... У нас же, Нюр, бяда, - обращается она к маме, все еще не отпуская меня, - дед уж дюже хвораить. Я, не поверишь, должно умом тронулась, сама не знаю, чаво говорю, чаво делаю... Мама, ни слова не говоря, подходит к бабушке, забирает меня из ее рук и, прижимая к себе, говорит шепотом, нежно и ласково, как говорит очень редко: - Зайка моя сероглазая, моя зайка... Мне совестно перед мамой: мои волосы растрепаны, платье измято, а лицо и руки грязны, я босая, ноги мои в цыпках. Но мама будто этого не замечает, хотя всегда очень строго взыскивает за неопрятность. Сама же она после долгой, трудной дороги в обшарпанном поезде и такой же пассажирке вы глядит так, что даже бабушка начинает развязывать свой засаленный фартук, а Латышев пятерней приглаживает торчащие в разные стороны вихры. Мама кажется еще более красивой в этом дворе, стройная, строгая, недоступная, с большими карими глазами, полными печали, в необыкновенно хорошо сидящем на ней скромном платье, которое я, конечно видела, но которое смотрится так изящно, словно это платье праздничное и надето впервые. Наконец мама отстраняет меня и, обращаясь к бабушке (Латышева она не замечает), спрашивает: - Что папа? - Совсем плохой стал, пла-а-хой, - стенает бабушка, - уж я по усем ночам не сплю и не придумаю, чаво с им делать?.. - Врача приглашали? - строго допрашивает бабушку мама. - Хто до нас поедить, кому мы нужнаи? - канючит бабушка. Мама холодно обрывает ее: - Вы что, при крепостном праве живете? - Хто яво знаить, при ком мы живем? - подобострастно заглядывает маме в глаза бабушка и жалуется: - Врача привезть - линейка нужна, на быках врач не поедить. А линейку иде возьмешь? Это председателю надо кланяться… - Ну и поклонись, - снова обрывает бабушку мама и добавляет: - Ты ведь его знаешь? - Да и ты знаешь, - сладко говорит бабушка, - помнишь, ты ж с им училася?.. - Помню, - коротко, недовольно взглядывая на Латышева, отвечает мама. А Латышев, завороженно глядя на нее, сбивчиво говорит: - Я, конечно, помогу... Я... сделаю все, что... возможно... - А что вам мешало помочь отцу вовремя? - холодно спрашивает мама и, проходя мимо Латышева, с сожалением бросает уже на ходу: - Как много слов и как мало дела!.. Бабушка, подхватив мамины вещи и тоже проскальзывая мимо председателя, говорит с восхищением, шепотом, но так, чтобы слышал Латышев: "Королева наша приехала... Право слово, королева..." Глава двадцать первая С приездом мамы все в доме изменилось как по мановению волшебной палочки. Проснувшись поутру, я не узнала нашей хаты: сквозь вымытые сияющие стекла вливался в комнату золотисто-голубоватый поток утреннего, пронизанного солнцем света, и этот свет озарял прибранную ухоженную комнату, где каждая вещь была до блеска отмыта или начищена. Сиял, будто покрытый лаком, посудный шкаф, за промытыми стеклами его блестела вычищенная посуда, свежо желтели выскобленные лавки, празднично белела на столе скатерть с ярко-красными вышитыми петухами, а на ней пылал закатной медью пузатый самовар; черные лики старых икон, видимо, протертые растительным маслом, словно прозрели и скорбно глядели, как живые; дедова кровать являла собой удивительное зрелище: все металлические части ее - пузатенькие шишечки и меленькие шарики, остроконечные верхушечки и дутые трубочки, начищенные мелом или зубным порошком, соперничали в сиянии с самим самоваром; постель была заправлена белоснежной простынью, а с деда наконец-то снята верхняя одежда, и он лежал в нательной рубахе с длинными рукавами и голубых сатиновых штанах в полоску. Дед, побритый, с зачесанным набок мальчишеским своим чубиком, спокойно спал, и лицо его не имело больше землистого оттенка, так пугавшего меня. Это было все еще нездоровое лицо, но не лицо смертельно больного... Дед спал и не видел еще, должно быть, ни выбеленной только что нашей печи, ни чисто вымазанного глиной, пахнувшего свежестью пола, ни плетенной из разноцветных тряпочек дорожки, протянувшейся от порога к его кровати... Мама моя, будто девочка, в ситцевом сарафанчике, босая, стояла на одном из подоконников и цепляла к карнизу короткую, собранную в сборки накрахмаленную занавеску... - Мамочка... - шепотом позвала я. - Чш-ш... - поворотив ко мне голову, улыбнулась мама и кивнула в сторону деда, - разбудишь... Я, вскочив с топчанчика, на котором спала возле деда с тех пор, как ему стало совсем плохо, на цыпочках подошла к маме, обняла ее ноги и, прильнув к ним, спросила, взглянув на сияющую дверь: - Ты и дверь покрасила? - Нет, - сказала мама, - я ее вымыла. - Иди во двор. Я сейчас приду... Я вышла во двор и ахнула: это был не наш заваленный разного рода хламьем двор (чего тут раньше только не было: полуразвалившийся, сделанный впрок - лет сто назад - саман, плетеные рваные корзины, ржавые тазы и ведра, обломки сгнивших досок и даже старая разваленная телега), теперь это был выметенный, вычищенный, без единой травинки, словно отполированный, как танцплощадка в нашем парке, двор, и во всем этом огромном дворе только под кухонным навесом стоял стол, покрытый новенькой клеенкой, да две длинные лавки возле него... Страшно было даже подумать, как можно так быстро расправиться с таким количеством хлама и куда его деть. Когда я спросила об этом бабушку, с озабоченным лицом раскатывающую в кухне тесто, как я поняла, на домашнюю лапшу, она, ласково глядя на меня, разъяснила: - Витькя... Витькя на быках увез... Скольке я яму разов говорила: "Можа чаво со двора ненужное свезешь" - и слухать не хотел, а тут, вишь, сестрица родная раз тольке сказала - yce с Веркой погрузили и со двора долой... Там, правда, кой-чаво и оставить было б можно, - тоскует бабушка и осторожно, полушепотом добавляет: - Ну, ты же, унучечка, знаешь свою мать: ей и слова супротив сказать не моги, как стрыганеть своими глазищами - разом припечатаить... Я уж и не придумаю, как с ей мужики обходются: ведь к ей не знаешь, с какой стороны подойтить, на што уж наш Латышев бойкай, а при ей разом ровно онемел... - А Вера в сады пошла? - недовольно прерываю я бабушку. Бабушка, внимательно взглянув на меня, круто меняет направление нашей беседы. - Куды ж у сады? - чистосердечно удивляется она. - Такая жаланная гостья до нас прибыла... Уж ждали, ждали ее - усе жданки поели... А ты знаешь, - спохватывается бабушка, - почему мать так долго не приезжала? - Нет, я с мамой еще не говорила... - Хм! - возмущенно хмыкает бабушка и доверительно поясняет: - Ты и не поверишь, унучечка, хто тут дялов наворочал... - Каких дел? - не понимаю я. - А вон энтих самых, каких нарочно не придумаешь! - говорит бабушка, не переставая истово раскатывать скалкой тесто. ("На лапшу, на лапшу", - Убеждаюсь я, радуясь за деда.) - Мы с тобой телеграмму матери когда отбивали? - спрашивает она неожиданно и отвечает сама же: - У позапрошлое воскресенье, как щас помню, когда вы с Веркой к Князьку за вышником ходили. Витькя нынче сказывал, - сообщает бабушка мимоходом новость, от которой у меня сжимается сердце, - Князек тоже чей-то захворал, не хуже нашего деда, видать, надсадилси, но покуда у степе, овец пасеть, а то б Витьке и не отъехать от отары, а Витькя щас дома нужен: мало ли чаво мать при-кажить исделать... Так вот, - продолжает бабушка, - значить, телеграмму отбивали мы у позапрошлое воскресенье, а той телеграмме ходу до Синтуков самое долгое десять часов, мине так Латышиха говорила, так и мать твоя сказывала!.. То ись утром мы ее, телеграмму, отбили, а увечери уж она у материных руках должна быть, так, унучечка? - Так, - растерянно говорю я, не понимая, куда выводит разговор бабушка. - Ну вот, - начинает бабушка аккуратно складывать тонко-тонко раскатанный круг теста и, взяв длинный узкий нож, нарезает первые виточки лапши, - а мать твоя телеграмму получила позавчера. Выходить, та телеграмма ишла, - бабушка прекращает нарезать лапшу и считает на пальцах, - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, нонешнее воскресенье и опять же понедельник - восемь ден, - торжественно говорит она и добавляет доверительно: - Я б твоей матери, можа, и не поверила (как тут поверишь?!), но она мине ту телеграмму показала, а в ей, в телеграмме, число, когда она из нашего Покойного пошла, а пошла она заместо позапрошлого воскресенья - у этот понедельник! Латышиха небось думала, что я вовсе дура непромытая, и не разберу, когда она ту телеграмму отправила! Я, унучечка, еле утра дождалася, думала и не доживу: тольке корову у стадо выгнала - и к председательше, да той телеграммой ей прямо у морду! Я ей рассказа-а-ла, иде раки зимують, я ее, толстозадую стерьву, расчепушила!.. Там уся улица слыхала, ка-ак я ее чехвостила: "Ты што ж, говорю, лохань ты свинячья, масло сожрала - тибе тем маслом хучь волосы вымажь - не угодишь! - а телеграммой закусила?! Ты што жа сотворила, дурища обуделая?! Мозги твои жиром заплыли? С тибе этот жир топить - до нового потопа не вытопить! Я из-за тибе, толстомясой, было ума лишилась; усе думки передумала: уж раз Нюрка не едить, значить, помирать деду?! Значить, надо думать про то, как с Веркой дальше жить?! Ты што жа, хавронья ты супоросная - прости, Господи, невинную животную обидишь, мине, честную женщину, с путя истинного сбила? Ты каких дялов наделала, начальница ты хренова? Через тибе, мордоворотину, я в тоску ударилась, дом кинула, сама не пила, не ела и у доме никого не кормила, родную свою унучечку забыла! Я через тибе, рыло твое корявое, твоего ж мужика чуток со двора не согнала! - Ну, а она что же? - успеваю я вставить в бабушкины пулеметные речи несколько слов. - Латышиха-та? Я ее и слухать не хотела! Чаво теперь зря языком ляскать, когда таких дел непотребных наворочено?! - Может, она не виновата? - вступаюсь я за неприятную председательшу, но которую мне теперь жаль после бабушкиных, на всю улицу, разносных речей. - А хто ж виноват? Кривая Акулька, что куски под окнами просить? Она, конечно, Латышиха-та, отмывается, мол, аппарат, на каком телеграммы отбиваить, сломалси... А мине наср... на тот аппарат! Ты масло брала? Брала. Сожрала яво? Сожрала. Значить, хучь пешком иди до тех Синтуков! А она, вишь, барыня, ждала, когда тот аппарат починють... Жана председателя! Ей усе можно! Задницу свою от стула оторвать боялася! Да скажи она мине, унучечка, я б сама у город тридцать разов пеши смоталася... Ой, не могу, до се сердце горить! На крыльцо из сеней выходит мама, и бабушка шепотом заканчивает: - Ты матери, унучечка, про наш разговор не сказывай: была и была я у Латышихи, а чаво говорила, то ее некасаемо, да и помалкивай, моя хорошая, про то, чаво промеж нас без ее, матери, было. Бабка твоя, можа, иде и не так повернулась, можа, иде и не так сказала, но бабке вы усе дорогие и родные и об вас у ей сердце одинаково болить... А то, не дай Бог, словом каким неосторожным матерю расстроишь, а она, мать, после дороги и не прилегла, усю ночь возле деда просидела, уколы колола да таблетками и каплями его отпаивала, а чуть свет уж у хате прибирать принялась и мине припрягла: я и полы обмазала, и печь побелила. А до ей уж Латышев приезжал, уж договорился у город ехать, у больницу, за врачом… Вишь, как дела обернулися? Глядишь, и дед поправится, и у конторе снова посиживать будить, и заживем мы по-старому, мирно и дружно. Глава двадцать вторая Линейка стоит возле нашего дома, и Машенец ходит возле лошадей, оправляя сбрую. Я с вымытыми ушами, шеей, отдраенными мамой коленками, аккуратно ею причесанная, в розовых лентах и в розовом пышном платье, повязанном по талии широким поясом с бантом, белых носочках и новых, привезенных мамой кожаных мягких чувяках подхожу к нему и говорю стесняясь: - Здравствуй, Коля... Машенец, быстро взглядывая на меня, отвечает сердито: - Здорово... Обиженная таким приемом, отхожу к калитке и ковыряю носком нового чувяка землю. Но Машенец меня не замечает. Очень он мне нужен! Если бы не мама, я бы вовсе не подошла к нему. Это она послала меня, и я подозреваю, что бабушка уже рассказала ей про мои отношения с ним, про те, что действительно были, и про те, что она придумала сама. Мама уже успела отчитать меня за мой затрапезный вид и устроить мне на скорую руку помывку, уже перепало Вите за то же самое и было обещано "привести его в порядок" после возвращения из города, так что Витя притворно засобирался в отару, шутливо сказав мне: "Замучиить нас усех мать твоя муштровкой, бабке и Верке, я так прикидываю, это было б и не лишне, а нам с тобой вроде ни к чему, а, племенница?" Но мама пока ругает только меня и Витю - Верке н бабушке не сделано ни одного замечания, хотя их внешний вид уж никак не лучше бывшего моего и нынешнего Витиного. Мало того, с бабушкой и Веркой мама говорит безразлично и бесстрастно, так, словно ей нет никакого дела до них. Это приводит меня в страшное смущение: я чувствую несуществующую вину перед бабушкой и Веркой, хотя не сказала маме ни единого плохого слова в их адрес. Бабушка все посматривает на меня подозрительно, а я от этого краснею и опускаю глаза. Дело кончается тем, что бабушка отсылает меня за пустой цибаркой в выход и под предлогом того, что я дюже боюсь мышей, идет за мной, и, припирая меня там в углу, ласково осведомляется, не обмолвилась ли я о ней или о Верке дурным словом, и в ответ на мои клятвенные заверения успокаивается и начинает с новою силою лебезить перед мамой. Верка, напротив, глядит на маму исподлобья. Она слышала допрос, учиненный мне бабушкой (в ту минуту оказалась возле выхода), и в раскрытую дверь злобно бросила в мой адрес: - Не сказала, так скажить... Витя безмерно рад маминому приезду, вижу, никакие ее замечания не портят его праздничного настроения: добрые глаза его сияют, а с лица не сходит блаженная улыбка. Но более всех изменился Латышев. Он уже около получаса терпеливо ждет маму, когда она переоденется для поездки в город. Весь вид его говорит о том, что все, решительно все отныне зависит в его жизни от маминого поступка и даже слова. Мама хмурит брови - на лицо Латышева набегает тень озабоченности; она на ходу бросает председателю ничего, в сущности, не значащее, но добрым тоном сказанное слово - и Латышев оживает, а глаза его благодарно глядят ей вслед; мама улыбается скупо, едва заметно - и озаряется радостью лицо Ивана Семеновича; мама начинает нервничая отчитывать меня за то, что я осмеливаюсь просить ее взять с собою в город, - Латышев страдает за меня и за маму. Он видит, что мама огорчена предстоящим расставанием со мной, и, когда бабушка, вступаясь, уговаривает взять м меня, он несмело просит о том же, а когда мама соглашается, счастлив не менее моего. Вот тут-то мама, принаряживая меня, наставляет насчет Машенца: - Пойди и поздоровайся с мальчиком: ты ведешь себя с ним странно... - Но он лезет ко мне с дурацкими разговорами... - Потому и лезет с дурацкими, что ведешь себя неумно. Нужно вести себя как девочке, школьнице, ученице шестого класса. Ясно? - Да, - говорю я, краснея, и иду к Машенцу вести себя умно. Но он, вероятно, не чувствует моих добрых намерений или не приветствует нового направления в наших отношениях, а потому супится, молчит, делая вид, что я для него как заскорузлый немой карагач возле дедовой хаты... Мне это, конечно, неприятно, но я напускаю на себя маску безразличия в ожидании мамы и Латышева. Наконец они выходят, мы рассаживаемся на линейке (Латышев устраивает меня впереди, рядом с Машенцем, а сам садится возле мамы), и Николай чмоканием трогает лошадей. Он демонстрирует, как я понимаю, классную езду, управляя лошадьми легким подергиванием вожжей и редким понуканием. Кони, что птицы, летят по хорошо накатанной, спрессованной зноем, отутюженной, словно городской асфальт, глине, расчесанные гривы рассыпаются по атласной коже, гладкие глянцевые тела покрываются едва видимой испариной, роскошные хвосты, которыми они изредка обмахиваются, развеваются на ветру, того и гляди заденут лицо. Из-под копыт летят мелкие комья, и один из них - бац! - мне прямо в лоб. Я морщусь, но молчу, боюсь пожаловаться маме, а она, будто почувствовав, спрашивает, удобно ли мне сидеть впереди, я отвечаю утвердительно, и мама, успокаиваясь, продолжает с Латышевым прерванный, ничего не значащий вроде бы разговор, от которого тем не менее, я слышу, у Латышева дрожит от радости голос. Машенец, видимо, по достоинству оценив мою терпеливость (он видел, как комок здорово саданул меня в лоб), осведомляется хмуро: - Ну, как тебе, не тряско? - Хорошо! - говорю я, сияя от счастья. Мама приехала, деду всего от одной ночи легче, Витя не в степи, а дома и ведет себя не как бедный приживала, наконец-то расправил свои сутулые плечи, бабушка со мной прежняя, угодливая, желанная, только Верка дуется, но это ничего, это пройдет. Мы на отличных лошадях, в отличной компании - Латышев всегда был для меня хорош, но и Машенец, оказывается, - вполне приличный мальчишка - едем в город за врачом, привезем его к дедушке, и он выздоровеет, и все будет, как прежде, в нашей семье: хорошо и замечательно... Мы въезжаем в город, и он уже не кажется мне таким затрапезным, незначительным, напротив, очень даже неплохой городишко, с выкатанными глинистыми улицами и побеленными хатами на них... Больница, облупившаяся, серая, своим убогим видом напоминающая развалившийся саманный сарай, несколько портит мое праздничное настроение. Но ведь дедушка будет лечиться дома, и вовсе не оттого, что его не возьмут в больницу. Латышев сказал, что "возьмут, очень даже возьмут", если этого хочет мама, но мама этого не хочет, потому что она сама выходит деда и лучшей сиделки для него быть не может. На разгоряченных лошадях мы влетаем в больничный двор, и Машенец с ходу останавливает их: послушные, умные животные, как вкопанные, замирают, и только по запотевшим телам пробегает крупная дрожь. Сидящие в больничном дворе в полосатых пижамах, будто арестанты, больные с разинутыми ртами глядят на нас, а когда мама и Латышев идут по двору, шушукаясь, указывают, не стесняясь, пальцами на маму: узнав, видимо, Латышева, они пытаются угадать, кто же его спутница. Машенец, подавая мне руку, помогает сойти с линейки, его галантное поведение удивляет меня настолько, что я, поперхнувшись, говорю: "Спасибо", и, чтобы как-то отблагодарить его, начинаю мало интересующий меня разговор. - Ну, что слышно про латышевскую комиссию? Переживает Иван Семеныч? - Ему теперь не до комиссии... - Почему? - Сама не видишь? Я отрицательно мотаю головой, а Машенец недоверчиво смотрит на меня: - У него теперь поважнее интерес: слепому видать, как он на твою мать глядить... - Выдумываешь... - Чего выдумывать, когда он сам сказал вчера увечери: "Плевать, мол, Николай, теперя на комиссию: руки-ноги при мне, и голова тоже..." Я ишшо засомневалси, откель это вдруг свежим ветром подуло, а потом понял, когда он уж нынче ни с того ни с сего у мине же и спросил: "Правда, мать у Таньки красивая?" - Мало Танек на свете? - сержусь я. - Хух, Боже, - сердится и Машенец. - Он спросил у ваших у ворот... - А ты уж каждому и рассказываешь? - Ты - это каждый?! - Ну и помалкивай... - Мое дело сторона, да людям рот не заткнешь, а народ у нас хоть и забитый, но ушлый: его не проведешь... - Да причем тут народ? - Ды все при том же. Вон мать твоя с Латышевым по больнице идеть, а уж люди интересуются, чья такая ды откуда, ды почему сам покойнинский председатель ее, как персону, сопровождаить... А тут ишшо бабка ваша: днем с огнем такого трепливого языка по всей округе не сышшишь... Там уж небось раззвонила по всему селу... - О чем?! - Хух, с тобой говорить - лекше пуд соли съисть... До чего ж ты человек въедливый!.. Я отхожу от Машенца в тень сиротливой акации, стомленной утренним, уже нестерпимым зноем. Противный мальчишка! Взял и разом испортил настроение! Ну при чем тут народ? Люди? Какие отношения могут быть между мамой и Латышевым, кроме деловых, связанных с болезнью деда? И пусть все говорят, что им вздумается, я же знаю свою маму: строже и недоступнее ее нет на свете. А смотреть на нее никому не запрещается и восхищаться ее красотой тоже... В это самое время на крыльцо больницы выходит моя мама. Она довольно оживленно говорит с молодым, но уже полным лысым мужчиной. Он глядит на маму, как голодный на кусок хлеба в чужих руках. А мамино лицо озарено внутренним сиянием темных глаз и белозубой улыбкой. И чем более оживляется мама в разговоре с лысым, тем сильнее хмурится Латышев. Он, скорым шагом пересекая двор, под недремлющим оком многочисленных больных подходит к Машенцу и говорит: - Готов? Обратно едем. - Нам приготовиться, что голому подпоясаться, - отвечает небрежно Николай и спрашивает, кивая на лысого: - А этот тоже с нами едить?... Латышев прикрикивает раздраженно: - Тебе что за дело, кого везти? Сопелки есть? И сопи в них молча... Но Машенец не пугается разгневанного председателя и, присвистнув, невинно, но хитро поглядывая на Латышева, рассуждает будто бы сам с собою: - Не иначе усе собаки у Покойном концы отдадуть, если сам главный больничный врач раскачалси... Эт хто ж над им такую власть взял?.. Ох и ох... Как же он решился ехать? Ды он за ворота больницы, должно, ни разу не выходил, и к больному, да ишшо и у село, его трактором не выволокишь... - Я тебе сказал - помалкивай! - зло обрывает Николая Латышев и усаживается на линейке рядом с ним, на мое место. Глава двадцать третья Бабушка после посещения нашего двора главным врачом, что, судя по ее виду, равнялось божьему благословению, едва не ползает перед мамой на коленях, и, что удивительно, мама будто не замечает этого, напротив, она в обращении с бабушкой и Веркой сама стала много мягче, может быть, оттого, что отсвет бабушкиной униженной благожелательности озаряет и меня, и Витю, и, конечно же, дедушку. Бабушка, кроме своих обычных дел по дому, с утра до ночи теперь парит, жарит, варит... Она готовит нам вареники и лапшу, галушки и пирожки, затерку и настоящий покойнинский борщ с фасолью. Она середь недели даже пекла хлеб, потому что мама захотела калачей, а их уже после субботней выпечки съели, - словом, по выражению хитро ухмыляющегося Вити, бегает наша бабушка, как подметенная. Впрочем, мы все ожили. И хотя главный врач, по покойнинскому мнению, "жутко умный, настоящий профессор", поставил деду, как разъяснила мама, очень серьезный диагноз - инфаркт миокарда, но дедушка, мы все это видим, чувствует себя с каждым днем лучше. Благотворно ли повлиял на него приезд мамы, посещение ли уважаемого покойнинцами Врача - бабушка втолковала это общее мнение деду, - или назначенное им лечение сыграло свою роль, радует ли его изменившееся поведение самой бабушки, частые приезды из степи оживленного Вити, моя восстановленная прежняя веселость и общительность, или общая воцарившаяся мирная обстановка успокаивающе действуют на него, но нашему деду лучше, и все мы, даже Верка, переставшая супиться, несказанно рады этому, и это всех нас объединяет и сближает. ...Между тем за первым визитом главного врача неожиданно последовал и второй, и третий (без маминого или латышевского выезда за ним в город главный прикатил на санитарной, с большим крестом допотопной машине, что произвело на бабушку и все село ошеломляющее действие). Я заметила, что мама стала сдержаннее с Валентином Михайловичем, так звали лысого, что очень огорчило его, так как в последний свой приезд он потерял прежнюю самоуверенность, а глазки его выражали теперь неприкрытую обеспокоенность. И хотя он задержался в доме, отобедав по приглашению бабушки с нами (все это время санитарный фургон вызывающе громоздился возле нашей хаты, так что проезжавший мимо на линейке Латышев едва не задел его), осмотрел с тщанием бабушкину поясницу, был разговорчив, но к концу визита явно сник, тем более что мама не пошла проводить его до ворот, и выполнившая эту почетную миссию бабушка, вернувшись после того, как машина, прочихавшись, наконец завелась и, протарахтев, как трактор, скрылась из виду, начала с мамой осторожный разговор. (Мы с Веркой чистили возле кухни кастрюли и не слышать его не могли). Философская же суть бабушкиного разговора была подобна айсбергу, только часть которого над водой, все же остальное скрыто в глубинах океана. Бабушка размышляла о том, что век бабий короток и красота не вечна, что маме одной трудно и надо себя пожалеть, что мужиков стоящих всегда было мало, а по нынешним временам вовсе нет: война выбила, что надо и о Таньке (то есть обо мне) подумать, что важно не промахнуться, и хоть главный врач (тут она перешла к конкретным примерам) - "кобелина ишшо тот!", но как бы хорошо, бабушка только теперь поняла, в доме своего врача иметь... Мама терпеливо слушает бабушкины советы, а я все жду, что она вотвот оборвет ее суровым словом, но каково же было мое удивление, когда мама неожиданно, с какой-то печальной радостью сказала: - Ты знаешь, это удивительно, но я все время думаю об Иване... В кухне на минуту воцарилась тишина (я замерла, не понимая, о каком Иване идет речь, Верка же, уяснив, видимо, сразу мою растерянность, подползла ко мне на коленках и одними губами прошептала на ухо: "Латышев..."). И мы обе застыли с грязными кастрюлями в руках, которые только что, по маминому приказанию, драили золой. - Ну, што жа, ну што жа... дай-то Бог... Я так прикидываю, запас, он карман не треть... - вымолвила наконец растерянно бабушка и, обретая помаленьку прежние обороты речи, понесла: - Я-то думала у тибе ума хватить обоих на привязи держать: и того врача, и нашего председателя... Ну, а когда дело полюбовное, он што ж, и Латышев мужик виднай, здоровай, на ем пахать день и ночь можна... Тоже ж - начальник... не чета нам. А што под им кресло зашаталося, то ишшо слепой сказал: побачим... Она и комиссия, должно, не без головы... Тоже ж люди умнаи, разочтут, што к чему... Ды и пойтить можно опять же у зашшиту яво сказать... Хоть я схожу, хоть и деда пошлем... У деда нашего слово редкое, да меткое... Опять же халяве этой, какая телеграмму путем отбить не могла, на голову накласть - милое дело, мол, знай, овца шелудивая, свое место, счастье привалило, так ты дюже нос не задирай, а то из-под носа твово мужика уведуть и гляделками своими совиными моргнуть не успеешь: жана - ведь она не стена, можно и отодвинуть... - В том-то и беда, - вздыхает мама, - что жена и... дети... - Хух! Об чем печалишьси!.. Ты усех жалей, а боле всего - сибе! Не ты первая, не ты последняя... разлучница... И опять же, ежели мужик не схочить, яво ни на каком аркане не затянишь, а Латышев сам у зятья просится, да яво и понять можно, погляди каждый день на такую хавронью - на кривую Аришку кинишьси, как он со своей цацой спить и не блюеть!.. - Нет, - говорит мама печально, - ты же знаешь меня, нет... Разговоры, сплетни... - Што нет, што нет? - напирает бабушка. - И кому ты докажишь? - Нет, - говорит мама твердо, и я, передохнув облегченно, начинаю весело очищать копоть с кастрюли, а Верка, взглянув на меня и как-то разом скиснув, вяло принимается за то же дело. Но, когда поздним темным вечером, спохватываясь, я спрашиваю у бабушки, где же мама, она, запирая ворота, говорит сладко и значительно: - По делам пошла наша королева... по делам... С Латышевым... У степь... Глава двадцать четвертая Как громом среди ясного неба рвануло обычную покойнинскую устоявшуюся жизнь: Латышева с должности комиссия сняла. И закрутила молва слухи, вначале осторожные, как первые капли дробного дождя, а потом уж ливнем хлынуло, понесло потоком вместе с истиною пену смутных сплетен, догадок, ложных домыслов и предположений. Говорили разное, но более всего занимало умы покойнинцев не то, что сняли Латышева, делового председателя (хотя всем и каждому не угодишь), не то, что торжествовал Сенька, вор, пройдоха и наветчик, а то, что Латышев "облик потерял", полюбовницу завел, Нюрку Евсичиху, какая на курортах сладко живет, а теперь до больного отца приехала, и Анной Михайловной прозывается... Да и как не говорить, если жена Латышева белым днем, когда комиссия только второй день заседала в правлении, допрашивая свидетелей морального и общественного падения председателя, приковыляв на своих коротких, толстых, как от комода, ножках, сама похожая на пузатый комод, принялась верещать на всю улицу о том, что она городской шлюхе, какая разбивает ее семейное счастье, глаза выцарапает. Выскочившие с нашего двора бабушка и Верка, мгновенно отреагировавшие на вражескую вылазку, по-коршунячьи вцепились председательше в жидкие волосенки и, подвалив ее, как подгнившее бревно, в пыль, принялись возить тут же, на дороге... Толстая, неповоротливая, сытая Латышиха не могла, конечно, оказать достойного сопротивления жилистой, ухватистой, вдохновленной мамиными победами бабушке и такой же цепкой Верке. Латышиха только визжала, Верка поддавала ей молча, бабушка же успевала активно действовать языком, руками и даже ногами. Она припомнила Латышихе все: высокомерные взгляды и речи, разъезды на председательской линейке, на какой "теперя - выкуси, выкуси! - дочь их, Анна Михайловна, ездить", особо была помянута не отправленная вовремя телеграмма, съеденное даром маслице - "подавиться бы тем куском!", не забыла, конечно, бабушка так не полюбившейся ей внешности председатель-ши, наконец, устав физически и морально и одержав совместно с Веркой по всем статьям полную победу, она к величайшему удовлетворению высыпавших соседок, с раскрытыми любопытными ртами стоящих у ворот, закончила беззлобно, останавливая Верку: "Будя. Чаво расходилась?", и, вставая с колен, подавая руку изничтоженной неприятельнице, рассудительно сказала: - Ду-у-ра!.. Ты кого пришла позорить? Королеву нашу? Так я тибе скажу, хучь она мине дочь и неродная: она как была королевой, так ею и останется, а ты как была хавроньей, так усю жизнь до конца дней своих ею и будишь. Тибе Бог и обличьем, и разумом обидел, так ты бы тихим да покладистым нравом брала. А ты чем гордишьси? Корявым рылом, ды качаном капусты заместо головы, ды тем, што ты Латышиха? Ты потому и Латышиха, што наша королева твово рыжего да конопатого - прости, Господи, на безрыбье и рак рыба - на порог не пускаить, а помани она яво, как следоваить бабе манить, он нынче увечери тут же будить, а ты у разбитого корыта останишьси... Ты б просила у ей, у ногах валялася, у нашей Анны Михайловны, штоб она тибе куска не лишила - сама-то ты яво не заработаишь, ты и к делу-то не приспособленная! Детей твоих не сиротила, а ты позорить ее пришла?! Ступай отседа и дорогу забудь к нашей хате, а то я тибе, жирной свинье, последние волосенки опалю. Запомни: судьба переменчива, хорошо как из грязи в князи, а как наоборот?.. ...Я, видевшая и слышавшая все, забившаяся в угол в нашей хате, молилась, как могла, только об одном, чтобы мама и дедушка, уехавшие в город (дед что-то стал покашливать, и мама, забоявшись какой-то застойной пневмонии, повезла его на линейке, присланной, невзирая на комиссию, Латышевым, на рентген), чтобы они не увидели этой безобразной сцены... Но мама и дедушка вернулись только к вечеру (главный врач теперь, как выяснилось, принимал маму как обычную просительницу), а бабушка и Верка, проторжествовав весь день, сладостно перебирая снова и снова все детали уличного скандала (бабушка, проверяя произведенное впечатление, обегала еще и всех соседей), успокоились только после того, как мама, приведшая дедушку из города и уложившая его в постель, с непроницаемым, чужим лицом, выйдя во двор, в ответ на бабушкино сообщение о визите Латышихи и одержанной ею и Веркой победе, сказала спокойно, бросив колючий взгляд на бабушку: - И отец, и я об этом событии наслышаны... Весть о нем уж до города долетела... за восемь верст от села, - и добавила с болью: - Неужели ты не понимаешь, что такая защита подобна той грязи, в какую хотела втоптать меня Латышева?.. Бабушка, разом померкнув (Верка, присутствовавшая при этом разговоре, только недовольно засопела), всплеснула руками: - Головушка горькая! Ды как же тибе угодить, ума не приложу! Я длякого старалася? Де-е-ед, вылитый дед!.. Помянув, как оказалось, деда не зря, бабушка избегала заходить к нему в хату, до темноты провозившись во дворе, но он, выйдя на порог, сурово, как прежде, позвал ее. (Мама весь вечер пролежала в выходе, обвязав голову полотенцем. Приехавший из отары Витя не осмелился войти к ней, а мне на ходу сказал: "Ну, че, бабка опять дел наворочала?". И пошел на баз убирать скотину.) Неизвестно, о чем в короткой беседе говорил с бабушкой дед (она неслышной тенью довольно быстро выскользнула из хаты), но с этого вечера бабушка сделалась немногословна, сдержанна, перестала заискивать и лебезить перед мамой, вместе с тем, выполняя все работы по дому, в том числе и приготовление еды, пожалуй, с большим старанием. Верка была ею через день отправлена в сады. "Нечего балды бить", - объяснила бабушка мне свое решение. На следующее после уличного скандала утро дедушка молча отправился в контору, где все еще по делу Латышева заседала комиссия. Ни мама, ни тем более бабушка не осмелились ни слова сказать обретшему прежний свой властный недоступный вид деду, и только я, не боявшаяся его ни теперь, ни ранее, кинувшись к нему, опросила: - Ты в контору? - Как ты узнала? - усмехнувшись, вопросом на вопрос ответил дед. Я пожала плечами, снова спросила: - Можно я тебя провожу? - Ды к чему тебе по жаре таскаться? - сказал дед нетвердо, и я, повиснув на его руке, поняла, что идти с ним можно. - Ты будешь защищать Латышева? - спросила я его по дороге. - Буду, - сказал дед серьезно. - Значит, тебе придется говорить неправду, - сказала я утвердительно. - Какую? - Про баранину... - Хух, - покачал головой дед, - досужая... - и пояснил: - Неправда - это когда хорошего человека в ложке топят. - А ведь он, Латышев, тебя обидел: с должности ни за что снял. - То не он снимал... - Как не он? - Да так. То дело снимало. Латышев прав: кухня у нас везде одна. Не обманешь - не вывернешься, а не вывернешься и поймают на обмане стрелочник кругом виноватый, а тут ведь и дураку понятно: на стрелочника того сверху давят и снизу жмут, и разворота в деле ему никакого нету, да он и сам себе не хозяин, только звание "председатель"... Менять надо не стрелочников, а расписание всего движения... - Дедушка, ну при чем тут железная дорога? - Железная, верно, ни при чем, - улыбается дедушка и говорит любовно: - Птаха ты ишшо малая, щебечишь... Нет, нельзя мне помирать, надо поднатужиться, да и пожить... Как тебя, неразумную, оставлять без подмоги? - Вот молодец, дедушка! - радуюсь я его решению. - Поднатужься, пожалуйста, и живи! Что тебе стоит? А когда я совсем-совсем вырасту, ну, тогда что делать?.. ...Возле конторы понабралось кой-какого народу. Бойкая молодая бабенка говорит презрительно: - Начальники-и!.. И-их-их! Усе путають да рвуть… - Правда твоя, правда, - откликается пожилая баба с черными корявыми руками, сложенными на груди. - Мань, а Ма-ань! - встревает плюгавенький мужичонка с цигаркою в зубах. - То тибе из-за печки не видать... - Ча-а-во? - Из-за печки, говорю, не способно за начальникими приглядывать... - Че ж я, совсем уж и дура? - А то и нет? - Гы-ы-и-и, - гогочут довольные насмешкой плюгавого стоящие возле мужики. С дедушкой все до одного раскланиваются уважительно, но разговор продолжают так же, не стесняясь, слышно. - Пропа-а-ал Латышев... - Каюк ему... - Евсик скажить так скажить. Яво слово - острый нож... - Да-а... - Латышев-то с дочкой Евсиковой спуталси?.. - Ну да, ну да... - А взаправду? - А то и нет? Там Латышиха разорялася - на Гаранжевке небось слыхали... - Она и баба взгальная!.. - Ну, на кого не доведись?! - Чаво-то Латышева уж и жалко... - Да такого председателя ишшо не было: хучь и наореть, да знаешь за што, но мужик, што ни говори, - головастай!.. А с бабами - кого ни помяни из начальников - усе путались, на то она и щука в море, штоб карась не дремал, а то зажируить... - Сенька - хлюст! Мать яво!.. Ты подумай, уся порода какая заразная!.. Доносчики-и!.. Хлебом не корми! - И не говори... - Нам вот миром пойтить и сказать... - Чаво ты скажешь? Там уж за нас решили... - А хочешь и так. - Да-а... - Жалко Латышева... - И не говори... - Мужик стоящий... - То-о-чно... - Теперя вот кого на шею посодють? Криком кричать будешь!.. - Да-а… - А мы-то, стадо бессловесное... Нас стрыгуть, а мы и рады... - Правда твоя, правда... - Ишшо мало стрыгуть... - Ды куды ж боле? - А боле, ребята, вроде, и некуды? Жись прожили, а по-людски так и не жили... Уж и терпенья не хватаить... - Это ты брешешь. Чего-чего, а терпенья нам не занимать... - Правда твоя, правда, ох и правда... Глава двадцать пятая И новая весть, метнувшись молнией, облетела село, сразила копойнинцев: Князек в одночасье умер. Приехал со степи старик (до того жалился только Вите, что занемог), попросил бабку нагреть воды, вымылся в кухне, лег в чистую горницу, на кровать под образа, куда сроду не ложился, и закрыл глаза навеки... Бабку его, говорят, отливали водой, лежала замертво на лавке, не пила, не ела и слезинки не пролила. Бедный наш Витя сделался лицом черен, на другой же день приехал к Латышеву, поставил быков у конторы и сказал: "Как хочешь, пока не схороню старика, у степь не поеду..." И отправился в отару подменить Витю, неожиданно скоро на то согласившись, Машенец Николай, мой незадачливый ухажер, а Витя мимо родного дома на Князьково подворье бойкими гвоздочками доски сколачивать - последнее пристанище для Князька мастерить. В день похорон мы с дедушкой отправились на Гаранжевку (мама после скандала, учиненного Латышихой, с нашего подворья не выходила, а бабушка не пошла с нами, сославшись на занятость, Верку же она снова отправила в сады на заработки полоть виноградник). И вот мы идем с дедушкой. Он молчит, и я тоже. Я уже призналась ему, что боюсь покойников и не хотела бы идти в дом к мертвецу, но дедушка, сурово взглянув на меня, сказал: - Есть долги, какие мы должны заплатить ближнему... Похороны не свадьба, туда никто никого не приглашает, а люди идут... Сегодня к Князьку, завтра... ко мне, а подойдет время... с тобой прощаться придут... От этих дедовых слов я присмирела, хотя и не верилось, что когда-то люди придут прощаться со мной, вернее, с тем, что от меня останется. Это, может, и будет, но когда там еще?.. Да нет, это будет с другими, а со мной вряд ли... Но путь до Гаранжевки долог, а детское сердце отходчиво, оно не печалится долго, и хоть дедушка пасмурен, я беру его вначале за руку, потом, заглядывая в глаза, заговариваю с ним поначалу о том о сем, и, наконец, как всегда, речь у нас с ним заводится о серьезном: о бедных покойнинских колхозниках и разваленном, разоренном, дышащем на ладан их колхозе "Путь к коммунизму". - Дедушка, может, другие колхозы все богатые, только ваш бедный? - Да, может, и так, - неуверенно отвечает он. - А раньше до колхозов колхозники еще беднее жили? - Колхозники не знаю, об них раньше и слыхом не слыхали, а покойнинские крестьяне жили справно... - Зачем же тогда колхоз организовали? - Власть приказала... - А ей колхозы зачем? - Хлеб понадобился… - Ну и что? - У единоличника его только силой возьмешь, он своею волей его не отдаст, а у колхозов воли нет: что власть приказала, то колхоз исполняет. Вот хлеб дочиста и выгребли, а потом наголодовались... - Почему же ты не выступил против колхоза? - А ты б хотела, чтоб и деда твоего отправили туда, куда дядю Алексея? - А ты думаешь, дядя Алексей еще жив? - Да умом понимаю, что нет... - Видишь, ты какой, а вот бедный Князек ждал своего Егорку, не сомневался, верил... а ты не ждешь... - Я тебе этого не сказал... - Ну, ведь ты никогда и никому не говоришь об этом? - Запомни, пожалуйста, запомни, - даже останавливается дед, - я прошу тебя, на всю жизнь запомни: нельзя говорить обо всем с кем ни попадя! - Почему? Я же буду говорить правду?! - Вот за правду и будешь там, где дядя Алексей. Не зря пословица говорит: от сумы да от тюрьмы не зарекайся... Ох, боюсь за тебя, боюсь, качает головой дед. - Ты слышишь ли меня или только слушаешь? - Слушаю, дедушка, слушаю, я тебя слу-ша-ю, - ласкаюсь я к деду. В ответ он только тяжко вздыхает... У ворот Князькова подворья люди: бабы в черном, мужики с носовыми белыми платками на рукавах рубах, но вместо унылого молчания или приличествующих скорбному моменту неторопливых воспоминаний о покойнике - оживленный, взбудораженный говорок, а со двора леденит мою душу пронзительный крик, в котором я узнаю изменившийся голос покорной, не способной, кажется, к выражению сильного чувства Князьковой старухи: - Да родимай мой, роди-и-ма-ай, - голосит она истошно. - Ды што ж ты ждал-ждал и не дождалси такой радости-и... Ды встань же ты, встань, хоть на миг открой свои глазыньки ды погляди-и, хто-о к нам вернул-си-и... То ж сынок твой, кровинушка, сы-ын, долгожданный сын, из далеких краев, из холодных стран к отчему порогу добралси-и... А ты, отец яво горемышный, у тесовом гробу уж холоднай ляжишь... Господи, премилостивай и всемогущий! - кричит несчастная старуха, срываясь в крике. - Што ж ты яму, страдальцу нашему, какой тольке надеждой на возвращение сына жил, што ж ты яму сроку - двух ден на земле не прибавил, штоб он тольке на сына взглянул, а потом уж ты яво и на суд свой праведнай призвал?!. ...Мы с дедушкой сидим в конце длинного стола и поминаем Князька. (Наш Витя на поминки не остался, поплелся с кладбища домой). Дедушка выпил маленький стаканчик медом пахнущего янтарного вина (говорят, что Князек берег его в бочонке долгие годы для встречи сына), а я ем сладкий пирожок с томленой желтой сливой. В торце стола Князькова старушка, маленькая, ссохшаяся, сразу видно, отжившая свое. А рядом рослый, но какой-то ссутуленный и уж вроде немолодой мужик, сильной рукой время от времени прижимающий ее к своему широкому плечу. - Ягор, - то и дело окликают подвыпившие мужики и бабы Князькова сына, - ты б рассказал, как там, чаво у тех краях, где ты не своею волею обреталси?.. Егор, настороженно оглядывая сидящих за столом, отвечает на все вопросы вежливо, но уклончиво, что-то вроде того, что жил, как все жили, и главное в том, что вернулся и что теперь не к месту и не ко времени такие разговоры вести... Он то и дело просит, тяжелея каменным каким-то лицом, помянуть отца его, Ивана Тимофеевича... Неожиданно откуда-то сбоку из-за стола выскакивает опьяневшая, неухоженная, грязная бабенка, неопределенного возраста, и, пританцовывая парусиновыми разбитыми чувяками, поет надрывно: - И пить будем, и гулять будем, а смерть придеть - помирать будем!.. - Тю-у! - окликают ее из-за стола. - Малахольная ты, дура! Ты иде ж поешь?! Бабенка, отмахнувшись рукой, все еще пританцовывая, храбро направляется к торцу стола: - Помнишь, Ягор, - обращается она вдруг надрывно к Князькову сыну, помнишь ли ты ту красавицу, певунью, Аришку Борисову, по какой ты ишшо мальчишкой сопливым обмирал?! Помнишь ту девку ясноглазую, что напротив Воротынцевых жила, а про нее по всей округе молва шла: Аришка Борисова как на картине написана!.. Так вот она, какая та Аришка стала! Гляди! Признал? Не-ет? Вижу, што не признал: ука-а-тали Сивку крутые горки. А ведь мине тридцать восьмой пошел, а я - глянь, - выкинула она черные корявые свои руки, - уж старуха!.. Да и как мине не быть старухою?! Мужа-то я с войны не дождалась, а троих деток с картофельных-то очисток и лебеды схоронила... Одного только спасла, да и тот, сын, теперя матери стыдится, говорить, мать нехороша - пьяница! А как мине не пить, когда душа моя криком кричить о загубленной жизни?! Егор встал, подошел к женщине, бережно взял за плечи, попытался усадить на лавку, за стол, рядом с собою, сказал тихо: - Не надо, Ариша... Не кричи... - Што не надо? - пьяненько заартачилась она. - Што не надо?! А хто мине мою жизнь возвернеть? Годы молодые?! Хто судьбу мою изломал и под ноги бросил? С кого спросить?! И пить будем, - упрямо замотала она головой, - и гулять будем, а смерть придеть... помирать будем!.. За столом заинтересованно молчали. Женщина оборвала песню, обвела всех мрачным взглядом темных молодых блестящих глаз и неожиданно смиренно сказала: - Тетка Донька и ты, Ягор, простите мине, простите за ради Бога. Виноватая я... ви-но-ва-та... А вы не повылупились? - непримиримо набросилась она на сидящих за столом людей, похожих на публику, разинувшую рот в ожидании представления. - У... так бы и сожрали!.. Княязек! Ды какой он Князек?! Усю жизнь пуп надрывал... И-и-их! Ненавистные! Из грязи не выберетесь... и в ту грязь каждого втоптать рады!.. Окститесь! Откель в ваших сердцах столько злобы? Помилосердствуйте!.. Не то сами пропадете! - и пошла прочь со двора горделивой походкой несравненной красавицы. За столом разом заговорили: - Непутевая, непутевая баба... Вожжа по ей стосковалася... - Совсем спилася... - И истаскалася... . - А че ж, у городе зиму жила... - Иде ж? - Ды кожи мяла. У артели. Приехала, у ей руки - страшно глянуть, порепались до крови... - То-то сладкая жизня... - Шалава! Че об ей говорить... - Ну, дорогие хозяева, покойнику - царствие небесное, а тибе, тетка Донькя, и тибе, Ягор, - долгих лет жизни... И пошли, разом вставая из-за стола, обсуждая только что виденное и слышанное: - Ягорка не иначе чей-то натворил - помалкиваить. Девять-то годов не шутка отсидеть... - Ну да, ну да... Зря не посодють... - А как же Евсикова Алешку? - Ды и Алешку... хто че знаить? И он, может, виноватый?.. - Ну да... ну да... - Видал, вон, Евсиков-та осталси... мы усе пошли, а он с Ягоркой осталси... Значить, промеж их свои разговоры есть: свояк свояка видить издалека, так-то вот. Нам-то он, Ягор, как ни пытали, ничаво не сказал... Вот и соображай, што почем... Глава двадцать шестая Мама собирается домой: дед не сегодня-завтра выйдет на прежнее место бухгалтером (так решила комиссия, без него в колхозных бумагах такая путаница, что комиссии той до белых мух сидеть в конторе безвылазно), маме тоже на работу пора - отпуск заканчивается. Она берет и меня с собой, хотя впереди еще один летний месяц - август, но я ни за что не хочу оставаться в Покойном! Ну его, это Покойное! Какой же тут покой, какая мирная жизнь?! Да здесь хуже, чем в городе!.. Там, по крайней мере, живешь и не знаешь, где у кого и что стряслось, а тут все на виду и все переплелось: болезнь деда и мамина с Латышевым история, смерть Князька и возвращение Князькова сына, Машенцевы ко мне приставания, бабушкины и Веркины метаморфозы, скандал, учиненный Латышихой, которую, как утверждает покойнинская молва, не только извозили бабушка с Веркой, но и вздул сам председатель. А судьба его, кстати, еще не решена: комиссия все разбирается, так что рано покойнинцы Латышева отпевали. А он попрежнему каждый вечер является к нам, хотя мама не показывается из хаты и говорит с ним, в основном, бабушка. Вообще в нашем доме снова грустно стало, хотя дедушка почти поправился, но мы ведь с мамой уезжаем, и, конечно, дедушке теперь без меня скучно будет. Впрочем, я заметила, смерть Князька сильно огорчила деда, и даже долгий разговор с Егоркой после поминок, которого я, правда, не слышала - дед отослал меня за ворота - не улучшил дедушкиного настроения, а, пожалуй, напротив, омрачил его. Бабушка, как подметенная, уже не бегает, но старается напоследок угодить нам: она режет кур, ощипав их, оборачивает тряпицами, пропитанными уксусом, чтоб не испортились в дороге от жары, пересыпает мукою яйца, чтоб не побились, уже испекла хлеб и приготовила кринку сметаны: завтра ранним утром мы сядем в поезд и... прощай, Покойное! Никогда больше сюда не приеду! Пусть дед, и бабушка, и Верка, и Витя приезжают к нам в город, в гости, а я не-ет, не приеду больше сюда никогда! Витя уже попрощался с нами, уже уехал, потому что завтра на линейке к поезду нас повезет Машенец, и Витя должен подменить его в отаре. Новым помощником своим он доволен, но по Князьку, я вижу, тоскует. Милый, уступчивый, желанный наш Витя, вот кого жалко оставлять в Покойном! Остриженный под машинку (по настоянию мамы), вычищенный и вымытый (по ее требованию и с се помощью), в новой рабочей одежде (купленной за мамины деньги), он сразу потерял напускную свою грубость и выглядит по-мальчишески, незащищенно, сиротливо. Он прощается с мамой как-то уж особенно ласково, напоследок говорит запинаясь: - Ну, ты ж приезжай до нас чаще, а то без тибе тут совсем пропадешь. Мама недовольным, но дрожащим голосом говорит в ответ: - И в кого ты такой характером мягкий?! Ведь ей (я, присутствующая при прощании, понимаю - бабушке) сдачи надо давать, иначе она сядет тебе на шею и поедет, да еще и погонять будет!.. - Ты не заботься обо мне, - успокаивает Витя, - я редко домой наведываюсь... - То-то и оно, - вздыхает безнадежно мама. Я кидаюсь Вите на шею, а он, неумело обняв меня, спрашивает: - На осенние каникулы ждать? - Никогда больше не приеду! - капризно отвечаю я. - Ну-ну, - успокаивает меня Витя и, поспешно садясь на подводу, берет в руки кнут. - Цоб-цабе! - трогает быков с места и, выезжая уже из ворот, оглядывается и просит: - Вы ж, пожалуйста, приезжайтя... И вот мы на станции. Ждем, когда подадут состав. Провожает нас Латышев. Он стоит возле мамы и молчит, но такая мрачная тоска в его взоре, что мы с Николаем отходим подальше и тоже не говорим друг другу ни слова... Все! Прощай, Покойное! Оно теперь в раскаленной, пышущей жаром степи, где только горькая Полынь, колючий верблюжатник да еще желтая Кума, стиснутая крутыми берегами... Чей взор может привлечь такая жалкая скудность, чье чувство напитать это нищее впечатление, чье сердце наполнить неистощимой любовью, чью память обогатить неизгладимым воспоминанием?! Прощай, Покойное! Позади сплетни и пересуды, скандалы и раздоры, и даже болезнь деда, и даже смерть Князька, и возвращение его сына... Позади бесконечные бабушкины хитрости... Она тоже было собралась провожать нас в город, прихватив корзину с яйцами для продажи, но дед, узнав о ее решении, так взглянул на нее, что она, поспешно отставив корзину, принялась на прощание целовать меня и маму, говоря при этом стоящей возле Верке: "Проси дорогих гостечков, чтоб почаще приезжали". Но Верка таких слов из себя не выдавила, хотя накануне была очень paда маминому подарку - купленной по ее жгучему желанию в сельповском магазине плюшевой жакетке на ватине: теперь-то осенью она пойдет учиться в восьмой класс в город. Верка только и сказала на прощание: - Можа, я до вас в августе ишшо и приеду, мине обувку покупать надоть... Дед и на Верку недовольно взглянул, но она не обратила на это внимание, и тогда дедушка сухо сказал, помрачнев лицом: - Ну, в добрый час... Поезжайте... И вот мы в вагоне. Латышев с Николаем внесли наши вещи, разместили их, я удобно устроилась у окошка, заняла место для мамы рядом с собою и жду не дождусь, когда же наконец тронется поезд и мы уедем от этой немилосердной жары, въедливой пыли, набивающейся всюду, от этой жизни, бедной, убогой и вместе с тем непокойной, неинтеллигентной, расхристанной - жизни у всех на виду. (И здесь, в вагоне, полно любопытных глаз, уставившихся в упор на Латышева и маму, стоящих в проходе между лавками). Машенец чего-то мнется возле меня, а я окликаю маму (сколько можно прощаться?!): - Мама! Ивану Семеновичу выходить надо: поезд тронется! Но мама не слышит меня: - Мама!.. Машенец трогает меня за руку: - Чего тебе? - говорю ему. - Вам выходить пора!... Он смотрит на меня значительно (ну, не балда ли, опять за свое, нашел время, когда поезд вот-вот тронется). - Иди, - говорю я, - до свидания... - Это и все слова твои на прощание? - А чего ты еще хотел? Он, безнадежно махнув рукой, молча отходит от меня, но пройти ему мешают мама и Латышев. Машенец останавливается и, повернувшись к маме и Латышеву спиной, запрокинув голову, чтобы не смотреть на меня, разглядывает верхние полки. В это время раздается гудок: - Мама! - воплю я на весь вагон в ужасе. Поезд дергается и медленно-медленно набирает ход. Оторопев, я уже решаю для себя, что от Латышева и Машенца просто не удастся избавиться: они решили ехать с нами. Но в это самое мгновение Латышев, на виду у любопытной публики, раскрывшей рты, привлекает к себе маму и целует ее крепко и долго в губы (мама вовсе и не думает сопротивляться!) и, направляясь к дверям вагона (вслед за ним, опустивши голову, идет Николай), вдруг кричит: - Я приеду к тебе, Аня! Слышишь?! Приеду... А поезд набирает ход. А поезд везет нас в город, каменный, асфальтовый, шумный город, где люди живут, в большинстве своем не зная друг друга и не ведая о том, что происходит на их улице, в их доме, на их этаже. Так жить покойнее и, пожалуй, легче, не утруждая собственного сердца.