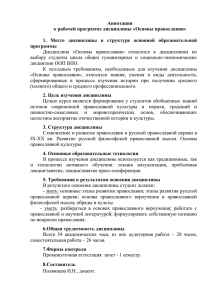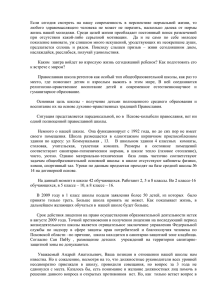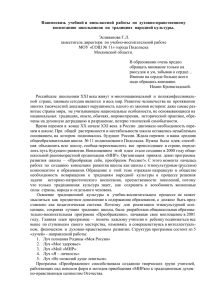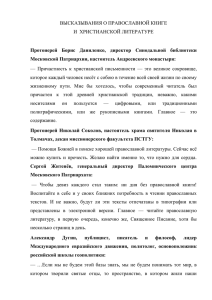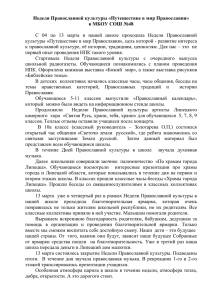Михаил Дмитриев
advertisement
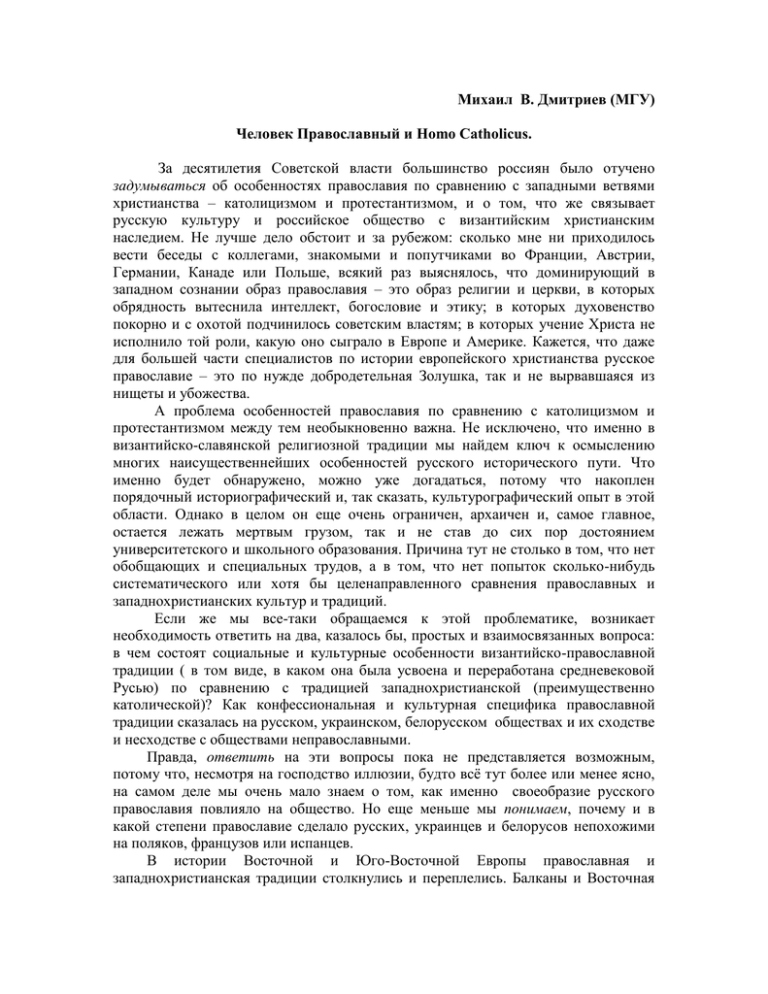
Михаил В. Дмитриев (МГУ) Человек Православный и Homo Catholicus. За десятилетия Советской власти большинство россиян было отучено задумываться об особенностях православия по сравнению с западными ветвями христианства – католицизмом и протестантизмом, и о том, что же связывает русскую культуру и российское общество с византийским христианским наследием. Не лучше дело обстоит и за рубежом: сколько мне ни приходилось вести беседы с коллегами, знакомыми и попутчиками во Франции, Австрии, Германии, Канаде или Польше, всякий раз выяснялось, что доминирующий в западном сознании образ православия – это образ религии и церкви, в которых обрядность вытеснила интеллект, богословие и этику; в которых духовенство покорно и с охотой подчинилось советским властям; в которых учение Христа не исполнило той роли, какую оно сыграло в Европе и Америке. Кажется, что даже для большей части специалистов по истории европейского христианства русское православие – это по нужде добродетельная Золушка, так и не вырвавшаяся из нищеты и убожества. А проблема особенностей православия по сравнению с католицизмом и протестантизмом между тем необыкновенно важна. Не исключено, что именно в византийско-славянской религиозной традиции мы найдем ключ к осмыслению многих наисущественнейших особенностей русского исторического пути. Что именно будет обнаружено, можно уже догадаться, потому что накоплен порядочный историографический и, так сказать, культурографический опыт в этой области. Однако в целом он еще очень ограничен, архаичен и, самое главное, остается лежать мертвым грузом, так и не став до сих пор достоянием университетского и школьного образования. Причина тут не столько в том, что нет обобщающих и специальных трудов, а в том, что нет попыток сколько-нибудь систематического или хотя бы целенаправленного сравнения православных и западнохристианских культур и традиций. Если же мы все-таки обращаемся к этой проблематике, возникает необходимость ответить на два, казалось бы, простых и взаимосвязанных вопроса: в чем состоят социальные и культурные особенности византийско-православной традиции ( в том виде, в каком она была усвоена и переработана средневековой Русью) по сравнению с традицией западнохристианской (преимущественно католической)? Как конфессиональная и культурная специфика православной традиции сказалась на русском, украинском, белорусском обществах и их сходстве и несходстве с обществами неправославными. Правда, ответить на эти вопросы пока не представляется возможным, потому что, несмотря на господство иллюзии, будто всё тут более или менее ясно, на самом деле мы очень мало знаем о том, как именно своеобразие русского православия повлияло на общество. Но еще меньше мы понимаем, почему и в какой степени православие сделало русских, украинцев и белорусов непохожими на поляков, французов или испанцев. В истории Восточной и Юго-Восточной Европы православная и западнохристианская традиции столкнулись и переплелись. Балканы и Восточная Европа стали как бы двумя колбами, в которых элементы западного и восточного христианства вступили во взаимодействие, и «химическая» реакция показала, каковы свойства реагентов. Эта ситуация ставит историков (и не только историков) перед вопросом об исторически конкретных выражениях конфессиональной и культурной специфики православия и католицизма/протестантизма и о социальных, политических, экономических последствиях того, что православие было не таким, каким было «латинское» христианство. Вопрос может быть поставлен очень ясно и просто: что такое православная традиция? что такое католическая традиция? Однако «ясно» и «просто» лишь на первый взгляд. Что имеется в виду под религиозной традицией? Особенности теологии? Церковных институтов? Религиозного мироощущения и христианской духовности? Эти вопросы влекут за собой иные: о соотношении региональных и цивилизационных особенностей, о роли внерелигиозных факторов в формировании религиозных традиций, о грани, отделяющей религиозное от нерелигиозного, религию от цивилизации, христианскую веру – от христианской культуры и пр. Под религией и религиозной традицией можно без всякого романтизма понимать систему церковных институтов, богослужебных практик, вероучения и формируемых этими тремя факторами мироощущений. Особо важно при этом осознавать различие между нормативным и «переживаемым христианством» (термин, предложенный французским историком Жаном Делюмо) и между идеологией и мироощущением. Разумеется, в небольшой статье можно сказать лишь о некоторых аспектах христианских традиций – тех, которые представляются особенно существенными для понимания барьеров, до сих пор стоящих между культурами, выросшими из двух ветвей христианства – православия и католицизма. Истоки: латинская и греческая патристика Русские учебники по полемическому богословию к концу XIX века предлагали следующий перечень принципиальных расхождений католицизма и православия (наряду с такими важными вопросами, как исхождение Св. Духа, примат папы и опресноки): признание авторитета дейтероканонических книг, ошибочная концепция «первородной праведности», неправильное толкование первородного греха, учение о непорочном зачатии Богоматери, учение о сверхдолжных заслугах и о благодати, накопленной святыми, учение о недостаточности заслуг одного Христа для спасения, признание действенности таинств ex opero operato, представление о временном наказании грешника даже в том случае, если его грехи отпущены священником, учение об индульгенциях и чистилище, неизбежность посмертного наказания еще до наступления Страшного суда, невозможность развода и целибат. Иногда добавлялись и иные обвинения в адрес католиков1. Таким образом, даже внешние отличия двух традиций (каждое из которых имеет свои историко-культурные, религиозно-антропологические импликации) очень глубоки и значительны, и не сводятся к вопросу о папе, Filioque и различиям в обрядах. Основополагающие различия в вероучениях православной и католической церквей выросли из отличий в развитии патристики на западе и востоке 1 Jugie M. Le schisme byzantin. Aperзu historique et doctrinal. – Paris 1941. P. 313, 377. христианского мира. Основоположником латинской патристики принято считать Тертуллиана. За ним следуют Киприан Карфагенский, Лактанций, Иларий из Пуатье, Марий Викторин, Амвросий Медиоланский. Совершенно особое место в истории западной патристики занимают Августин и Иероним. Позднее пришли Проспер Аквитанский, Лев Великий, Иоанн Кассиан, Винцент Леринский, Григорий Турский, Цезарий Арльский, неизвестный автор “Устава учителя”, Бенедикт Нурсийский, Дионисий Малый, Кассиодор, Боэций, Григорий Великий и Исидор Севильский2. Византийская патристическая традиция приблизительно того же периода представлена другими именами, среди которых на первом плане стоят Климент Александрийский, Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Максим Исповедник, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин. Различиям между двумя ветвями патристики и богословию отдельных Отцов Церкви посвящены многочисленные труды. Не входя в детали, сошлемся на авторитнейшее мнение католического историка догматов Ж. Лиебара: «Грех, благодать и свобода – это три темы, присутствующие в мысли всех христианских авторов первых веков и спонтанно осмысляемые приблизительно в одном и том же духе как на Востоке, так и на Западе в I – IV вв. Но тем не менее именно в этой области в начале V века наметилось важное теологическое противостояние Востока и Запада: в то время как Восток продолжал в спокойствии говорить о грешнике "обоженном" благодатью, Запад, вместе с Пелагием и Августином, поставил вопрос и развернул длительную дискуссию о "первородном грехе" и отношениями между "благодатью" и "свободой"... Отныне латинское богословие имело свой собственный предмет, интерес к которому никогда в давние времена не был глубоким на Востоке. Если к этому добавить окончательное крушение в V веке единства Римской империи и лингвистический разрыв (Августин был первым среди латинских Отцов Церкви, кто не мог бегло читать по-гречески), станет понятно, что две традиции... отныне стали отчетливо различаться (курсив мой М.Д.)3.» Идеологические и культурные (а потому и социальные) последствия этих различий двух патристических традиций трудно переоценить. Они не могли не выразиться и выразились в различиях религиозных мировоззрений, формировавшихся христианским воспитанием. Но этот факт до сих пор чаще всего не учитывается историками. Для анализа и понимания различий в мироощущении православных и католических культур никак нельзя пройти мимо таких теологических различий, как взгляд на грехопадение, его последствия для природы человека и истории человечества (христианская антропология); понимание того, как совершается спасение (сотериология) и как познается выраженная в Священном Писании истина (гносеология или эпистемология специфически христианского покроя). Такая линия преемственности предложена авторитетнейшим католическим изданием в соотвествующей обобщающей статье (Liйbart J. Patrologie, in: Catholicisme. 2 Hier-aujoud’hui-demain. T. X. Paris, 1985. Col. 838 sq.). 3 Liйbart J. Patrologie. Col. 849. Первородный грех, природа человека и спасение Понимание грехопадения и его катастрофических последствий для человека в католической традиции восходит к Августину, влияние которого на теологию и, соответственно, религиозное мировоззрение латинского мира переоценить невозможно. «Учение Августина о первородном грехе основано на представлении о нашей наследуемой ответственности за грех Адама... Обреченная масса (massa damnata) падшего человечества составляет предмет Божьего гнева в силу своей виновности. Она может быть оправдана благодатью, которая единственная способна сначала простить, а потом и восстановить в человеке естественную способность его души созерцать Бога. Это созерцание достижимо только после смерти: в этой жизни человек не может быть ничем, кроме прощенного грешника»4. В результате грехопадения «человек лишился благодатных даров.., утратил "природную праведность"». Это не просто ошибка или грех, но «рассройство всего благодатного с о с т о я н и я (разрядка Карсавина – М. Д.)». В результате грехопадения началось «нестроение во всех других силах души» (Фома Аквинский.) В частности - немошь воли, неспособность не грешить. Самое мощь духа пришла в расстройство. Через вожделение, связанное с размножением человеческого рода, эта субстанциальная испорченность природы стала неотвратимо передаваться от поколения к поколению. В каком именно смысле человек наследует грех Адама? «Человек обладает грехом Адама не тем, что "подражает" этому греху, не тем, что на нем лежит то же формальное обязательство обладать дарами благодати, а он не может ими обладать по вине Адама, но самым реальным образом, по р е а л ь н о й (разрядка Карсавина – М. Д.) связи с прародителем, выражаемой телесным происхождением от него»5. Значение учения о грехах в культуре средневековья и специфических представлений о грехе в сознании католиков и православных не просто громадно. Здесь – средоточие всех смыслов, с какими люди средневековья так или иначе соотносили свою деятельность. В частности, такое учение постоянно напоминало, что невозможно ни быстрое, ни бесповоротное оправдание человека. Оправдание понимается как длительный, тяжелый процесс, преуспеть в котором без Божьей помощи в принципе невозможно. Все это имело очень весомые культурные последствия6 Учение Августина о первородном грехе, развитое Фомой Аквинским, стало краеугольным камнем антропологии средневекового католицизма и сохраняло преобладающее влияние в католицизме Нового времени. В православной же традиции те же вопросы решались иначе. Как пишет И. Мейендорф, «прежде всего, суть отношений между Богом и человеком понимается восточными отцами иначе, чем той традицией, которая была начата св. Августином». «Существование человека как создания Божия не представляется существованием замкнутым: человек создан, чтобы участвовать в Meyendorff J. La signification de la Rйforme dans l’histoire du christianisme // Meyendorff J. Orthodoxie et catholicitй. Paris:Seuil, 1965. P. 110-111. 5 Карсавин Л.П. Католичество. Пг., 1918. C. 72-74. 6 Delumeau J. Le pйchй et la peur. La culpabilisation en Occident. XIIIe- XVIIIe siиcles. Paris: Fayard, 1983. 4 жизни Бога, чтобы быть с Богом». У человека «есть свойство, которое в своей сущности принадлежит только Богу. Это – бессмертие. Иными словами, то, что делает человека человеком, а не животным, это изначально данная Богом способность участвовать в Божьем бессмертии, во власти Бога над остальной тварью, и даже в творческой мощи Бога». Как подчеркивает И. Мейендорф, «сразу же видно, что проблема благодати и природы ставится совсем иным образом, чем в августиновской традиции. Благодать не есть сотворенный дар, даруемый как donum superadditum... Это сама жизнь в Божестве, данная человеку, который создан ради ее обретения и участия в ней и который, если он лишен благодати, теряет сущностную целостность своей собственной природы». «Грехопадение человека состоит в том, что он предпочел соперничество с Богом участию в Его дарах ... Речь не идет... о вине, переданной человеческому роду в результате Адамова прегрешения. То, что человеческая природа вполне унаследовала, это порабощенность смертью и порчей»7. Что касается учения о спасении, то католичеству многие исследователи (в том числе и И. Мейендорф) вменяют чрезмерный юридизм в подходе к этому вопросу. Традиция понимания спасения как квазиюридического оправдания была заложена Тертуллианом и Августином и развита Ансельмом Кентерберийским. Ансельмом было создано учение о «сатисфакции», «удовлетворении» Богу за грехи/преступления человека. Чтобы не ошибиться в акцентах и нюансах, воспользуемся снова словами Ж. Мейендорфа: согласно данной Ансельмом интерпретации искупительной жертвы Христа, «дары Христовой жертвы даются благодатью, которая сначала оправдывает, а вслед за тем создает в нас состояние или habitus, в котором наши действия или добрые дела приобретают характер заслуг... Церковь, которая распоряжается в этом мире дарами благодати, имеет врученную ей власть придавать характер заслуг деяниям нашей свободной воли. Отсюда ее власть свершать таинства и практика индульгенций». Как результат, католическая средневековая сотериология сосредоточилась на проблеме искупления, «удовлетворения за грехи людей», то есть на том, что связано прежде всего с земной жизнью. Философская, спекулятивная сторона сотериологии не развита. Из-за этой неравномерности и «создается навязчивое представление о юридическом формализме католической догмы», с которым Карсавин, в отличие от многих православных авторов, категорически не согласен. Тем не менее и он признает, что Бог в средневековой католической традиции предстает преимущественно как судия. При этом Бог – судия абсолютно справедливый. И тут католичество сталкивается с парадоксом: если Бог есть только «неутомимый счетчик наших проступков», то связь человека с Богом разрывается, потому что и Бог оказывается ограничен в своей власти, и молить его о прощении становится бессмысленно, ибо «справедливого не умилостивишь». Этот парадокс чрезвычайно осложняет католическое учение о спасении. Оно оказывается связано с острейшими антиномиями, внешне предстающими как «кощунства»8. Как бы то ни было, в отличие от католицизма, в православном учении о спасении никогда не придавалось решающего значения учению об оправдании. Спасение мыслилось и мыслится в иных категориях. Здесь главное - мистическая 7 8 Meyendorff J. La signification de la Rйforme. P.115-117. Карсавин Л.П. Католичество. C. 67, passim. установка вместо «юридической». «Католическая догматика ставит между Богом и человеком еще и категорию благодати, интерпретируя ее как чисто феноменальное проявление божества, внешнее по отношению к его ноуменальной сущности... Напротив, православие мыслит благодать как непосредственное раскрытие божеского в человеческом, применительно к которому не может идти речь о грани между ноуменальным и феноменальным»9. С точки зрения православной традиции «падение и искупление разворачивались не абстрактно, юридически и утилитарно, но развертывались как драма с тремя участниками: Богом, человеком и дьяволом. Вместо августиновской темы унаследованной вины [восточные] отцы говорят о власти смерти и тления, власти личности, дьявола, так как одни лишь личные грехи порождают вину»10. Центральным понятием православной сотериологии может считаться понятие теозиса, обожения. «Идея обожения, так чуждая банального эвдемонизма, была центральным пунктом религиозной жизни христианского Востока, вокруг которого вращались все вопросы догматики, этики, мистики»11. В этом отношении православная традиция коренным образом отличалась от католической. Согласно представлениям об обожении, «...человек может проникаться Божественными энергиями и соединяться с Богом. Это соединение и составляет существо святости. Учение об обожении в своих начальных формах складывается в византийском богословии уже в период между Первым и Вторым Вселенскими соборами в писаниях св. Афанасия Великого и каппадокийских отцов (св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Григория Нисского... [Оно] получило решительное развитие в творениях преп. Максима Исповедника. Преп. Максим пишет об изначальной предназначенности природы человека к обожению... Это предназначение содержится в природном начале человека, в его природном логосе... Между тем способ существования человека может входить в противоречие с его природным логосом, первородный грех и был становлением этого противоречия... Следуя за Христом и согласуя свою волю с природным логосом, человека становится причастником Божества. Конечным моментом этого движения и является обожение».12 С западнохристианской, рационально-схоластической точки зрения, православному учению о грехе, благодати и спасении можно предъявить много претензий. Но почему восточные отцы церкви и богословы не смущались антиномиями и парадоксами, вытекающими из базовых христианских представлений и мифов? Почему они не стремились найти рациональный ответ, логическое разрешение обнаружившихся противоречий? Видимо, дело в том, что самый тип рациональности в православии оказался иным, чем в католицизме. И тут возникает тема гносеологических различий в двух христианских традициях. 9 Aверинцев С.С. Православие // Философская энциклопедия. Т. 4. М.,1967. С. 334. 10 Meyendorff J. La signification de la Rйforme. P. 117. Попов И.В. Идея обожения в древневосточной церкви. М., 1909. С. 51. 12 Живов В.М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. С. 11 70-72. Православная и католическая гносеология (эпистемология) Как и в области антропологии и сотериологии, именно учение Августина стоит у истоков средневековых религиозных представлений западных христиан. Борьба с дуализмом манихейцев «привела Августина к отождествлению Бога с рационально познаваемой сущностью – Высшим Благом». «Развивая свою систему, Августин, разумеется, не обошел стороной библейскую идею трансцендентного в своей сущности Бога... но эта транцендентность Бога представлена им в отношении к несовершенству тварного мира, точнее – в отношении к падшей твари: Бог невидим, непознаваем, непостижим, потому что человеку не дано способности к видению, которое позволило бы Его увидеть, разума, который позволил бы Его понять. Тем не менее, с помощью благодати человек способен развить свою естественную способность к Богопознанию. Эта способность, по Августину – sensus mentis, интеллектуальная восприимчивость, которая по своей природе принадлежит только душе, и которая представляет собой возможность постичь сущность Бога»13. Как настаивает Мейендорф, пути православного богословствования в этих вопросах совсем иные. «В частности, трансцендентность Бога не объясняется, как у Августина, ограниченностью нашего падшего состояния или несовершенством нашего плотского бытия... Бог, в его подлинном существовании, находится вне всякой сотворенной реальности; он сохраняет полную свободу в отношениях с тварным миром, и ни одно сотворенное существо не может ни обладать Им, ни видеть Его. Это то, что стремится выразить радикально негативное, или апофатическое богословие Отцов»14. Как пишет другой автор, «реальность, которую православные верующие обозначают словом "Бог" предстает как то, что находится вне, прежде и после всякого жизненного опыта; "Бог" – реальность, которая дает существованию его конечную целостность, превращая существование в нечто целое, что переживается прежде, чем может быть проанализированным в своих частях». Поэтому в православии нет различения мистики, теологии и поэзии; словесного и образного выражения; мысли и действия15. В чем своеобразие католического понимания веры и ее отношения к знанию? Оно усматривается Карсавиным в том, что вера выступает как вид познания (cognitio) того, что познать поставлено человеческому уму, но что не может быть им усмотрено. Сила веры заставляет нас признавать авторитет учения церкви. Содержание веры определяется церковью. Источник веры ищется в предании, а это ведет непременно к церкви. Вера оказывается теснейшим образом связана со знанием, с церковью и с деяниями, д е л о м, понимаемым как осуществление любви. «Живая вера и добрые дела – одно и то же». Поэтому католики придают громадное значение познавательной деятельности, знанию вообще, ищут «религиозное значение какой-нибудь кристаллографии», и уверены, что непонятность оной – только временная. Поэтому же католики и признают идею развития познания, то есть изменения нашего религиозного знания – «для католичества само развитие заложено в сущности христианства»16. 13 Meyendorff J. La signification de la Rйforme. P. 110. Meyendorff J. La signification de la Rйforme. P. 116. 15 Sartorius B. L’Eglise Orthodoxe. Paris, 1968. P. 66, passim. 16 Карсавин Л.П. Католичество. C. 59-60. 14 Контраст с православной традицией, основанной на апофатическом богословии, принципиальном разведении науки и религии, познания и веры, не признающей развития религиозного знания, в этом отношении достаточно очевиден. На основе этих присущих специфически православию или католицизму традиций формировались соответствующие мировоззрения и присущие каждому из них этические ориентации. Что касается этических установок западного христианства сравнительно с православием, то Карсавин видит «общий характер» католицизма в том, что для него «важна догма в ее претворении в жизнь, в ее утверждении деятельностью»17. Фактически о том же писал и В.С. Соловьев: «Сущность великого спора между христианским Востоком и христианским Западом изначала и до наших дней сводится к следующему вопросу: имеет ли церковь Божия определенную практическую задачу в человеческом мире, для исполнения которой необходимо объединение всех церковных христианских сил под знаменем и властию центрального церковного авторитета». В этом вопросе, продолжает Соловьев, «Римская церковь решительно встала за утвердительный ответ, она остановилась преимущественно на практической задаче христианства в мире, на значении церкви как деятельного царства или града Божия (civitas Dei), изначально представляла собой принцип центрального авторитета, видимым и практическом образом объединяющего земную деятельность церкви». Характерные черты православия, по Соловьеву, напротив, – пассивность, антиисторизм, бездеятельность. Бог православия – «Бог мертвых» вместо «Бога живых». Для католицизма характерна односторонняя практичность, для православия – одностороннее благочестие18. Но и этими расхождениями дело не ограничивается. Громадное значение для судеб запада и востока Европы имели особенности православной и католической экклезиологии. Далеко не так просто, как часто думают, выглядит и вопрос о роли обряда в жизни православия и католицизма. Обряду придавали такое значение в православной традиции не потому, что к нему сводили самое суть религии, а поскольку верили, что именно при помощи обряда можно воссоздать в себе «образ Божий». Весьма существенны и различия в понимании брака, плотской жизни, семьи. С этим связано и традиционное для православия представление о сравнительно легко достижимом спасении в миру. Б. Сарториус считает, что в православии и католицизме отлично даже восприятие времени и пространства! 19 Наконец, различия касаются и сердцевины всего новозаветного учения – восприятия Христа, и вообще христологии. Как быть историку перед лицом всех этих различий, выявляемых теологами и историками христианских доктрин? Ведь как историка меня интересуют не догматы церковных соборов, не определения Римской курии, не богословие той или иной школы. Меня интересует, как все это влияло на мировоззрение, этос, деятельность конкретных людей, живших в конкретную эпоху - например, в России, Польше, Франции или украинско-белорусской Руси в Карсавин Л.П. Католичество. C. 46. Соловьев В. С. Великий спор // Собрание сочинений. Т. 4. Спб., б.г. C. 71, passim. 19 Sartorius B. L’Eglise Orthodoxe. Paris, 1968. P. 74-82. 17 18 XVI в. Ещё меня интересует то, как усвоенное, «переваренное» полностью или частично учение церкви создавало такие культурные артефакты, которые дожили до XIX века или даже сегодняшнего дня, и определяют тем самым размеры дистанции между Западом и Россией. Ясно, что раз речь идет об исторических или культурно-исторических, а не собственно конфессиональных или вероучительных особенностях православия и католицизма, нельзя довольствоваться абстрактной постановкой вопроса и абстрактными схемами. С другой стороны, читая параллельно тексты, скажем, польского и русского происхождения, трудно не почувствовать, что едва ли не все вопросы индивидуальной и общественной жизни в какой-то степени по-разному решались в православной и западной культурах, поскольку все они были так или иначе связаны с гносеологическими, антропологическими и сотериологическими аспектами христианского вероучения. Трудно не заподозрить, что под влиянием православия русский человек, например, XVI-XVII вв. иначе, чем католики и протестанты понимал и ощущал, что такое деньги, право, справедливость, ответственность, любовь, радость, одиночество, красота, смерть, счастье, знание, плоть, свобода и пр. Быть может, в самом деле существовали человек православный и человек католический? Если это не фантазия, то как увидеть, понять, описать того и другого, не впадая в спекуляции и благоглупости? Задача чрезвычайно увлекательная, фантастически важная и архисложная. Тем не менее она не кажется вовсе невыполнимой. Этот познавательный оптимизм укрепляется по мере продвижения вперед международной исследовательской программы «Влияние православия и западного христианства на общества. Сравнительный подход»20. Получаемые результаты обнадеживают, и вот некоторые из них. Монашество, святость и религиозная нетерпимость в православных и западнохристианских обществах. Начальное недоумение, возбуждающее научную любознательность, было спровоцировано тем фактом, что в православных обществах не было ни военнорыцарских монашеских конгрегаций, с которыми столкнулась Русь в XIII - XIV вв. (Тевтонский орден), ни нищенствующих орденов (францисканцев и доминиканцев), сыгравших гигантскую роль в истории католических стран, особенно – в истории городов. Откуда такой контраст? И каковы последствия того, что восточное и западное монашество, судя по всему, по-разному понимало свою миссию в миру? Организованный в 1995 году коллоквиум21 был призван объединить специалистов по истории монашества с тем, чтобы совместными усилиями попробовать сравнить социальную роль и систему социальных связей монастырей в православной и католической частях средневековой Европы. Сложнее всего оказалось как раз сравнивать, потому что, по привычке, каждый историк работает «в своем углу» и мало интересуется тем, чем этот «угол» отличен от другого. Тем не менее доклады и дискуссии показали, насколько по-разному католические и См.: Дмитриев М.В. Влияние православия и западного христианства на общество // Вопросы истории, 1997. N 12. С. 3-19. 21 Moines et monastиres dans les sociйtйs de rite grec et latin. Йtudes publiйes par J.-L. Lemaitre, M. Dmitriev et P. Gonneau. Genиve:Librairie DROZ, 1996. 20 православные монастыри взаимодействовали с деревенской и городской средой (особенно с последней), черное духовенство – с белым. В основе «монашеского делания» – христианский идеал праведности и святости. Поэтому после обращения к истории монастырей и монашества весьма логичной была попытка взглянуть с сопоставительной точки зрения и на историю христианской святости. Вопрос о святости и ее функциях в обществах православной и западнохристианской традиций необходимо ставить и в связи с таким явлением, как юродство. Вплоть до XIX века юродство не только было распространено в православных культурах, но и признавалось высшим выражением святости. В то же самое время на латинском Западе юродивых не было вообще (несколько разрозненных примеров близкого к юродству самоуничижения или эстравагантность Франциска Ассизского погоды не делают). Как это объяснить? Что стоит за этим контрастом двух христианских культур? Не скрываются ли за ним некоторые типологические особенности в понимании святости? А если святость понималась по-разному, как различия в моделях святости сказывались на социальных, культурных и политических функциях культа святых? Вопросов много, они сложны и лишь некоторые стали предметом сравнительного анализа во время коллоквиума во Вроцлаве22. В частности, при сравнении русских и западных текстов, истолковывавших читателю в XVI веке, что делает святого святым и за что святых нужно почитать, обнаружилось, что русское (и традиционно православное вообще) понимание святости с трудом укладывается в рамки концепций, выработанных католицизмом в зрелое средневековье. Так, Зиновий Отенский, новгородский монах-книжник, полемист и публицист, объяснял своим оппонентам, что человек становится святым оттого, что в него «вселяется Бог», и поэтому святой остается живым и после смерти. Этот центральный для Зиновия тезис – тезис о вселении Бога в праведных, которые остаются живыми «пред Богом» – развит и весьма подробно аргументирован в его рассуждениях. Именно этот тезис служит главным доводом в обосновании культа святых. Развивая его, Зиновий, в частности, пишет: «... но похвалити их подобает о Бозе яко в них сущу Богу (курсив мой - М.Д.), понеже возлюбиша имя Господне»23. Праведники действием Святого духа становятся «чадами Божиими», в обоготворении которых нет греха: «... всяко же о Бозе и бози будут праведнии (курсив мой - М.Д.). Не согрешат убо православнии, обоготворяюще праведных…, моляще я молити за ся аки сыны Божия». Эти мотивы не единичны и не маргинальны в сочинении Зиновия. Их бесспорный исток и raison d’étre - византийско-православное учение об обожении, теозисе. При этом Зиновий не делает никакого принципиального различия между святыми, угодниками и праведниками, святостью и праведностью. А в чем же состоит праведность? Праведники угождают Господу тем, что любят его. А в чем выражается любовь праведника к Богу? В том, что они «быша самодержцы 22 Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociйtйs de rite grec et latin au Moyen Вge et а l’йpoque moderne. Approche comparative. Sous la dir. de M. Derwich et M. Dmitriev. Wroclaw: LARHCOR, 1999. 23 Зиновий Отенский. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863. С. 419. страстем умертвивше уды своя, тем же возвладеша над различными недуги и страстьми и над бесы»24. Кроме того, «благоугодити ... Богу» и «приобрести спасение от Бога» можно, «творяще же вся заповеди Божия... и в повиновении работающе во всех оправданиих Божиих»25. Характерно, что в перечислении атрибутов у Зиновия нет деятельности во имя воплощения в жизнь заповедей Писания – есть только страдание во имя Христа, непорочность и постничество. Сравнивая учение Зиновия о святости с нормативными католическими представлениями той же эпохи, так и хочется воскликнуть – и это всё?! Ведь на Западе святыми церковь провозглашала тех, кто своей деятельностью заслужил быть причтенным в лику святых. Оба понятия – деятельность и заслуги – были ключевыми в католическом конструировании представлений о святости. Поэтому, в частности – а также и потому, что самое природа человека противоположна святости – святых, праведных и вообще заведомо спасенных в католической церкви никак не может быть много. А из высказываний русского монаха-полемиста видно, что число праведников – то есть, согласно взглядам Зиновия, людей уже спасенных и приравненных им к святым! – очень велико. «Есть в православных бесчисленное множество праведников, яко паче песка суть, их же владычествия Богом Христом зело утвердишася». Это – еще один штрих к тезису о сотериологическом оптимизме православной доктрины. И скорее всего именно в том, как понимается святость (шире – христианское совершенство), нужно искать причины различий между католическим и православным монашеством в их манере действовать в миру и объяснение тому факту, что Русь и православный мир вообще не знали ни орденов, ни крестовых походов. Но дело не только в этом. Святой в Средние века – это модель поведения и миропонимания, предложенная церковью рыцарю, бюргеру, крестьянину, королю... Позднее, в эпоху секуляризации культуры, ту же функцию берет на себя «положительный герой» в литературе и искусстве, позднее – «звезда» в кино, в спорте, в музыке. Каким образом современная культура и ее идолы оказываются связаны со средневековыми корнями? Существуют ли методы, которые позволили бы нам не только спекулятивно и эссеистически описать предполагаемую преемственность между этическими и эстетическими ориентациями современных обществ и их средневековыми основами, но и наглядно, доказательно показать, что, например, сострадательность, «жалостливость», гуманизм русской литературы XIX века коренится в монашеских и агиографических идеалах византийскославянского средневековья и что современная русская культура такова, какова она есть, отчасти и потому, что генетически она восходит к иному религиознокультурному типу, чем культура католического мира. Едва ли не самые большие сюрпризы ожидали нас тогда, когда мы задались вопросом: одинаков ли взгляд традиционных православных и западнохристианских культур на религиозную терпимость и нетерпимость? Этой теме были посвящены три коллоквиума (Москва, 1997; Париж, 1999; Эдмонтон, 2000), и материалы их будут вскоре опубликованы. Но проблема пока еще далеко не исчерпана. В чем, собственно, она состоит? 24 25 Зиновий Отенский. Истины показание. С. 422. Зиновий Отенский. Истины показание. С. 440. С одной стороны, это проблема христианской средневековой культуры вообще. Как объяснить, что средневековое христианство стало столь нетерпимым ко всему нехристианскому – вопреки предельно ясно выраженным заповедям Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мт 5,5), «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мт 5, 9); «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому» (Мт., 5,38) и т.д.? Как нужно было прочитать Новый завет, чтобы увидеть богоугодное дело в истреблении язычников и нераскаявшихся еретиков? Вопрос настолько прост, настоятелен и очевиден, что нельзя не поразиться тому, насколько мало внимания в науке уделено этой теме. С другой стороны, поставленная проблема, предполагает сравнение византийско-славянской и средневековой католической культуры с точки зрения того, как там и там мыслилась и артикулировалась тема насилия над верованиями. Кому-то этот второй аспект нашей проблемы может показаться надуманным, так как Московская Русь до сих пор слывет в ученых и неученых кругах страной религиозной и этнической нетерпимости, ксенофобии, антисемитизма и т.п. В самом ли деле это так – и в самом ли деле Россия, русское православие времени Василия III, Ивана Грозного и первых Романовых было нетерпимым в отношении католиков, протестантов, иудеев, язычников, еретиков – в той же или, как часто считается, даже в большей степени, чем западное средневековое христианство? И если различия все-таки есть, то насколько они существенны и как их объяснить? Обращаясь к проблеме христианской терпимости/нетерпимости, наш исследовательский проект отталкивается от темы особенно острой и важной: как в византийско-славянских средневековых обществах православное духовенство и вслед за ним общество смотрели на иудаизм и евреев? В частности – так же ли, как в странах католических? Что касается Киевской Руси, то проще всего процитировать одно из заключений Д. Клиера, известного американского историка, специалиста по «еврейскому вопросу» в России, одна из книг которого недавно вышла и в русском переводе: «Очень показательно сравнение [Киевской Руси] c тогдашней Европой. Убийственное безумие крестовых походов никогда не охватывало Киевскую Русь. В России не было ничего подобного распространенным в Западной Европе и в Польше обвинениям, будто евреи отравляют колодцы и разносят чуму». Истории о ритуальном убийстве «никогда не пользовались в России большой популярностью... В России отсутствовало распространенное отождествление евреев с дьяволом, которое сделалось значительным культурным феноменом на Западе. В России не было соответствий антиеврейским стереотипам, которые фигурировали в средневековых мираклях, либо в церковном искусстве и архитектуре».26 Стоит прислушаться и к мнению крупнейшего специалиста по истории европейского, в частности и византийского еврейства – Сало В. Бэрона: в позднее средневековье «в западноевропейских странах – где еврейский вопрос был предметом многих открытых дискуссий; где церковные деятели один за другим писали обличительные трактаты adversus Judaeos; где христианские проповедники Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев. Происхождение еврейского вопроса в России: 1772-1825. Москва: Мосты культуры, 2000. С. 47-48. 26 обрушивались на своих еврейских компатриотов, особенно в пасхальный период; где князья и городские советы издавали одно за другим предписания, регламентирующие постоянно сокращающиеся сферы деятельности евреев; где, наконец, население чаще всего верило в демоническую натуру евреев и, если и не прибегало к насилию, доходящему до истребления, то с ненавистью обвиняло евреев в ритуальных убийствах, профанации св. даров и отравлении колодцев – там еврейская тема была, как ясно видно, важным и по временам жгучим вопросом. Ничего похожего не отмечено в клонящейся к упадку Византийской империи».27 В принципе то же с самое, что Клиер и Бэрон констатировали применительно к Византии и Киевской Руси, может быть сказано и о православной части Балкан, и недавняя книга М.М. Фрейденберга – еще одно тому подтверждение28. Таким образом, складывается подозрение, что мы имеем дело с некоторой весьма важной асимметрией в отношении к евреям в средневековых католических странах и в византийско-славянском мире. Остаются, однако, два больших «но»: это Московская Русь, чья культура до конца XVII века оставалась глубоко традиционной, и Украина с Белоруссией, чей пример, казалось бы, особенно остро противоречит предположению о некоей асимметрии между христианским Западом и христианским Востоком. Это тема для отдельной публикации, но два-три слова необходимы для понимания того, что мы наблюдаем в восточнославянском мире в XVI - XVII вв. Ю. Гессен в результате специального исследовании, опубликованного в «Еврейской старине» в 1915 году, пришел к выводу, что в Московской Руси «ни правительство, ни общество не питали такой ненависти к евреям, которая делала бы невозможным соседские отношения между коренными обывателями и евреями»29. Прав ли был Гессен? Может быть – да, может быть – нет. Но пока его никто не опроверг, потому что после 1915 года вопрос об отношении к евреям в России XVI - XVII вв. не изучался сколько-нибудь систематически. Самый трудный случай – Украина с Белоруссией. Считается, что погромы эпохи Хмельницкого были в значительной степени порождением православного антисемитизма и за спиной погромщиков-казаков стояли православные священники и монахи. Но что мы знаем достоверно или хотя бы приблизительно о взгляде православного духовенства на евреев – которых, подчеркнем, на Украине и в Белоруссии, в отличие от России, было много, и жили они бок о бок с православными? При обращении к источникам выясняется, что и тут мы сталкиваемся с ситуацией, которая однозначно противоречит сложившимся стереопипам. В последние годы работа над украинско-белорусскими материалами XVI - XVII вв. ведется в Московском университе. Б. Н. Серов, наш начинающий исследователь, и я попытались охватить все возможные тексты, в том числе (и в первую очередь!) рукописные, которых оказалось больше, чем принято думать. Это украинско27 Baron S.W. A Social and Religious History of the Jews. Vol XVII. Byzantines, Mamelukes, and Maghribians. New York: Columbia University Press, 1980. P. 41. 28 Фрейденберг М. М. Евреи на Балканах на исходе средневековья. МоскваИерусалим: Гешарим, 1996. 29 Гессен Ю. Евреи в Московском государстве XV-XVII в. // Еврейская старина, 7 (1915). С. 167. белорусские списки славянских полемических трактатов, переводы с греческого и латыни, жития и проповеди. Из этих разысканий выявляется, что вплоть до 1660-х годов не известно ни одного церковно-славянского или украинско-белорусского текста, который содержал бы «химерические» обвинения в адрес евреев или призывы к их насильственному крещению. Так есть ли у нас в настоящее время основания утверждать, что казацкие погромы XVII века инспирировались духовенством и православным антисемитизмом? До сих пор аргументов, которые не были бы умозрительны, в пользу тезиса о православной инспирации казацкого антисемитизма времен Хмельницкого никто, как ни странно, не привел! Поэтому объяснение погромам 1648–1650 годов, по всей видимости, нужно искать в других факторах. Таким образом, даже украинско-белорусские источники в период до второй половины XVII века (начиная с 1660-х годов ситуация стала меняться) подтверждают правомерность гипотезы о существенной асимметрии между католическим и византийско-православным миром в том, как там и там духовенство, а вслед за ним и общество относились к евреям и иудаизму. В чем эта асимметрия выражалась? Суть дела в том, что “химерические”, то есть самые мрачные и мракобесные формы антисемитизма, которые в первую очередь ассоциируются с антисемитизмом на латинском Западе, обошли стороной традиционную средневековую православную культуру. Если такое заключение не будет опровергнуто, нужно будет всерьез заняться поиском объяснения этой асимметрии. А объяснение, судя по всему, будет найдено не столько в источниках, касающихся отношения к евреям - сколько в наших сведениях о религиозной терпимости и нетерпимости, о терпимом и нетерпимом отношении к иноверцам вообще в православном мире Средних веков и раннего Нового времени. Эта тема необыкновенно важна и обширна, и я не стану даже касаться ее в этой статье. Хочу лишь подчеркнуть, что мы сталкиваемся с историографическим парадоксом, которому можно дать культурологическое объяснение. Парадокс в том, что мы располагаем огромным количеством ясных фактов, характеризующих традиционные православные общества как много более терпимые в отношении иноверцев, чем общества католические. Это видно и из понимания задач христианских миссий, и из отсутствия на христианском Востоке идеи крестовых походов, и из отношения к язычникам, мусульманам, евреям. На российском материале XVII века этот вопрос глубоко изучен в трудах немецкого историка Г. Нольте30, а в последнее время о своеобразии русской ситуации напомнил в своей книге А. Каппелер31. Тем не менее в нашем сознании и неспециальных публикациях продолжает прочно господствовать мнение о «ярой» нетерпимости Русского православного царства ко всему, что не было православным. В чем тут дело? Я думаю, что не только в неинформированности, стереотипах и автоматизмах мышления. Дело в том, что реалии традиционных 30 Nolte H.-H. Religiöse Toleranz in Russland 1600-1725, Göttingen, 1969; Nolte H.-H. Verstдndnis und Bedeutung der religiцsen Toleranz in Russland, 1600-1725, in: Jahrbьcher fьr Geschichte Osteuropas. Neue Folge, XVII (1969), S. 494-530. 31 Каппелер А. Россия - многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М.: Прогресс, 1996. (premodern) православных обществ (не одной только России!), выражающие их религиозно-культурный опыт, не укладываются в категории анализа, имеющего своим предметом опыт западнохристианских стран – так же как социальные институты Византии, православных Балкан и Руси не могут быть описаны с категориях западного «феодализма» и «сословности». Судя по всему, сами категории религиозной терпимости и нетерпимости не адекватны фактам истории России и других православных обществ. Не то чтобы Россия XVI века, например, не была нетерпима, – но эта нетерпимость была не только очень избирательной, но и, можно сказать, совсем иного качества, чем в католических странах. Не то чтобы Россия этого века не была терпима к неправославным культурам, но эта терпимость при ближайшем рассмотрением оказывается не терпимостью, которая все-таки предполагает большой интерес к тому, что нужно терпеть или не терпеть, а отсутствием такого интереса, равнодушием, индифферентностью, порождающей явления, которые, повстречай их историк в странах Западной Европы, были бы непременно названы формами толерантности. Так что же значило – быть православным в средневековой Руси и дореволюцинной России? Наши примеры позволяют предположить, что быть православным значило думать о человеке, грехе, смерти, спасении, конце света, о том, что дóлжно и не дóлжно, о мире и обществе иначе, чем об этом думали католики и протестанты. В каком именно смысле иначе – мы пока лишь догадываемся. Подтвердятся или не подтвердятся наши догадки – покажут дальнейшие исследования. Они должны будут коснуться не только намеченных, но и многих других тем: отношения к власти, образованию и познанию, к труду; понимания красоты, восприятия женщины и взгляда на все плотское... Еще интереснее и важнее будет задаться вопросом: а как специфические конфессиональные черты православных воззрений и этоса сказывались на политике, законодательстве, хозяйстве и торговле, на воспитании детей, социальных отношениях и общественных движениях – одним словом, на ходе русской истории и ее отличиях от истории неправославных стран. Это – российский реверс знаменитого «веберовского» вопроса. Вопрос старый, ответов много, но истину еще предстоит поискать.