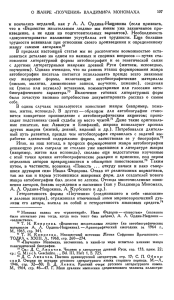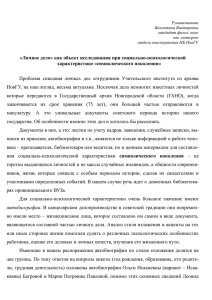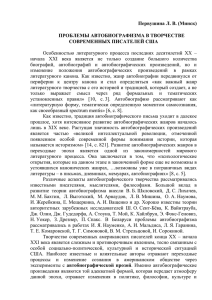Из: ФЕМИНИЗМ И АВТОБИОГРАФИЯ: ТЕКСТЫ, ТЕОРИИ
advertisement
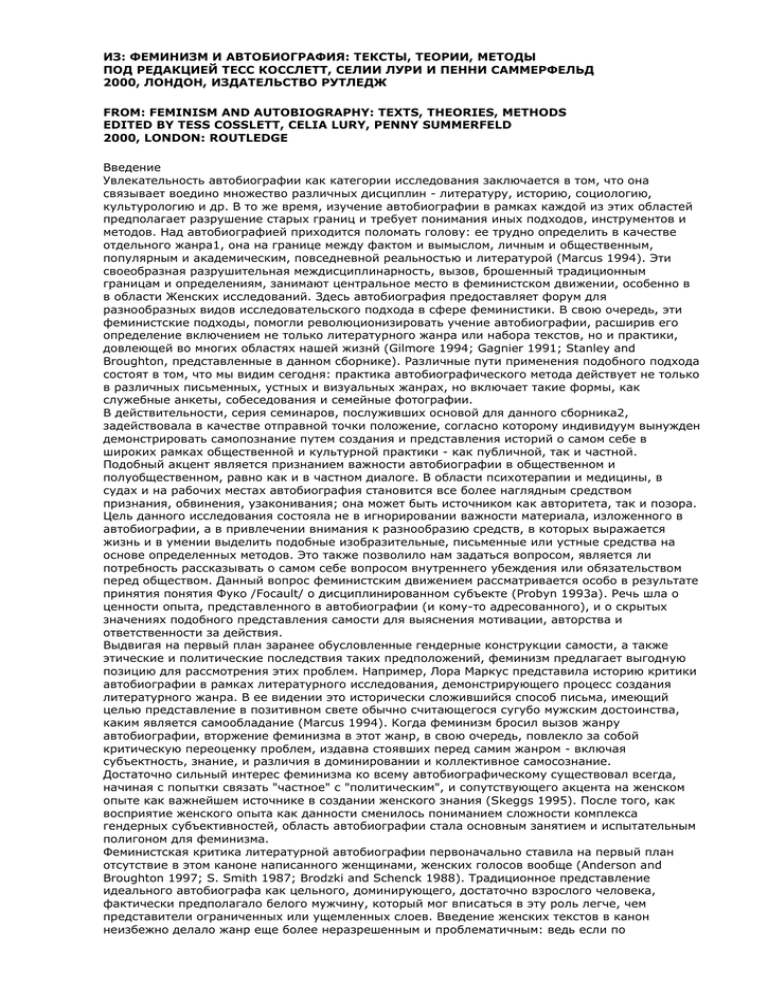
ИЗ: ФЕМИНИЗМ И АВТОБИОГРАФИЯ: ТЕКСТЫ, ТЕОРИИ, МЕТОДЫ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ТЕСС КОССЛЕТТ, СЕЛИИ ЛУРИ И ПЕННИ САММЕРФЕЛЬД 2000, ЛОНДОН, ИЗДАТЕЛЬСТВО РУТЛЕДЖ FROM: FEMINISM AND AUTOBIOGRAPHY: TEXTS, THEORIES, METHODS EDITED BY TESS COSSLETT, CELIA LURY, PENNY SUMMERFELD 2000, LONDON: ROUTLEDGE Введение Увлекательность автобиографии как категории исследования заключается в том, что она связывает воедино множество различных дисциплин - литературу, историю, социологию, культурологию и др. В то же время, изучение автобиографии в рамках каждой из этих областей предполагает разрушение старых границ и требует понимания иных подходов, инструментов и методов. Над автобиографией приходится поломать голову: ее трудно определить в качестве отдельного жанра1, она на границе между фактом и вымыслом, личным и общественным, популярным и академическим, повседневной реальностью и литературой (Marcus 1994). Эти своеобразная разрушительная междисциплинарность, вызов, брошенный традиционным границам и определениям, занимают центральное место в феминистском движении, особенно в в области Женских исследований. Здесь автобиография предоставляет форум для разнообразных видов исследовательского подхода в сфере феминистики. В свою очередь, эти феминистские подходы, помогли революционизировать учение автобиографии, расширив его определение включением не только литературного жанра или набора текстов, но и практики, довлеющей во многих областях нашей жизнй (Gilmore 1994; Gagnier 1991; Stanley and Broughton, представленные в данном сборнике). Различные пути применения подобного подхода состоят в том, что мы видим сегодня: практика автобиографического метода действует не только в различных письменных, устных и визуальных жанрах, но включает такие формы, как служебные анкеты, собеседования и семейные фотографии. В действительности, серия семинаров, послуживших основой для данного сборника2, задействовала в качестве отправной точки положение, согласно которому индивидуум вынужден демонстрировать самопознание путем создания и представления историй о самом себе в широких рамках общественной и культурной практики - как публичной, так и частной. Подобный акцент является признанием важности автобиографии в общественном и полуобщественном, равно как и в частном диалоге. В области психотерапии и медицины, в судах и на рабочих местах автобиография становится все более наглядным средством признания, обвинения, узаконивания; она может быть источником как авторитета, так и позора. Цель данного исследования состояла не в игнорировании важности материала, изложенного в автобиографии, а в привлечении внимания к разнообразию средств, в которых выражается жизнь и в умении выделить подобные изобразительные, письменные или устные средства на основе определенных методов. Это также позволило нам задаться вопросом, является ли потребность рассказывать о самом себе вопросом внутреннего убеждения или обязательством перед обществом. Данный вопрос феминистским движением рассматривается особо в результате принятия понятия Фуко /Focault/ о дисциплинированном субъекте (Probyn 1993a). Речь шла о ценности опыта, представленного в автобиографии (и кому-то адресованного), и о скрытых значениях подобного представления самости для выяснения мотивации, авторства и ответственности за действия. Выдвигая на первый план заранее обусловленные гендерные конструкции самости, а также этические и политические последствия таких предположений, феминизм предлагает выгодную позицию для рассмотрения этих проблем. Например, Лора Маркус представила историю критики автобиографии в рамках литературного исследования, демонстрирующего процесс создания литературного жанра. В ее видении это исторически сложившийся способ письма, имеющий целью представление в позитивном свете обычно считающегося сугубо мужским достоинства, каким является самообладание (Marcus 1994). Когда феминизм бросил вызов жанру автобиографии, вторжение феминизма в этот жанр, в свою очередь, повлекло за собой критическую переоценку проблем, издавна стоявших перед самим жанром - включая субъектность, знание, и различия в доминировании и коллективное самосознание. Достаточно сильный интерес феминизма ко всему автобиографическому существовал всегда, начиная с попытки связать "частное" с "политическим", и сопутствующего акцента на женском опыте как важнейшем источнике в создании женского знания (Skeggs 1995). После того, как восприятие женского опыта как данности сменилось пониманием сложности комплекса гендерных субъективностей, область автобиографии стала основным занятием и испытательным полигоном для феминизма. Феминистская критика литературной автобиографии первоначально ставила на первый план отсутствие в этом каноне написанного женщинами, женских голосов вообще (Anderson and Broughton 1997; S. Smith 1987; Brodzki and Schenck 1988). Традиционное представление идеального автобиографа как цельного, доминирующего, достаточно взрослого человека, фактически предполагало белого мужчину, который мог вписаться в эту роль легче, чем представители ограниченных или ущемленных слоев. Введение женских текстов в канон неизбежно делало жанр еще более неразрешенным и проблематичным: ведь если по утверждению Патрисии Во /Patricia Patricia Waugh/ самость женщин более относительна или более раздробленна, если они имеют проблемы со своей субъектностью, то их истории должны иметь иную форму (Waugh 1989). Их самость и то, о чем она может поведать, не будут столь простыми: вымысел и биографии других людей войдут в их "автобиографии" (S. Smith 1987; Stanley 1992). Таким образом, оспаривание феминизмом универсалистских положений оставляет нерешенным определение литературного жанра "автобиографии". В то же время, настойчивость феминизма на утверждении, что "частное является политическим", произвела глубокое воздействие на другие жанры. Феминистские научные исследователи в ряде дисциплин ныне настаивают, что субъективные элементы не должны исключаться из практики таких методов исследования как собеседование или теории производства (Skeggs 1995; Maynard and Purvis 1994; Reinharz 1992). Исследователи должны постоянно напоминать себе, что межсубъективные отношения со "знанием" своих субъектов не являются объективными, но произведены субъектами, находящимися в определенных отношениях и исторических обстоятельствах (Harding 1986; Skeggs 1995; D. Smith 1987). Данный акцент также обусловлен феминистским оспариванием универсалистских положений и осознанием того, что знание не является "объективным”; оно зачастую представляет производную от претендующей на универсальность и объективность перспективы, ставящей в центр белого мужчину. Осознание феминистками важности дальнейших категорий различия – например, таких как раса, класс, сексуальная ориентация, национальность и возраст (иногда вследствие оспаривания предположения их собственной универсальности) усложнило и обогатило понимание автобиографического письма и практики. Эти проблемы являются для данного сборника узловыми, и наиболее отчетливо предствлены в работах Риверы-Фуэнтес, МакЭлрой, Стидман, Косслетт, Скоттом и Скоттом, Чемберлена, Миллер, Истон, Mихельсен и Эттер-Льюис /Rivera-Fuentes, McElroy, Steedman, Cosslett, Scott and Scott, Chamberlain, Miller, Easton, Michielsens and Etter-Lewis/. В своих статьях они уделяют основное внимание различиям полового самосознания, национальности, возраста, класса, культуры и "расы". Соображения различий теперь проникают во все области автобиографических исследований феминизма. В попытке рационализировать и объединить широкий спектр текстов, событий и методов, признанных в данном издании автобиографическими, мы разделили наши работы на три главные области: жанра3, межсубъективности и воспоминаний. Как уже предлагалось ранее, феминизм по возникновении немедленно проблематизировал автобиографию как литературный жанр. Кэролин Стидман развивает эту проблематизацию, подвергая сомнению предположение, что истоки и начала автобиографии исходят от субъектностей просвещенных мужчин среднего и высшего классов. Взамен, она находит истоки жанра в историях жизни рабочего класса, украденных официозом у обездоленных. Основной движущей силой создания автобиографий она считает внешнее требование, а не спонтанное написание жизнеописания внутренним "я". Лиз Стэнли /Liz Stanley/ развивает исследование внешнего стимула в написании автобиографии, показывая, как в современном мире жанры, подобные служебным автобиографиям, требуют от нас определенного исследования своей самости. Мари-Франсуаза Шанфро-Дюше демонстрирует, как повествование и мифические формы определяют структуру устных рассказов опрошенных ею женщин. В то время как главной героиней Стидман является литературный персонаж книги Уоллстоункрафт “Мария” медсестра Джемма, Шанфро-Дюше применяет понятия литературной критики к устным историям современных рассказчиц. С другой стороны, Мэри Эванс /Mary Evans/ использует полубеллитристический роман Сильвии Плат Стеклянный колпачок /Sylvia Plath The Bell Jar/ как иной, и гораздо более удачный, вид феминистской автобиографии. Проблематизация жанра выражена в междисциплинарных Женских Исследованиях: устных рассказах, служебных автобиографиях, вымышленных историях, которые сегодня воспринимаются в качестве автобиографических методов. Постановка на первый план идеи о том, что женщины были лишены возможности выражения феминистской точки зрения в автобиографии поднимает вопрос о тех отношениях, в системе которых находится сама рассказчица. Поэтому второй раздел данной книги сосредотачивается на межсубъективности – термине, обладающем, по меньшей мере двойным значением. С одной стороны, он может использоваться в отношениях между личными повествованиями и общественными историями, доступными в пределах популярной культуры, и, с другой - к отношениям между рассказчицей и аудиторией. Таким образом, становится возможной постановка вопроса о способах, которыми опыт организован в повествовательном и диалоговом измерении. Оба они являются насущными для процесса "создания", в течение которого рассказчица высказывает нечто, с чем она сможет жить в относительном психическом комфорте. Но из понятия "лишения возможности выражения" следует, что женские истории обычно не лгут столь же легко, как рассказанные мужчинами – а также обязывают феминистских исследователей выявить личную историю (возможно, не предназначенную для разглашения). Саммерфилд /Summerfield/ задается вопросом, насколько "лишение возможности выражения" и феминистский акцент на внутреннем мире могут помешать естественному сложению и выражению женских рассказов, приводя не к "созданию", но к "волнению", поскольку рассказчицы сталкиваются с противоречивыми понятиями о женственности. Таким образом, межсубъектность подразумевает, что повествование о жизни или самость никогда не могут быть ограничены единственной, обособленной субъектностью. Другие люди являются неотъемлемой частью сознания, событий и создания повествования. Выражаясь более абстрактно, понятие самости не может быть воспринято в изоляции от другой неявно или явно признанной самости, с которым первая находится в конституированных отношениях. Более того, эта другая самость может быть как конкретной личностью, так и обобщенным предметом. Гвендолин Эттер-Льюис /Gwendolyn Etter-Lewis/, например, демонстрирует изменяющееся субъективную позицию Ивы Хис, /Ewa K. Heath/ выраженную в письмах к ее матери, и связывает этот "изменяющийся субъект» с воспоминанием и пересказом обстоятельств отдельной жизни и коллективным повествованием женщин афро-американского происхождения. То понятие, что женщинам в частности свойственно более переменчивое самовосприятие, развивающееся в ходе отношений с их матерями, стало одним из излюбленных объектов психоаналитических и литературных исследований автобиографического жанра последних лет (см. стр. 6 ниже), и к нему вновь возвращаются в своих главах Сью и Сара Скотт, Тэсс Косслетт /Sue and Sara Scott, Tess Cosslett/. Сестры Скотт исследуют воздействие рассказов собственной матери в их собственных жизнях, усложняя любое основополагающее понятие идентификации матерей и дочерей введением классовых положений, а также различий и сходных моментов между своими жизнями. Косслетт оспаривает и проблематизирует предположение, что феминистские автобиографы могут восстановить субъективность матери путем включения ее биографии в собственные автобиографии. В то время как описание дочерьми жизни их матерей является важной составной субъектности первых, матерям часто отказывается в полной субъектности. Постановка отношений матери и дочери в столь центральное "диалоговое" положение к женским жизнеописаниям не означает отрицания также доминантного характера отношений, в условиях которого эти две стороны борются за доминирование и самоактуализацию /самореализацию/. Тем не менее, наличие и характер проявления субъектности матери в автобиографической практике различен и в той или иной мере обусловлен специфической культурной практикой. В проведенном Мэри Чемберлен /Mary Chamberlain/ исследовании повествований женщин, эмигрировавших с островов Карибского моря, показана чуждая большинству культурных традиций белой расы зависимость от коллективного, семейного самосознания. Ее "субъекты" - как матери, так и дочери, ощущают себя межсубъектными. Эти женщины неотделимы от своих матерей и бабушек. Наша заключительная категория – это память. Автобиография связана с восстановлением прошлого (так же, как и с проектированием будущего), и зависит от развертывания зачастую изменчивых, частичных или спорных наборов личных или коллективных воспоминаний. Однако использование памяти может быть различным и иногда запутывающим; так, например, понятие памяти может означать как рассказ о нашем прошлом, так и о том как мы меняемся в результате приобретенного опыта (Kirmayer 1996). Феминистки начали исследовать многие формы воспоминаний, привлекая внимание к роли СМИ как "текстов памяти" и указывая, что воспоминания обычно не имеют ни очевидного источника, ни единственного владельца (Spence 1986; Kuhn 1995). Таким образом, память также межсубъективна и диалогична, являясь функцией личностного самосознания и социальных обязательств. Будучи исключительно личной с одной стороны, память в то же время может быть объектированной, принадлежащей к сфере вопросов общественного соглашения и единых ритуалов. Восстановление прошлого через личное повествование может принимать политическую окраску в зависимости от того, что помнится и что предается забвению. Право устанавливать ценность, подлинность или правду никогда не принадлежит одному лишь рассказчику. Критика, относящаяся к гендеру и другим различиям, подчеркивает эту окраску, открывая условия, в который рассказываемые истории могут быть услышаны. Элисон Истон /Alison Easton/ исследует влияние и ограничения жанра устного рассказа невольников, сохранившихся в автобиографиях более поздних афро-американских женщин-авторов: "рабство" остается как память и в форме, и в содержании. Магда Михелсенс /Magda Michielsens/ также исследует формы памяти, конструкции, которые мы используем, чтобы рассказать о прошлом, а также то, что случается, когда последние теряют свою силу. Сюзанна Радстоун /Susannah Radstone/ размещает понятие гендера в рамки постмодернистского понятия временности. Нэнси Миллер размышляет над сплетением ее собственных воспоминаний 50-х годов с более широкой историей феминизма, и создания феминистского прошлого. Таким образом, жанр, межсубъектность и воспоминания могут рассматриваться в качестве взаимонакладывающихся структур, находящихся в центре области проблем, ныне обсуждаемых в феминистских автобиографических исследованиях. В дальнейшем мы рассмотрим эту сферу, обсуждая воздействие всего вышеперечисленного на точки зрения данного сборника, и то, как наши подходы перекликаются с ними. Рассматриваемыми ключевыми вопросами здесь являются: субъективности, признания, личностный критицизм, привязанные к обстановке знания и устная история. Субъективности Перспектива понимания или раскрытия сути “самости” сделала автобиографию чрезвычайно интересным для феминисток предметом, а также высветила проблемы и спорные моменты внутри самого феминизма. Одно из производных толкований слова “автобиография” часто приводится в значении “описание собственной жизни”. С тех пор как литературная теория вынесла на первый план текстуальность или “письмо” как лингвистическую игру бесконечно изменяющегося смысла без четкой причинной связи с “реальной жизнью” или “реальными самостями”, оба значения “самости” и “жизни” в последнее время стали предметами самого внимательного исследования. Этот процесс сопровождался возрастающим признанием важности собственно среды, в которой происходит процесс “письма” или представления самости, и ознаменовался повышением интереса к использованию изображений - в особенности фотографий - в автобиографических трудах (Spence 1986, 1991, Stanley 1992, Кuhn 1995, Stacey 1997). Подобное развитие внесло вклад в положение, согласно которому текстуальность должна находиться в центре исследования автобиографии, а в других интерпретациях - к разрушению преград между составными определения “описание собственной жизни”. Это особенно ясно, когда средой, внутри которой пишется самость, является тело - подход, в данной книге раскрываемый в статье Руфи МакЭлрой о трудности нахождения самости между разными культурами. Если в патриархальных культурах женщина рассматривается в качестве “объекта”, то жанр женской автобиографии представляет ей возможность выразить себя в качестве “субъекта”, обладающего собственной самостью. Однако теория постструктурализма разобрала на составные как понятие самости, так и повествования как необходимого условия жизнеописания. Патриция Во объясняет этот процесс, признавая, что он происходит следующим образом: ...женщины-писательницы начинают... строить идентичность из понимания того, что женщинам необходимо обрести и бороться за цельный смысл бытия, рациональную, последовательную, эффективную идентичность. В то время как писатели-мужчины начинают оплакивать потерю последней, женщины-писательницы еще не переживали чувства субъективности, которая подарила бы им чувство личной независимости и самостоятельности, непрерывной идентичности, историю и опору в мире. (Во 1989:6) Согласно теории психоанализа, “самость” подвергается постоянному давлению изнутри (являясь обманчивым продуктом неосознанных процессов), и снаружи (в качестве столь же обманчивой производной идеологий и взглядов). Однако Во предлагает точку зрения, согласно которой угнетенные или ограниченные в своих правах группы никогда не обладали чувством объединенного самосознания: Для тех, кого господствующая культура ограничивает в правах, чувство идентичности, созданное посредством безличностных и общественных властных отношений (а не как отражения внутренней “сущности”), было главным аспектом концепции их самости задолго до того, как постструктуралисты и постмодернисты приступили к написанию своих манифестов. (Во 1989:6) В случае с женщинами Во относит эту раздробленную самость к идее относительности, впервые предложенной феминистким психоаналитиком Нэнси Чодороу (Nancy Chodorow) (1978). Чодороу утверждает, что, поскольку основными лицами, которые в нашей культуре заботятся о детях, обычно являются женщины, то мальчики и девочки формируют собственное чувство идентичности различными способами. Мальчики противопоставляют себя женщинам и создают относительно замкнутую, автономную самость; девочки же определяют себя в связи с женщинами и вырастают с относительно переменчивыми, относительными самостями. Во рассматривает эту относительность как производную и причину угнетения женщин - но также и как возможную положительную силу для женщин. Некоторые феминистские критики автобиографии восприняли идею относительности в качестве главной характеристики женской автобиографии, идентифицируя иной вид доселе неоцененной самости (Jelinek 1980). Однако другие критики, рассматривают эту относительность как результат идеологии или воздействия способов, которыми “женщины” создавались или должны были представлять себя, а не в качестве выражения их “реальной” сущности (Brodzki and Schenck 1988; S. Smith 1987; Stanton 1987). Работа Чодороу подверглась нападкам как антиисторическая и эссенциалистская4. В нашем сборнике “относительная” идентичность матерей и дочерей является основной темой исследований Тэсс Косслетт, Сью и Сары Скотт, Мэри Чемберлен и Гвендолин Эттер-Льюис однако иначе осмысленной. Для Чемберлен это результат тех способов, которыми культура формирует “самость”; для Скотт это связано с передачей формирующих устных рассказов от старшего поколения младшему; и для Кослетт это вопрос литературных форм и стратегий, а также воздействия различных видов феминистского подхода. Согласно Эттер-Льюис, следует принимать во внимание все вышеуказанное и их взаимосвязь. В отличие от Во Домна Стентон отвечает на вызов постструктурализма и постмодернизма способом разделения “био”, который является “реальной жизнью”, от “автобиографии“. Для этого понадобилось ввести две новые формулировки - “autography” и ”autogynography“, которые подразумевают, что женщины свободны в описании самих себя без каких-либо предпосылок, относительности или правдивости (Stanton 1989). Однако от “жизни” нельзя так просто избавиться, что в данном сборнике демонстрирует Стэнли; вместо этого возвратилась в ином облике “относительность”. Смит и Уотсон вносят переосмысление относительности в список будущих проектов автобиографического исследования (1998: 37). Теперь на повестке дня находится то, что мы называем “межсубъектностью” (способами, которыми все самости создаются посредством взаимодействия друг с другом) и повышенным вниманием к тому, как общественное воздействует и формирует самость. Сложность этих отношений - в которых ни самость, ни общественное не преуменьшаются - исследуется Консуэлой Ривера-Фуэнтес в ее дискуссии относительно “sym/bio/graphy”. Ривера-Фуэнтес вводит этот термин, чтобы обозначить символические отношения, которые по ее утверждению, существуют между ней, как читательницей лесбийских автобиографий и автором, а также самостями, совместно создаваемыми ими обеими. Это отношения, которые для Ривьеры находятся “вне рамок интерпретации“, называются совместной жизнью”. Повсюду в данном издании новый акцент на “жизни” в тройственном понятии автобиографии как “само-жизне-описания” наиболее очевиден в главах Лиз Стэнли и Трев Бротон. Лиз Стэнли рассматривает способы, которыми автобиография исследуется в рамках контрольной бюрократической культуры. Последняя представляет и изучает самость во взаимосвязи со способами управления планированием и прогнозированием. Самость более не является выражением внутреннего мира - она сформирована и создана внешними силами. Однако, как свидетельствует желание Стэнли “получить все полностью”, самость все же является и внутренним и внешним явлением. Данный акцент на “жизни” сопровождается растущим интересом к автобиографии вне рамок литературного и текстового измерений: как предлагает Трев Бротон, многие критики меньше заинтересованы в автобиографии как в своде текстов, и больше в автобиографических методах, включая каждодневные представления людьми своих самостей в ходе обычных социальных контактов. В ходе дальнейшего изучения автобиографии как практики, “внутренняя” часть уравнения выглядит скорее как представление, нежели как выражение (Marcus 1994; Butler 1990). Это не только отрицает какое-либо понятие самости как основы, но предполагает в ее качестве аудиторию, и возвращает нас к еще одному из значений межсубъективности. Подобный взгляд привлекает внимание к процессуальному, динамическому характеру субъективности; акцент ставится на глаголах, а не существительных - письме, а не текстах. Это также связано с частью “диалогового” теоретизирования вокруг субъективности, гендерное измерение которой было развито такими теоретиками как Линн Перс (1994) на основе работ Бахтина (1981) о литературной диалогике. Другим интересным развитием в постепенном разрушении идеи относительно самостоятельной и изолированной самости было исследование историй субъективности: субъект не является устойчивой сущностью, однако изменяется в соответствии с социальными и непоследовательным изменениями и воздействиями (Gagnier 1991; Steedman 1995a и 1995b). Реджиния Ганье (Regenia Gagnier) демонстрирует способы, которыми в автобиографической литературе средний класс девятнадцатого столетия представлял свою самость, и противопоставляет их самоописаниям представителей рабочего класса (которые она находит отмеченными и ограниченными пережитым физическим страданием). Парадоксальным образом, эти авторы находят пишущую “самость“ только в межсубъективности, в связи и сотрудничестве с другими: “субъективность не может существовать без межсубъективности, тогда как тела, подверженные физической боли, существуют только как материальные тела” (Gagnier 1991: 83). Однако, как показано во входящем в данный сборник исследовании Кэролин Стидман о классе и субъективности, в самом по себе устном рассказе нет ничего обязательно освобождающего. Некоторые повествовательные субъектные позиции просто предоставляют больше или меньше возможностей, чем другие. Одно из самых важных современных автобиографических исследований класса и субъективности проведено Джо Спенс в ее совместной с Рози Мартин фототерапической работе (Jo Spence, Rosy Martin). В ней Спенс и Мартин воспроизводят фрагменты жизней своих матерей перед камерой - для того, чтобы исследовать динамику отношений между матерями и дочерьми, a также реконструировать их остаточную субъективность как потомков рабочего класса. Они уверены, что подобным образом можно достичь понимания и оценки прежде рассматриваемых в качестве второстепенных семейных историй (Spence 1991; Martin 1991). Валери Уокердайн (Valeriе Walkerdine) также работает со своими фотографиями как ребенок: раскрашивая портреты, подчеркивая тени, она демонстрирует способы, которыми эмоции жадности, зависти и гнева могут быть расшифрованы, словно следы на отображенном теле (Walkerdine 1991). Методы Спенс и Уокердайн демонстрируют, что любое понятие объединенной и устойчивой субъективности находится под воздействием памяти. Как указывает Аннетт Кюн (Annette Kuhn), “Память ... имеет свои собственные способы выражения, которые характеризуются обрывочным, нелинейным качеством воспроизведенных моментов” (Kuhn 1995: 5). Критики автобиографии еще издавна понимали, что в жизнеописание вовлечены по крайней мере две “самости”: самость прежняя и самость современная. Сидони Смит (Sidonie Smith) рассматривает память в ряду других необходимых “вымыслов” автобиографии (S. Smith 1987: 45). Кюн также приводит доводы в пользу важности того, что она называет “работой памяти“, предлагая, что это является мощным инструментом “подвержения осознанию” - “пробуждения критического сознания и подвергающего сомнению отношения к своей собственной жизни и жизни окружающих посредством самостоятельных действий рефлексирования и обучения у людей, испытывающих ощущение недостатка силы” (Kuhn 1995: 8). Этот разрыв между современной и прежней самостями в данном сборнике изучается Нэнси Миллер, которая пробует задействовать память, чтобы установить связь как с ее собственным прошлым, так и с прошлым феминизма. Интересующие нескольких нижеприведенных авторов свидетельства о травмирующих воспоминаниях (выраженных в определении как душевные раны или ссадины), в то время как настоящее часто преследуется снами/мечтами из прошлого опыта. Элисон Истон (Alison Easton) изучает этот тип частых воспоминаний из прошлого в более длинном историческом контексте, там где чернокожие авторы-женщины стремятся достичь согласия и заново переписать рассказы рабов позапрошлого века. Линда Андерсон (Linda Anderson) предположила, что память является пространством, в котором самость может быть переделана женщинами-автобиографами (Аnderson 1997: 8-12). Мэри Эванс в своей главе о Сильвии Плат (Mary Evans, Sylvia Plath) изучает проблему как описать себя внутри постоянно текущего процесса, изменяющейся в межсубъективном отношении к общественной окружающей среде. Интересно, что она находит частичный вымысел Стеклянного колпачка более подходящим материалом для исследования o женских множественных самостях, чем традиционную автобиографию. Свидетельство В последние годы “свидетельство” стало все более важной категорией автобиографической практики. Подобно всем подобным категориям (мемуары, устное повествование, письменное признание, личностная критика), оно не имеет ясных границ, отделяющих его от четко определенной “автобиографии” - это просто еще один способ осмысления такого материала. Понятие свидетельства в некоторой степени является производной от правовых рамок свидетельства свидетелей в суде. В этом смысле оно соединяет повествование от первого лица с изложением правды. Полагаясь на показания свидетелей, суд ставит целью возможно тщательное изучение всех фактов дела. Конечно, с юридической точки зрения ненадежность и пристрастный характер памяти являются проблемой, поскольку суд не может основываться на точности или беспристрастности свидетельских показаний. Вторым важным источником термина “свидетельство” является область религии: верующие свидетельствуют о своем обращении или вере. В обоих этих смыслах термин имеет важное созвучие с феминизмом, который начинается с женщин, высказывающих свой оставшийся доселе неуслышанным жизненный опыт, а также свидетельствующих о своих феминистских убеждениях. Идея различия между женщинами различных возрастов, классов, рас, национальностей также говорит о важности свидетельств, предлагающих свои собственные истины. Гаятри Спивак (Gayatri Spivak) подвергла сомнению утверждение, что “подчиненная” - женщина в зависимом положении - когда-либо может “говорить”, поскольку она обязана следовать доминированию угнетателей, фактически лишающих ее собственного голоса (Spivak 1986). Идея свидетельства, таким образом, вновь подчеркивает относительность автобиографии (эта идея относится к реальным вещам в мире, а не является лишь игрой слов). Однако при более близком рассмотрении и данное утверждение переходит в неопределенность, и этот термин наиболее часто употреблялся в связи с катастрофическими событиями. В новаторском исследовании Фелман и Лауб (Felman and Laub Testimony: Crises of Witnessing (1992)) Свидетельство: Кризисы Наблюдения (1992), выносит на первый план свидетельства оставшихся в живых жертв Холокоста, демонстрируя всю трудность показаний о явлении, с пугающей эффективностью скрытом и умолчанном осуществившими его преступниками, постаравшимися уничтожить всех свидетелей. Фелман описывает две истории, поведанные теми, кто выжил, чтобы рассказать о произошедшем. Лауб приводит доводы в пользу эмоциональной точности даже очевидно неточных воспоминаний: иными словами, делает шаг от одномерного толкования истины. Оба автора подчеркивают, что процесс свидетельства происходит в настоящем времени, имеет отношение к значению “прошлого теперь”, и облегчен определенными ситуациями и взаимоотношениями. В частности, авторы подчеркивают важность и трудность слушания такого свидетельства, для которого межсубъектность является ясно выраженным центральным элементом. Еще одним затрудняющим фактором этому вида свидетельства является эффект травмы, возникающей в результате масштабного по воздействию события, которое наносит рубцы тканям памяти. Кэти Карат (Cathy Caruth) (1995, 1996) исследовала эту тему, которой Фрейд был очарован. Именно Фрейд заметил, что травмирующие события сознательно не регистрируются мозгом в реальном масштабе времени: они подавляются, но возвращаются в форме возвращающихся мечтаний и копирующего поведения. Мечты не являются метафорическими, что типично для интерпретации Фрейда - в буквальном значении они представляют собой повторное воспроизведение события. Это означает, что травмирующий случай не испытан до тех пор, пока он не завершился. Фрейд использовал немецкое слово “Nachtraglichkeit” или “последующее” для обозначения этого воздействия. Повторюсь, что свидетельство не создает однозначного контакта с прошлым – налицо воздействие пластичности памяти и (межсубъектных) взаимоотношений с аналитиком, который выводит на поверхность подавленные воспоминания. Достоверность многих подобных воспоминаний (особенно связанных с сексуальным насилием) оспаривается сторонниками “синдрома ложной памяти” (Кеnny 1999). Интересно, что в ходе работы над созданием теории подавления Фрейд разделял эту точку зрения, относя воспоминания пациентов об инцесте в детском возрасте к области сексуальных фантазий, а не реальности. Поскольку многие жертвы насилия являются женщинами, то эта область приобретает также феминистское значение. Ясно, что феминистские исследователи должны учитывать контекст, в рамках которого была нанесена травма и изучить условия, определяющие процесс воспоминания о ней. В статье “Не выходя за рамки – одна феминистская перспектива психической травмы” Лора С. Браун оспорила существующие определения травмы с феминистских позиций. В правовых понятиях травма определена как опыт “за пределами нормального человеческого опыта”. Браун указывает, что феминизм предостерегает нас от схематичного и ограниченного “мужского” определения того, что считается нормальным. Жертвы инцеста и насилия в семье особенно уязвимы, поскольку их опыт находится вне рамок опыта большинства и поскольку их воспоминания столь же часты, сколь болезненны. Браун предлагает новое, более политическое определение травмы, которое включает повседневное физическое и психическое насилие над жертвами существующего порядка (Caruth 1995: 100-12). Данное феминистское переосмысление травмы разрушает всю концепцию “выходящего за рамки обычного” события, на котором основывается подавление. Работа над свидетельством включает еще одно направление – хотя с первого взгляда свидетельство кажется самым достоверным видом изложения, непосредственно связанным с правдивостью, справедливостью, верой и глубоко пережитым опытом, оно может иметь совершенно обратное значение. Некоторые проявления современной культуры - в частности, телевизионные ток-шоу – предполагают ситуации, в которых люди по требованию аудитории рассказывают о своем выходящем за рамки приличий опыте, придавая театральность своей личной жизни. Эта тенденция была открыта и с разных позиций подвергнута критике Лорен Берлант (1997) и Элейн Шоуолтер (1997). Шоуолтер рассматривает ее как “истерическую эпидемию”, тогда как Берлант считает ее политически мотивированным представлением, имеющим целью отвлечение внимания людей от социальных проблем к узко личным. Здесь свидетельство накладывается на представление – и зритель получает шоу. Подобные свидетельства обусловлены не потребностью высказаться, а требованием СМИ получить специфичный вид сенсационного материала. Этот аргумент перекликается с утверждениями многих авторов данного сборника о том, что автобиография не является ни чем-то просто востребованным внешней средой либо произведенным “изнутри”. Это совпадает с утверждением других критиков о том, что субъективность представляет собой явление, созданное автобиографией или в автобиографической практике, и не может предшествовать ей (Gilmore, Gagnier). Специфичное феминистское значение этого утверждения заключается в том, что гендер также создается в ходе изложения и/или представления. Сюзанна Редстон подвергла критике свидетельство, которое сегодня является доминирующим в жанре автобиографии - по ее мнению более ранняя форма признания (включающего отражение вины и непрямого повествования) делает возможным более этически насыщенное понимание прошлого. Редстон считает, что свидетельство является историей невинной и абсолютно пассивной жертвы, которая излагает произошедшее и отрицает возможность пересмотра и переоценки прошлого. В результате слушатели связывают себя с позицией жертвы, а не личности, несущей ответственность за свои неудачи. Таким образом, позиция Редстон совпадает с утверждением Берлант о том, что свидетельство является инфантилизирующим фактором, ведущим к самоотождествлению слушателя с беспомощным ребенком. Оценка, данная Редстоун признанию, является интересной, поскольку эта форма изложения часто считается ранней стадией феминизма, обладающей большей выразительностью по сравнению как с принятым сегодня свидетельством, так и еще позднейшей формой “воспоминания”. Это стремление к столь детальному разграничению объясняется намерением вскрыть сексуальную политику периода, описываемого в автобиографии. Вначале она описывает принадлежность свидетельства к современной модели линейного развития, изменений и истины, в то время как нелинейное воспроизведение прошлого в воспоминаниях более свойственны постмодернизму. Однако далее она показывает, как и признание, и свидетельство бросают вызов понятию эпохального сдвига от модернизма к постмодернизму - и зависимости первых от истории как единородного пространства. Критика персонализма В то время как феминистское вторжение позволило оспорить и пошатнуть принятое понятие “автобиографии”, автобиографическое вторжение произвело не менее радикальные изменения в практике феминистской теории и критики. Данный процесс находился под сильным влиянием формы, тональности и стиля научных или критических статей и эссе. Джейн Томпкинс часто упоминается в качестве основательницы движения от абстрактной “теории” к более личному и понятному стилю (статья “Я и моя тень” (1991)). В ней Томпкинс отрицает “прямизну” считающихся обязательными теоретических формулировок и взамен представляет себя в качестве воплощенного присутствия. Она отказывается от отрицающего и воинственного стиля, присущего многим научным статьям, и выступает за более внимательное и благожелательное восприятие женских повествований. Томпкинс “гендерирует” свой подход, утверждая, что теория и объективность являются “мужскими” стереотипами, тогда как считающиеся “женскими” личное и эмоциональное подвергаются замалчиванию и недооценке. Она желает вернуться к феминистской “рассерженности” /ярости/, которая стала движущей силой ее исследования. Гендерированное неприятие теории и чувства со стороны Томпкинс сделали ее особенно уязвимой для критики (особенно со стороны Veeser 1996; Miller 1991), однако ее подход не является настолько упрощенческим, как утверждают ее оппоненты. По выражению Томпкинс “то, что считается знанием, является функцией ситуации и перспективы” (1991: 1081). Однако утверждение Томпкинс в целом говорит о ее личном вкладе в ее критические идеи: она воспроизводит и воплощает теоретический аргумент МессерДавыдов (Messer-Davidow). Во втором варианте статьи (воспроизведенной в данном сборнике) она повторно допускает “теорию”, если она связана с ее чувствами. В недавнем интервью Томпкинс и члены ее творческой группы отрицают двойственность теории и личного, и даже ярлык “личного” (Veeser 1996). Вмешательство Томпкинс часто рассматривается как возвещение нового движения к более “личному” академическому стилю, однако еще раннее феминистские критики уже часто сочетали автобиографический и теоретический элементы в доступной и увлекательной форме (Rich 1977, 1979, 1987; Lorde 1984; Heilbrun 1988). Последовавший поворот феминистских исследований к крайне абстрактному теоретическому языку делает повторное изучение работы Томпкинс необходимым. Если автобиография как жанр проблематизирована и усложнена феминистским вниманием, то использование феминизмом автобиографического в других контекстах будет принимать эту сложность как данность. Поэтому автобиографический уклон отнюдь не является гарантией простоты, прямоты и достижимости, к которым стремилась Toмпкинс (см., например, письма Пэгги Фелан, Лорена Берланта и Гаятри Спивак у Визер 1996). Еще более недавний акцент на представлении, сделанный в работе Джудит Батлер, привел исследователей к ироническим, рефлексивным и многослойным письмам. С другой стороны, и Джейн Томпкинс и Нэнси Миллер в своих последних автобиографических книгах вышли из рамок чисто академического стиля, чтобы в более простом стиле обратиться к более широкой аудитории (Tompkins 1991; Мiller 1996). В своем сборнике Близкая Критика (1993) Диана Фридман, Оливия Фрей и Фрeнсис Мерфи Зохар (The Intimate Critique (1993). Diane Freedman, Olivia Frey and Frances Murphy Zauhar) объединили множество различных по форме и содержанию автобиографических критических анализов. Более недавний сборник Х. Арам Визер (H. Aram Veeser) (1996) включает как доводы “за” и “против” автобиографического поворота, так и примеры критиков “всего лишь использующих его”. В обоих этих сборниках большинство авторов являются женщинами. Наиболее удачные из этих эссе (например, Мэриэнн Хирш у Визер 1996) объединяют автобиографический, анекдотический стиль, с исследованием чувств и теоретическим пониманием. Некоторые авторы этого сборника также в той или иной мере пишут в автобиографическом стиле (MакЭлрой; Ривера-Фуэнтес; Косслетт; Скотт и Скотт; Саммерфилд; Миллер). Обусловленные знания Персоналистский критицизм является одним примером способов, которыми автобиографический подход произвел изменения в литературно-критических статьях. Другим, более широким примером подобного воздействия является способ, которым автобиографические подходы были приняты и приспособлены в исследовании феминизма общественными науками. Здесь важными стали эпистемологические вопросы о том, как производится знание. Как утверждает Эллен Мессер-Давидов, знание является производной того, кто создает это знание (Tompkins 1991). Джейн Томпкинс подвергает сомнению полезность этой идеи, утверждая что подобное знание ни в коей мере не изменяет содержание ее собственных знаний. Но она неправа: этот вид эпистемологического аргумента имеет риторическую силу, предотвращающую отрицание феминистского знания как всего лишь субъективного или пристрастного. Однако он также критикует феминизм за впадение в проблематичный релятивизм (Ramazanoglu 1993) - если все знание (включая даже то, которое по утверждению является объективным), рассматривается в качестве производной от специфической (политической или гендерной) исходной точки зрения, то ни одно из них не может быть исключено. Дальнейшим шагом в этом аргументе должно было быть рассмотрение феминистского знания как пользующегося тем или иным преимуществом ввиду самой его исходной точки зрения, более ценной, нежели другие (D. Smith 1987). Однако подобное преимущество может привести к упрощенческому конкурированию в споре за обладание знанием. Сандра Хардинг (Sandra Harding) (1986) определяет три типа феминистской эпистемологии: феминистский эмпиризм (основанный на подлинном женском опыте), феминистскую исходную точку зрения (основанную на интерпретации под феминистским углом) и феминистский постмодернизм (отвергающий возможность любой универсальной теории). Со всеми этими тремя положениями существует множество проблем - к тому же зачастую не всегда ясно выраженных. Мэри Мэйнард указывает, что не всегда ясно, является ли это опытом и/или точкой зрения самих женщин или же феминисток, к которым эти женщины обращались (Maynard и Purvis 1994: 20). Бев Скеггс (Bev Skeggs) оспаривает идею, что “только те, кто имеет соответствующий опыт угнетения, способны говорить об этом“ из опасения, что это приведет к соперничеству между разными политиками идентичности (Skeggs 1995: 16). Озабоченность вопросами различия внутри феминизма означает, что более не может быть никакого понятия одной единственно правильной исходной точки зрения феминизма. Женщины различных классов, “рас”, национальностей, возрастов все будут иметь свои собственные точки зрения. То, что происходит сегодня, является в меньшей мере поиском правильной эпистемологии, и в большей - методологической озабоченностью во вскрытии сложных автобиографических скрытых связей феминистскими исследованиями. Если, как утверждают феминистки, все исследования являются обусловленными, и чистая объективность - не более, чем вымысел, то было бы этически и политически правильным, чтобы феминистские исследователи возглавили бы движение к способу, при котором исследователи могли проводить и переживать свои исследования. Как утверждает Мэйнард, “постановка на первый план автобиографического анализа того, чем фактически занимается исследование, может обеспечить полезное понимание проблемы, зачастую остающейся скрытой в обычных учебниках методологии (Мaynard & Purvis 1994: 1). Более того, Скеггс приводит доводы в пользу определения исследователя в ее социальном положении. Она представляет список автобиографических вопросов для исследовательниц, чтобы опросить самих себя об исследовании как процессе: • Почему была выбрана область изучения, какими институциональными, экономическими и общественно- политическими факторами был обусловлен выбор? • Какие структуры установленного знания были использованы, упомянуты, оспорены, игнорированы и почему? • Какие методы были выбраны для изучения и почему? Почему не использовались другие подходы? • Как начальные вопросы и исследования относятся к конечному результату? Как процесс письма влиял на конечный результат? (Skeggs 1995: 4) Она ищет не простого, примитивного учета опыта, а сведущего и саморефлексивного понимания: мы можем исследовать процессы, в силу которых мы обретаем свое место, и, таким образом, понять, как наш опыт и понимание того, кем мы (и другие) являемся, всегда становятся известными и истолкованными посредством доступных нам обсуждений или представлений. (Skeggs 1995: 17) Способы, которыми автобиография исследователя вовлекается в исследование, не ограничены одной исходной точкой зрения или принятой субъективной позицией. Исследование может воздействовать на исследователей, изменяя их чувство самости; и вследствие интенсивного феминистского вклада оно может стать частью их “частной” жизни (Ahmed 1997; Fonow и Cook 1991). Это использование “личного” материала особенно очевидно в главах Риверой-Фуэнтес, МакЭлрой, Косслетт, Миллер, и сестер Скотт. Ривера-Фуэнтес и ряд других авторов также подвергают свою научную жизнь исследованию, рассматривая свои проекты, ход мыслей, неудавшиеся эксперименты и опыты. Лиз Стэнли высказалась в пользу включения “интеллектуальной автобиографии” в феминистское исследование, особенно в практику биографии (где личный вклад биографа в толкование и построение жизни описываемого лица обычно остаются скрытыми) (1992). Авторы демонстрируют свои интеллектуальные умозаключения, ход исследования, то, какие структуры были ими использованы. Постановка на первый план автобиографического в процессах феминистских исследований непременно возвращает нас к проблеме межсубъектности. В случае с биографией вовлечены по крайней мере две жизни и их взаимодействия, и далее Стэнли приводит доводы в пользу феминистского акцента на “групповых биографиях” и дружеских отношениях в повествовании о жизнях женщин (Stanley 1992). В нашем сборнике Нэнси Миллер помещает свои собственные автобиографические воспоминания в рамки “биографии группы” раннего феминизма и своих автобиографических связей (Stanley 1992; также Marcus 1994: 281 о биографии группы). Валери Уокердайн и ее сотрудники на основе работы Джо Спенс развили насыщенную в психоаналитическом плане практику, в которой толкование субъектов исследования зависит от анализа своих собственных ответов. Уокердайн пишет, что самоотражение требует от исследователей “быть способными попытаться осознать некоторые из своих собственных реакций, блокировок, трансферов, посредством которых чужой материал сливается в их собственный эмоциональный материал” (Spence 1997: 72). Она предполагает, что процесс самоотражения может быть поддержан обсуждением группы исследователей, поскольку это может помочь идентифицировать сложные процессы происходящей трансференции. Межсубъектность важна также в других аспектах: Скеггс и Мэйнард пишут о способах, которыми исследование воздействует не только на жизнь исследователя, но и на жизнь исследуемого. Понимание межперсональной динамики привело к изменению феминистских методов опроса /собеседования/ и интерпретаций материала из ситуаций, приведенных в опросе /собеседовании/ (Skeggs 1995; Мaynard 1994). Мэйнард отмечает феминистское осознание “общественного характера истолкования” (1994: 7). Элспет Пробин /Elspeth Probyn/ озабочена что постановка на первый план в исследованиях культуры автобиографического момента может привести к отсутствию внимания к другим аспектам (1993b). Однако Уокердайн подчеркивает, что в то время как усилия исследовательницы, направенные на исследование ее собственного вклада в определенных толкованиях, будучи применены должным образом, могут быть критическими для исследования, если, они “не равнозначны” записи собственных слов субъекта (Walkerdine 1997: 74) и не являются способом говорить “за” них. Автобиографические ссылки сами по себе не гарантируют интеллектуальную правильность, политическую подлинность или эффективность. Но этот поворот в феминистских работах почти всегда сопровождается четким пониманием межсубъектности, нигде более не выраженной столь ярко, как в феминистской устной истории - нашей следующей области обсуждения. Устная история Исходя с точки зрения литературного критика, Лора Маркус отмечает, что “другим важным развитием является растущее сближение между авто/биографией и устной историей” (Маrcus 1994: 274). Она обращает внимание на тот факт, что большая часть влиятельных работ в области устной истории в силу вынесения на первый план посвящена записи свидетельств прежде игнорируемых книгами по истории преставительниц рабочего класса (Тhоmpson 1988). Эта цель имеет очевидное сходство с проектом феминизма, и феминистские историки устной традиции рассматривали себя в качестве восстанавливающих утерянные женские голоса и скрытую историю (Carroll 1976; Chamberlain 1975; Lewis 1981; Roberts 1984; Passerini 1989). Темы, которые мы обсудили в предыдущей главе, подняли проблемы для этой простой модели записи опыта, и некоторые феминистские историки устной традиции создали сложные методологии для разрешения этих проблем. В частности, идеи межсубъектности и взаимоотношений находились в центре их усилий. Как отмечает Пенни Саммерфилд, “изложение истории жизни в ответ на запрос исследователя не является простым односторонним процессом, но предполагает набор отношений, насквозь пронизанных гендером” (Summerfield 1998: 2). Проблемы использования записей “пережитого опыта” были впервые указаны Дениз Райли (Denise Riley). Она пишет: Проблемность попытки помещения обнаженной яркой сущности правды вне бесцветности и наносов тридцати с лишним лет состоит в том, что она предполагает некое открытое пространство, откуда могут говорить голоса - как будто если находящееся в поисках истины “сознание” рассматривало бы истории по бесполезным обрывкам. Конечно, это не должно обесценивать сказанного людьми, или считать выражение желаний бессмысленным. Трудность заключается в том, что потребности и желания, никогда не являются настолько ясными и определенными, чтобы они могли быть полностью понятными, излучать абсолютную истину, удаляя налет более поздних исторических записей и переписываний. (Riley 1983: 191) Райли высказывается против использования “женщин” как исторической категории, чей опыт должен быть восстановлен. Вместо этого объектом исследования должны стать устные источники, которые составляют эту категорию (Riley 1988). Вначале казалось, что таким образом отрицается сама идея женской сути, которую столь активно пытались определить феминистские исследовательницы, однако, как сказала Джудит Батлер, ”структура не противопоставляется сути, а является необходимой сценой для сути, самими условиями, в которых суть выражается” (Butler 1990). Однако остается еще место для изучения “взаимоотношений между культурными структурами и пониманием” (Summerfield 1998: 11). “Патина более поздних исторических записей”, переписывающих память, может сама стать основным предметом исследования. Задача феминистского историка устной традиции заключается в “распутывании клубка связей между повествованиями и опытом” (Canning 1994; также Bornat 1994, Davies 1992). Эти взаимоотношения могут быть описаны как межсубъективные: “личные повествования о доступном обобщенном субъекте в рассказе, с помощью котрого строится частный субъект” (Summerfield 1998: 15). Иначе говоря, общеизвестные популярные легенды повествования и стереотипы используются отдельными людьми с тем, чтобы создать собственные истории (Chanfrault-Duchet 1991; Thomson 1994). Но есть еще два других способа, в которых записи устной истории являются межсубъективными: они зависят от отношений между рассказчиком и аудиторией (аудитория, включающая как опрашивающего, так и более широкая аудитория для исследования), и между рассказчиками и доступными им поведенческими моделями - например, транслируемыми по телевидению интервью, или статьям в журнала. Различные жанры здесь влияют друг на друга, в то время как исследователь должен учитывать, что жанр устной истории имеет свои собственные генерирующие особенности. Кристина Министер (Kristina Мinister) рассматривает устное изложение истории в рамках диалога между обществом и личностью - как происходящее в непосредственной домашней обстановке субъекта, но адресованное широкой аудитории (Мinister 1991). Статья Мари-Франсуазы Шанфро-Даше (Marie-Franсoise Chanfrault-Duchet) в этом сборнике особенно внимательна как в анализе жанра, так и в показе влияния на записи устной истории других повествований и литературных образцов. Исследователи феминизма были также озабочены этической стороной межсубъектного контакта, каковым является повествование устной истории. Они не хотят воспроизводить неравенство отношений доминирования, в котором женщины всегда являлись ущемленной стороной (Оакley 1981; Reinharz 1992). Идеалом было бы равенство между исследователем и объектом исследования, однако это труднодостижимо. Исследователи пытаются смягчить это неравенство доминирования “сначала, рассматривая собеседование как передачу опыта; во-вторых, ставя непосредственно себя в субъективное положение в рамках собеседования; и, в-третьих, наделяя собеседуемых некоторой ответственностью за проект” (Summerfield 1998: 24). Эти процедуры также рассматриваются в качестве необходимых, помогая женщинам высказать их глубинные мысли, хотя, как мы видели, даже самое глубинное находится под сильным влиянием “внешних” повествований и моделей. Однако здесь приводится тот аргумент, что женские записи были исторически “заглушены”, они не переплетены столь тесно с доминирующей позицией, свойственной мужчинам, и по этой причине нуждаются в особой поддержке, особом внимании (Anderson and Jack 1991). Межсубъектность феминизма не существует сама по себе, а является тем, что опросчик пытается создать. Теории памяти являются крайне важными для практики устной истории (Coleman 1991). Пенни Саммерфилд в данном сборнике обсуждает идею Грэхэма Доусона (Graham Dawson) о воспроизведении личных воспоминаний как о результате “самоконтроля” (Dawson 1994). Субъект “coздает” жизнь и самость, с которыми может чувствовать себя комфортно. Доусон задается вопросом, может ли вместо этого результат феминистской устной истории быть волнением, поскольку субъекты встречаются с самыми противоречивыми женскими повествованиями. Мэри Чемберлен, другой устный историк нашего сборника, развертывает сложные теории памяти и вводит еще один аспект межсубъективности, в процессе постижения толкования записей “субъектов“, которые воспринимают и мыслят себя межсубъективно: женщин, которые неотделимы от своих матерей и бабушек. Магда Михелсенс проблематизирует весь проект устной истории, исследуя несоответствия между прошлыми и настоящими познавательными рамками, так же как недопониманием между Востоком и Западом, проявляющемся в ее опросе женщин из Болгарии. Феминизм и автобиография Взаимные влияния феминизма и автобиографии, которые мы обрисовали в данном введении, вызвали множество преобразований в обоих методах. Данный сборник исследует самые поздние из этих изменений, поскольку они затрагивают автобиографические исследования. В частности, мы поставили на первый план увеличивающуюся междисциплинарность материала и метода; изменения в восприятии автобиографии в качестве не только литературного жанра или собрания текстов, а также и как широко распространенной культурной практики, появившейся в силу общественного давления и индивидуальной внутренней потребности; и, наконец, более тщательное рассмотрение автобиографии как метода. Как было сказано, эта книга была создана на базе семинаров, объединенных темой “Автобиографии и Социальная Самость” и проведенных Институтом Женских Исследований Ланкастерского Университета (“Autobiography and the Social Self”, Institute of Women’s Studies at Lancaster University). Мы надеемся, что наш сборник сможет отчасти воспроизвести непосредственную и захватывающую манеру семинарского цикла. Завершает сборник короткий раздел “отрывков положений” этого цикла, который полностью относится к теме “Вопросы Автобиографии”. Трева Броутон (Treva Broughton) представляет обзор того, что значат для ее специфической области (девятнадцатого столетия) новые развития в автобиографическом исследовании. Консуело Ривера-Фуентес и Руфь МакЭлрой обе принимают “персоналистский” и экспериментальный подход: одна, чтобы обратиться к теме лесбийской автобиографии, и другая, чтобы исследовать иногда противоречащие переплетения автобиографии, академичности и национальности. Мы надеемся, что этот раздел побудит наших читателей далее развивать их собственные дебаты и исследования все еще нерарешенных проблем, возникших на соединение феминизма и автобиографии. Примечания 1 Слово “жанр” само по себе достаточно неуловимый термин с различными значениями в различных дисциплинах. Например, в литературных исследованиях он означает установленную категорию письменной работы с общими чертами и едиными правилами (установленными стилистическими и тематическими методами). Автобиография” в литературном значении иногда упоминается как “поджанр”. Но в лингвистике, “анализ жанра” может охватывать формы (разговорную, письменную и визуальную) столь же разнообразные как академическое эссе, токшоу, фотография в прессе и собеседование для наема на работу, и определение термина начинается с его социального и практического значения. Кэролин Миллер (1984) определяет термин как “стереотипное социальное действие”. 2 Цикл семинаров “Автобиография и Социальная Самость” финансировалась ESRC и проходила в Университетах Ланкастера и Йорка в 1996-98. Мы хотели бы выразить признательность за поддержку ESRC, и благодарность группе в Институте Женских Исследований в Ланкастере, которая планировала и организовала шесть занятий, а также сотруднику Института Джанет Хартли. Особая благодарность всем участникам цикла. 3 См. примечание 1 выше. Используя слово “жанр”, мы извещаем о его спорной сущности - для нас это означает “способ, которым определена автобиография“, или “то, что может быть включено в определение "автобиография"“. 4 Эссенциализм это вера в существование основных характеристик, единых для всех женщин, а не в то, что “женщины” являются исторически и культурно определенной категорией. Для подробного обсуждения эссенциализма, см. Fuss 1989. http://www.liza.am/reading/003.htm Legal Gender Cultural Foundation "Liza"