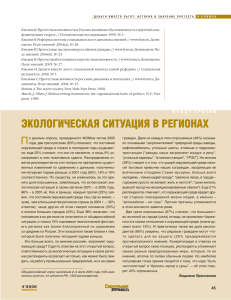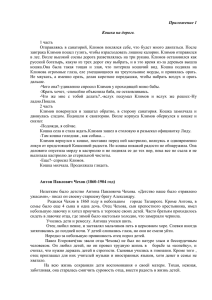книгу "Удар небесный"
advertisement
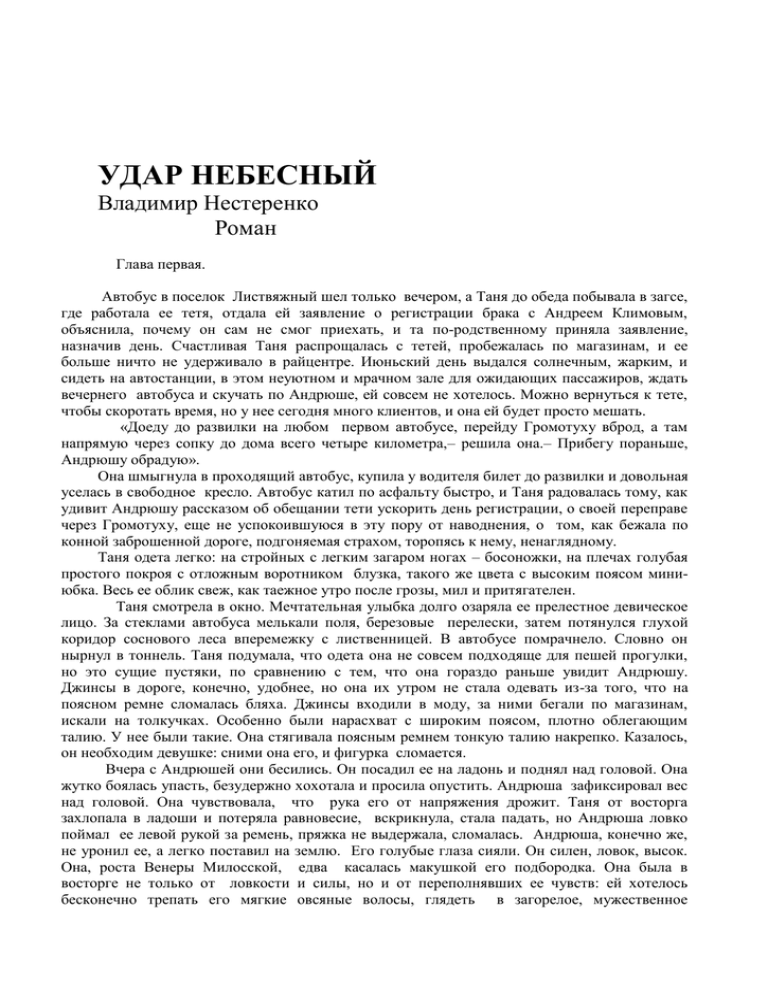
УДАР НЕБЕСНЫЙ Владимир Нестеренко Роман Глава первая. Автобус в поселок Листвяжный шел только вечером, а Таня до обеда побывала в загсе, где работала ее тетя, отдала ей заявление о регистрации брака с Андреем Климовым, объяснила, почему он сам не смог приехать, и та по-родственному приняла заявление, назначив день. Счастливая Таня распрощалась с тетей, пробежалась по магазинам, и ее больше ничто не удерживало в райцентре. Июньский день выдался солнечным, жарким, и сидеть на автостанции, в этом неуютном и мрачном зале для ожидающих пассажиров, ждать вечернего автобуса и скучать по Андрюше, ей совсем не хотелось. Можно вернуться к тете, чтобы скоротать время, но у нее сегодня много клиентов, и она ей будет просто мешать. «Доеду до развилки на любом первом автобусе, перейду Громотуху вброд, а там напрямую через сопку до дома всего четыре километра,– решила она.– Прибегу пораньше, Андрюшу обрадую». Она шмыгнула в проходящий автобус, купила у водителя билет до развилки и довольная уселась в свободное кресло. Автобус катил по асфальту быстро, и Таня радовалась тому, как удивит Андрюшу рассказом об обещании тети ускорить день регистрации, о своей переправе через Громотуху, еще не успокоившуюся в эту пору от наводнения, о том, как бежала по конной заброшенной дороге, подгоняемая страхом, торопясь к нему, ненаглядному. Таня одета легко: на стройных с легким загаром ногах – босоножки, на плечах голубая простого покроя с отложным воротником блузка, такого же цвета с высоким поясом миниюбка. Весь ее облик свеж, как таежное утро после грозы, мил и притягателен. Таня смотрела в окно. Мечтательная улыбка долго озаряла ее прелестное девическое лицо. За стеклами автобуса мелькали поля, березовые перелески, затем потянулся глухой коридор соснового леса вперемежку с лиственницей. В автобусе помрачнело. Словно он нырнул в тоннель. Таня подумала, что одета она не совсем подходяще для пешей прогулки, но это сущие пустяки, по сравнению с тем, что она гораздо раньше увидит Андрюшу. Джинсы в дороге, конечно, удобнее, но она их утром не стала одевать из-за того, что на поясном ремне сломалась бляха. Джинсы входили в моду, за ними бегали по магазинам, искали на толкучках. Особенно были нарасхват с широким поясом, плотно облегающим талию. У нее были такие. Она стягивала поясным ремнем тонкую талию накрепко. Казалось, он необходим девушке: сними она его, и фигурка сломается. Вчера с Андрюшей они бесились. Он посадил ее на ладонь и поднял над головой. Она жутко боялась упасть, безудержно хохотала и просила опустить. Андрюша зафиксировал вес над головой. Она чувствовала, что рука его от напряжения дрожит. Таня от восторга захлопала в ладоши и потеряла равновесие, вскрикнула, стала падать, но Андрюша ловко поймал ее левой рукой за ремень, пряжка не выдержала, сломалась. Андрюша, конечно же, не уронил ее, а легко поставил на землю. Его голубые глаза сияли. Он силен, ловок, высок. Она, роста Венеры Милосской, едва касалась макушкой его подбородка. Она была в восторге не только от ловкости и силы, но и от переполнявших ее чувств: ей хотелось бесконечно трепать его мягкие овсяные волосы, глядеть в загорелое, мужественное широкоскулое лицо, целовать чувственные полные губы, ощущать крепкие объятия, слушать его голос, простуженный, как у всякого человека, работающего на реке. Она безумно любила его! Едва коснувшись земли, Таня подпрыгнула, ухватилась за его шею, и он закружил, целуя ее малиновые губы, ощущая ее трепет восторга и страсти. – Завтра ты отвезешь заявление в загс! – сказал он возбуждено. – Да, милый! Не будем ждать, когда тебе дадут отгул. В загсе работает моя тетя. Она все знает, все сделает. – Я раньше шести с работы не вернусь. У нас аврал – плот вяжем. Можешь не торопиться обратно, приедешь на вечернем автобусе. – Конечно, милый! Потом они сидели и целовались. Она вся пылала. Он тоже. Они уже вкусили сладость любви. Он у нее был первый, она у него такая сладкая тоже первая. Это произошло у нее на квартире совсем недавно, когда весь воскресный день в доме не было родителей. Но в лесу, на берегу Енисея, они это делать боялись, хотя так хотелось этого снова и снова. Он бы, конечно, решился: она чувствовала его растущее возбуждение. Но она успокаивала его, прижимала к груди его крупные и сильные руки, которыми он обжигал ей низ живота. И он не смел их оторвать. Она была ему благодарна. – Не здесь, только не здесь, милый, – шептала она, – скоро, совсем скоро мы будем взахлеб пить этот мед! Он долго не мог успокоиться, предлагал сесть на его широкие ладони, как на стул. Он будет держать ее и колыхать, он сумеет, у него хватит сил, она только будет держаться за его шею. Но она не соглашалась, ей было стыдно на открытом воздухе, стыдно от ночных птах и лиственниц, окружающих их. Но сегодня, когда заявление в загс подано, в честь такого события, она согласится быть с ним так. Потом они поженятся и будут жить в новом доме. Он, правда, еще строится, но к свадьбе будет готов. Она чуть не проехала развилку дорог, но спохватилась вовремя, вскочила, попросила водителя остановить автобус. – Что, прямиком в Листвяжный? – спросил он. – Ага, – мотнула она в ответ головой. – А как же брод, не боишься? Громотуха-то набухшая. –У-у, я ее не боюсь! – крикнула Таня и выпорхнула из автобуса, разметав свой черный пожар волос по хрупким плечам. Она и в самом деле походила на птаху: юркая, стремительная, с веселым щебетом на губах. Автобус ушел, а она пошла отыскивать конную дорогу, которая лежала чуть ниже, меж расступившимися лиственницами. Таня сделала десятка два шагов по асфальту и свернула направо, откуда доносился говорок Громотухи. Дорога здесь была наезжена автомобилями. Любители рыбалок, костров частенько подъезжали к самой реке, поднимались вверх или спускались к мосту, через который шла кружная шоссейная дорога в Листвяжный. Таня никого не боялась – ни людей, ни зверей. Ходила уж с ребятами этой дорогой. Вон Громотуха поблескивает на ярком солнце, взбивает о валуны пену и ревет. Еще несколько шагов – и река шумно и без остатка поглощает тебя, и ты теряешься в лавине звуков, кажешься маленьким и беззащитным. Куда ни глянешь – вверх или вниз по течению – всюду бурлящий неудержимый поток, разбивающийся о валуны, падающий со скал. И только в одном месте Громотуха смиреет: из теснин вдруг вырывается на простор, разливается широким плесом. Всего полста метров, не больше, тянется этот плес, дарует неглубокий с твердым дном брод. Только на той стороне каменная плита проседает, и вода в летние месяцы под брюхо лошади. Но это уже не страшно – до берега одна сажень. Бросок – и ты на берегу. Страшнее у левого берега, где брод подходит почти к кромке слива, и поток, набирая стремительную силу, падает с подводной скалы. Тут дух замирает. Таня прекрасно знала все эти особенности коварной Громотухи и смело, без колебаний, подошла к воде. Она была мутноватая, и дно брода не проглядывалось. Река еще не вошла в свои берега, и валун, у которого обычно раздевались смельчаки, был наполовину затоплен. Это не смутило девушку, она сняла босоножки, сунула ноги в воду. Да, холодна вода в Громотухе даже в жару. Надо растереть ноги, чтобы не зашлись в ломоте, и тогда можно смело шагать, подобрав подол юбки. Нет, она лучше снимет ее и блузку, все равно в конце брода придется плыть, а там быстренько одеть сухое. Она не боялась простудиться, молодость об этом не думает. Дорога и Андрюша согреют, выгонят всю простуду. Увязав одежду в узелок, она собралась шагнуть в воду, как перед ней выросла пьяная рожа человека, ее окатило сотнями обжигающих брызг. Таня взвизгнула. *** Они заметили ее сразу же, как только она появилась у берега. С минуту наблюдали за тем, как она подбиралась к воде, растирала ноги, а потом сбросила юбку с блузкой и осталась в трусиках. Парни почти одновременно протянули: –Русалка! Перед ее появлением они уже изрядно приняли горячительного, и только что еще опрокинули по рюмке коньяку, не успев закусить, опешили от ее неожиданного появления. Она и коньяк будоражили. –Берем! – раздались хищные возгласы. Парни обмывали встречу. Это были одноклассники и закадычные школьные друзья. Им было по двадцать три года. После окончания школы они вскоре расстались: Евгений Горин, черноволосый красавчик с ладной высокой фигурой, интеллигентскими манерами и капризным властным характером, прозванный Королем, тем же летом поступил в институт, а семья его навсегда поселилась в городе: отец стал директором крупнейшего комбината. Нынче Евгений должен был окончить институт, но на последнем курсе он разбил своего «жигуленка», можно сказать, вдрызг, получил тяжелое сотрясение мозга, изрядно помял свою стройную фигуру, и всю осень и до нового года провалялся в больнице. Какая уж тут учеба! Пришлось взять академический отпуск. Безделье томило парня, и он увлекся женщинами более чем прежде. Он же не виноват, что девки липнут к нему, как репейник к штанам. Стоит пройти мимо знакомой девчонки, подмигнуть ей, и она готова лечь под него в любое время. Он никогда никому не обещал ничего, не объяснялся в любви, а прямо говорил о своем намерении самца. Последней дурехе, из-за которой Евгений попал в поселок Предгорное – тоже. Но когда выяснилось, что она беременная, а Евгений и слышать не хотел о женитьбе, она попыталась решить свою проблему. Но кто так делает! Наглоталась таблеток, а когда случился выкидыш, чуть не истекла кровью, попала в больницу и едва выжила. В горячке назвала его имя. Вот батя и отправил его к родственникам, в ссылку, в село, где вырос Женя. И еще отец пригрозил устроить его в леспромхоз вальщиком на все лето, чтобы сбить с него спесь. Евгению наплевать на угрозы отца, ну, попилит деревья. Он же не будет упираться так, как все работяги, чтобы заработать. Маманя никогда не оставляла его без карманных денег на которые он мог свободно сходить в ресторан. А в отношении девчонки он вины за собой не чувствовал: у кого в холостяцкую жизнь не было женщин? Закон природы. Батя это, конечно, понимает. Он мог бы обойтись и без высылки сына в деревню, влияние у него огромное. Но не захотел нажимать на кнопки, решил проучить. Евгений не против этой ссылки, как-никак родные, знакомые края. Придет осень – снова сядет за книги, а пока он попьет, погуляет, подышит свежим воздухом да пощупает местных девчонок. *** Они грубо сцапали ее, брыкающуюся и кричащую, подхватили за руки и за ноги, как носилки, бегом понесли к месту своего пиршества, гогоча и похлопывая свободными руками по упругим ягодицам и бедрам. – Негодяи, подонки! Отпустите меня! – кричала девушка, силясь вырвать ноги, схваченные одним из парней. – Что вы делаете, отпустите! Андрюша вам головы разобьет за меня! – Хо-хо-хо! Кто такой Андрюша? Да мы его, как и тебя сейчас, сделаем! – Подонки, отпустите! Я выхожу замуж за Андрюшу. Он вас всех перестреляет, у него есть карабин! – не унимаясь, кричала Таня. Ее волосы свисали черной волной, цепляясь за камни и кустарник, и голова беспрестанно дергалась. Но она не чувствовала боль: гнев и ненависть к насильникам переполняли сейчас все ее существо. – Твой Андрюша далеко, а ты вот, голенькая, сейчас ты нам подаришь минуты наслаждений и, если будешь умницей, пойдешь к своему Андрюше. – Нет, этого не будет никогда! Я перегрызу глотку, выцарапаю глаза тому, кто посмеет надо мной надругаться! Неожиданно подтянувшись на правой руке, она впилась зубами в плечо Королю. Тот взвыл от боли, отпустил ее руку, но тут же с силой ударил девушку по спине ногой. Она вскрикнула от боли и невольно разжала окровавленные зубы. Брезгливо сплюнула. – Бросай ее, старики, на ковер, привяжем руки к дереву, пусть подрыгается, сука, – орал Король, зажимая кровоточащую рану. Капроновый фал нашелся в багажнике «волги», которая стояла под развесистой лиственницей в нескольких метрах от расстеленного на траве ковра, уставленного бутылками с коньяком, минеральной и газированной водой, рюмками, заваленного колбасой, сыром, рыбными консервами, свежими огурцами и хлебом. Тут же лежали острые охотничьи ножи. Парни, пошатываясь, отодвинули на середину ковра снедь и принялись привязывать сопротивляющуюся девушку к дереву, опрокинув ее на спину. – Ах, какие у нее плавочки! Дай-ка я сниму их и начну! – злорадно улыбаясь и покачиваясь, сказал Гена Толстиков по прозвищу Принц, которое он получил в школьные годы, считаясь лучшим приятелем Короля. Впрочем, эту кликуху дал ему Евгений, считая его вторым после себя классным авторитетом. Толстиков ничего не имел против, так как его имидж соответствовал действительности. Более того, Горин был сыном в то время первого секретаря райкома партии, Толстиков – сыном второго секретаря. По иронии судьбы Геннадий внешне выглядел менее эффектно: был немного ниже своего приятеля, с неброской, усеянной веснушками физиономией, рыжей вихрастой шевелюрой, но с выразительными синими глазами. Способности к учебе у него были ниже, чем у Горина. – Стоп! – заорал раненый. – Я уже пострадал от нее, к тому же я Король, я и начну! – Нет, старики, не пойдет, – возразил третий – Антон Гринин по прозвищу Граф. – Давайте по-джентельменски – выпьем по стопарику, угостим нашу девчонку, может, она одумается и отдастся нам добровольно, и у кого больше – тот и начнет. – Гениальное предложение! – согласился Король. – Идет, – поддержал Принц и принялся наливать коньяк в рюмки. Парни осушили их, Граф налил в рюмку добрую порцию, подошел к Тане. Она с ненавистью смотрела на незнакомцев. – Мы предлагаем тебе полюбовно, крошка, кстати, как тебя звать? Соглашайся, все равно это произойдет. – Он попытался влить коньяк ей в рот, но она намертво сжала зубы, расплескав содержимое рюмки, и Граф отступился. Парни еще больше опьянели, вели себя развязно. На глазах у девушки они стали определять, у кого больше. Оказался у Короля. И тот приблизился к своей жертве. Таня поняла, что это грязное, гнусное действо сейчас произойдет, не обойдется, как она надеялась, что парни все-таки одумаются и отпустят ее. – Мальчишки, – заплакала она, – что вы делаете? Пощадите! Вам попадет! Вас посадят! Но Король был неумолим. Таня билась бессильной лебедушкой, намертво схваченная голодным зверем. В ужасе она почувствовала, будто в нее входит раскаленный металл, обжигая не только ее органы, но и всю с головы до пят, до корней волос, она безумно кричала: «Нет-нет-нет». Но ее жгло и жгло, изнутри выгорала ее плоть торфяным пожаром. Вскоре гнев бессилия, стыда и отчаяния за поруганную честь и светлую любовь к Андрюше сразили ее, и она унеслась в небытие. Когда она очнулась, то не сразу сообразила, где она и что с ней. Поразила тишина и боль во всем теле. Она лежала на спине, ощущая во рту привкус коньяка. Слабо донесся шум реки. Она открыла глаза и увидела голубое небо и яркое солнце. Она лежала на чем-то мягком. Рядом раздался храп и сопение человека. Она шевельнула руками, они были свободны. Сильно болели посиневшие и ободранные запястья. Что же с ней произошло? Она почувствовала мокро между ног, увидела себя голую, и до ее сознания дошел весь ужас происшедшего, накатился черным беспросветным валом. Таня чуть было не вскрикнула. Но какая-то сила удержала ее, она замерла с открытым ртом. Рядом раздавался храп. Она скосила глаза вправо и увидела лежащего на спине голого парня. С гулко бьющимся сердцем, девушка осторожно села, огляделась по сторонам. Обнаженные ее враги спали. Она увидела нож. Он был большой и острый. На широком лезвии играли солнечные зайчики. Глазами она поискала плавки и лифчик. Они валялись рядом. Дотянувшись до плавок, она, стараясь не издавать ни звука, как мим на сцене, надела их, потом лифчик, и только тогда встала, сделала два зыбких шага и схватила нож, но слишком энергично, задев рюмку. Она предательски звякнула. Таня замерла, прижав нож к ноге. Парень, что лежал от нее слева, открыл глаза и пьяным голосом сказал: – Ты что, малышка, захотела выпить? Сладкая ты, мы тебя по два раза отделали и теперь в отрубе. Оставайся с нами, – и снова закрыл глаза, переворачиваясь на бок. Оцепенение Тани прошло быстро. Она прыжком, уже не таясь, приблизилась к Королю, лежащему на спине и разбросавшему ноги, схватила в горсть все хозяйство и с силой рубанула ножом. Если бы он так дико не взвыл, она бы бросилась ко второму с тем же намерением, но безумный вопль испугал ее, и, судорожно сжимая нож, Таня бросилась наутек. Она слышала вопли и погоню. Но она была проворней. Коньяк, влитый в нее насильно, шатал ее, дважды бросал на валуны, сбивая ее колени в кровь. И тогда крики, сопение и ругательства приближались, леденя в жилах кровь. У нее перед врагами было несколько преимуществ: внезапность, ненависть, призывающая к отмщению, делающая ее сильной и решительной; у них – паника, злоба, замешанная на страхе, толкающая к кровавой расправе. Девушка упорно рвалась к броду, к своему спасению, сжимая в руке нож. Она первая влетела в воду, и, чувствуя, как рядом с ней плюхнулся, как куль с навозом, один из ее насильников, инстинктивно отпрянула, насколько ей позволила глубина. Насильник, а это был Граф, попытался достать ее, рывком бросился к ней, но она снова ловко увернулась, отмахиваясь правой рукой с ножом, почувствовала, что зацепила его лезвием. Он же снова плюхнулся в воду, и его понесло к кромке слива. Не глядя на то, как поток смыл его в неистовую, пенящуюся Громотуху, как в водовороте замелькали то голова, то ноги, Таня поспешила преодолеть брод. Громотуха освежающе подействовала на девушку, придала бодрости и сил. Очутившись на берегу, девушка бросилась бежать по тропе, ведущей к дому. В поселок она залетела как безумная, ссадины на коленях сильно кровоточили. Но она не чувствовала боли и не видела, как кровь ручейками стекала по ногам. За плечами разметался черный пожар волос, глаза горели безумием. Как только ей с пригорка открылся вид затона, где кипела работа сплотчиков, и короткая улочка, ведущая к ним, Таня вне себя закричала: – Андрюша! Негодяи у брода, отомсти за меня! Застрели их из карабина! Она бежала по пыльной улице к затону. Ручейки крови покрылись пылью, побурели, обезобразили ее стройные ноги. Она бежала и неистово кричала одно и тоже, судорожно сжимая нож в правой руке. Тот, кому удалось услышать ее безумный голос, с тревогой и любопытством выходил на улицу и смотрел вслед. – Кто эта сумасшедшая? – спрашивали друг друга люди. – Танька, Андрюшки Климова невеста. – Что это с ней случилось? С ножом и в крови. Что-то орет, что – не понять. Она быстро очутилась у затона, увидев сплотчиков и катер Андрюши, остановилась на высоком берегу, закричала из последних сил: – Андрюша, убей негодяев, оторви им головы за меня! Ее увидели, сначала на плоту, а потом на катере. Она стояла у кромки обрыва, протянув руки к Андрею, нагая, растерзанная, измазанная кровью и пылью. Катер рявкнул сигналом, отвалил от плота, забурлил к берегу из последних сил, глубоко зарываясь носом. Андрей, с лицом, перекошенным от испуга, бледный, но стремительный, тигром бросился на берег, подхватил падающую от потери сил и нервного стресса Танюшу. – Что с тобой случилось? – выкрикнул он дико. – Андрюша, – с безумным блеском в глазах едва слышно проговорила девушка, – негодяев трое. Они у брода на машине. Одного я зарезала, убей остальных! Силы ее кончились, она увяла, как сорванный цветок в жару. – Таня, Танюша, – тряс Андрей ее как былинку, держа на руках, – объясни толком, что случилось? Она безмолвствовала. Он смотрел на ее истерзанные, окровавленные ноги, на побуревшие и напухшие в запястьях руки, на багровые круги на бедрах, на нож, выпавший из безвольно разжавшейся руки, и до него дошел смысл сказанного Танюшкой. Он дико заорал: – А-а-а! Перестреляю мерзавцев! Он заметался с Танюшкой на руках, не зная, что с ней делать, озираясь по сторонам. Отовсюду к нему бежали недоумевающие мужики, среди них встревоженный отец Тани. – Батя, позаботься о Танюшке, – подбежал он к Лескову, – с ней случилась беда. Я счас, только рассчитаюсь! Он осторожно передал ее на руки отцу и зверем кинулся к конторе леспромхоза, где стоял его мотоцикл. Через несколько мгновений, не слыша ничьих окликов, бешено рванул к своему дому. В каморке под замком стояли отцовские карабины и висели набитые патронами патронташи. Схватив стоящий в сенях топор, он влетел в прихожку и одним ударом снес висячий замок на каморке. Появившаяся на шум мать, в ужасе воскликнула: – Андрюша, что с тобой? Ты в уме ли? Что случилось? – В уме, мама. Танюшку…Танюшку.., – не мог он выговорить роковое слово, – я счас рассчитаюсь! – Он схватил карабин, патронташ и кинулся к мотоциклу. Произошло это так стремительно, что мать долго не могла понять и поверить в сказанное, и лишь когда на улице взревел мотоцикл, ужас охватил ее. – Андрюша, постой, куда же ты, одумайся! Не пущу! – завопила мать и бросилась на улицу, но Андрей уже оседлал мотоцикл, и за ним заклубилась пыль. По улицам поселка он помчался на предельной скорости, но когда свернул на старую конную дорогу, жажда мести заставила его сбросить газ и ехать так, чтобы не разбиться на ухабах, застать преступников на месте и покарать их. Он боялся не успеть, потому стал вести себя трезво, по-охотничьи расчетливо. Он подкатит мотоцикл к самой Громотухе, осмотрит берег, и, если увидит их, отношения выяснять не станет, а снимет зверей тремя выстрелами. Он не думал о последствиях, перед глазами стояла истерзанная беззащитная Танюшка. Он представил, как она боролась с насильниками, защищая себя и их любовь. Он не простит себе никогда, если не отомстит за невесту, не выполнит ее просьбу. Андрей гнал мотоцикл не менее шестидесяти километров в час, это был предел скорости на ухабистой горной заросшей дороге, но и эта скорость казалась ему черепашьей. Карабин за спиной не мешал, он еще дома на бегу машинально закинул его, а вот патронташ, брошенный меж колен на бензобак, прыгал и грозил свалиться, отвлекая внимание от дороги. Он поправлял его, не сбрасывая газ, прыгал на ухабах, рискуя опрокинуть мотоцикл. Наконец, послышался говор Громотухи. Дорога ухудшилась, скорость упала: всюду торчали бесчисленные гранитные гребни. Блеснул на солнце плес. Андрей остановил мотоцикл, схватил патронташ и бросился вперед. Рев Громотухи наплывал быстро. Опоясав себя патронташем, на ходу зарядив карабин, Андрей выскочил на прогалину, откуда открывалась широкая панорама Громотухи: плес и прилегающее к нему побережье. И только он окинул взглядом противоположный берег, как увидел уходящую черную «волгу». Она втягивалась в просеку. Еще мгновение, и ее зад скроется за поворотом. Андрей вскинул карабин и ударил по машине всей обоймой. Он был уверен, что несколько пуль всадил в машину, но задел ли он кого? Стрелок находился высоко, и ветки лиственницы, под которой проезжала машина, закрывали крышу и верх заднего стекла. Появись он на секунду раньше, ветки не помешали бы ему прицельно ударить по седокам. – Ушли, мерзавцы! – выругался Андрей. – Но я вас найду! Глава вторая. Кабинет генерала Ломова, как и тысячи подобных, давит на психику посетителей продуманно. Стены кабинета отделаны под красное дерево, на широких и светлых окнах тяжелые бархатные шторы, вверху собранные портьеры. На потолке две крупные хрустальные люстры. Паркетный пол застлан широкими мягкими ковровыми дорожками. На задней стене огромный портрет железного Феликса с едва заметной саркастической улыбкой, которая, разумеется, относится не на счет хозяина кабинета, а скорее в адрес того, кто входил сюда и невольно бросал взгляд на это своеобразное панно. Под портретом широкий, полированный стол генерала. По центру к двутумбовой громадине примыкает весьма длинный, но чуть пониже, полированный стол, охваченный шеренгами массивных мягких стульев, что неизменно впечатляет. Собирающимся сотрудникам вся гвардия столов и стульев, громада кабинета как бы дают понять, что они тут ничто, а глава всем и всему тот, кто в центре под железным Феликсом. Он, центральный, и царь, и бог. Эта классическая форма кабинета весьма удобна тем, что она с успехом дублировалась на всех этажах власти, и всюду давала знать, кто есть кто. Человек, входящий в этот огромный, застланный ковровыми дорожками кабинет, терял себя, призадумывался, спесь, если и была, слетала, рассеивалась, как дым на ветру, вызывая в человеке робость. Ломов любил свой кабинет. В нем проходила большая часть его жизни. Безупречная генеральская форма на нем так подходила к этому кабинету, что Ломов просто не понимал, почему ему так долго не присваивали генеральское звание. Выглядел он хотя и старше своих шестидесяти пяти лет, но золото на погонах молодило его. У Сергея Климова – старшего следователя по особо важным делам, в кабинете не было подобного т-образного стола, создавая некоторую пустоту и унылость. На стенах, выбеленных известью, не висело ни одного портрета, зато на правой от входа – распростерлась огромная карта края со всеми населенными пунктами, реками и озерами. Единственный двутумбовый стол примостился у окна и был обращен к карте. Сзади стола, в метре, возвышался тяжелый, выкрашенный в светло-голубой цвет сейф. На окне висели легкие светлые шторы. Несколько стульев, телефоны на тумбочке, селекторная связь довершали обстановку. Вернувшись, после утренней оперативки, в свой кабинет, Климов отомкнул дверцу стола и вынул из выдвижного ящика кинжал. Повертев его перед собой, он взял лупу и стал рассматривать рукоятку ножа, набранную из бересты. Он остановил свое внимание на основании рукоятки, долго не отрывал взгляда от микроскопически выполненного крестика. Только он знал об этом крестике, да еще один человек, имя которого Климов знал, но боялся произнести. Наконец Климов отложил лупу, откинулся на спинку стула, и печать наслаждения и удовлетворения расплылась по его моложавому скуластому лицу. Едва уловимая улыбка тронула тонкие плотно сжатые губы. Этот нож перекочевал из сейфа вещественных доказательств в стол следователя уже давно. Климов резал им хлеб, открывал консервные банки, если случалось перекусывать в кабинете, или вечерами, когда вспыхивали незапланированные выпивки. Нож был острый, тяжелый и необычайно крепок: лезвием можно было рубить гвозди. Как ни кидай, кинжал переворачивался в воздухе и обязательно втыкался острием: клинок значительно перетягивал рукоятку. – Вот так и убит был прокурор, – говорил Климов поначалу, если кто-нибудь из компании бросал нож в цель, подчеркивая, – на приличном расстоянии. Поэтому убийцу никто не видел, хотя народу на улице в этот час было полно. Потом этот комментарий надоел ему и ребятам. Все знали эту старую историю, и она позорным пятном висела на управлении вот уже пятнадцать лет как дерзкое нераскрытое преступление. Винить же Климова ни у кого не хватало духу: первые пять лет следствия прошли без него. Климов иногда вынимал этот нож из сейфа просто так, посмотреть. Потом он переложил его в ящик стола. Он клал клинок перед собой, закрывал глаза и что-то шептал. Аскетическое его лицо в такие минуты еще больше выглядело худым, и без того острый нос заострялся. На впалых щеках проступал румянец, и что происходило в его душе, о чем он бормотал и думал, одному Богу известно. Если Климов куда-то уходил, он непременно запирал нож на замок. Сегодня свои таинства Климов проделал с повышенными эмоциями: генерал вернулся из столицы, и следователь ждал, когда он пригласит его к себе в кабинет. Через несколько минут из селектора донеслось: «Климов, зайди». Следователь с удовлетворением встал, чему-то усмехнулся, в его серых глазах засветились искорки веселости, но, выйдя в коридор, он тут же набросил на себя маску безразличия и непроницаемости, неторопливо направился к начальнику. Климов был соткан из крепких мышц, имел рост чуть выше среднего, обладал бесшумной рысиной поступью, выдержкой и звериной реакцией. Носил штатский, неброского цвета костюм, и всегда при смене его сталкивался с проблемой выбора. Ни в один из пиджаков своего размера не вмещались его широченные плечи. Проще было заказать костюм в ателье. А вот галстуки он не любил, вместо сорочек предпочитал легкие свитераводолазки. – Здравия желаю, Алексей Иванович, – сказал Климов, войдя в кабинет, щелкнув каблуками. – Проходи, Климов, – сказал генерал с недовольными нотками в голосе и подумал: «Почему он никогда, или очень редко, употребляет слово товарищ?» Подождав, пока Климов подойдет к столу, генерал протянул ему короткое анонимное письмо, написанное на машинке. В нем значилось: «Хочу Вам напомнить, что дело об убийстве прокурора за давностью срока по закону следует закрыть. Отмщение состоялось полностью». – Надеюсь, уже читал?– несколько раздраженно спросил генерал. – Изучал, – бесстрастно ответил Климов. – Что скажешь? – нетерпеливо спросил генерал. – Аноним прав: надо исполнять закон, хотя… – медленно ответил Климов, и, как бы не решаясь высказать свои соображения, умолк. – Что – хотя? – удивился генерал. – Есть другие соображения? – Нет, закон есть закон. Я хотел сказать, что хотя я почти вышел на след убийцы. На минуту воцарилось напряженное молчание. Генерал пристально смотрел на Климова, тот выдержал его взгляд, но уловил в маленьких, навыкате, словно выпадающих из глазниц, черных глазах генерала мелькнувшее беспокойство. – Объясни? – сухо приказал генерал. – Мне не стоило бы заикаться, но коль воробей вылетел… – Вот именно, полковник, – недовольно констатировал генерал. – Виновато ваше хобби, Алексей Иванович, – неторопливо начал Климов.– Я имею в виду ваши рассказы. Вы их печатаете на портативной машинке «Москва», шрифт ее мне известен: вы не раз приносили ваши рукописи, как бы на первую пробу. – Приносил, – нахмурился генерал, соображая, куда клонит Климов,– и что же ты хочешь сказать? – Что преступник в нашем городе: шрифт в анонимном письме и шрифт ваших рассказов идентичен. – Ты соображаешь, что говоришь? – грозно сказал генерал. – Вы не допускаете, что машинкой могли воспользоваться? Вам не раз доставляли ее на дачу, – бесстрастно ответил Климов. – Но мы уже не имеем права преследования. Генерал долго, в задумчивости, барабанил пальцами по столу, что означало его внутреннее волнение, затем он, не глядя на Климова, сухо сказал: – Что ж, готовьте рапорт. Климов ушел. За всю свою практику он не имел ни одного нераскрытого преступления. Его шестое чувство безошибочно выводило на злодеев. И он знал двух человек, которые могли быть причастны к убийству прокурора пятнадцать лет назад. Теперь же анонимка отметала подозрения от одного, безошибочно указала на другого. Но закон уже защищал этого дерзкого человека. Климов мысленно вел с ним диалог. «Вы думаете, вас нельзя разыскать и обвинить?» «А что это даст? Поезд ушел, вы опоздали». «Хотя бы из-за профессиональной гордости. Найти, чтобы отпустить. Вы что же, возомнили из себя гения, и ваше преступление относится к разряду тайн века?» «Нет, не возомнил, я не профи. Это месть». «Бросьте, не подсовывайте мне туфту. Даже сейчас вы хотите несколько реабилитировать себя, играете в благородство, но истинные мотивы совсем иные. Я знаю о вас больше, чем вы думаете, и не ошибусь, если скажу: вы устранили своего конкурента». «Валяйте, что там еще?» «Жестокость – ваша главная черта характера, вы хорошо тренированный человек, отличный стрелок, хорошо владеете холодным оружием», – торопливо излагал Климов, как бы боясь, что образ того, кто виделся ему за строчками анонимного письма, исчезнет, и он не успеет точно восстановить его в своем воображении. И ему действительно чудилось, как образ незаметно стал трансформироваться, но следователь продолжал цепляться за свое видение и лихорадочно продолжил беззвучный диалог: «Я вас вижу. Вы чуть выше среднего роста, блондин со скуластым аскетическим лицом и широкими плечами, сильный физически, с твердой волей и прекрасной реакцией… Вы из репрессированной казачьей семьи. Нож – орудие убийства – принадлежал вашему отцу или деду. Клинок вам дорог, и, будь я менее бдителен, вы бы увели его у меня из-под носа. Вы не раз клевали на мою приманку, но осторожность не допустила сделать этот шаг». «Ну, полноте! У тебя в голове сумбур, ты нарисовал портреты двух человек. Но скажу точно – это была месть! Хочешь знать историю моей жизни? Наши судьбы в одном снежном коме». Глава третья. Все детство и юность Сережи Климова были связаны с поездами. Тревожный перестук колес, сиплые, но мощные вздохи тормозов, лязг и скрежет буферов, холодные, но безопасные товарняки, теплые пассажирские, но с постоянной тревогой зайца: быть пойманным контролерами и отданным в жестокие руки красноперых. Он их ненавидел и не покорялся. Все его детство и юность поломали, нет, разорвали в клочья, они. Эта жуткая ломка началась страшной осенней ночью, когда высокий с маленькими навыкате черными глазами энкавэдэшник, с носом, похожим на жабу, угрожая пистолетом, выводил его отца из спальни. Мама, боясь разбудить детей – Сергушу и Матюшу, беззвучно плакала и молилась Всевышнему о пощаде. Но Бог не услышал или не захотел услышать ее молитвы, и Сатана в образе красноперого верзилы с жабой на лице через несколько дней явился в их дом снова. Он приказал маме собираться в дорогу, разрешив взять только самое необходимое из вещей да продукты. Бледная, перепуганная мама похватала теплые вещи для сыновей и для себя, спросила: – А куда нас погонят? – К черту на кулички, – злобно ответил красноперый, – вслед за белоказачьим шпионом. – Побойтесь Бога, вы же вместе с мужем служили в Красной Армии. – С тех пор много воды утекло: он – заговорщик против Советской власти. Собирай быстрее своих щенков, сука! Не то вылетишь из хаты в чем есть. Потом они бесконечно долго ехали в холодном товарном вагоне с десятками таких же бедолаг. Сергуша смутно помнит эту дорогу: бесконечное движение и вопросы без ответа: «куда мы едем?», стук и ржавый скрип колес, теснота и темень, неутолимый голод и вонь из параши, что стояла посередине вагона. Они с Матюшей слышали плач, видели слезы на лицах мамы и других женщин, но тревога за их будущее не могла надолго поселиться в их мальчишеские сердца, путешествие, какое бы оно ни было, увлекало, братья еще не понимали той трагедии, что разыгралась с ними. Рядом была мама. Она кормила их сначала тем, что успела взять из дому, потом хлебом, булки которого в мешках бросали в вагон конвойные во время ночных остановок; поила кипятком, что брали из железной бочки, стоящей на железной печке, прозванной буржуйкой; потеплее укрывала, когда они ложились спать на соломенную подстилку, быстро измявшуюся в труху. Отчетливо врезалась в память Сергуши бесконечная ласка мамы, ее тихая и печальная просьба: «Сыночки мои, что бы с вами ни случилось, – шептала мама, утирая несвежим носовым платком слезы, – ни за что не расставайтесь. Братья-близнецы не могут жить друг без друга. Они болеют одинаковыми болезнями, чувствуют себя лучше, когда рядом. Не дай Бог случиться несчастью, и вы потеряетесь, то ищите друг друга каждый, зовите сердцем, и оно подскажет верную дорогу…» «Не беспокойся, мамочка, мы всегда будем рядом», – обещали Сергуша и Матюша, не понимая того, что им грозит впереди, как и никто из взрослых не знал, что уготовила им судьба. Скоро они хлебнули из полной чаши горечь сиротства и скитаний по белому свету. Путешествие по железной дороге окончилось на далекой сибирской станции дождливой и холодной ночью. Людям приказали выходить из вагонов. Темень, порывы холодного ветра с дождем пугали женщин, отовсюду доносились одни и те же вопросы: «Где мы находимся? Что ожидает нас дальше? Где мы будем жить?» «У черта за пазухой! – раздавались в ответ грубые голоса. – Сейчас предоставим вам царские хоромы!» Тревога и страх усиливались, шум и плач женщин и детей нарастали лавиной. Злые конвойные торопили женщин. Тех, кто замешкался в вагонах, силой выталкивали на мокрую землю. Падая, они разбивали до крови руки и ноги. Стоны, мольба пощадить, плач и проклятия палачам летели со всех сторон. Но вот, перекрывая испуганные причитания женщин, все усиливающийся гул страха, откуда-то сверху донесся свирепый голос: – Женщины старше шестнадцати лет становятся в одну колонну, дети до шестнадцати лет – в другую! Это приказ! – Изверги, фашисты! Леденящий душу вой ужаса пронесся над толпой и повис в ночи тяжким знамением зла. В этом безудержном вопле, исторгаемом душой каждой матери, был заключен и вылился тот долгий, застарелый страх, что копился в пути и нарастал ледяной глыбой за судьбы их малых детушек, за их собственную жизнь, в которой каждая из них не способна уж помочь выбраться из беды их родным созданиям; этот вопль не был суровым, от которого могли вздрогнуть их палачи, он был воплем обреченного, толкаемого к краю пропасти не надеющегося на волшебное спасение, которое могло состояться, но не состоялось. Этот вопль был паническим, безысходным, уничтожающим последнюю волю к сопротивлению, к осмыслению действительности. И все же кто-то нашел в себе силы и над толпой, как пламя, вспыхнул и прокатился возглас: «Они хотят разлучить нас с детьми! Не отдадим палачам наших деток!» Толпа вздрогнула, заколыхалась, и с материнским, все поглощающим жутким воем, стала разрастаться и раздвигаться. Вот темные тени метнулись к стоящему поблизости лесу. Вслед за ними бросились конвойные, раздались выстрелы из винтовок, сея смерть и панику. – Стоять на месте! – орали конвойные. – Не то всех перебьем! Конвойных становилось все больше и больше, они бежали из единственного здесь здания станции и, работая прикладами винтовок, стали сбивать толпу плотнее, оцепляя ее со всех сторон. Мама схватила мальчиков и потащила их за собой в глубь толпы. Но она вдруг почувствовала, как из рук ее вырвали сначала Сергущу, потом Матюшу. Как ни была темна ночь, а она увидела все того же военного, что схватил ее мужа и лишил крова. Его свирепый оскал зубов, рассевшаяся жаба на лице вместо носа, были страшны и безобразны. Мама из последних сил закричала, завыла, вцепилась побелевшими от холода и дикого страха пальцами в своих сыночков, умоляя не отбирать у нее детей. Но страшный человек с жабой на лице огрел ее казацкой нагайкой, вырвал из ее рук обезумевших от страха мальчишек и погнал ее в толпу уже бездетных женщин, кричащих и умоляющих оставить детей с ними. – Бог, где ты! Неужели и в самом деле нет тебя, если ты позволяешь палачам глумиться над невинными людьми! Защити! Она упала на колени и простерла руки ввысь, собираясь возложить на Бога ту черную работу, которую люди теперь не в состоянии проделать сами. С тех пор, как начались ее беды, она снова стала цепляться за невидимые нити божеского спасения. Детство ее в родительском доме прошло с Богом. Она молилась ему. Это потом она предала его, как все новое поколение, перенявшее революционную идеологию из уст своих учителей. Но ведь и ее палачи тоже предали Бога! Они вовсе не верили в него. Они стали слугами дьявола. Да, она не была антихристкой, а потому не стала слугой дьявола. А эти? Эти стали! Вот в чем истина! Удар прикладом в спину утвердил ее мысль об истине. Ей не было больно, хотя где-то там, в области правой лопатки заломило. Нестерпимая боль в душе от познания истины и вины своей перед Богом, низвергнувшееся несчастье на их головы, заглушила физическую. Она испугалась, что может погибнуть уже теперь от жестоких ударов палача, вскочила, едва вновь не падая, и, гонимая безжалостным конвоиром, слилась с толпой женщин, а когда почувствовала относительную безопасность, стала искать взглядом сыновей. Сергуша и Матюша, прижавшись друг к другу, стояли с искаженными от страха лицами. – Сыночки, прощайте! – вскричала мама. – Держитесь друг друга, никогда не разлучайтесь! Я найду вас, когда этот кошмар кончится! – Не бойся, мама, мы не пропадем! Будем всегда вместе. Сергуша и сейчас слышит мамины слова, ее тихий шепот о том, что «братья-близнецы тогда сильны, когда вместе, если один заболеет, то и другой тоже, если один почувствует боль, то и второй тоже. Близнецы читают мысли друг друга на расстоянии, и если вы, к несчастью, потеряетесь, то ищите каждый, зовя и прислушиваясь к внутреннему голосу, и он непременно приведет к встрече рано или поздно». Вскоре холодные порывы ветра, шум мелкого дождя и мрак ночи заглушили и поглотили надрывные и безумные крики толпы женщин, отчаянные проклятия в адрес тех, кто гнал их в дикое рабство, где каждый мог быть избит и унижен, где мог получить пулю в затылок, где жизнь не стоила и ломаного гроша. Да и не нужна была жизнь этим несчастным женщинам, их уже никто не мог унизить гаже того, как они только что были унижены и раздавлены, лишившись своих детей, своей кровинушки. Им теперь не нужна жизнь как таковая: многие предпочли бы тут же умереть, но они все же цеплялись за эту жизнь лишь потому, что у каждой из них теплилась надежда, что они еще могут выпутаться из этого страшного кошмара и разыщут своих детей, обогреют их, накормят, приласкают. И они шли и жили одной этой надеждой, хотя, в сущности, были уже мертвецы. Никто из них не чувствовал своего тела. Их ноги машинально ступали в липкую холодную грязь, несли во мглу навстречу пронизывающему мокрому ветру бесчувственные к физической боли омертвевшие тела, и никто во всем мире не мог заступиться и спасти эти невинные и бессмысленные жертвы. Жертвы своей страны, врагами которой никогда не были. Жертвы сталинской инквизиции. Через несколько минут, когда ночь полностью поглотила звуки материнской толпы, детей собрали в кучу и повели по узкой лесной дороге с вязкой грязью. Они шли долго и трудно, подгоняемые криками безжалостных конвоиров. Беспрерывно моросящий холодный дождь сделал одежду тяжелой и ледяной. Сергуша и Матюша уже выбивались из последних сил, боясь упасть в жуткую грязь и быть растоптанными шедшими сзади военными, как, наконец, раздался крик: «Пришли!» – и детей завели в какой-то длинный барак. В коридоре горела одна керосиновая лампа. Дети прошли на ее свет и очутились в большой и пустой комнате с печкой посередине. Она топилась, от нее несло теплом, как от мамы. Кто-то принес керосиновую лампу. В ее тусклом свете детям приказали раздеться и разуться, ложиться вокруг печки на расстеленные на полу матрацы. Сергуша и Матюша, не проронив ни единого звука, как и все остальные дети, словно были немые, сняли с себя мокрую верхнюю одежду, грязные ботинки, отнесли в общую кучу и поспешили к теплой печке на тощие матрацы. Очень хотелось есть, но никто от пережитого ужаса не смел об этом заикнуться, а каждый постарался прижаться к теплой печке, согреться и уснуть. Сергуша с Матюшей уткнулись носами друг в друга, и, вздрагивая согревающимися телами, крепко уснули под стегаными одеялами, небрежно наброшенными на малышей чьейто грубой и безразличной рукой. Так началась их детдомовская жизнь, полная лишений и страданий, какие выпали на долю многим сотням тысяч детей «врагов народа». Непогода прошумела. Над дощатым бараком установилось ведро. Солнце, особенно в затишке, пригревало. Окрестный лес стоял пустой и голый. Кое-где темными великанами виднелись сосны. Сергуша и Матюша уже оправились после той страшной ночи, освоились с новым местом и решили пуститься на поиски мамы. Они помнили, в какую сторону ушла толпа женщин с поезда и стали готовиться к побегу из детдома, обнесенного высокой оградой и обтянутой колючей проволокой. Ограду строили взрослые мальчишки из других бараков, что стояли чуть подальше. Ходить туда строго запрещалось. Говорили, что это хулиганы и карманники. Мальчишки эти кричали: «Эй вы, дети врагов народа, идите сюда, мы вас воровать и драться научим, а то пропадете». Сергуша с Матюшей драться и без них умели. Они росли в казачьей станице, где научились ездить верхом на лошадях, рубились деревянными шашками на скаку, гоняли наперегонки и даже этим летом участвовали в соревнованиях на бегах. Словом, были ловчее любого хвастуна. Они знали, что дед у них был казачий атаман, а отец красный кавалерист. Но почему он стал врагом народа, им не понять, так же, как не понять, почему их привезли сюда, в холодную Сибирь, с теплого юга, почему угнали маму, а их поселили в грязном бараке, как баранов. Мама была учительницей. Они вместе с ней ходили в школу, что плохого могла она сделать? Ее так любили ученики. Сергуша и Матюша три дня копили хлеб и на четвертый день утром, когда их выпустили из барака на прогулку, убежали в лес через недостроенный забор. Лес оказался густым и хвойным. Они долго пробирались сквозь заросли на шум прошедшего поезда, и когда вышли к насыпи, вылезли на линию и пошли в ту сторону, куда, им казалось, угнали их маму. Солнце пригревало, и они, счастливые, прыгали по шпалам. Потом они съели по кусочку припасенного хлеба, и пошли дальше в надежде встретить людей и спросить, не знают ли они, куда угнали маму вместе с другими женщинами, которых ночью привезли на станцию. Они шли долго, с обеих сторон дороги тянулся хвойный лес вперемежку с оголенными огромными и малыми деревьями с красноватой корой. Лес был глух, но красив. Он отцветал осенними последними красками. Мальчики дважды вспугивали стайки куропаток. Их было много, они подпускали к себе так близко, что можно было броситься и схватить. Третий табунок они увидели на открытой полянке. Матюша бросился к ним, готовый схватить птицу, но табунок, почти из-под ног, вспорхнул и перелетел через насыпь, скрылся в кустарнике. – Вот бы тятькино ружье, – воскликнул Матюша, – я бы половину табунка подстрелил. – Подстрелил бы, – согласился Сергуша. – Смотри, какие-то ягоды краснеют, – закричал Матюша. – Давай туда, Сергуша, поедим. Это, наверное, кислица! Мальчики сбежали с насыпи, подобрались к кустарнику, который был усыпан рубиновыми гроздьями ягод. – Осторожно, Сергуша, не тряси, а то осыплются! – предупредил Матюша и снизу горстью загреб кисточку. Ягодки, как только он коснулся их ладонью, скатились к нему. Матюша отправил в рот сочные сладко-кислые рубиновые бусинки. – У-у, как вкусно! – забубнил он с полным ртом. Сергуша пристроился рядом, осторожно обирая кисточки и отправляя ягоды в рот. Глаза братьев радостно сверкали, в душе пробудился восторг, и они на какое-то время забыли, что вот уже около месяца живут безрадостно под надзором крикливой воспитательницы. Они не заметили, как по железной дороге с легким стуком подкатила дрезина, остановилась. С нее соскочил военный с жабой на лице и направился к братьям, размахивая хлыстом, чтобы ожечь их ударом, схватить, оторвать от короткого счастья, которым они упивались у кустов кислицы. За побег братьев поставили в угол и стали спрашивать, почему они сбежали и куда шли? Сергуша и Матюша ничего не хотели объяснять. Тогда в угол насыпали гороха и поставили их на колени. Братья молча переносили боль от врезавшихся в коленки горошин. На глазах у мальчиков набухали беззащитные слезы и скатывались по щекам. Палачи видели, как мальчики страдают, и ждали, когда те попросят прощения. Но братья молчали. Они были первыми в этой комнате, кого наказали так жестоко. Воспитательница, сухая и высокая блондинка, с длинными костлявыми руками, наблюдала за ними, ждала, когда они разревутся. Но они молчали, даже когда остальные дети улеглись спать, а керосиновая лампа, единственная на всю большую комнату, была потушена. Мальчикам тоже хотелось спать, веки их тяжелели, их трудно было держать открытыми, смотреть в темноту, они закрывались. Братья почти одновременно заснули и свалились на пол. Воспитательница разбудила их, и, больно тыча своими костлявыми кулаками в спины, разрешила лечь спать до шести утра, с тем, чтобы до общего подъема они снова стояли на коленях на горохе. Пусть все видят, что за побег из детдома каждого будут строго и безжалостно наказывать. Утром в барак пришел военный с жабой на лице. Братья его ненавидели. Он остановился посреди комнаты, широко расставив ноги, похлопывая хлыстом по своему сапогу. Черные, маленькие, навыкате, глаза его зло сверкали. – Где вчерашние беглецы? – грозно спросил он. – Вон, в углу, на горохе стоят, – сказала сухая воспитательница. – Я бы еще и соли подсыпал паршивцам, – захохотал военный. – Я забираю одного, чтобы больше не устраивали побеги. Он подошел к братьям, грубо схватил за руку Сергушу и отрывисто, как злой кобель, гавкнул: – Пошли, щенок! Это будет получше гороха! – Я не хочу без брата! Мама не велела нам расставаться, – закричал Сергуша, упираясь изо всех сил, но, получив крепкий подзатыльник, вылетел из комнаты. Военный выволок Сергушу на улицу, бросил его в повозку, запрыгнул в нее сам, придавив мальчика ногой, чтоб не брыкался, и увез в другой детдом. Глава четвертая. Климов закончил писать рапорт о закрытии дела, когда его снова пригласил к себе начальник управления. Собрав бумаги в папку, где стояло «на подпись», и, прихватив ее с собой, направился к генералу, уверенный, что приглашает он его по какому-то новому чрезвычайному делу. И он не ошибся. Войдя в кабинет, он увидел генерала взволнованным: на его холеном лице поблескивали мелкие капельки пота, особенно влажным был широкий, похожий на жабу, нос. Генерал нервно промокал пот носовым платком и не скрывал своего волнения и раздражения, об этом же говорил злой блеск его маленьких, навыкате, глаз, что удивило следователя. Подойдя к столу, Климов щелкнул каблуками, положил папку на стол, хотя видел, что генерал с нетерпением ждет подчиненного, когда тот будет весь внимание. – Папку с рапортом оставь, посмотрю, – стараясь говорить спокойным тоном, что плохо удавалось, сказал генерал. – Сегодня же, точнее немедленно, поезжай в Предгорное, это Громотушинский район, посмотри, что там стряслось, что там за дело? Выводов своих и советов – никому, пока лично мне не доложишь! – генерал сделал многозначительную паузу. – Ты понял? Климов поднял подбородок, вроде бы вытягиваясь в струнку в знак получения приказа, но жест этот означал кивок наверх. – Что ж тут не понять? Иди, поторопись! Климов медлил. – Нет у меня никакой по этому делу информации, – ледяным голосом сказал генерал, – тебя за ней посылаю. Лицо генерала стало непроницаемое, как булыжник, а нос расплылся и походил на жабу. Всякий раз, когда у Климова возникало такое сравнение, он вспоминал далекое событие своего детства и, ассоциируясь с мальчишеским желанием, готов был впиться ногтями в рожу этого человека. Но теперь он предпочел бы таранный удар, от которого генералу не устоять. Сдерживая свои эмоции, Климов молча повернулся, беззвучно ступая по ковровой дорожке, удалился, не веря генералу в отсутствии у него какой-либо информации. Глава пятая. Весь оставшийся день и вечер Таня провела в истерическом плаче. Мечты о счастливой семейной жизни, казавшиеся такими реальными, рушились. Ее любовь к Андрюше, как и его к ней, теперь выглядела потрепанной и изорванной куклой, попавшей под гусеницы трактора. И как ее теперь ни отстирывай, ни латай, она будет выглядеть плохо. Более того, до конца осознав все случившееся и предчувствуя последствия, – не дай Бог, беременность и убийство Андреем их врагов, девушку охватил страх за любимого человека. Масла в огонь подлила Софья Антоновна. Она прибежала к Лесковым, и, ломая руки, рассказала, как Андрюша схватил карабин с патронами и уехал на мотоцикле. – Ох, боюсь за него! Ох, постреляет он этих гадов, если найдет! Моего единственного сыночка посадят в тюрьму! – голосила Софья Антоновна. – Что же нам делать? Как помешать ему? – Беги, Софьюшка, к Матвею, скажи ему, что да как, может, он что и придумает,– отвечала Степанида. Софья Антоновна тут же ушла разыскивать Матвея, а Таня принялась казнить себя за то, что просила Андрюшу убить мерзавцев. Потом ей в голову пришла мысль, что с Андрюшей случилось что-то худшее. Картины одна другой страшнее поплыли в ее воспаленном сознании… Вот Андрюша на полном ходу мотоцикла врезается в дерево и замертво падает на землю. Он, не попрощавшись с нею, закрывает глаза и весь окровавленный перестает дышать… Нет, с Андрюшей такое не может случиться, он хорошо умеет ездить на мотоцикле! Скорее второпях оступится на броде через Громотуху и его снесет в бурлящий водоворот, разобьет о подводные скалы. Андрюша захлебнется, а тело его никогда не найдут… Нет, и это не может случиться! Андрюша прекрасно знает Громотушинский брод, он ловкий и осторожный охотник, и такую оплошность не допустит. Скорее всего, он и не будет переходить реку вброд, а перестреляет всех с высокого левого берега. Они даже выстрелов не услышат, как глухари на току. Андрюша бьет без промаха. Три окровавленных трупа! Так рассчитается с ними Андрюша! Но его же схватят, повяжут! Она видит, как ее любимого вяжут грубыми колючими веревками. Он борется, не дается, но менты на него набрасываются стаей, как волки на лося, валят его, накрепко вяжут и бросают в сырую тюрьму… Нет! Таня этого не хочет. Пусть все останутся невредимыми и живыми, только бы Андрюшу не бросали в тюрьму! Плача, она стала твердить одно и тоже: «Господи, останови и вразуми Андрюшу! Меня обесчестили, но я по-прежнему страстно его люблю!» Через некоторое время появилась новая коварная мысль: «Но будет ли теперь меня любить Андрюша? Состоится ли свадьба?» Эти роковые вопросы острыми крючьями застряли в ее голове, и никто не в силах был удалить их, кроме самого Андрюши. Но его нет уже целую вечность. Таня как во сне, видела своих родных, которые допытывались о происшествии и составляли заявление в милицию; врача из амбулатории, осмотревшего ее и подтвердившего, что Таня действительно подверглась сексуальному насилию и истязанию. Когда заявление было написано, а Таня подписала его, ей дали снотворного. Но то ли доза оказалась маленькой, то ли желание дождаться возвращения Андрюши было настолько велико, что Таню сон не брал. У нее поднялся жар, она металась на кровати, бредила жуткими видениями Андрюшиной мести, а затем расправы над ним милиции. Встревоженная состоянием дочери, боязнью за ее рассудок, мать заставила ее принять новую дозу снотворного. Таня стала забываться, и тут вернулся Андрюша. Последнее, что врезалось в ее память – это его лихорадочно сверкающие глаза, да рубашка, испачканная кровью и грязью. И она лишилась чувств. Андрей выпустил всю обойму из карабина по уходящей черной «Волге», но она не взорвалась и даже не остановилась. Стрелок уверен – в такую огромную мишень он промахнуться не мог. И, тем не менее, преступники ушли. В бессильной злобе Андрей бросился к броду, перебрался на левый берег, где нашел одежду Танюшки, обследовал прилегающий берег и по следам машины пришел к биваку. Здесь валялись пустые бутылки, куски хлеба, окурки, ломтики колбасы и сыра и самое главное – кровь. Ее было пролито много. Трава и песок были обагрены то там, то здесь. Танины слова подтверждаются: она действительно решила одного ублюдка, но насмерть ли? Кровавый след тянулся к стоянке машины, отпечатки колес которой четко обозначились на песчаной почве. Здесь презанного человека грузили в салон. Андрей пошел к просеке и на старой дороге обнаружил осколки заднего стекла «Волги», которое он разнес первыми пулями. Андрей постоял в нерешительности, соображая, что делать дальше: искать ли преступников или возвращаться домой? Он решил пройти вниз по течению реки с надеждой встретить кого-нибудь из рыбаков и спросить: не видел ли тот стоявшую выше машину, не знает ли ее владельца? Вскоре Андрей действительно увидел рыбака, который возился с парнем. Тот был в плавках, довольно крепкого телосложения, с короткой стрижкой и окровавленной головой. Сердце у Андрея учащенно забилось, и он бросился к незнакомцам. – Что случилось? – спросил Андрей, низко наклоняясь к рыбаку, силясь перекричать гул Громотухи. Рыбак резко вскинул голову, и Андрей уловил испуг в его глазах то ли от неожиданности, то ли от грозного вида незнакомого человека, перепоясанного патронташем, с карабином на плече и в мокрых джинсах. – Да вот, выловил, – с дрожью в голосе ответил рыбак. – Едва откачал, пьяный. Думал – мертвец. В голосе рыбака звучали брезгливые нотки. – Кто такой, знаешь? – хмуро спросил Андрей. – Нет, не знаю, но в Предгорном на глаза попадался, я живу там, – пояснил рыбак. – Может, один из тех троих, что пьянствовали чуть выше просеки. Я их видел часа два назад, хотел подняться выше, да не стал. Черт знает, что может взбрести им в головы, если увидят. Остался здесь. – Вы на машине? – Нет, я на утреннем листвяжинском автобусе до моста доехал, сошел и стал подниматься. Хариус берет хорошо, не тороплюсь… – Ясно, я нашел того, кто мне нужен. А ну, вставай! – грозно приказал Андрей, толкнув рукой, лежащего на спине парня. Парень медленно открыл глаза. В мутной пелене возвращающегося к нему сознания он увидел своего спасителя. Ничего не выражающие глаза медленно перевели взгляд на другую фигуру, крупную, с висящим на плече карабином и пылающим ненавистью лицом. Парень вздрогнул, голова его дернулась, и он попытался отползти от Андрея: он понял, кто перед ним. – Стой, мерзкая пакость! – хватая его за руку, грозно проговорил Андрей,– сейчас ты своего получишь сполна! Вставай! Рыбак, средних лет мужчина, худосочный, но видать, с крепкими мышцами, обутый в болотники и одетый в штормовку, шляпу пограничника южных застав, насторожился. Весь вид его говорил о том, что он не в первый раз на рыбалке, опытен в этих делах, вооружен добрым ножом, висящим на ремне под штормовкой. Он неторопливо принялся расстегивать штормовку, спрашивая: – Что случилось, молодой человек? Андрей несколько заколебался с ответом, но все же решил из осторожности не говорить правду. – Да это мой приятель, мы немного повздорили, но теперь, я вижу, он уже поплатился за свою выходку. Я ему ничего плохого не сделаю. Так что можете продолжать рыбачить, я займусь им. – Андрей вымученно улыбнулся. – Но ты же только что спрашивал меня, кто он такой? – возразил рыбак. – Я сначала хотел его крепко вздуть, он из той компании, что веселилась на берегу. Но не могу понять, что у них произошло, как этот оказался в воде, а те двое смылись? – Я бы не советовал тебе сводить счеты, тем более что ты мне кажешься порядочным молодым человеком. – Я уже сказал, что с него довольно. Правда?– обратился к парню Андрей, но тот все еще лежал на спине и из-за рева Громотухи не слышал ни одного слова, но догадывался, что речь идет о нем. Гринин, казалось, окончательно оклемался, бледное его лицо порозовело, дыхание выровнялось. Андрей вновь схватил Гринина за руку, с усилием поднял его на ноги, перекрывая шум реки, закричал: – Пошли отсюда в лес, здесь разговаривать невозможно, – и потащил слабого еще Гринина в сторону от реки. Рыбак поглядел им вслед, и, не видя в действиях незнакомцев ничего агрессивного, поднял брошенную на землю удочку, принялся за прерванное занятие, направляясь вверх по течению реки. Когда рыбак скрылся за валунами, Андрей свернул в прибрежный лес, остановился. – Что ты от меня хочешь? – нервно спросил Гринин, постепенно восстанавливая силы. – Кто ты такой? – Прежде всего, я тебя спрошу, кто ты и твои дружки, которые только что уехали отсюда на «Волге»? – сдержанно, насколько хватало сил, спросил Андрей. – А тебе-то что? – ответил тот, опускаясь на корточки с тем расчетом, если понадобится, он вцепится в ноги незнакомцу, опрокинет его навзничь, подомнет, а может, и завладеет карабином. Этому коварному приему он научился в зоне, когда тянул срок за мелкое хулиганство и считал такой выпад своим коронным. – Ты мне скажешь, или ты покойник, – жестко произнес Андрей и сделал шаг назад. Гринин, переваливаясь по-гусиному с ноги на ногу, приблизился. Не желая больше отступать, Андрей сорвал с плеча карабин и сказал: – Я не шучу, парень, если двинешься вперед, я оглушу тебя прикладом, – в глазах у юноши запылала злость. – Ха, схватил бердану, так и хорохоришься! – взвизгнул Гринин. – Я тебя и без берданы одним кулаком свалю, – едва сдерживая гнев, ответил Андрей, сжимая в кулак правую кисть. – Вот этой кувалдой, если будешь молчать, я тебя попотчую до отвала. Моли Бога, что ты не попал мне под горячую руку, да говори спасибо тому человеку, что спас тебя, гниду. – Пошел ты! – снова взвизгнул Гринин. – Я таких козлов видывал. – Ну что ж, защищайся! Андрей сделал ложный замах ногой, чтобы поднять Гринина с земли. Тот резко выпрыгнул и встретился с тяжелым кулаком Андрея, выброшенным им с такой быстротой и силой, что ублюдок сначала повис в воздухе, а затем тяжело брякнулся на землю, как сброшенный с высоты мешок картошки. Андрей с презрением смотрел, как ворочается на земле этот подонок, он хотел садануть его под дых ногой, но сдержался. – Ну, как, будешь говорить? Гринин встал на четвереньки, отдышался, покосился на своего противника, стал медленно подниматься и вдруг неожиданным броском вперед, полусогнутой фигурой, казалось, пронзит Андрею живот. Но Андрей ждал нападения и отреагировал вовремя: едва голова Гринина коснулась живота Андрея, как на спину врага обрушился страшный удар сцепленных в замок кулаков. И все же удар в живот был силен: обрушившийся молот не смог остановить инерцию падающего тела. Оба оказались поверженными. Некоторое время парни лежали не двигаясь. Первым поднялся Андрей. Ногой он перевернул на спину, казалось, бездыханное тело и с некоторым страхом, но с тем же отвращением, глядел на него. Подумал: «Переборщил малость». Он присел на траву в ожидании финала. Через некоторое время его враг шевельнулся, судорожно ловя воздух ртом и приходя в себя. – Нокаут, – выдохнул из себя Андрей, чувствуя, как в животе у него все перемешалось. – А теперь, если будешь молчать, я из тебя сделаю отбивную. Ну, кто твои дружки? Парень молчал. Тогда Андрей снял поясной ремень, связал парню руки за спиной, и, схватив его в охапку, с силой бросил на землю, придержав ноги. Гринин приземлился, как и требовалось, на пятую точку, вскрикнул от боли, повалился на бок. – Это тебе за Танюшку. Будешь всю жизнь теперь работать на лекарство. Но это еще не все. Если не скажешь, кто твои дружки, вернусь через полчаса, а раньше ты не очухаешься, еще раз посажу на жопу. А пока отдыхай и думай. Андрей перепрыгнул через валун, поспешил к броду. Вернулся сюда он на мотоцикле, но без карабина. Гринин, спасаясь от комаров, выполз из леса на открытое место. Он жалобно стонал и ерзал по песку, сбивая с тела безжалостных насекомых, которых на солнцепеке было значительно меньше, чем в лесу, но достаточно, чтобы причинить страдания голому человеку. Андрей презрительно сплюнул. – Вот так-то насиловать девочек, подонок. Подожди, я тебе еще не то устрою. За свою жизнь я и мухи не обидел, с тобой, гадом, грешу, вынудил ты меня. Говори, кто твои дружки? Ну! – замахнулся Андрей. – Один Генка Толстиков, второй – Женька Горин, – с дрожью в голосе пробормотал Гринин. – Но тебе их не взять – у них папаши – шишки. Понял? – Ладно. Это мы еще посмотрим. Признаешь, что вы втроем изнасиловали девчонку? – лицо Андрея побагровело от ярости. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не броситься и не задушить ублюдка. Гринин устало качнул головой. –У-у, гад! Так бы и размозжил тебе череп. Но с тебя пока хватит, не жилец ты уже на этом свете, харкать кровью будешь, вон она у тебя на языке. Гринин сплюнул сгусток крови, и его охватил ужас. – Что ты со мной сделал? – взвизгнул парень, и по его лицу потекли слезы. – То, что заслужил. Я и с остальными также разделаюсь, коль у них папаши шишкари. Я на них охотиться буду, как на медведя-людоеда. Счас сядешь на мотоцикл сзади меня, разобьешься – туда тебе и дорога, не разобьешься – отвезу тебя в милицию, – ледяным тоном сказал Андрей. – Вставай! Гринин попытался встать, но скривился от боли в позвоночнике. – Не могу, ты сломал мне позвоночник. – Не дури, а то сломаю шею. Андрей подхватил Гринина под руку, помог подняться и усесться на седло мотоцикла. Насколько позволял поясной ремень, парень был привязан к седлу, и неприятели двинулись в Предгорное. Несмотря на жаркий день, обнаженный Гринин от быстрой езды продрог, его бока, обдуваемые ветром, посинели, он ощущал боль, исходящую откуда-то изнутри, что пугало его. Он ненавидел этого верзилу, своих дружков, толкнувших его на гнусное преступление, эту девчонку, которую черт занес на его голову, жалел себя, тихо постанывая за спиной у своего врага. Андрею противно было ощущать прикосновение к его спине насильника. Андрея неотступно мучила картина появления на берегу затона обнаженной истерзанной Танюши, и сердце обливалось кровью. Он пытался понять, как ей удалось вырваться из рук бандитов, да еще зарезать, как она сказала, одного из них. Обилие крови у стоянки не давало усомниться в Таниных словах. Единственное, что могло быть – это, скорее всего, ранение. Не насмерть же она его! Андрей пытался представить и эту сцену, и другие, связанные с борьбой Танюшки с негодяями, ее слезы, отчаяние, страх. Но едва что-то начинало вырисовываться в его воображении, как он весь содрогался от ужаса, холодный пот выступал на лбу, а видение обрывалось. Хорошо, что он не стал расспрашивать у этого, как все произошло, как они надругались над его невестой, иначе бы этот зверь не закончил свой рассказ: Андрей бы пристрелил его как бешеную собаку. Теперь юноша сознавал, что поступил правильно – ярость не лучший союзник. Он избрал другое наказание. Не доезжая до Предгорного, Андрей свернул в лес, ссадил Гринина, привязал его к дереву, не обращая внимания на мольбы парня, сказал: – Постоишь, пусть тебя комарики погрызут, это далеко не вся плата. Плата впереди. Андрей тут же укатил в Предгорное, а Гринин принялся прыгать, строить ужасные мины, страшно фыркать и дуть, тем самым, изображая дикое чудище, готовое проглотить всякое живое существо, которое осмелится к нему приблизиться. Но местные обитатели с длинными носами и прозрачными крыльями ничуть не испугались грозных звуков голого чудака. В дикой пляске, с воинственными воплями бросились к кровавому пиршеству. Вскоре десятки кровососов стали увеличиваться в размерах, и, тяжело снявшись с предмета, не спеша, опускались в кустарниковые дебри… Андрей остановился возле хозмага, вошел и выбрал огромный и тяжелый амбарный замок с толстой дужкой и плоским фигурным ключом. В магазине было малолюдно, он без промедления заплатил, вернулся к мотоциклу и поехал назад. Внешне Андрей выглядел спокойным. Размеренные неторопливые движения никак не говорили о душевном волнении. Между тем сердце его колотилось в груди как механический молот, личность его раздвоилась и истерический голос, похожий на его друга Степку, вразумлял: «Не делай этого, ты достаточно наказал злодея, пусть теперь разбирается правосудие». Но второй голос, голос сурового человека, которого Андрей уважал, говорил: «А состоится ли правосудие? Папаши-то шишки, у них все под пяткой! Правосудие – это ты сам и есть! Не слушай этих трусоватых людишек, только смерть этих подонков – полная расплата за надругательство над любовью – этим бесценным даром, как и сама жизнь человека, надругательство над святыми узами предстоящего брака юных и чистых сердец». Андрей не хотел слушать ни того, ни другого. Он поступит так, как задумал и никто его не остановит, поэтому он больше не колебался. Он почти не смотрел на Гринина, но заметил, что тело его местами изрядно вздулось от укусов комаров. «Так тебе и надо!» – непроизвольно мелькнула мысль. Подойдя к нему вплотную, Андрей жестко и резко спустил с Гринина плавки до колен, вынул из кармана огромный замок, предупредил: – Двинешь ногой – еще раз посажу на зад… – Хочешь сделать меня голубым? – взвизгнул Гринин. – У тебя ничего не получится! Андрей захохотал. – Такой мысли, козел, у меня не было, а не мешало бы осуществить твою подсказку..,– на Андрея навалился вдруг приступ смеха, он зримо представил всю эту комедийную ситуацию и хохотал дико и безудержно. Он стоял перед Грининым, кривляясь и размахивая замком, чувствуя, как слабеют от хохота его руки и ноги. И он рухнул на землю в изнеможении. «Ну вот, – услышал он второй голос сквозь свой судорожный смех, – ты уже обессилил. Чего доброго, сейчас отпустишь этого молодчика на свободу, а как же просьба Танюшки? Малодушничаешь?» – Я сделаю, что задумал! Андрей вскочил, отомкнул замок, схватил в горсть все хозяйство Гринина, и не успел тот опомниться от изумления и страха, как замок был заперт и плотно обтянул стальным кольцом все это у основания. Почувствовалась тяжесть замка. Гринин похолодел, не представляя, что же такое теперь с ним будет, непроизвольно подумал: «А ведь права была девчонка, когда говорила, что ее Андрюша перестреляет всех до одного». Он тогда ей не поверил, посмеялся, теперь видит, каким дураком он оказался. Будь проклята та минута, когда эта сучонка появилась на берегу, а Горин сказал: «Возьмем?» – Это не я, я не виноват! Это все Горин делал первым. Если бы не он, то была бы твоя девчонка цела и невредима. Я только поддерживал компанию, иначе я не мог. Прости меня! – взмолился Гринин. – Я тебя простить не могу, так же, как и Танюшка. Носи, ничтожество, этот замок, пока не спилишь. Ключи ищи возле автотрассы, я их выброшу по дороге. А сейчас я тебя отвезу в милицию. Он еще раз взглянул на свое изобретение, этакое пластичное сочетание металла и плоти, претендующее, по меньшей мере, на соискание Ленинской премии в области воспитания правил хорошего поведения. Едва сдерживая накатывающийся смех, отвязал парня от дерева, освободил руки. Гринин поспешно натянул плавки, подхватил в пригоршню впервые в мире сотворенное чудо и, подталкиваемый Андреем, понес его бережно, будто драгоценную хрустальную вазу. Глава шестая. Климов быстро изучил дело об изнасиловании Тани Лесковой. С каждой прочитанной страницей лицо его мрачнело: в деле не было темных пятен. Преступники схвачены, пострадавшая допрошена, медицинское освидетельствование приложено. – Вы славно поработали, капитан, – обратился Климов к следователю Косихину, который вел дело. – По горячим следам оперативно, а главное – самостоятельно! – Увы, я не в восторге, – откликнулся тот, и в голосе его угадывались огорчительные нотки. Косихин был плотный среднего роста блондин с белесыми бровями и округлыми формами лица. В живых серых глазах поселились усталость и тревога. Офицеры сидели вдвоем в тесном и узком, как кишка, кабинете, в который умудрились втиснуть четыре стола и несколько стульев. – Что же смущает? – с интересом спросил Климов. – Сергей Петрович, вам ли объяснять, что значат две известные фамилии? – с горечью воскликнул Косихин. – Я думаю, вы здесь не случайно. Но я бы не хотел получать инструкции по делу, тем более из ваших уст. – Инструкция одна – соблюдать законность, – резко бросил Климов, но, сделав паузу, сказал мягче: – То, что Горин сын директора крупнейшего комбината, а Толстиков – сын хозяина вашего района, для закона ничего не меняет. И для меня тоже. У вас в руках главный козырь – огласка преступления благодаря тяжелой ране у Горина. – Климов усмехнулся. – Тайна следствия, огласка дела только после суда… Кому это выгодно? Разве только следователю? Блеф. Выгодно тем, кто властен управлять ходом следствия. Мне огласка чаще помогает. Вы же прекрасно понимаете ситуацию. Косихин понимал, что в иной ситуации местным сыщикам не просто было бы найти преступников. Черную «волгу», по которой открыл стрельбу ни кто иной, как Танин жених, не удалось бы отыскать по той простой причине, что ее бы ночью угнали в город, быстро заменили поврежденную облицовку, поставили стекла, и к утру она вернулась назад целенькой или просто осталась там. Как говорится, комар носа не подточит. Кому бы пришло в голову искать простреленную черную «волгу» в райкомовском гараже? Изнасилование – дело рук городских прохиндеев, их в эту пору на реке не один десяток. Но Лескова раскрыла все карты. К концу рабочего дня отец Тани привез ее заявление об изнасиловании. Дежурный по отделению получил из больницы сообщение о трагедии Евгения Горина. Оперативники со следователем Косихиным смотались в Листвяжный и допросили Таню. Местный фельдшер актом засвидетельствовал акт надругательства. На обратном пути Косихин заехал в районную больницу, где над Гориным колдовали хирурги, спасая ему жизнь. Не теряя ни минуты, Косихин бросился на автостанцию, и там задержал Толстикова, собиравшегося ехать в город на рейсовом автобусе. Смелость, с какой действовал Косихин, удивила Климова. Это был звездный час капитана. Уезжая в Листвяжный, Косихин знал из заявления очень мало, возвращался же в отделение с ответами почти на все вопросы, да еще с повязанным вторым преступником! Но триумф сегодняшнего дня завершило появление в отделении голого Гринина, прикрывающего руками значительное место. Даже Косихин не поверил своим глазам и своему успеху. – Да, все это произошло благодаря Лесковой, как это ни парадоксально, – согласился Косихин. – Иначе ищи ветра в поле. Но… Косихин запнулся, зажмурил глаза, замотал головой. Климов напряженно ждал. – Нет, не могу говорить, язык не поворачивается… – Вам приказали задержать Лескову и привезти ее в КПЗ? – утвердительно спросил Климов ледяным тоном. – Вы поехали выполнять приказание, но, не выполнив его, вернулись? – Да, там произошло неожиданное… На следующее утро после происшествия с Лесковой директору Листвяжинского леспромхоза Еремееву позвонили из милиции, попросили помочь встретиться для дачи свидетельских показаний с Андреем Климовым и пострадавшей Татьяной Лесковой. Директор пообещал выполнить просьбу, сказав, что это ему не составит труда. Следователь поблагодарил Еремеева и попросил, как можно, сузить круг людей информированных в этом деликатном деле, на что директор ответил: – Это невозможно сделать, весь поселок поставлен на дыбы. Одних Лесковых у нас полторы улицы, так что каша заварилась густая, – и, сделав паузу, спросил: – Личность преступников удалось установить? – Мы работаем над вопросом, – неохотно ответил следователь. – Ну, как же, – удивился Еремеев,– мы тут наслышаны, что Лескова одного негодяя ножом… не хочу сказать убила, но кроваво порезала. Да и Андрей Климов, а он мне племянником двоюродным приходится, уверяет, что один из преступников якобы доставлен в милицию, арестован и назвал остальных. – Откуда вам это известно? – плохо скрывая раздражение, спросил следователь. – О, милейший, земля слухом полнится. Это вам не город. – Понятно, вот нам и нужна Лескова для опознания. – Вы привезете сюда подозреваемых? – Еремеев хотел сказать, что это опасно, однако и девушку сейчас тревожить бессердечно, что ее никуда не пустит мать, но следователь перебил его. – Извините, но я не имею права говорить о своих действиях. Мы выезжаем, – и положил трубку. Еремеев задумался, ситуация щекотливая. Это его предприятие, его рабочие, его люди. Он не мог быть сторонним наблюдателем. Его беспокоили родственники Лесковой, их действительно очень много в поселке, разве они усидят. После некоторого раздумья он распорядился вызвать в контору отца Лесковой и Андрея Климова. Как и предполагал Еремеев, пришли не только старик Лесков, Андрей, но и многочисленные родственники с обеих сторон. Не спеша, подошел и Климов старший. Был он чуть выше среднего роста, с необычайно широкими плечами, аскетическое его лицо, с глубоко посаженными серыми глазами и острым носом, украшала темная кудрявая борода. Зоркий орлиный взгляд, мягкая кошачья поступь, неторопливые, но точные движения говорили о внутренней сдержанности и крепких нервах, указывали, что перед нами профессиональный охотник. Одет Климов, казалось, в вечную, но выгоревшую до бела штормовку, в просторные такого же цвета брюки, заправленные в кирзовые сапоги. На голове сидел берет, как и у большинства здешних мужиков. Каштановые волосы коротко острижены. Матвей Климов подошел к Ивану Лескову. Поздоровались за руки, закурили, облокотились на изгородь из штакетника, примыкающую к конторе. – Я вот что скажу, Иван, – тихо начал Климов, – не позволяй увозить в район Танюшку. Допрос пусть чинят дома, при матери. Я их, сволочей, знаю, они как хочешь могут повернуть. Мой Андрюшка сказывал, что все это дело рук Толстикова, да и второй – Горин – тоже не из простых, сынок большой шишки в городе. – Но-о! – побледнев, выдохнул из себя Лесков. Был он сухощав, присогнут годами, жилистые руки беспокойно подергивались. Намного старше Климова, он вышел на пенсию, но продолжал работать электриком. – Танюшка-то сказывала, что одного подлеца ножом порешила. До смерти, нет ли? – дрожащим голосом говорил Лесков. – Кабы насмерть, то давно уж бы, вслед за тобой прибыли, – уверенно ответил Климов. – Не пужайся ты, братка, – успокоил стоящий рядом седовласый, но крепкий еще мужик, лет на пяток моложе Ивана Лескова, схожий с ним обличием, по которому можно сразу определить, что он тоже Лесков. – Танюшке за это ничего не будет. А вот не пущать ее туда, Матвей правильно говорит. – Поглядим, куда кривая выведет, а не то станем живой изгородью возле дома, пусть попробуют менты через нее пробиться, – поддержал братьев Дмитрий Лесков, моложавый, крупный детина. – Мы с Андрюхой того «воронка» за бампер поднимем и пусть газует. – Точно! – поддержали мужики, которых собралось уже больше десятка. Но Ивану перспектива конфликта с властями не очень-то нравилась, знал, что власть кому угодно переломает все кости, и он все так же тихо обратился к Матвею Климову. – Боязно, Матвей, с властями конфликтовать. Может, Андрюша ошибается, кабы точно знать – кто такие? – А мне, думаешь, не боязно. Под страхом вся молодость прошла, да и считай, до сегодняшнего дня гнетет после того дня, как кинжал мой исчез. В тайге, на охоте, только и чувствуешь себя в безопасности. Но тут все верно, Иван. Толстиков и тот Горин – лютые наши враги. Ты же знаешь, что у моей Софьи сестра врачихой работает. Ходили мы ночью на почту, звонили ей, просили узнать, что да как с Гориным. Она оказалась как раз на дежурстве в больнице и сказала, я тебе не хотел сообщать об этом, чтоб не расстраивать попусту, но, думаю, ты должен знать все: Танюшка отхватила ему яйца вместе с хреном. Не хошь, да засмеешься! – Что ты говоришь? – ужаснулся Иван. – То и говорю, Иван, – с прежней убежденностью подтвердил Матвей, – но жив подлец, истек кровью, но жив. Сделали ему операцию, с трубочкой теперь всю жизнь будет ходить. – Батюшки! Да разве такое возможно без хозяйства-то жить? – изумился Иван. Матвей сделал жест спокойствия, стоявшим рядом Лесковым и сказал убежденно: – Возможно. Ты с фронту с одной почкой пришел, а живешь. Потом, ты своих скотов подкладываешь? Живут! А евнухи! Вот Танюшка и сделала его евнухом, только операцию не довершила. Больше бабы ему не понадобятся. Понимаете, в чем трагедия для Горина? Только молчок об этом пока, можем только Танюшке навредить. Но и туда ее пускать – тюрьма. Мужики замолчали, обдумывая каждый ситуацию по-своему. В двух-трех метрах от пожилых мужиков собрались в кружок молодые. Они курили, оживленно переговаривались, бросая остроты в адрес друг друга: молодость не умеет долго хмуриться. Когда их реплики истощились, Виктор – брат Тани, такой же худощавый, как и отец, высокий и стройный человек лет тридцати, серьезным тоном сказал: – Ты бы, Андрей, рассказал нам подробнее, как и что у тебя вышло вчера. Мы бы тут, глядишь, коллективно и выработали, как тебе оборону держать. Небось, крепко помял того паскудника? – Помять-то, помял, думаю, работать ему теперь на лекарство. Кто нас там видел – сорока. Так что тут все в порядке. Может, это река его о валуны помяла. Меня интересует другой вопрос: я его в милицию затолкнул в одних плавках, а под плавками – замок. Когда же ему удастся от него избавиться? – Какой замок? – не поняли мужики. – Обыкновенный, амбарный, на кило весом. Такой замок я повесил ему на хозяйство, а ключи выбросил по дороге. На некоторое время воцарилась тишина, слышно было, как в затоне свиньей чавкает буксирный катер, а на лесопилке ухает пилорама, но когда до мужиков дошел смысл сказанного, и они представили этого парня с амбарным замком, висящим на знаменитом месте – дружный хохот, вырвавшийся из десятка ртов, потряс округу. Хохотали до слез. – Ай, да молодец, Андрюха, учудил так, учудил! – со слезами на глазах, хохоча, восклицал Виктор. – Как же ему теперь освобождать свое хозяйство без ключей? – спрашивал сын седовласого Лескова, держась за бока. – Пусть едет в город и закажет в мастерской ключ! Там слепки ключей делают, ха-хаха! – подбросил Виктор в круг, угасающего было смеха. – Пилой пусть пилит, может, с дужкой еще что-нибудь отпилит! – вторил ему полный простодушного вида парень – сын третьего Лескова. – Нет, вы только представьте себе: сидит на нарах мужик и пилит дужку замка, а рядом мент его сторожит! – Что ты, он никогда и никому не раскроет свою тайну: засмеют! Удавиться от такого позора! – Грех, ей-богу, смеяться при такой беде, да удержу нет, – сказал Дмитрий Лесков, – вы поняли, чему они смеются? – Слышали краем уха, – ответил за всех Матвей Климов. – Одно слово – молодежь. Беспечна, как рябчик. Андрей хохотал вместе со всеми, но несколько сдержанней, искоса поглядывая на отца, который прикрыл рот и усмехался в усы. – Будет вам, мужики, – наконец сказал Матвей. – Слава Богу, что ушли те стервецы от горячей пули Андрея, да и того, к счастью, не прикончил, как бешеного пса. Но как власти расценят? Схулиганил Андрей, дело против него могут возбудить, – сурово закончил Матвей. Наступила тишина, все взвешивали сказанное Матвеем. – Я, папаня, не дамся, уйду в тайгу. Но, думаю, паршивец долго будет скрывать свою ношу. – А Танюшка, она же руки на себя наложит, если после такого ты оставишь ее! – взмолился Иван Лесков. – Мы вместе уйдем. Провиант есть, проживем. Утихнет все, подзабудется – подадимся в дальние края. Только я второго зверя все равно подкастрирую, как быка! – Не тронут они парня, – убежденно сказал Дмитрий Лесков, – им как бы дело замять: жди, братка, послов с выкупом. Будут просить заявление забрать. Помяни мое слово. – Нет уж, пусть выкусят, – сказал Иван Лесков, глядя на Матвея, ожидая поддержки. – Об этом не может быть и речи, – спокойно и твердо ответил он. – А предположение Дмитрия верное. Это нам надо иметь ввиду. А вот и гости пожаловали, – кивнул он в сторону улицы, прилегающей к конторе леспромхоза, на которой показалась машина. Глава седьмая. Чутье сыщика подсказывало Сергею Климову, что дело Татьяны Лесковой, чудовищное по своей жестокости и низости преступников, с точки зрения следствия и определения вины арестованных, не сложное, не должно бы повлечь за собой ошибок и недоразумений, но будет закручено совсем по-иному. Опыт подсказывал, как могут развернуться события. Сергей видел в деле свою роль, точнее, какую мог сыграть по замыслу генерала Ломова. Климову не раз приходилось испытывать на себе пресс сильной и жесткой руки, смягчать удары, находить компромиссы. Но постоянно немым укором являлось дело об убийстве прокурора, нож, закрытый в сейфе, и личность убийцы. Он мог описать внешность, характер, даже назвать имя и фамилию владельца кинжала, за исключением его места проживания. Сергей не знал, где он обитает, но чувствовал, недалеко, однако розыск по словесному портрету и предполагаемой фамилии не начинал. Почему? Это была его тайна. Ее он никому не доверял, даже жене. Носил ее один, переживая за нее, как заключенный считает дни своего освобождения, так и он ждал день, когда сможет ее раскрыть. И этот день, и час настали, когда подошел срок сдавать в архив дело об убийстве прокурора. Он ждал возвращения генерала из командировки, чтобы выполнить эту обязанность. Неожиданная анонимка подтвердила его версию дела, привела в восторг и одновременно принесла боль, тоску по напрасно потерянным годам ожидания. И сейчас, листая страницы дела Лесковой, он понял, что не сможет быть теперь холодным наблюдателем, ибо его участники соприкоснулись, как теперь уяснил Сергей, с его тайной. Радоваться или огорчаться? «Ни то и не другое, – решил он. – Пока не побываю в Листвяжном, нельзя ставить точку. Если шестое чувство меня не обманывает, то надо готовиться к любым поворотам дела Лесковой». Он ощущал нарастающую в душе тревогу, как мать на расстоянии чувствует, что с ее младенцем стряслось что-то неладное. Климов верил в шестое чувство, верил в Бога. Точнее, не в того Бога, которому молится человечество, а в иное Божество. Он долго не мог найти ему определения, но теперь четко выражает: он верит во Всевышний Разум Вселенной. Свои безошибочные догадки о личности преступника, свой талант следователя он приписывает как озарение, исходящее из космоса, от Него. Это шестое чувство создало ему лестный имидж. Как знаменитый Шерлок Холмс, он взвешивал факты, отбирал улики, прорабатывал версии, строил логическую цепь и по ее звеньям приходил к виновнику. Порой он не мог объяснить свои поступки во время расследования сложных и запутанных дел: чаще всего он вдруг оказывался на кладбище, где часами блуждал между могил, читая надписи на надгробных плитах или памятниках, ни на минуту не забывая о том деле, которое ему дало головоломку. И здесь, в тиши и вдали от людского говора, городского шума и звона телефонов у него рождалась верная версия, открывались мотивы преступления, и он в деталях начинал видеть все события действующих лиц. Вернувшись в кабинет, он какое-то время еще наводил справки в отделах, проверяя свою версию, и, убедившись, что она верна, вызывал опергруппу брать преступника. Ему откровенно завидовали, а он отшучивался, мол, надо иметь шестое чувство, и тогда все будет в порядке. В первые годы он почти всегда старался присутствовать при задержании, боясь за авторитет своего шестого чувства, под которым подразумевал всякий талант, присущий конкретному человеку. Композитор ли, футболист, писатель или хлебороб, вор или следователь, актер или токарь, добивающийся постоянного успеха, обязан своему таланту – шестому чувству, имеющему связь с небесами, то есть входящему в контакт с Всевышним Разумом. И чем шире и прочнее этот контакт, тем энергичнее индивидуум, тем весомее плоды его труда. Всякая разборка запутанных преступлений, а такие были почти все, отнимала много душевных сил у Климова. Он постоянно оставался наедине со своими мыслями и понимал, что надо расслабляться, отвлекаться от них, иначе дело табак. Хорошо снимала напряжение водка, и нередко он участвовал в откровенных пьянках со своими коллегами, чаще всего в мастерской у художника или в полутемной лаборатории, которая помещалась в подвале. Но этот вариант не устраивал Климова: так и пристраститься можно к алкоголю. Правда, он никогда не похмелялся, но и за этим дело не станет. Одно время он ходил на спектакли. Но театр не мог удовлетворить его. Были еще поездки на охоту или рыбалку, но они кончались все теми же попойками. Слов нет, поездки бодрили, вливали порцию бодрости духа, но Сергей понимал – все это не выход, все это не то, временное, зыбкое. Семья – только в кругу любимых людей можно отвлечься от преследуемых мыслей, только она способна быстро снимать стресс, восстанавливать силы. Но семьи не было. Никто из женщин, с которыми он время от времени встречался, не смогли раздуть в сердце Сергея пламя. Он был убежден, что большая настоящая любовь к женщине может возникнуть только сразу же, с первого взгляда. Она поразит, как пистолетный выстрел, и Сергей ждал такую любовь. Он не верил в постепенно рождающееся великое чувство. Это уже не любовь, а обычное увлечение, привязанность, дружба, привычка, но не любовь, которая охватывает тебя всего с головы до пят необыкновенным неземным теплом, отчего млеет и трепещет сердце; это поющая в тебе высокая мелодия, услышать которую дано каждому человеку, но не с одинаковой силой. Сергей ждал такого удара. Но его все не было и не было. И уже смирившись с участью холостяка, он вдруг получил тот выстрел, о котором мечтал. Невероятно причудливо и непредсказуемо соприкасаются людские судьбы. Если бы Климов мог знать, что сидящий напротив него дюжий средних лет мужик именно тот человек, который своими действиями предопределил его (конечно, не сознательно) встречу с той единственной женщиной, которую он так долго ждал, то, как бы к нему отнесся? Возможно, он пожал ему руку и сказал примерно так: «Спасибо тебе за твои нехорошие дела, они помогли мне обрести свое счастье. Но, тем не менее, я разоблачу тебя, и ты понесешь наказание за свое преступление, какое положено тебе по закону. И если тебя не шлепнут, буду ждать возвращения из тюрьмы, чтобы распить с тобой бутылку. Ведь я твой должник». Как бы это выглядело? Абсурд, чепуха какая-то или вполне естественное действие? Мы не знаем. И отнюдь не из-за отсутствия джентльменского начала в характере Климова, а по той простой причине, что Климов, как и любой другой смертный, не мог ничего знать наперед относительно своей судьбы. Хотя он мог с большой точностью предвидеть некоторые события в своей жизни, например, встречу с братом после того, как дело об убийстве прокурора будет закрыто за давностью… Но это не то предвидение, о котором идет речь, о судьбоносном! Ведь никто не может знать, сколько ему жить, что случится с ним завтра: не свалится ли ему на голову знаменитый кирпич с крыши? Если он будет знать все наперед, то и не свершится ничего плохого. Он просто обойдет то опасное место, где его подстерегает господин случай. Выходит, неизбежное падение кирпича все же абсурд? В томто и прелесть нашей жизни, что мы не знаем того, что нам уготовлено. Печалиться по этому поводу или радоваться – пусть решает каждый сам за себя. Но все будет именно так, как должно произойти с неотвратимой последовательностью. Мог ли Климов отрицать или утверждать, что встреча с человеком, сидящим в его кабинете в один из жарких июльских дней, решительно повлияет на его судьбу? Конечно, нет. Рядовой эпизод в его работе. Климов в данный момент не мог об этом задумываться. Но он много размышлял о причудливости случаев, поворачивающих судьбы людские: почему же они происходят стихийно, не управляемые человеком? Потом Климов не раз будет вспоминать этого мужика с его преступлением и говорить: если бы не тот случай, но это было потом, а сейчас он сидел и слушал рассказ человека о своей беде – исчезновении жены. – Сколько я могу рассказывать одно и тоже, – говорил человек недовольным тоном. – Уж три или четыре раза, со счета сбился, следователи выслушивали и записывали мою историю. Я все выложил о себе и о жене. Больше мне добавить нечего. Сколько можно толочь воду в ступе? – Будем толочь столько, пока пыль не пойдет, сказал бы иной следователь, – Климов наигранно улыбнулся, пристально глядя на мужика. – Но я так не скажу. У меня записывать ничего не будем. И того достаточно, что есть в протоколах. Я про тебя все знаю. Климов с интересом смотрел на своего собеседника, но совершенно не подозревал того, что уже вышел напрямую к своему счастью и вывел его на нее никто иной, как этот мужик. – Ну, вот и хорошо, – приободрился человек, – мне это надоело. Климов сделал в ответ свой излюбленный жест: качнул головой вправо, поднял брови, повел правым плечом, мол, и я того же мнения. – Итак, вы шофер. Возите бетон на стройку. Ударник. – Климов вытащил из стола лист бумаги с текстом и начал читать вслух. Это была производственная характеристика, из которой выходило, – что водитель – специалист высокого класса, как человек – нормального поведения, ничем особым не выделяется. Детей не имеет, хотя ему за тридцать, а иметь хотел бы. В общем, человек обыкновенный. – Ну, что ж, обыкновенный так обыкновенный. Кто сомневался? Кому же еще бетон на стройки возить – не обыкновенным, что ли? – спросил Климов мужика. – Вот именно, – с усмешкой отозвался тот. – Совершенно справедливо, – снова сказал Климов. – Эти обыкновенные мужики необыкновенно бетонируют кюветы за городом. Почему? – спросил Климов, пристально глядя на шофера. – Как бетонируют? – испугался тот. – Я спрашиваю: почему? А не как за городом возникают бетонные кучи? Вы тоже свою кучу имеете? Шоферу сделалось не по себе, он слегка побледнел. – Я объясню. Это просто. Привез водитель в конце смены бетон, а его не берут на стройке – запила бригада, или опалубки нет, словом, неразбериха. Не застывать же бетону в кузове. Вот и валят в кюветы. А моей кучи там нет. У меня – проносило. – Так-таки и нет? – Нет. – На нет и суда нет. И врагов у твоей жены не было? – Не замечал. Я ж днями на стройке, в рейсах. Откуда мне знать, а она не жаловалась. Она у меня тихая, крошечка-хаврошечка. Я ее на одной ладошке поднимаю. Вот так посажу – и поднимаю. – Если больше сказать нечего – можете идти. – Климов жестом указал на дверь и отвернулся. – Путь свободен. Шофер нерешительно поднялся. Выглядел он внушительно. Крепкий, в меру упитанный, высокого роста. Чернобровый, усатый и черноглазый. Такие нравятся женщинам. Когда детина подошел к двери, Климов как бы сам с собой заговорил: – В северо-западном районе я насчитал таких куч десятка три. Мой знакомый прораб сказал, что все они старые, прошлогодние, за исключением двух-трех месячной давности, но одна – свежая. Что вы на это скажете, кто ее автор? – Климов в упор посмотрел на растерявшегося шофера. – Откуда мне знать?– ответил водитель, вновь отворачиваясь к двери. – Я не настаиваю. Это не мой метод. Я доказываю. Но было бы лучше, если бы вы назвали автора не этой кучи, а другой, что в противоположной стороне города. На шестом километре, где и стройки-то близко нет? – Помилуйте, откуда мне знать? – Не скажете? Смотрите, вам виднее. На этот вопрос попробую ответить я. – Да каким же образом? – выкрикнул тот. – Очень просто: возьму перфоратор и раздолблю кучу. – Вы лживый человек! – В чем? – Этот ваш дешевый приемчик: сначала вы отпускаете меня, мол, иди, а теперь хотите припереть к стенке? – Ради Бога! – расхохотался Климов. – Можете идти, возите свой бетон на здоровье. Я вас не задерживаю, я всего-навсего выполнил просьбу моего коллеги – поговорил с вами. Видите, и протокола никакого. А вы утверждаете – я лживый. Я сейчас приглашу коллегу и разбирайтесь с ним: кто, куда и чего возил. А я поехал долбить подозрительную кучу. Климов пристально вглядывался в шофера: ни один мускул на его лице не дрогнул, что не понравилось Климову. После продолжительной паузы он нажал на кнопку селектора и сказал: – Антон, забери своего клиента. Тот явился и увел водителя. После некоторого размышления Климов пришел в гараж, сел за руль и уехал на поиски исчезнувшей женщины. Утром следующего дня Климов вошел на второй этаж строительного управления и направился к кабинету знакомого начальника стройки. Ему нужен был перфоратор, который он надеялся здесь заполучить. На улице было солнечно. Лучи падали в широкое окно коридора и напоминали расплавленную лаву металла. Вдруг Климов вздрогнул, как от удара – из этих лучей, из этой лавы вышла вся просвечивающаяся молодая красавица. Она шла ему навстречу. Взгляды их встретились. Климов окаменел, но понял, что это его судьба. Она выглядела несколько смущенной. Он подумал: ей неловко оттого, что ее красота останавливала и удивляла каждого незнакомца. Она была рядом, и Сергей ощутил аромат ее духов. Он не мог пошевелиться, и, пропуская мимо себя одетую в легкое платье девушку, отметил, как хорошо оно облегает ее гибкую фигуру. Платье просвечивалось. Он видел ее стройные высокие ноги, широкие бедра, узкую талию, пышную грудь. Он тут же заревновал: вот так же жадно на нее могут смотреть другие мужчины. Малиновые, припухлые губы девушки дрогнули в улыбке. В ее голубых и бездонных глазах с веером ресниц, вспыхнул огонек интереса, а тяжелая свисающая влево копна белокурых волос, схваченная в замысловатый узел на голове, как бы качнулась в знак приветствия незнакомцу. Это ободрило Сергея, у которого перехватило дыхание. Весь оставшийся день, когда он ехал с запиской от начальника за перфоратором, когда с рабочим долбил свежую, найденную на пустыре кучу бетона, Сергей видел перед глазами Екатерину Николаевну. Ее имя он узнал у начальника. «У тебя, Семен Ильич, небезопасно ходить по коридорам», – мрачно сказал Климов, когда дело с агрегатом было решено. «Ты о чем, Сергей?» – встревожился тот. «Красавицы ходят. Разбиться можно». «А-а! – весело закричал Семен Ильич. – Екатерина Николаевна встретилась! Не ты первый, не ты последний! Сватайся!» «Я не первый, но я последний, – подумал Сергей, у которого от реплики Семена ясным огнем вспыхнули глаза.– Хитер. Сразу все рассказал о девушке». «Она у тебя будет принимать отчет об использовании перфоратора, – говорил Семен, провожая его к двери. – Нет, я не буду это устраивать, это ее обязанность. Приходи, познакомишься». Катюшу поразили в этом парне не только открытое несколько скуластое и волевое лицо с глубоко посаженными ясными серыми глазами, легкость походки прекрасно сложенного атлета, – первое визуальное впечатление, – но и необычайные, как выяснилось назавтра, способности. Оказывается, этот приятный незнакомец отыскал исчезнувшую женщину – жену шофера, страшно подумать – в куче бетона на каком-то немыслимом пустыре. Эта новость шокировала всю стройку. Жуть! Якобы их рабочий неизвестно для чего взялся долбить перфоратором кучу бетона, и вдруг натолкнулся на человеческую ногу. Чего ради туда понесло рабочего стройки? Здесь что-то нечисто. Но все выяснилось тут же: Семен Ильич пояснил, что эту фантастическую кучу приказал долбить незнакомец Климов, а автор кучи – муж исчезнувшей. От ужаса у Екатерины Николаевны похолодело все внутри, она вскрикнула, словно вся эта история касалась ее лично, хотя ничего подобного не существовало. Она не знала ни шофера, ни его несчастную жену. Екатерине Николаевне неудержимо захотелось еще раз увидеть этого проницательного человека и спросить, как ему удалось разгадать тайну? Она закусила губу. Не придет же он отчитываться, как использовал агрегат, у него наверняка есть подчиненные для поручений… Можно рассчитывать лишь на случайную встречу. А что, если она пойдет прогуляться после работы мимо здания милиции, посидит в сквере, что напротив. Торопиться ей некуда, мама даже обрадуется, что она развеялась прогулкой по городу. Она посидит и понаблюдает за теми, кто выходит и заходит в это здание. Не спешит же, этот молодой человек сразу после окончания рабочего дня домой. «Ой! – невольно вырвалось вдруг у Катюши.– Вот глупышка, конечно же, он спешит домой. Разве не может быть у такого приятного человека хорошенькой, молоденькой жены, которую он любит. Как же она сразу не подумала об этом несчастье!» Слезы навернулись на глаза девушки. Ее прелестное, правильное личико тронула гримаса обиды, но она ничуть не испортила ее привлекательности и обаяния. Две крупных слезинки готовы были сорваться с ее бархатных, веером распахнутых ресниц, и разбиться о письменный полированный стол, как она услышала: – Екатерина Николаевна, что случилось, кто вас обидел? Она вздрогнула, бросила взгляд на говорившего, и он увидел на ее обворожительном, по-детски беззащитном лице, невероятное изумление, смешанное с испугом. Несколько мгновений она смотрела на встревоженного, но решительного к действиям героя, прекрасного в порыве защитить свою принцессу, затем судорожным движением выхватила из сумочки носовой платочек, вскочила и бросилась к окну, на ходу вытирая навернувшиеся слезы, отвернулась. – Да кто же вас обидел? – услышала она звенящий, полный отчаяния голос. – Вы! – последовал робкий ответ. – Как! – растерянно воскликнул он, и, услышав в ответ беспомощное всхлипывание, молнией захлопнул дверь кабинета, и, приближаясь к девушке с распростертыми руками, радостно проговорил: – Я не женат, я холост, если б вы знали, насколько я одинок! – Правда? – не веря своим ушам, она повернулась к нему, идущему навстречу, бросилась в его распростертые объятия, прижалась к широкой груди. – Да-да! Я искал вас и нашел! Боясь пошевелиться, незнакомые, но влюбленные друг в друга, они молча стояли некоторое время, прислушиваясь к биению сердец… Свадьбу сыграли через месяц. Его двухкомнатная полупустая квартира преобразилась. Заполненная мебелью и домашней утварью, стала даже тесноватой. Но от этого их тихое семейное счастье не страдало и не ущемлялось, а росло и мужало. Вскоре Сергей получил повышение по службе, в звании. Дел и забот прибавилось. Но первое, оставленное по наследству уголовное дело многолетней давности, по-прежнему сыщика волновало, превратившись в личную тайну: оно подсказало, что родной ему человек жив, не сгинул в лихие годы детства. По крайней мере еще пять лет назад был жив, но остался ли он с той же фамилией или изменил ее в своем бегстве от красноперых разбойников? Глава восьмая. Сергей Климов сделал паузу. В Листвяжный он мог поехать в тот же вечер, как познакомился с делом. Но он понимал, что те, кого он хотел видеть, взбудоражены следователем Косихиным. Им надо дать успокоиться. Потому отложил поездку до следующего дня. Ни с кем из сотрудников местной милиции, даже с начальником, встречаться не хотел, забился в комнату для приезжих, которая была крошечной каморкой и напоминала тюремную камеру. В ней стояли две кровати возле стен, а узкий проход шириной в две тумбочки, разделял эти ложа. У входа слева примостился «мойдодыровский» умывальник, справа – встроенный гардероб. На тумбочке – настольная лампа, на стене висел динамик. Стола не было из-за нехватки площади. Туалет во дворе. Стены каморки до середины выкрашены в ужасный до умопомрачения сине-грязный цвет, вторая половина, как и потолок, выбелена известью. Окно задернуто белой ситцевой занавеской. Здесь можно было только спать мертвецким от усталости сном или мертвецки пьяным. Сергей не мог смотреть на эту муть, хотел уйти в гостиницу, но, вспомнив, что и там стены выкрашены чем-то подобным с обшарпанным обсыпающимся потолком, кроме того, полупьяный галдеж клиентов будет проникать в номер сквозь тонкую дверь, передумал. У каморки все же были достоинства – тишина, водопровод и электрический чайник, что стоял на третьей тумбочке возле «мойдодыра». Всегда имелись тут пачка дешевого чая и пачка сахара. Достаточно купить булку хлеба, что он уже сделал, и можно, никуда не выходя, поужинать. Колбаса, лук, сгущенка есть в его портфеле. Когда Климов отужинал, то вынул из портфеля томик Яна «Батый» и погрузился в чтение печальной летописи, из которой русичи и по сей день мало что извлекли. Он любил только исторические романы, некоторых классиков и не мог читать современную литературу с правильными руководителями и партийными работниками. Он-то уж, знал их «правильность». Сергей усмехнулся недавнему разговору, состоявшемуся в его кабинете с замполитом управления. Тот заглянул к нему просто так, мимоходом, и увидел на столе «Чингиз-хана». Он подошел, шевельнул пальцем томик, спросил: – Увлекаетесь историческими? – Да, любопытно почитать, осмыслить. Великий был полководец. – Хм, не тем, думаю, увлекаетесь, – сухо официальным тоном резюмировал замполит. – История, – развел руками Климов, – ее не переделаешь. – Что-то не понятны мне ваши симпатии, полковник, – нахмурился замполит, – ну, да я не стану навязывать своего мнения. Работайте. Он ушел. Сергею этот тип был неприятен. В управлении он появился недавно, вместо ушедшего на пенсию старого полковника, в прошлом неплохого криминалиста. Новичок был не молод, языкаст и беспардонный человек, засидевшийся в партийных инструкторах, последнее время курирующий правоохранительные органы. Вот и двинули человека. Впрочем, черт с ним, Сергею он не помеха, так, лишний человек. *** Метаморфоза облика водителя «уазика», что вышел утром из ворот предгорненской милиции, удивила бы каждого. Садился в него обычный безбородый и крепкий безусый человек, одетый в неброский серый костюм, а вышел в Листвяжном с широкими черными усами, густыми, тронутыми сединой, бровями кавказца. Впалые щеки говорили о какой-то изнурительной болезни. Человек этот, тем не менее, шел твердой уверенной походкой. Заметив, как к одному из домов по улице «Спортивная» из переулка подошел широкоплечий бородач, незнакомец прибавил шагу. – Минуточку, – окликнул усатый Матвея Климова, когда тот собирался войти в тесовую калитку, что примыкала к широким воротам, выполненным из фигурной рейки, обожженной паяльной лампой и покрытой олифой. – Я к вам, если не ошибаюсь, к Матвею Климову! – Здравствуйте, – не отпуская защелку на калитке, ответил Матвей, пристально, с некоторой неприязнью, но с пробуждающимся любопытством глядел на приближающегося человека. Матвей был одет в ту же штормовку и брюки, что и вчера, на голове берет. Голос незнакомца показался знакомым, охотник уловил в нем едва заметное волнение, которое передалось и ему. – Вы не ошиблись, я слушаю. – Нет, нам лучше пройти в дом и поговорить с глазу на глаз по сердечному делу.– В лукавых глазах незнакомца светились такая доброта и такая радость, что Матвей поспешил открыть калитку, пропуская гостя вперед. – Проходите, милости просим, – сказал он неторопливо, испытывая на себе пристальный взгляд незнакомца, и на забрехавшего в глубине двора пса махнул рукой. – Проходите, собака на привязи. Незнакомец шагнул на дорожку, ведущую к крыльцу, и под ногами захрустел свежий крупный песок. Пес мышастой масти, громыхнув цепью, вдруг умолк, виновато завилял хвостом. Дверь в светлую, залитую солнцем веранду, окруженную поднимающимися вьюнами, была приоткрыта, и в проеме виднелись ленты из полиэтиленовой пленки для отпугивания мух. Веранда служила летней кухней и столовой. Здесь стоял умывальник, широкий обеденный стол, газовая плита, стулья, шкаф с посудой, сработанный руками хозяина. Все это гость окинул одним взглядом, остановился перед дверью, ведущей в дом рубленного из бруса. Но дверь отворилась, и на веранду шагнула средних лет миловидная женщина. На ней был легкий цветастый халат, видимо, только что накинутый на плечи, так как женщина на ходу застегивала пуговицы, торопясь встретить мужа. Выглядела она весьма привлекательно. Незнакомец это заметил сразу же. Особенно бросались в глаза ее черные кудри, обрамляя свежее, тронутое легким загаром золотистое лицо с правильными чертами, белозубым ртом и васильковыми глазами. Под цветастым ситцевым халатом угадывалась слегка располневшая, но стройная фигура. – Ой! – воскликнула хозяйка, – ты.., с чего это маскарад затеял.., – она вдруг осеклась, широко открыла лучистые глаза и замерла в удивлении: – Кто вы? «Неужели догадалась, – мелькнуло в голове у гостя, – чутье женщины – дар непреходящий». – Я к вашему мужу, Софья Антоновна, – поспешил пояснить гость, – мы тут хотим побеседовать, если не возражаете. – Софьюшка, занимайся обедом, а мы с человеком пройдем в дом да побеседуем. Не беспокой нас без нужды, – мягко, но требовательно сказал Матвей, выходя из-за спины гостя. – Проходите в дом, там и усядемся. Софья, во все глаза глядя на незнакомца, отступила, давая дорогу мужчинам. Они прошли в прихожую, устланную домоткаными дорожками, цветными, связанными из тряпья кругами, затем в зал, где стояли круглый раздвижной стол, старомодный обшитый кожей диван, книжный шкаф-этажерка. Пол, что поразило гостя, устлан огромной медвежьей шкурой. Слева, над диваном, на роскошных ветвистых рогах марала сидели чучела краснобрового глухаря-великана, глазастого филина, собирающегося прыгнуть черного соболя и огненного колонка. – Проходите к столу, садитесь, не знаю, как вас звать-величать, – пригласил Матвей голосом, полным напряжения. Гость быстро окинул еще раз творение природы и мастера, несомненно, хозяина, опустился на стул, жестом приглашая сесть и собеседника. И когда Матвей расположился на стуле напротив, пристально наблюдая за гостем, тот сказал ровным голосом: – Все, что вы сейчас увидите и услышите, прошу сохранить в тайне, я объясню, почему. – С этими словами он открыл портфель и вынул из него кинжал, внимательно наблюдая за хозяином, положил его на стол, перейдя вдруг на ты, добавил: – Узнаешь? На лице хозяина не дрогнул ни один мускул, только в глазах зажглись и тут же потухли огоньки смятения. Но этим все было сказано. Гость порывисто встал: – Матюша, братка! Как же долго я к тебе шел. Я знал, что ты жив. Прости, но я не мог прийти раньше. Это могло погубить тебя! Гость быстро сорвал с себя усы, брови, и дал полминуты на то, чтобы Матвей, которого осеняла смутная догадка о том, кто перед ним, окончательно поверил в нее, и тогда распростер широко руки, воскликнул: – Ну, иди же ко мне, Матюша, я тебя обниму и поцелую по старинному казацкому обычаю. Я твой Сергуша! Глава девятая. Как и предполагал Климов, события вокруг Татьяны Лесковой стали раскручиваться по сценарию, который устраивал отцов виновных. Парням не верилось, что можно так легко выкрутиться из безнадежной ситуации. Впрочем, торжествовал один Толстиков. Горин содержался под охраной в райбольнице и был очень слаб от потери крови и проведенной операции. За жизнь врачи не опасались, но мужских достоинств он лишился полностью. Все, что осталось от его мужского хозяйства, это окровавленный отросток, из которого со временем можно будет лишь мочиться. И когда Евгений стал это понимать, его охватила паника надвигающейся смерти. «Я евнух. Не хочу жить!» – внутренне рыдал Горин, все глубже и глубже сознавая свалившуюся на него беду, творцом которой был он сам. Он окончательно осознал свое положение, понимал, что о нем знают не только медики и пятеро больных в его палате, но и вся хирургия, и терапия. Он лежал отвернувшись лицом к стене, но затылкам видел, как то и дело в палату заглядывают любопытные: то мужики, то женщины. Хихикают, кикиморы, то злобно, то насмешливо. Женька отказывается от пищи и воды, но его не спрашивают, вливают глюкозу через капильницу, а мочиться ему не через что. Он видит, тянется к нему шланг из судна. Выброситься бы из окна, да что толку: хирургия на втором этаже, только покалечишься… Гринин выглядел затравленным волком, все время уединялся, забившись в угол камеры, жалуясь на боли в пояснице и где-то в глубине, в потрохах. – Проклятый лось, козлина! – клял он Андрея заочно, но еще больше ненавидел Толстикова и Горина. Гринина мучил «подарок» Андрея. Он ужасался при мысли, что рано или поздно нелепый довесок обнаружат сокамерники, и от насмешек и издевательств – хоть удавись. На второй день после ареста в камеру, где сидел Гринин и трое незнакомых ему мужиков, привели Толстикова. У того был вид азартного игрока, только что взявшего банк. Он явно бравировал. И когда Генка подполз к нему по нарам в угол, и, ехидно глядя на него, загнанного и подавленного, насмешливо проговорил: «Не трусь, выкрутимся!» – Гринин готов был вцепиться ему в глотку. И вцепился бы, не мешай ему этот проклятый замок. Больше Толстиков ему не друг, он первый поднимет его на смех, если узнает, что с ним случилось. Генка мог бы помочь избавиться от замка, но Гринин не сможет вынести даже улыбку на его роже по поводу его карикатурного положения. В первую же ночь, приткнувшись в углу камеры на сплошных нарах, Гринин попытался протянуть свое хозяйство через дужку замка, но ригель плотно облегал тело. Гринин не сдавался, тянул, тихо вскрикивая от боли и отчаяния. Он весь взмок, и к ужасу своему обнаружил, что члены его от усердия еще больше увеличились. Разглядеть это увеличение было невозможно: тусклая контрольная лампочка висела над дверью под решеткой, а подойти ближе он боялся. Вдруг кто-нибудь из этих трех жлобов проснется и узнает его тайну. Наконец Гринин догадался о причине увеличения плоти: все это настолько опухло, что хоть мажь его теперь вазелином, а в дырку это разросшееся бесформенное безобразие ни за что не пролезет. Получалась какая-то несусветная чепуха. Весь в холодном поту, в изнеможении и отчаянии, он откинулся навзничь и беззвучно зарыдал. Через несколько минут его осенила мысль. Он встал и принялся проситься в туалет, мол, в парашу никак сходить не может. Дежурный распорядился сводить его в туалет, где, Гринин знал, была раковина для умывания и кран с водой. Только бы конвойный не потащился за ним в туалет, а остался в коридоре. Так и вышло. Гринин сразу же кинулся к раковине, открыл кран, и холодная вода полилась на его хозяйство. Гринин торжествовал. Мама родная, сейчас от холода члены его сожмутся и проскочат через отверстие, сейчас он получит свободу! Какое счастье ощущать себя нормальным человеком! – Ты что, гад, делаешь? – вместо желанного ощущения полноценности Гринин получил такую затрещину, что рухнул на пол. К счастью, падал он на живот и укрыл от глаз конвойного предмет своего позора и страданий. Замок снова очутился в штанах, причинив нестерпимую боль его гениталий. – Я не мочился, я просто слегка обмыл, – виновато гнусавил Гринин, чувствуя, как его пинками поднимают с пола. – Я тебе обмою, падаль вонючая, – и конвойный ударил кулаком по спине поднявшегося Гринина так, что тот пулей вылетел из туалета. «Придется спиливать, – невесело думал Гринин, сидя на нарах и слушая устойчивый и беспечный храп мужиков. – Но где же взять ножовочное полотно? А потом, как пилить – кругом люди. Можно напроситься на одиночку. Это же мука: сидеть часами и думать, что тебя разоблачат». –У-у, козлина, у-у, падло! – скулил сквозь зубы Гринин, вспоминая Андрея. Все его мысли, все его думы вертелись вокруг замка, ни на минуту не мог забыть о нем. Гринин боялся заснуть: вдруг его сокамерники о чем-то догадываются, и, пока он спит, вероломно залезут ему в штаны. Нет, он будет бодрствовать, не спать, а думать и думать, как избавиться от замка. Гринин вставал и начинал ходить по камере, но внезапно проснувшийся жлоб прикрикнул на него, чего он не спит и как маятник мотается, мешает отдыхать другим. Гринин вынужден был снова забиться в угол, тихо скулить, проваливаться в бездну в дреме, в страхе просыпаться и таращить глаза на храпящих мужиков. С появлением в камере Толстикова муки его увеличились, страх быть разоблаченным возрос, Гринин был близок к истерике, и она бы случилась, если бы Толстикова, спустя два дня после его появления в камере, второй раз не увели на допрос. Он долго не появлялся, потом конвойный пришел за Грининым и увел его в одиночку, куда следом привели и Толстикова. На горбоносом, осунувшемся лице Генки сияла торжественная улыбка. Гринин насторожился, глаза лихорадочно заблестели, в голове застучало: «Если Генка намерен выйти сухим из воды, он, Гринин, вцепится ему в глотку. Если папаши решили вытаскивать своих сынков, то пусть и его тащат. Об этом он скажет сразу же, как только они останутся вдвоем». Едва дверь камеры захлопнулась за конвойным, Толстиков, изображая из себя удалого плясуна, хлопнул пару раз по груди, коленям, словно собирался исполнять «цыганочку», подошел петухом к Гринину и сказал: – Не хмурь бровей, Антоша, машина заработала, колесики закрутились! – Говори, не тяни кота за хвост! – нетерпеливо заерзал на нарах Гринин. – В общем, два варианта. За большие деньги, тут без притужальника не обойдешься, девчонка или ее родители забирают заявление, и мы на свободе. Правда, нам придется дергать куда-нибудь в дальние края. Если это сорвется, то сработает второй вариант, по которому мы ничего противозаконного не совершали. Понял? Девчонка спала с Гориным полюбовно, они поссорились, и та спьяну хватанула его ножом, за что и ответит. У меня была своя девица, у тебя – своя шмара. Усек? Обе они живут в городе и скоро приедут сюда давать свидетельские показания о нашей невиновности. Все предельно остроумно! Некоторое время Гринин молчал, переваривая услышанное, на замученном тревогой лице появилась кривая улыбка. – Что, доходит как до жирафа? – Генка весело засмеялся, достал из кармана пачку «Нашей марки», сунул сигарету в рот, одну протянул Гринину. Прикурили от зажигалки, глубоко, с наслаждением, затянулись дымом. – Надавили на рычаги, говоришь, и машина заработала, винтики закрутились. – Да, нам только четко и ясно надо давать показания. – А как Женька? – Женька очень слаб. За ним стоят силы грозные. Но ему крупно не повезло, он уже не мужик, он – евнух! Ты чего все гнешься? – подозрительно посмотрел Генка на Гринина. – О валуны, что ли, разбился? – Согласится ли девчонка на первое? – поспешил Гринин увести приятеля от опасной темы разговора. – И потом, деньги мне взять негде. – Деньги отработаешь потом. А у девчонки нет выбора: или мирно, или ей за Женьку тюряга. Глава десятая. В кабинете генерала Ломова было прохладно. Приспущенные портьеры в широких окнах не позволяли проникать солнцу в глубину кабинета, но света было достаточно. Бесшумно работал кондиционер, и ничто не мешало плодотворно работать. Но, судя по выражению лица генерала, широко расплывшемуся носу, похожему на жабу, он был не в духе. У его собеседника – Сергея Климова безучастное холодное лицо, а ровный голос звучал как из диктофона. – Я не отказываюсь от участия в этом деле, тем более что девчонка и жених исчезли. Но разве нет у нас ребят помоложе, чтобы подобрать надежных шлюх. Мне это дастся нелегко. Я понятия не имею, где их можно выловить. – Не стану же я посвящать в это щепетильное дело половину управления! Этих шлюх полно на улице Ленина, – у генерала росло раздражение: «Куда только мы это святое для нас имя не суем, – злился на себя генерал, – на этой улице и рестораны, и кафе, и пивбар, разбой и проституция! Каждый день звучит: убийство на улице Ленина, изнасилование – на Ленина, грабеж – на Ленина». Генералу с самого начала не нравилась эта история, а теперь – откровенное давление сверху. Что и говорить, с верхами он ладил прекрасно, приходилось решать задачи различной сложности. Но довольно широкая огласка этого дела смущала. Но не только огласка, его беспокоило безразличие к делу Климова: как бы не был тот умен и хитер, а генерала не проведешь, чувствовал, что за этим безразличием кроется загадка. Что? Придется подключать к этому делу капитана Еремчука, своего человека для слежки за Климовым. Генерал знал, что капитан несколько туповат, и Климову ничего не стоит обвести его вокруг пальца, но все же это лишит свободы действия полковника. Никто не годился Климову в соперники, разве что он сам, впрочем, и он уже совершил ошибку, послав туда Климова. Можно было хорошенько подумать и предположить, как развернутся события, а вот ведь поскользнулся. Не исключено, что исчезновение девчонки и парня связано с Климовым. – Почему парень-то исчез? – услышал вдруг генерал свой голос. «Дожил, вслух начинаю думать, старею, старею», – пожалел себя генерал. – Я полагал, что начальник Предгорненского РОВД вам докладывал: жених прямо-таки вырвал невесту из рук следователя, когда тот, после короткого второго допроса, хотел увезти ее в отделение для опознания преступников. Следователь попытался применить силу, но дядья и братья Лесковой – их там полпоселка, встали стеной, отгородили молодых от следователя и выжали его и оперов из дома. Причем, никто из них не пускал в ход свои крепкие кулаки. Что тут скажешь: растяпы у нас служат. – Мы четко сказали – не трогать парня, чего ему бояться? Кстати, твой однофамилец. – Да, – согласился Климов. – Но сказали-то не ему, а Косихину. Парень испугался преследования. Не верит он органам, осторожный там народ, поселенцы, помнят старое. – Знаю я этот народ, сталкивался с ним лицом к лицу. Изучал, небось, мою биографию. – Да, – вяло ответил Климов, – пришлось пережить лихое время. – Не то слово, Климов. Кровавое… И ничего, выжил… Генерал задумался. Тень воспоминаний опустилась на его истерзанное морщинами широкое лицо, из бледного – превратилось в серое, напоминая Климову булыжник с сидящей на нем жабой. Сергей помнил это лицо с детства, оно врезалось ему в память той глухой ночью на полустанке, когда их вытряхивали из вагона в холод и слякоть, оторвали его с братом от матери, как и многих других, и погнали в разные стороны. С тех пор он не видел маму, на всю жизнь запомнил ее побелевшее в диком страхе лицо, а рядом другое, похожее на булыжник с жабой, искаженное звериной злобой. Жаба от крика прыгала, а безжалостные, жесткие, как металл, руки отдирали его и Матюшу от мамы… – Не то слово, Климов, – повторил генерал, – кровавое было время… Ну да ладно, отвлеклись мы, как бы теперь без крови обойтись. – Отвлеклись, – согласился Климов и вдогонку сказал: –девушка с парнем исчезли до моего приезда в Листвяжный. Хотел я взглянуть на нее, смелую и решительную. Хотел понять, что за орешек, пойдет ли на мировую, да опоздал. – Опоздал, – повторил за ним генерал. – Фу! Паутина какая-то,– он провел по лицу рукой, как бы смахивая с себя что-то невидимое. – Ты все для себя уяснил? Если вопросов нет – свободен. Климов удалился. Как только дверь захлопнулась, ненавистная ему жаба прыгнула в бокал с коньяком. *** Это были симпатичные девчонки со стройными фигурами. Их сексапильность возрастала из-за коротких, плотно облегающих бедра юбок, броско напомаженных губ. Держались они несколько нахально и легкомысленно. Климову казалось, покажи им палец, и они расхохочутся. Чтобы не привлекать внимания, они ехали в Предгорное на белой «волге» Горина. Протоколы показаний девиц были составлены и подписаны свидетельницами. Их сейчас везли для знакомства и очной ставки с Толстиковым и Грининым. Машину вел капитан Еремчук. Он был одет, как и Климов, в штатский костюм, выглядел весьма привлекательно. Черные кудрявые волосы, роскошные усы, крупный нос, карие глаза и сабельные брови – все в нем, несомненно, нравилось девушкам, и они всю дорогу беззаботно балагурили с капитаном, дружно хохотали, словно ехали на увеселительную прогулку, а не на совершение преступления, подталкиваемые должностными лицами. Машина быстро катила по извилистой дороге. За окнами мелькали встречные автомобили, сосны, березы, лиственницы. Климов молчал, слушая болтовню девушек. Он был спокоен и уверен в себе как всегда, а потому маска хладнокровия не покидала его. – Вы нас оставите наедине с мальчиками, чтобы поближе познакомиться?– спросила капитана блондинка Лола и похотливо расхохоталась. – Посмотрим по обстоятельствам, – в тон ей ответил капитан. –Ты и сам не против побыть с нами наедине, красавчик? – томно подхватила брюнетка Вика. – Но-но! –погрозил пальцем Еремчук. – А что, посмотри, какай бюст у меня!– улыбчиво говорила Лола.– Он дорого стоит. – Не дороже того, что вы уже имеете и того, что ожидает вас впереди, –парировал Еремчук. – Но мы впервые выступаем в такой роли, – поддержала подругу Вика,– мы же рискуем за какие-то там жалкие гроши. –Никакого риска. Вы в надежных руках. Через несколько дней вы отправитесь в месячную турпоездку с карманными деньгами, а затем бессрочные командировки в южные города с приличными окладами, да еще ваши левые заработки. Мед! И больше я не хочу слышать разговора на эту тему. А то ведь я могу повернуть назад. – Ну, что ты! – воскликнули девицы.– Ни слова о деньгах, только о сексе! *** Генерал думал о Климове, о его таланте сыщика. Ломов его не боялся. В противном случае давно бы передвинул в другой город в начальники. Такой человек нужен тут, в управлении, где ширина диапазона и не только ради карьеры Ломова, но и во благо народа. Генерал не хотел признаваться себе, что именно первая причина главная, а «во благо» – это идеология. Так уж мы привыкли думать и выражаться, размышлял генерал, а значит, и жить. Конечно, спору нет, с тех пор, как Климов занял эту должность, его управление быстро выдвинулось в передовые, его ставили в пример на уровне Союза. Тут тебе все почести, доверие, спокойствие. Правда, в последние дни что-то засквозило. Особенно после того письма-анонимки, напоминающем о нераскрытом убийстве прокурора и его давности. Генерал усмехнулся. Дело закрыто, генерала оно не тревожило. Прокурор был его товарищем, но и претендовал на пост начальника управления. Ему не повезло. Такова жизнь: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, а кто-то платит своей жизнью. Время прекрасный нивелир и целитель. Оно все выравнивает, засыпает пеплом раны, затягивает их, правда, с некоторыми рубцами, но, пожалуй, это теперь неважно. Что из того, что анонимка была напечатана, как сказал Климов, на его, генеральской, портативной машинке. Кто ею пользовался, теперь не имеет значения. Глупости, вымысел. На репутацию генерала сие не повлияет. А вот, поди ж ты, неприятно ощущать колпак. Теперь добавилось это скользкое дело. Однофамильцы Климова. Как он выпустил из вида, что почти два десятка лет назад в тех краях встретился ему молодой, но удачливый охотник Климов. Все разве упомнишь. Точнее, его-то он помнил всегда, а вот название поселка запамятовал. Переименовывали поселок дважды, объединяли… Не нравились общественности исторические имена. Сам полковник, какой-то загадочный, читает мысли и точно дает ответ на появившееся сомнение. Потом эти нахлынувшие воспоминания о кровавых годах. Генерал собирал на Климова досье, прежде чем назначить на эту должность. Детдомовец. Сколько накопилось безродных детей в стране в послевоенные годы, но особенно в наших местах. Помнится, только в его лагере было несколько Климовых. Может, и не Климов он вовсе, а Степанов или Смирнов. Может, мальчишка сознательно переменил фамилию еще тогда, когда скитался: документов-то при них, как правило, не было. Как-нибудь на досуге поговорю с ним, если успею. Заберут его скоро от меня в центр. Ну, да ладно, пожалуй. Генерал достал из тумбочки бутылку коньяка, плеснул в бокал добрую порцию, выпил и закурил. «Уходить надо на покой, сколько можно. Займусь на досуге мемуарами. Укачу на дачу, запрусь и буду писать!» Он любил свою дачу и те места, где она стояла. Со второго этажа, где располагался его творческий кабинет, где уже пописывал прозу – прекрасный вид на Ману, по которой он с удовольствием ходил с удочкой, выдергивая хариуса. В болотных сапогах, крупный телосложением, в рыбацкой штормовке с капюшоном он выглядел внушительно, чем всегда забавлял своих любовниц. К черту любовниц, проходят времена, не та уже страсть, износился, как пара солдатских сапог. Дети его разлетелись в разные стороны. И хорошо. Он не любит сюсюканье и слащавость при встречах. Лучше всякой любви говорят те червонцы, на которые он не скупится ни сыну, ни дочери. Золотишка пока хватает для безбедной жизни, да и должность кормит неплохо. Должность! Великое дело! Для него это – власть. Но он не о том, он постоянно учит своих подчиненных преданности должности. Работай на нее, отдавайся ей полностью, вот так, как он, будешь жить без оглядки, сытно и спокойно. Под должностью генерал подразумевал карьеру. Не модное это слово в нашем обществе, даже враждебное, но только карьера заставляла поступать генерала так, как он поступал, как и всякого сколько-нибудь способного и тщеславного человека. Для него не существовали ни боль, ни слезы, он не мог сопереживать за тех, кто окружал его, кто страдал и любил. Он признавал лишь покорность и жестокость, понимал эти чувства и состояние души, строил на них основу своих отношений с людьми. Он давно понял, что через кровавую мясорубку репрессий проведут к дороге жизни только эти вечные качества, дадут власть над собой и другими. И когда он впервые достиг власти, позволяющей распоряжаться жизнями, то постарался укрепить ее все на той же основе: жестокости и покорности, окружив себя людьми, ему подобными. Он не помнит таких, кто бы возражал против его мнения или действий ни тогда в лагерях, ни сейчас в этом любимом кабинете. И железный Феликс тому свидетель. Конечно, не по мелочам, а в главном. Он умел подчеркнуть то, что в данный момент является главным, а что мишура. Цели и средства для достижения успеха не имеют границ выбора. Люди его аппарата понимали, что, если требует их патрон, то требует этого ради непреходящего лозунга – «Во благо народа». Глава одиннадцатая. Нельзя сказать, что Сергея Климова одолевали сновидения, но он часто видел их. Были они всевозможные: то фантастические, что очень нравилось потом вспоминать и разбирать запутанный сюжет; то страшные, бессвязные кошмары голодного детства, от которых оставался неприятный осадок, портивший настроение на весь день; то лирические, любовные, светлые и радостные с прекрасными дамами и волнующими событиями. Последние обычно были связаны с его семьей. Особенно, когда приближалась очередная годовщина его встречи с Катюшей. Они их всегда отмечали. Не день свадьбы, а именно день встречи. Они этот день так и прозвали – «День счастья». «На следующую вечеринку приглашу непременно Матюшу с женой, дай Бог дожить и развязать клубок этого дела. Приеду в Листвяжный, обязательно скажу об этом Матвею, а сейчас, чтобы не слышать болтовню этих девиц с Еремчуком, лучше всего подремать». Он прикрыл глаза, и тот час же картины последней вечеринки поплыли четкие и ясные. В тот вечер Катюша была особенно привлекательна. Она надела новое шелковое платье с яркими голубыми и алыми цветками, купленное недавно, накрыла на стол. Он был прост, но отвечал их вкусу и состоял из отбивной телятины с яйцом, жареной картошки, запеченной целиком курицы в тесте, бутылки сухого вина и коньяка по случаю девятой годовщины их знакомства. – Вот умница, – воскликнул Сергей, когда пришел со службы домой, – а я совсем забыл о нашем Дне счастья! Он поцеловал жену, от чего Аленка захлопала в ладоши и закричала «горько». Ей шел девятый год, она обещала быть такой же красавицей, как и мать. – Правильно, «горько»! – смеясь, сказал Сергей и снова поцеловал жену. Они пили вино, настроение, и без того хорошее, поднялось, и супруги запели песни своей молодости. Телевизор не включали, не хотелось присутствия посторонних, заочно знакомых людей. Они любили песни и пели весь вечер. Сергей любовался Аленкой и Катюшей, говорил им ласковые слова, в ответ слышал то же самое. Их счастье было искренним, неподдельным. Когда Аленка отправилась спать, Сергей сказал полушепотом: – Ты у меня настоящая красавица, я иногда даже боюсь за тебя. – Потому ты начинаешь внезапно звонить мне на работу? – с укором сказала Катюша, нежно улыбаясь мужу, – проверяешь, бесстыдник, где я нахожусь? И бывает, по несколько раз в день. – Нет, что ты! – испугался Сергей своих слов, – цель этих звонков совсем иная. – Какая же, а ну, говори! – Катюша игриво приблизилась к мужу, обнимая его за плечи, предполагая желание любимого. – Ты мне помогаешь найти правильное решение, – серьезно ответил Сергей, глядя в игривые глаза жены, целуя ее носик, – но то, о чем ты подумала, это так – я всегда тебя хочу! Но звоню я не по этому поводу – за твоей помощью. –Спасибо, Сереженька, за желание, – она поцеловала его в губы, – но это твое обращение ко мне – это же неправда, Сережа! Улыбка слетела с ее уст, глаза Катюши наполнились тревогой. – Уходя брать своих убийц, ты рискуешь жизнью и, как бы прощаешься со мной. Так? – Нет, милая, не так! – ужаснулся Сергей от этой жуткой и невыносимой мысли жены. – Последнее время я сам редко участвую в арестах. Берут мои ребята, они специалисты. Я с тобой говорю, и ты наводишь меня на верный след. – Как это? Я же ничего не знаю? – Конечно, не знаешь, но иногда мой контакт с космическим Разумом дает сбой, а общение с тобой даже по телефону, дает результаты. Так что ты могла бы стать хорошим криминалистом. – Ты серьезно о контакте с Разумом, Сережа? – Более чем. – И все же мне непонятно, как это происходит? –Согласен, загадка не из легких и для меня тоже. Еще раньше Сергей заметил за собой странное влечение к кладбищам. Сначала он не понимал, отчего или откуда возникает эта потребность, но постепенно пришел к четкой мысли, что бесцельное хождение меж могильными холмиками, чтение надписей на крестах и памятниках в убаюкивающей скорбной тишине позволяют обрести ясность мысли, логичное умозаключение по всем вопросам, возникающим в криминальных поисках. Часто он пешком отправлялся на Покровское кладбище, расположенное на холме, рядом с шумными центральными улицами. Хождение неотъемлемая часть его работы может быть, еще и потому, что по характеру он был одинец, и как старый лось нетороплив и размерен в своем движении, будь то утоление голода или жажды. Правда, в отличие от старого лося-одинца, склонного больше к лежке, он предпочитал движение. Движение по кабинетам, коридорам, улицам, чаще по кладбищам. Сначала об этом знал только он один, потом в его тайну проникли его ближайшие помощники, а потом все управление. И за ним стали наблюдать: странность эта не могла не насторожить руководство, в частности, Ломова. Но все знали, что после очередного посещения кладбища, Климов даст ответы на целую серию сложных вопросов. Когда Климов заметил за собой пристальных наблюдателей, он перестал ходить на кладбище и переключился на телефонные звонки жене. Телефонные разговоры были пустыми, не обязательными: – Ну, как ты там, Катюша? Работаешь? – спрашивал он жену. – Работаю, Сережа, а что случилось? – Да ничего, трудись, просто поинтересовался самочувствием. – А ты все ходишь? – Хожу. – Скоро поедешь? – Не знаю, еще не решил. Приходи домой вовремя. Аленка одна скучает. – Конечно, Сережа, только загляну на минутку в магазин, – обещала жена, и Сергей клал трубку. Сегодня, буквально полчаса назад, он позвонил Катюше и сказал, что уезжает в Предгорное на несколько дней и, возможно, вернется не один, а с очень неожиданным сюрпризом. Причем, постарается вернуться к их дню счастья, и чтобы она готовилась к вечеринке серьезно и с размахом на несколько персон. Катюша, конечно, удивилась, стала спрашивать, что это он задумал, но Сергей был неумолим, сослался на то, что иначе не получится никакого сюрприза, и, поцеловав ее через трубку, распрощался. «Да, это было бы действительно ошеломляюще – приехать домой с Матюшей, Софьей и Андреем. Андрея, может быть, и не стоит отрывать от невесты в эту сложную ситуацию, а вот брата с женой привезу непременно!» – грезил Сергей, убаюкиваемый ровным ходом машины. Глава двенадцатая. Матвея Климова потрясла встреча с братом. Весь оставшийся день он не находил себе места. Шутка ли, брат живой, да еще с такими новостями, словно с небес свалился. Чего доброго – крыша поедет. Работать он не мог. Все валилось из рук, и напарники в столярке отнесли его чрезмерную взволнованность к вчерашним событиям, и, зная характер Матвея, старались не лезть в душу с сочувствием. Он был им благодарен, сидел в одиночестве в курилке и курил беспрестанно. Он едва дождался, когда окончится рабочий день, и, возвращаясь домой, забежал в магазин, купил бутылку водки, хотя знал, что у Софьюшки есть припрятанная на всякий случай. Этот случай был именно сегодня, но брат строгонастрого предупредил: о нем – ни слова. Даже жене. Ну, если уж не сможет скрыть от нее, обсуждать это событие следует только дома, иначе огласка может крепко навредить всем им, а особенно Андрею с Таней. Если бы не этот наказ, Матвей зашел бы сейчас к Лескову, пригласил его к себе домой, и они обсудили бы все текущие дела и события. Матвей никогда не злоупотреблял спиртным, тем более не пил в одиночку, но по такому случаю он примет и один. Водка ему сейчас нужна как лекарство, чтобы снять стресс. Он, правда, не любил это слово, а попросту сказать, снять волнение, успокоить нервишки. Помнится, года три назад его чуть не накрыла снежная лавина на Крутой сопке. Северный и восточный склоны горы почти безлесные. Лишь кое-где росли чахлые лиственницы и кедры, примостившись между скал. Набивало на склоны снега жутко много, лавины здесь сходили ежегодно. Матвей с богатой добычей под вечер возвращался к себе в избушку. Чтобы срезать путь, он вышел на Крутую, откуда до избушки рукой подать: два коротких спуска. Нынче он здесь еще не бывал, а потому не знал, что творится на вершине горы. Чтобы не искушать бесов, он вышел на открытое место и дважды выстрелил дуплетом, рассчитывая спровоцировать лавину, как делал ежегодно. Прислушался, по шуму понял, что лавина пошла, и он поторопился уйти от нее на безопасное расстояние. Но лавина шла фронтом более обычного. Матвей это понял по тревожному бреху лайки и шуму в лесу. Он ускорил шаги, лыжи шли хорошо, но все же он не успел уйти. Лавина зацепила его самым краем. Прижавшись к могучей лиственнице, Матвей потонул в снежной пыли. Когда все улеглось, то оказался по колено засыпан снегом. Он достал кисет, стал скручивать сигарету из махорки. Пальцы его дрожали, чего никогда не случалось раньше, табак рассыпался. Матвей сплюнул в сердцах, отвинтил крышку с фляжки, что висела на ремне, налил из нее в крышку не разведенного спирта, выпил дважды, зажевал снегом. Через минуту он почувствовал работу спирта: дрожь в пальцах унялась, по телу разлилось тепло… Софья удивится, полезет с расспросами, от нее не спасешься. Да и сам он разве смолчит? Какое тут сердце надо! Он расскажет ей о Сергее, она сохранит все в тайне, не в ее интересах судачить: ставка – судьба сына. Она пропустит с ним по рюмочке, как жаль, что Андрей ушел в тайгу. «Ай, да случай, хоть петухом кричи! В то же время печаль: нет покоя Андрею, не ужто счастье его обломится, как сухая ветка, не уж-то и ему горя не расхлебать, как и нам с браткой в юности-молодости мыкать пришлось? Вот стезя, так стезя ». Софья, как всегда, пришла с работы раньше него и хлопотала у плиты, готовя ужин. Предстояло полить огород. Это было неотложным делом, и Матвей решил сразу же управиться по хозяйству, а тогда уж и за стол. – Что-то на тебя не похоже, Матвей, пришел – и за полив взялся, – с улыбкой встретила его жена, когда он, отдуваясь от дневного зноя и быстрой работы, вошел на веранду. – Случай необыкновенный тому виной! – сказал он, вытаскивая из кармана бутылку московской водки. – Что за случай? – нетерпеливо спросила Софья с ноткой неудовольствия, которая возникает при появлении водки у непьющей женщины. –Это, милая моя, большой секрет, и я тебе его раскрою, если слово дашь, что ни звуком не обмолвишься о нем ни перед кем, даже перед Андрюшей. –Что за секрет такой страшный, – встревожилась Софья. – Я такое и слышать боюсь, не только говорить о нем кому-то.– Она засмеялась, недоумевая, то ли правду говорит муж, то ли шутит.– Уж не обедний ли посетитель причина? На сковороде заскворчало свиное сало, и она высыпала туда из эмалированной чашки мелко нарезанную картошку. Матвей скинул с плеч штормовку, ополоснулся под умывальником, утерся полотенцем и, не спеша, опустился на стул, придвинулся к столу. Софья терпеливо ждала продолжения разговора. – Так вот, мать, я очень серьезно говорю, чтобы держала язык за зубами, если Андрюше счастья желаешь. – Матвей потянулся в шкаф за рюмками. Софья замерла от необычного поведения мужа. – Да что ты, Матюша, заладил. Если ж нельзя говорить – не говори. Какая мать сыну счастья не пожелает. – В том-то и дело, Софьюшка. Не могу я эту тайну носить, радостная она, распирает меня изнутри, лезет наружу, как добрая квашня из туеска, боюсь, разорвет она меня одного! Сегодняшний гость тому виной, кто, ты думаешь, он? – Матвей налил в рюмки водку, сделал паузу, испытывая удовольствие от разожженного Софьиного нетерпения, и с великой радостью в голосе проговорил: – Братка это мой! Сыскался братка! В глазах у Матвея блеснули слезы радости, едва сдерживая их, он почувствовал, как подкативший под горло комок восторга не дает ему больше говорить и молча смотрел на растерявшуюся жену, не верящую в то, что услышала. – Господи, да что же это он так крадучись? – воскликнула она, присела к столу, всплеснула руками, непроизвольно потянулась за рюмкой. – За дорогую находку, Софьюшка, за Сергушу выпьем! – он осушил рюмку, закусил зеленым луком с хлебом, подождал, пока выпьет жена, и тогда пояснил: – Пока он не может в открытую. Танюшкиным делом занимается. По его совету я и Андрюшу в тайгу услал, и Танюшка схоронилась в надежном месте. Насильники ее – сынки больших шишек. День-два, откупную Лесковым предложат. Но только не примут ни они, ни мы, ни тем более Андрюша. Братка тоже не лыком шит, со дня на день обещался объявиться здесь, обмозгуем вместе, как правосудия добиться. И ты молчи, мать, никому ни слова, ни полслова, а то я вас, баб знаю: понесете на языке, как в жаркую погоду кобель слюну по дворам. – Что ты, Матюша, Бог с тобой! – с обидой в голосе проговорила Софья, – разве ж я не понимаю. – Ну ладно, прости за грубое сравнение, это чтоб доходчивей. Наливай по единой! За радость и за печаль сегодня пить буду. Жаль, Лескова пригласить нельзя. – Пей, тебе ж не повредит, нечасто такое выпадает, чтобы брат родимый через столько лет отыскался! Сейчас картошечка, твоя любимая, со шкварками и яйцом, подоспеет. Я ж отбивную тебе сжарю, банку помидоров открою, вчера из погреба достала, – говорила Софья, взволнованная не меньше мужа. Еремчук остановил «волгу» у дома Лесковых около восемнадцати часов. Выйдя из машины, капитан взял черную папку, не торопясь, направился в дом, который стоял на одной и той же улице, что и дом Матвея, только ближе к конторе леспромхоза, то есть почти в противоположном конце поселка. Срубленный из лиственницы крестовый дом, бревна которого почернели от времени, не казался старым. Его молодили недавно крытая шифером крыша, разрисованные ставни, свежеокрашенные резные узоры по периметру застрехи, обновленный штакетник палисадника и красивые, широкие деревянные ворота. На свирепый лай пса вышла встревоженная мать Тани. Увидев незнакомого человека, она остановилась на крыльце, крикнула в глубину двора, где под навесом хлопотал по хозяйству сам Лесков. – Иван, это к тебе непрошеные, – голос ее звучал замучено и тревожно. – Не волнуйтесь, мы с добрыми намерениями, – сказал Еремчук, подходя к крыльцу. – А вот и хозяин. Лесков шел от сарая, тяжко ступая, как нагруженный кладью, отряхивая ладонь о ладонь, подошел, недовольно оглядывая гостя, сдержанно поздоровался, осведомился: – Если вы к Татьяне, то ее нет дома, – сделав короткую паузу, Иван уже холодно и резко проговорил: – А потом, нечего терзать бедное дитя, она достаточно пережила, едва не потеряла рассудок. – В таком случае, где же она? – не повышая тона, спросил пришелец явно невпопад. – А кто вы будете, коли дочкой интересуетесь? – Может, пройдемте в дом и поговорим, я вам все объясню. Кое-какие обстоятельства происшествия с вашей дочерью изменились, и я, как посредник, будем так называть, между сторонами, хочу вам кое-что предложить. – Нам никаких посредников не нужно, мы не признаем никаких других обстоятельств, кроме настоящих, – недовольно сказал Лесков, но голос его слегка дрогнул, что не ускользнуло от Еремчука. – Вы не нервничайте, Иван Васильевич, все будет хорошо,_ мягко сказал Еремчук, – мы к вам с миром. – Проходите в дом, – после некоторого раздумья, наконец, предложил Лесков, пропуская гостя вперед. В доме было прохладно. Они сели в прихожей на стулья. Еремчук бегло окинул взглядом помещение, где размещалась вешалка для верхней одежды, задернутая цветастой занавеской, да печь-голландка, раскрыл папку. – Обстоятельства, о которых я вам сказал на улице… – Прошу прощения, но кто вы такой? – перебил его Лесков. – Ах да, я капитан милиции, вот мои документы, – Еремчук вынул из внутреннего кармана пиджака, раскрыл. – Ясно, – кивнул головой Лесков. – А вы бдительны,– одобрительно сказал капитан, – так вот, обстоятельства таковы. Как бы это вам сказать, иные, нежели они представлялись нам в начале следствия в деле об изнасиловании вашей дочери Татьяны. – Капитан сделал паузу, взглянул на Лескову, вошедшую в прихожую и прислонившуюся к косяку. – Вот передо мной протоколы допроса свидетелей, я могу их вам прочесть. Или изложить суть кратко? – капитан сделал паузу, взглянул на помрачневшее лицо Лескова и продолжил. – Итак, я излагаю кратко: в тот день ваша дочь Татьяна действительно привезла заявление в загс. Но, встретив в Предгорном своих знакомых парней, в частности, Горина Евгения, Толстикова Геннадия и Гринина Антона, которые предложили ей поехать на пикник и отметить подачу заявления в загс. В компании были две девушки из города – подруги Толстикова и Гринина. К вечеру, то есть к пяти, они отвезут Таню в Листвяжный на машине и всей компанией поздравят с помолвкой жениха и невесту. Ваша дочь не стала отказываться и села к ним в машину… – Что вы несете, капитан, – не выдержал Лесков, – что вы сочиняете! Моя дочь не столь легкомысленна, чтобы в день, как вы говорите, помолвки с любимым парнем сесть в какую-то машину с незнакомыми разбойниками. – Успокойтесь, Иван Васильевич, я излагаю только факты, – бесстрастно сказал Еремчук, взглянув на Лескову, которая похолодела от рассказа, – и могу пригласить в дом живых свидетелей, они в машине. – Ваня, давай послушаем человека, – прохрипела бедная Степанида, у которой явно подкашивались ноги. – Да вы сядьте, – участливо сказал капитан. – Я могу продолжать, Иван Васильевич? – Продолжайте, надо же знать, что придумали наши враги, – согласился Лесков. – Мой долг излагать только факты из материала допроса свидетельниц происшествия. Итак, молодые люди уехали на берег Громотухи, где изрядно выпивали. Вы не должны отрицать того факта, что Татьяна тоже была под воздействием алкоголя, даже придя домой пешком. – А какие есть этому доказательства – раны и синяки бедной девочки? – Сейчас доказательств нет. Но они нам и не нужны, скорее этот факт важен для вас в том смысле, чтобы вы поверили, точнее, согласились с тем, как все происходило на самом деле. Так вот, молодые люди изрядно выпили, и у них началось то, что всегда случается с молодыми в нетрезвом состоянии: они разбрелись парами, и Горин взял вашу дочь.., – капитан мельком взглянул на Лескова. Сраженный убийственной логикой, Иван Васильевич сжался, лицо его стало серым, в глазах поселился страдальческий ужас, что удовлетворило капитана. Сделав выжидательную паузу, он продолжил: – Полюбовные действия между парами продолжались довольно долго. Затем неизвестно из-за чего между Гориным и вашей дочерью вспыхнула ссора. Вскоре Горин уснул, и ваша дочь отомстила. После полового акта, а это всегда так бывает, девушка поняла, что совершила трагическую ошибку – попросту предала своего жениха. Но, увидев, что пьяный Горин уснул, она, чтобы снять с себя вину и обвинить в насилии своего партнера, жестоко отомстила ему, вы знаете, отрезала несчастному парню половые органы. – Батюшка, Бог мой! – высоким голосом вскричала Степанида, – залей мне уши горячим свинцом, чтобы я не могла слышать эту небылицу! Моя девочка в рот не берет спиртного, эту гадость, да чтобы в такой-то день, вдали от своего Андрюши, халкала эту заразу с бандитами? Жгите меня каленым железом, терзайте меня на куски, рвите мое тело зубами – не поверю! Уу! – заголосила она, заламывая над головой руки. – Будьте вы прокляты, милиция вся, чтоб над вами разверзнулся Армагеддон! Она бросилась в комнату, уткнулась в подушку, громко завывая. Лесков последовал за ней, уговаривая успокоиться, взять себя в руки. Когда плач утих, Иван вернулся, казалось, к очень смущенному капитану. – Извините, что я приношу вам боль, мне тоже нелегко излагать вам факты, но такова правда. Жаль, что ваша супруга ушла и не услышит главного. В этой истории трудно, но можно восстановить истину. На это потребуется немало ваших нервов, здоровья, дальнейших психических травм вашей дочери. В происшествии замешаны, как вы знаете, дети весьма уважаемых ответственных работников района и города. Они хотят, чтобы все уладилось миром и не дошло до суда. Более того, дальнейшая жизнь и судьба Евгения Горина непредсказуема, он инвалид, он евнух, и кто знает, не наложит ли он на себя в дальнейшем руки. Родители Горина вправе требовать правосудия и возмездия. Но они понимают, что их сын тоже виноват в своей распущенности. Поэтому они хотят мира: заберите свое заявление из милиции, и дело будет исчерпано. Подумайте! В противном случае на вашу дочь будет заведено уголовное дело, ее ждет строгое наказание за членовредительство, – твердо закончил капитан. Лесков некоторое время молчал, сгорбившись, очевидно, взвешивая услышанное, затем распрямился, глубоко и шумно вздыхая, и, насколько ему это удалось, спокойно заговорил: – Во-первых, я, как и моя жена, не верю ни одному вашему слову о какой-то там гульбе своей дочери с этими подлецами. Во-вторых, ваша подтасовка опровергается кое-какими фактами, вам неизвестными. В-третьих, я не могу сам решать о мировой, если даже все выглядит так, как вам хотелось бы. Есть еще Танюшка, ее жених, моя жена и многочисленные наши родственники. Среди них есть юристы, и, не посоветовавшись с ними, ничего нельзя решать. – Так посоветуйтесь! – воскликнул капитан. – Я понимаю, они потребуют вознаграждения. За этим дело не станет. Пусть назовут сумму. – Стоп-стоп! – Лесков поднял руку. –Угомонитесь! Позор моей дочери разве можно покрыть деньгами? Мать, слышишь, что предлагают нам насильники – деньги! Чтобы мы могли запить, заесть на эти деньги искалеченное счастье нашей малютки! А ну, как забрюхатит она после мерзавцев? Никогда этого не будет, слышите вы, капитан, не будет! А теперь прощайте, не то кобеля с цепи спущу! Глава тринадцатая. Утром следующего дня следователь Косихин читал протоколы допроса Лолы и Вики. Человек он был спокойный и рассудительный, редко выказывающий свои эмоции, хотя порой они и закипали в его душе кипятком, готовые выплеснуться наружу. Но он умел вовремя выключать из сети нагревательный прибор. Сейчас был именно тот случай, когда он с каждой минутой все больше и больше нагревался, готовый взорваться в любую секунду. Но напротив него, в его жалком кабинете, где здесь же ютились еще несколько следователей, сидел Климов и равнодушно наблюдал, как Косихин читал протоколы и накалялся добела. Косихин слыл удачливым и принципиальным малым и сразу же понял, откуда подул ветер. Взрываться не имело смысла. Что тут скажешь, когда городские сыщики, да еще сам Климов, поставили его перед фактом с живыми свидетелями. Неужели и Климов, которого он считал своим кумиром, тоже дерьмо, как и этот капитан Еремчук, составивший протоколы… – Не сомневайтесь, – неожиданно сказал Климов, – кивая в сторону Еремчука, – это заслуга исключительно капитана. Косихин вздрогнул, оторвал свой невидящий взгляд от только что прочитанных протоколов, уставился на Климова, который сидел у стены этого узкого кабинета, где едва помещался в ширину один стол, оставляя узкий проход к нему. Сзади Косихина – окно, что создавало неудобство: зимой из него тянуло холодом, а летом – зноем. Косихин как можно дальше отодвинулся от окна, что позволило в углу поставить сейф, с которым он работал не вставая. – Я бы рекомендовал взять за основу эти протоколы, – с издевкой сказал Еремчук, понимая реплику Климова как одобрение и его призыв – брать быка за рога. – А прежние, как компрометирующие профессиональные качества конкретного человека – уничтожить. Я правильно советую, Сергей Петрович? – Своя рука владыка, – уклончиво ответил Климов. – Разумеется! – Еремчук выказывал хорошее творческое настроение. – Так что потрудитесь, Косихин, достать протоколы, и мы их сообща уничтожим и скажем, что так и было. Косихин молча отомкнул сейф, достал дело, открыл, и его глаза расширились от ужаса: кроме заявления Татьяны Лесковой, в нем ничего не было. Косихин потерял дар речи. – Черт возьми, как это понимать? – первым не выдержал Еремчук. – ЧП, – выдавил из себя Косихин. – Вчера вечером все лежало на месте. С ключами я не расставался. Никогда такого не случалось. Косихин беспомощно глядел на Климова, на лице которого была написана мина удивления. – Мне надо доложить начальнику, – погасшим голосом сказал Косихин. – Докладывайте, – разрешил Климов. – Мы вмешиваться не будем, разбирайтесь. Офицеры встали и вышли из кабинета. Косихин закрыл его на замок, пошел потерянный к начальнику. Климов и Еремчук прошли в дежурную часть, что располагалась у входа в здание, уселись на стулья в ожидании решения вопроса. – Брал бы ты все дело на себя, капитан, – сказал Климов, закуривая, – мне-то, что тут торчать. Еремчук беспомощно развел руками, мол, рад бы в рай, да шеф не пускает. В дежурной части почти беспрерывно звонили телефоны, входили и уходили люди, дежурный отдавал распоряжения, отвечал на вопросы, звонки. – Разве вас не заинтересовало это дело? – спросил Еремчук Климова. – А что тут интересного, неразрешенного? Скучно, не по моей части. Не успел Климов выкурить сигарету, как у дежурного зазвонил красный, местный, телефон. Дежурный поднял трубку, послушал: – Вас приглашают, товарищ полковник. – Пошли, – сказал Климов капитану. В кабинете стоял навытяжку Косихин. Это неприятно подействовало на Климова. – Что будем делать, Сергей Петрович? – сказал начальник отдела Гаврилов, зная, что Климов не любит, когда к нему обращаются по званию. – Я сам не могу принять решение, коль исчезли протоколы дела Лесковой. Такой компромат всему противоречит. Не позвонить ли генералу? – Да он вас с Косихиным с землей сровняет! – ужаснулся Еремчук. Климов кинул в его сторону неодобрительный взгляд и спокойно сказал: – Компромат – не то слово. Мина замедленного действия под нами, причем большой разрушительной силы. Гаврилов за столом заерзал, испепеляя взглядом Косихина, но тот, хоть и стоял навытяжку, но по всему его облику было видно, что он даже рад случившемуся, принимает вызов своего начальника и готов сразиться за правое дело на пистолетах. Еремчук выглядел явно подавленным и раздосадованным: срывается выполнение важного поручения. Напряженная тишина длилась больше минуты. Климов любовался Косихиным. Наконец он сказал: – Косихин следователь толковый, не мне вам об этом говорить, сами знаете. Но он не педант в бумагах: у него даже заявление не подшито, как будто его только что принесли. Пусть сначала пороется в своих бумажных завалах. Все недоверчиво смотрели на Климова. – Да-да, и вы, капитан, с ним сходите. Лишний глаз в таких делах только на пользу. – Давай, Косихин, действуй, – раздраженно бросил начальник, – когда я тебя приучу с бумагами работать? – Сдается мне, Геннадий, никогда, – с добродушной улыбкой сказал Климов, когда они остались вдвоем. Он прошел к стульям, стоящим у т-образного стола, следуя жесту своего собеседника, уселся. – Почему? – недоуменно спросил Гаврилов. – Во-первых, способные сыщики страшно не любят бумаг. Во-вторых, грядут солидные передвижения, и кто знает, где окажешься ты. – Что, старик засобирался на пенсию? – Да, на вечный покой, может быть, в аду, – засмеялся Климов. – Что так? – сдержанно осведомился Гаврилов. – Допек старик? – Не то слово. Грехов у него разве что с Сатаной сравниться. – Однако ты, Сергей Петрович, уживался с ним. – Не я – он. Я ему нужен. А так бы он меня давно куда-нибудь перебросил. Вот и это дело. Как бы коса на камень… – Климов не договорил, двери распахнулись, и в кабинет вошел смущенный Косихин, а за ним Еремчук. Лицо у сыщика горело. – Протоколы лежали в другом деле, товарищ полковник. И как я их туда сунул – ума не приложу! – смущенно говорил Косихин. Климов молчал, слегка нахмурив брови. – Опозорил ты отдел, Косихин, перед полковником стыдно за тебя, как худая домохозяйка себя ведешь! Одно тебя спасает, Косихин, если твой кумир и учитель – Сергей Петрович, заступится. – Ему защита – его работа, – бесстрастно сказал Климов, – а цену ей вы лучше меня знаете. – Цена высокая, – откликнулся Гаврилов. – В таком случае, инцидент исчерпан, – Климов сделал паузу, подчеркивая, – если документы никуда не исчезали?– он сделал новую паузу, глядя на Косихина, что вызвало неприятное недоумение у Гаврилова и Косихина, не говоря уж о Еремчуке, который насторожился.– А сейчас я бы хотел пройти в КПЗ, взглянуть на этих молодчиков. Климов вновь как-то загадочно глянул на Еремчука, на Косихина, на начальника отдела, весело сообщил: – Может, что-нибудь обнаружу там экзотическое, те неизвестные факты, о которых намекал Иван Лесков капитану Еремчуку. Это было уж слишком. Нервозность присутствующих в кабинете возросла: все знали, что полковник никогда попусту ничего не говорит, и за его словами что-то кроется. Но, сочтя на этот раз просто шутку для разрядки напряженности, заулыбались. – Постарайся, Сергей Петрович, может и найдешь что,– в тон ему ответил Гаврилов.– Проводи, Косихин. – Уж я непременно постараюсь, отыщу, Геннадий Викторович, до встречи,– как-то игриво сказал Климов, чем опять насторожил собеседников. Через несколько минут после этого короткого разговора дежурный сержант открыл камеру, и офицеры вошли в низкое помещение, большая часть которого составляли деревянные нары без матрацев и одеял. На них сидели Толстиков и Гринин. Последний вскочил, Толстиков нехотя тоже поднялся. – Что это у тебя за шишка впереди?– спросил Климов, внимательно оглядывая Гринина,– обыщите-ка арестованного, сержант. – Нет у меня ничего, нет!– взвизгнул Гринин и бросился в угол камеры. – Ты чего?– изумился сержант.– А ну, ползи назад!–и он нерешительно направился к Гринину, а, подойдя вплотную, неожиданно схватил рукой за шишку. – Ба! Да там у него какое-то железо! – воскликнул изумленный сержант.– А ну, показывай! Гринин иступленно завопил, чем немало озадачил присутствующих. –Ну, что вы, сержант! – проявил нетерпение теперь уже Еремчук.– Помогите ему, Косихин. Тот немедленно повиновался приказу, вскочил на нары, заломил Гринину руки назад, а сержант быстро сдернул штаны и плавки с несчастного и то, что они увидели, привело их в дикое изумление. На некоторое время воцарилась мертвая тишина, слышно было лишь прерывистое дыхание Гринина. Затем раздался четкий, но негромкий голос сержанта: – Ты зачем, дурак, сюда замок нацепил? Сержант, видимо, обладал более крепкими нервами и огромным чувством юмора. Он походил сейчас на пародиста пародировавшего некоего идиота застывшего в поклоне. Косихин же, выпустил руки Гринина из своей мертвой хватки, и тот поспешно натянул штаны. – А я думаю, что это он, позорник, позавчера вздумал в раковину мочиться,– сказал сержант, выпрямляясь,– а это он охлаждал… Эти слова послужили детонатором взрыва смеха, от которого открылась входная дверь в камеру, и взрывная волна хохота полетела к дежурному, где всегда толклись сотрудники. – Что там стряслось?– спросил дежурный у одного из офицеров. Тот пожал плечами.– Пойду, посмотрю. Когда он появился у камеры, то увидел, как арестованный Толстиков неистово хохочет вместе с милиционерами, а Гринин сидит в углу, сжавшись в комок, обеими руками ухватившись за штаны, закрывая прорешку. – Что он, в штаны наклал.? – спросил дежурный, втягивая в себя воздух, не чувствуя никаких дурных запахов. – У него замок, товарищ старший лейтенант,– едва владея собой, сказал захлебываясь смехом сержант. – Что за чушь ты несешь? Где замок?– занервничал дежурный, но, видя, что, прислонившись к косяку, почти беззвучно смеется полковник Климов, сам невольно расплылся в улыбке. – На…На..,– попытался ответить сержант, борясь со смехом,– ну там, в штанах. А я-то думаю, что у него там за шишка? Он замок надел и замкнул. На спор, что ли? Не веря своим ушам, дежурный, широко улыбаясь, но, все же сдерживая себя от подкатывающегося к горлу смеха, подошел к Гринину, сурово сказал: – А ну, покажи! – Не покажу! Принуждать не имеете права!– взвизгнул Гринин. – Я дам – «не имеете права»!– взревел дежурный,– ты может, там бомбу прячешь, чтобы КПЗ взорвать, а ну, показывай! Сейчас я тебя в карцер упрячу.– Дежурный с силой рванул за пояс жалкие арестантские штаны, которые Гринину дали три дня назад, здесь же в отделе, чтобы прикрыть наготу, пуговица отлетела, и взору представился самый настоящий амбарный замок. Новый взрыв хохота разозлил дежурного. Зажимая рот рукой, сдерживая рвущиеся наружу звуки, он спросил: – Кто это над тобой подшутил, и где ключи? – Это тот лось, он избил меня, и этот замок надел, а ключи выбросил,– сквозь слезы отчаяния, вопил Гринин. Заинтригованные шумом и смехом возле камеры толпилось уже около десятка сотрудников милиции, они спрашивали друг друга, что случилось, узнав, выпучив глаза, но, не веря своим ушам, хохотали. Кто-то решил убедиться лично, пробрался к Гринину и еще раз обнажил уникальный подарок Андрея, и едва не упал от смеха. Гринин затравленным волком забился в угол камеры. «С этим все кончено»,– подумал Климов и пошел на выход из отделения. Пройдя к своей машине, которая стояла во внутреннем дворе, уселся на заднее сидение с удовольствием закурил. Но не успел он насладиться одиночеством, как возле машины появился взволнованный Еремчук. – Что же нам делать?– спросил он, распахивая дверку и садясь в машину. – С кем или с чем?– весело откликнулся Климов, как бы не отойдя еще от трагикомической ситуации с Грининым.– Это вообще не моя идея, а тут случай феноменальный. Что можно сказать, капитан? Только одно: я умываю руки. – Вы не можете так поступить! Генерал не случайно вас сюда послал, очевидно, он предвидел необычность дела. – Ах, вот как!– воскликнул Климов.– Генерал, сдается мне, тоже не предвидел скрытые факты, о которых напомнил вам коварный Иван Лесков. Но мне казалось, что генерал все просчитал и наделил вас особыми полномочиями. Я же приставлен к вам в роли наблюдателя за творящимся беззаконием. – Ну, не будем так квалифицировать наши действия… – Ваши действия,– бесстрастно поправил его Климов. – Ну, если хотите, я бы уточнил: действия шефа, я только исполнитель. – Вот это уже ближе к истине,– удовлетворенно проговорил Климов.– Я вам скажу, что работа ваша наполовину поубавится и в ближайшие часы. – Что вы хотите сказать?– насторожился капитан. – Я все сказал, больше добавить нечего. – Вы говорите загадками,_ с обидой в голосе сказал Еремчук.– Как поступать, я не знаю. Придется звонить генералу. – Не станете же вы по телефону рассказывать ему о замке. Он подумает, что вы крепко перебрали, и у вас поехала крыша. – Но надо же что-то делать?– в отчаянии воскликнул Еремчук,– нас ждут в гостинице девицы. – Уж, не хотите ли вы тащить этого недоумка с замком на свидание с сексуальными девицами? Впрочем, это было бы здорово: разоблачение неминуемо, и оттуда ему, с его нервами, дорога только в сумасшедший дом или в петлю. А, капитан?– Климов едко улыбнулся.– Это была бы достойная плата и справедливое возмездие. Глядишь, от генеральской затеи – один мыльный пузырь! – Я с вами согласен, Сергей Петрович, но задание выполнять надо, если не хватило мужества отказаться там. Я распорядился, чтобы Косихин достал ножовку по металлу. – Это гениально! Кто же будет в роли слесаря?– веселое настроение у полковника не проходило. – Сам, конечно же. И, чем скорее, тем лучше, пока не лишился рассудка. – Вы полагаете?.. – Но вы же сами только что намекнули. Да и взгляд у него какой-то безумный. – В таком случае вам придется спешить. Но коль мы действительно в одной упряжке, я подумал, не пойти ли мне в гостиницу, не подготовить ли к встрече девиц, пока вы тут возитесь с этим ублюдком. Вон и Косихин с ножовкой появился. И так, я забираю Толстикова и еду с ним в гостиницу. Офицеры вышли из машины. Еремчук последовал за Косихиным, который советовался с дежурным, как поступить с Грининым. Оба стояли в нерешительности. – Надо бы доложить начальнику отдела,– настаивал дежурный. Еремчук не возражал. *** На предложение поехать на очную ставку с девушками в гостиницу, которое сделал Еремчук Гринину, последний наотрез отказался. Парень выглядел слишком подавленным, еще плотнее сжался в комок, в глазах полыхало нездоровье. Капитан видел нездоровый блеск в глазах парня и раньше, и если бы камера хорошо освещалась, то можно было бы убедиться безо всяких сомнений, что в серых, довольно привлекательных глазах, поселилось безумие. –Хорошо,– сказал Еремчук, явно недовольный развивающимися событиями,– принесли ножовку, пили, освобождайся от замка, и тебя, как и Толстикова, возможно, ждет свобода. Еремчук уже пожалел, что согласился участвовать в этом деле по сценарию генерала таком простом и плевом. Он злился на Климова, который явно посмеивался над ним, оставаясь в роли наблюдателя. Еремчук добровольно не подписывался на эти трюки, его заставили: то намекали о досрочной звездочке, то на внеочередное получение трехкомнатной квартиры. Где тут устоишь, если у него трое пацанов, а он все ютится в двухкомнатной малометражке. Какая сволочная ситуация! Попробуй, откажись. Найдут другого, дело дожмут так, как им надо, но и тебя зажмут в коробочку. Проклятье, все идет как-то наперекосяк: Лесковы дали от ворот поворот, чует его сердце, придется ему же вылавливать девку. Косихин протоколы не туда засунул, хотя клянется, что вчера собственноручно клал их вместе с заявлением в одно дело. А что если он прав, а намек полковника имеет под собой почву? Теперь вот этот чокнутый непредсказуемый. Кто мог такое подумать! Тут, в самом деле, не до смеха. – Я так не могу,– услышал Еремчук голос Гринина. Капитан глянул на затравленного, с измученным лицом и безумным блеском в глазах арестанта, и какая-то безотчетная злость на этого подонка стала туманить его разум: «А, сволочь, насиловать невинную девчонку мог, мало тебе замка, надо так же отхватить тебе все хозяйство, как твоему дружку!» Еремчук готов был шарахнуть по башке ножовкой это быдло, как его остановил голос Косихина: – Как не можешь?– спросил тот зло. – При вас не могу. Оставьте меня одного,– со страхом едва выдавил из себя Гринин, глядя на посеревшее от злости и ненависти лицо капитана, судорожно сжимавшего ножовку. – Отдайте ему ножовку, капитан. Но мы выйти не можем, слышишь, Гринин, мы просто отвернемся, понял? Да поторапливайся, пока я добр,– крикнул Косихин. Гринин опасливо протянул руку к ножовке, осторожно, словно она горячая взял ее, и Еремчук ясно увидел глаза арестанта: они были безумные. Еремчук остолбенел и тут же вспомнил слова Климова о том, что работы у него скоро будет наполовину меньше. Еремчук резко сделал непроизвольное движение вперед, намереваясь выхватить ножовку из рук Гринина, но промахнулся: дикий вопль опрокинул его на нары, падая, он повернул голову в сторону Гринина и с расширившимися от ужаса зрачками увидел, как арестант запрокинул голову набок, а из рваной раны на шее хлынула кровь… *** Даже самые неприятные дела Климов старался выполнять энергично и точно. Он взглянул на часы – шел одиннадцатый час дня. «Утро теплое, день будет жаркий»,– подумал Сергей, глядя, как щурится Толстиков на яркое солнце. Толстиков одет все в тот же спортивный костюм, в каком был на пикнике четыре дня тому назад. Он выбрит и аккуратно причесан: как же, идет на свидание с девушкой, которая дает ему алиби. Волновался ли он? Вряд ли. Бледность его скорее говорила о чувстве страха за свою шкуру: как бы что не сорвалось. За себя он не сомневался, он прекрасно сыграет в эту игру, его беспокоил Гринин. Толстиков покосился на водителя, на лице которого застыла презрительная улыбка. «Какой-то не простой чувак,– подумал Толстиков,– перед ним, он заметил, все как-то заискивали и беспрекословно подчинялись. Проще было бы с тем, усатым…» – Ничего не поделаешь, таковы обстоятельства,– сказал, усмехаясь, чувак Толстикову,– придется смириться. – Да я ничего не имею против, – испугался Генка внезапной реплики водителя. – Ну-ну,– согласился тот. Не успел Толстиков успокоиться, проанализировать свои впечатления, как машина остановилась, водитель, иронически улыбаясь, бросил, не глядя на Генку: – Прошу, молодой человек, на блиц-встречу на второй этаж. Через четверть часа мы должны быть на месте. Сергей вышел из машины, пропуская вперед Толстикова. Через минуту оба стояли в двухместном гостиничном номере, где их ждали девушки. – Сергей Петрович, где вы пропадали? Вытащите нас поскорее из этого склепа!– закричали девушки, не вставая со своих кроватей, на которых они лежали и курили. – Знакомьтесь,– сказал Климов, не обращая внимания на их реплики,– полагаю, вы встречаетесь впервые, выбирайте друг друга. – А где второй?– девушки поднялись с кроватей, выказывая любопытство. – Второго не будет, он скоро представится дьяволу,– грубо ответил Климов. – Что за шуточки, Сергей Петрович,– сказала Лола, подходя к Толстикову, который внимательно разглядывал своих спасительниц. Лола грациозно положила руку на плечо Толстикову, с интересом глядя на его синие глаза, томно сказала: – Я его выбрала, Сергей Петрович. Как тебя зовут, моя лапушка, а ну, ответь же? – Геннадий. – Лолка, а он ничего этот насильничек. Я бы с ним с удовольствием переспала,– весело защебетала Вика, на что Лола отмахнулась как от назойливой мухи. – Меня зовут Лола, ты слышал,– сказала Лола,– но ты зови меня только Лелечкой. Понял! – А я – Вика, зови меня, как хочешь, ведь я не твоя девушка. Я жду другого, а он ничего, такой же, как ты, а?– Вика повисла на шее у Толстикова. – Пшла вон, это мой насильничек, – смеясь, сказала Лола,– идем мое удовольствие, присядем, я тебя рассмотрю получше. – Гена, ты так и не ответил на мой вопрос,– не унималась Вика,– какой он из себя? Что ты молчишь, как турка. – А, Антон? Да он парень ничего, только с ним кое-что приключилось,– нагло улыбаясь, входя в роль, сказал Толстиков,– но он выкрутится. – А что именно? – не отставала Вика. – Это пока тайна, – ухмыляясь, ответил Толстиков,– хотя какая там тайна, знают двое – знает свинья. – Нет, ты от меня не отделаешься. – Хорошо, Вика, оставь парня, идем в мой номер, я тебе расскажу,– сказал Климов.– Эти молодые пусть знакомятся, не будем мешать. – Сколько у нас времени,– кривясь, спросила Лола,– мы успеем? – Времени в обрез, ответил Климов,– с минуты на минуту должен появиться мой напарник. Я вас даже не закрываю на замок, бежать Геннадию, я думаю, нет смысла. – Ну что вы, Сергей Петрович! – ответил парень. Климов с девушкой прошли в номер люкс. Состоял он из маленького коридорчика, санузла, гардероба, квадратной небольшой комнаты, где стояла одна деревянная кровать у окна, которое задернуто широкими красными шторами, отчего по полу, устланному дешевой ковровой дорожкой, разливался неприятный кровавый цвет, будто кто-то разлил жидко разбавленную гуашь. Возле стола стояли два глубоких кресла. Климов пригласил девушку садиться, а сам продолжал оставаться на ногах. – Вот что, Вика, со вторым парнем ситуация не в вашу пользу. Этому парню, я думаю, помощь уже не понадобится. Он опозорен. – Его сделали голубым? – Нет, хуже. У него нет выбора. Нам надо переиграть легенду, но как, я не вижу. – Вот еще штучки, как это обернется нам с Лолой?– дернула плечами Вика, несколько тревожась, но, продолжая нести тот же имидж с деланной игривостью. – Вам то что, по два года схлопочите за дачу ложных показаний и все,– смеясь, сказал Климов,– вот нам как парней выручить? – Ну и шуточки у тебя, Сергей Петрович, от них в обморок упасть недолго. – Не бери близко к сердцу, красотка. Придет напарник и все выяснится. Ты же знаешь его, он – мужик находчивый. –Ты все же скажи, Сергей Петрович, что с тем парнем?– пытливо, с плохо скрываемой наигранность спросила Вика.– Может, пока не поздно, выйти из игры? – Если я начну рассказывать, ты упадешь со смеху и не поверишь, скажешь, что я треплюсь. – Ну, тогда давай я сяду к тебе на колени, и ты не сможешь меня обмануть. – Если тебе это будет необходимо, чтобы мне поверить, то садись. – Трусики сейчас снимать, а то получится, как с презервативом, а я их терпеть не могу. – Ну что ты, Вика, этого ничего не надо, у меня жена, дочурка. Если тебе хочется мужчину, представь себе, что мы имитируем любовные отношения в самом зачатии. – А окончание будет?– сексуально широко расставила Вика ноги, покачивая бедрами и приподнимая и без того короткую юбку. – Вика, у меня любимая жена, дочурка. Не виляй бедрами, будь умницей. Но она, ничего не слыша, наступала на Климова. – Фу, какая ты не воспитанная. Впрочем, это же относится и к нашему другу,– сказал Климов, видя, как дверь в номер распахнулась, и в комнату влетел Еремчук. –У нас несчастье, Сергей Петрович!– взволнованно и, как бы извиняясь за вторжение, сказал Еремчук. Выглядел он весьма обескураженным. – Смерть негодяя от своей руки вы считаете несчастьем?– холодно спросил Климов. – Любая смерть – несчастье.– Еремчук был озадачен информированностью полковника.– Неужели вам уже сообщили? – Нам сообщали о смерти человека, Вика?– с вопросом к девушке повернулся Климов.– Нет? Конечно же, нет! Кстати, смерть Сталина вы тоже считаете несчастьем?– в упор, глядя на капитана, спросил Климов. – Сергей Петрович, я не нахожу слов! Глава четырнадцатая Таня беспрерывно звала Андрея. Она не спала вторую ночь. Воспаленные бессонницей глаза, переполненные слезами и страхом за любимого человека, лихорадочно блестели. В них уже прослеживалась потеря рассудка, но родные, окружавшие девушку, не хотели этого замечать, считая, что скоро все пройдет и, приняв меры предосторожности, чтобы Таню никто не нашел, посторонних к ней не допускали. Но у девушки стал подниматься жар, мать всполошилась, послала за участковым фельдшером. Ждать пришлось долго. Дом, где находилась Таня, стоял на отшибе от поселка. Обнесенный глухим тесовым забором со злыми собаками, он напоминал маленькую крепость и принадлежал сватам Лесковых. Нижняя калитка выходила к Енисею, где находилась причаленная к берегу и привязанная цепью за обломок швеллера прогонистая самодельная лодка с мотором. Подойти незаметно к дому было невозможно. Собаки поднимали лай, когда человек только выходил на тропинку, ведущей к дому. Таню спрятали здесь еще и потому, что можно легко обнаружить за домом слежку, и если такое случится, то быстро покинуть убежище и скрыться на лодке по Енисею. Осмотрев девушку, измерив температуру тела, фельдшер пришел к неутешительному выводу: Таня получила серьезную психическую травму, нуждается в лечении в больнице. –Что ты, Федор,– замахала руками Степанида,– да ее тут же сгребут и упрячут в тюрьму. – В таком случае вам давно надо было послать за мной. Сон и еще раз сон и покой – только они могут поправить ее состояние. Сейчас я дам ей снотворного, вот пилюли в запас, а эти порошки – успокоительное лекарство. Принимать по рецепту, сейчас я все напишу. И еще. Когда она проснется, желательно чтобы Андрей был здесь, успокоил ее. Его внимание и любовь могут оказаться лучше всяких лекарств. Фельдшер сам напоил девушку микстурой, и вскоре она заснула тревожным сном. Степанида коротала ночь у постели дочери, старалась выполнить все предписания Федора, по часам выпаивала больной оставленную микстуру, и Таня спала долго, но беспокойно. Ранним утром появившийся в доме Андрей сменил будущую тещу у постели и не мог дождаться, когда его любимая проснется. Он, как мог, успокоил Степаниду в том, что по-прежнему любит Таню и даже больше: готов отдать жизнь, если ему придется защищать невесту от дальнейшего поругания и насилия. Часы бежали, а Таня все спала. Отдохнув несколько часов, Степанида вернулась к постели дочери. На дворе поднимался июньский зной. Окна в комнате, где лежала Таня, занавешены плотными покрывалами. Здесь царили полумрак и прохлада. Горестные вздохи Степаниды разлетались по дому и бередили сердце Андрея, который устроился на диване с целью вздремнуть. Но сон не шел. В его воображении проносились схватки с ментами, которые собирались сцапать Таню и учинить ей допрос, так как появились придуманные неизвестно кем новые обстоятельства, о которых ему только что рассказала Степанида. Андрей сжимал кулаки и готов был поколотить того усатого негодяя, предложившего уладить дело миром. Андрей еще не знал, как он отомстит третьему насильнику, но ничего, решение придет. Он его может, конечно, покалечить, но если придется с ним столкнуться, то это будет то, отчего он больше никогда не станет смотреть на девчат. Строя планы мести, Андрей незаметно уснул крепким сном, на какой способны молодые люди. Проснулся он от резкого голоса Тани. Она звала его. Андрей вскочил и бросился к ней. Таня сидела на кровати и, протянув вперед руки, говорила: – Где мой Андрюша? Приведите ко мне Андрюшу! Он что, попал в тюрьму? – Танечка, вот я!– Андрей присел на кровать, нежно взял любимую за плечи, стал всматриваться в осунувшееся милое ему лицо, в ее огромные наполненные небесной синью глаза. Но Таня не узнала его и сказала: – Ты не Андрюша. Позовите Андрюшу! – А кто же я, Танечка? – изумился в растерянности юноша,– я и есть Андрюша, твой Андрюша! Смотри, какой я большой. Такой как я, один в поселке. Таня внимательно посмотрела на Андрея, увидела стоящую сзади мать и сказала: – Мама, почему он врет? Андрюша любит меня, а этот смеется. – Да не смеюсь я, Танечка, я готов плакать, но мужчины не плачут. – Как же ты не можешь признать Андрюшу, дочка? Это и есть твой Андрюша. Посмотри внимательней. Вот на нем рубашка, которую ты ему подарила. Помнишь, вместе с тобой выбирали в сельпо. Купили, и ты ему на день рождения подарила. – Как же не помню? Помню,– просто сказала Таня.– Только это не Андрюша, Андрюшу посадили в тюрьму. Он убил по моему приказу тех, и его посадили. – Нет, не посадили меня, Танечка. Я их не догнал, а потому и не застрелил. Живые они. Но своего дождутся. Одного только я догнал и наказал шибко. – Ладно, если Андрюшу не посадили, скажите, пусть придет, я буду ждать. – Хорошо, доченька. Я отца пошлю за Андрюшей, а ты давай поешь супчику или каши молочной, чайку выпей с пряничками и спать. А проснешься – Андрюша вот он, тут как тут.– Мать потянула за рукав Андрея, давая понять, чтобы он вышел из комнаты, а сама приняла из рук сватьи миску с теплыми щами. Таня проводила долгим пытливым взглядом Андрея, задумалась, глаза ее забегали, в них на некоторое время погас тот безумный блеск, по лицу заходили тени. – Андрюша меня любит, я подожду его, мама,– сказала она через некоторое время. – Конечно, любит, доченька, дождешься ты его, я знаю. Только вот поела бы чтонибудь,– печальным, молящим голосом просила мать,– вот миска со щами, вот котлетка. Поешь, доченька! – Поем, мама, поем. Мне Андрюшу надо дождаться и поем. Мать умоляюще смотрела на дочь, стояла у кровати с миской и ложкой в руках, и горестное лицо ее сейчас выражало все душевные муки, которые испытывала эта женщина и женщины вообще за любимое чадо, которое постигло страшное непоправимое несчастье. Но Таня не могла видеть сейчас материнское горе, как слепой не видит белого света. *** Долгие июньские вечера приносили в Листвяжный прохладу. По Енисею полетела поденка, на лесных мшистых почвах отцвела царь-ягода брусника, в зарослях кустарника бурела кислица, набирал рост борщевик и папоротник, на сосне и кедре выскочили кисточки молодых ярких побегов, окудрявилась и обрела царственную осанку лиственница. Поутихли голоса пернатых, обремененных заботами вскармливания народившегося потомства. Приближалась пора срезки пантов. Отягченные наливающейся кровью молодые рога маралов, сделали самцов пугливыми и осторожными. Матвей Климов впервые за многие годы собирался на отстрел маралов без охотничьего азарта. Он даже подумывал нынче в тайгу не ходить. С одной стороны грядущая Андрюшина свадьба заставляла взяться за карабин и добыть несколько десятков килограммов пантов – хороший приработок. И на подарок деньжонки понадобятся, и на расходы. Вон их сколько намечается. Гостей понайдет – половина Листвяжного. Матвей не поскупится, сын у него один! Потому идти в тайгу надо. Дело знакомое, для Матвея удачливое. Да вот незадача с Танюшкой. Какое тут настроение на тайгу, на охоту, когда сыновье счастье трагедией оборачивается. Потом братка объявился, обещался навестить их семью со дня на день. Андрюша опять же хоронится, хотя Сергей успокаивал, что ему ничего не угрожает. А шут его знает, куда кривая вывезет. Нет, береженого Бог бережет. Слух-то, какой тревожный дошел до Лесковых: один насильник наложил на себя руки. От такой вести Матвей похолодел: не тот ли с замком, поганец окаянный? И смех, и грех. Если тот, слава Всевышнему – покарал низкого человечишку. Но как бы через это Андрюше лихо не выпало. Как тут поступить, тревожно на душе. Жили, не тужили, как говорится, и на тебе, мужик – гостинца! Как Хиросиме – американцы. На Матвея с другой стороны начальство давит: кто план заготовки пантов выполнять будет, если лучший охотник в угодья не выйдет? Да что и говорить, сезон, взяток в эти дни крупный… « Ладно, сбегаю на денек-другой, сделаю отметку. Завалю рогача, и будет на том»,– решил Матвей. Он сидел на веранде и осматривал свой карабин, проверял боеприпасы. Электричество не включал, любил в сумерках посидеть перед сном, подышать свежим воздухом. Софья уже улеглась, ждет его в постельку. Вдруг Матвея привлек легкий стук калитки, сонно брехнул пес и смолк, едва слышные шаги, и в дверном проеме появился усатый человек. – Братка, ты?– встрепенулся Матвей,– как же тихо подошел, лайку даже не потревожил! – Профессия, Матвей, у меня такая, а лайка своего чует,– широко улыбаясь, ответил Сергей, крепко сжимая жесткую и сильную руку брата. Они уселись тут же на веранде, сначала о чем-то тихо говорили, потом Матвей отправил жену за Андреем, который находился у сватов Лесковых. Поджидая возвращения жены и сына, Матвей быстро накрыл на стол ужин, рассказывая: – В моих охотничьих угодьях, Сережа, место одно есть – падь, гиблое место. Ни зверь там не живет, ни птица. Собаки стороной обходят, хотя лес как лес, молодой правда, лет тридцать ему. Кедр в основном, кое-где вперемежку лиственница с сосной. Заходил в него единожды. Собаки не идут за мной, но когда я стал их принуждать, садятся у кромки, скулят, а вперед не идут. Чудно! Походил я по нему, ничего приметного, правда, выходить начал, не могу разом, что б напрямки на лай собак, куда-то в сторону меня заворачивает, в глубь. Пока вышел – чумной какой-то сделался. Повторил – тоже самое. Еще раз углубился – тяжко. Последний раз пал даже у кромки. Выбрался – тяжесть, как рукой сняло. Больше я в тот лесок не заглядывал. Заколдован он, что ли? Я тайгу знаю, как таблицу умножения, она меня кормит и одевает, ни лешего, ни черта в ней нет, думал, а вот после того случая, сдается, – есть силы какие-то неведомые. – Кто-нибудь знает о гиблом месте?– спросил Сергей. – Знают, как не знать. Правда, больше понаслышке: старики-то вымерли, кто знал, а из молодежи мало кто заходит. Мне эти угодья госпромхоз отписал, зачем кому-то другому туда соваться. Через мой участок есть две тропы. Одна выше, а другая ниже, к самому Енисею прижимается, обходит эту падь. Восточнее пади, на взгорье – прекрасные солонцы. Там не единожды бил я зверя, да начальство ублажал. Оно ко мне, как муха на мед, знает, что зверя скраду, на выстрел выведу. Однажды случилось такое, братка, что в черта-дьявола поверишь. Только не черт-дьявол причина, а кара тому извергу. Вошел он в ту падь здравым человеком, а вышел – в сумасшедший дом прямо из Листвяжного увезли. Двое суток пропадал в той пади этот человек, большой был начальник в городе. Спасло меня, Сережа, то, что со мной его друг все время находился. Первый раз на охоте, боялся потеряться. Как банный лист прилип. Мы с ним за двое суток все окрестности обошли – нигде нет человека. Заблудиться он не мог, многожды раз тут бывал. Заподозрил я, что падь тому виной. И точно. В беспамятстве нашел неподалеку от кромки кедровника, одурь его взяла. Собака облаяла. Поседел человек. Люди говорят, старики…– Матвей замешкался, сделал длинную паузу, не решаясь высказать мысль. –Так что старые люди говорят?– спросил Сергей и, глядя на нерешительность Матвея, продолжил его мысль.– Я думаю, ты хотел сказать, что от страха он потерял рассудок, потому что ходил он по могилам им расстрелянных ни в чем не повинных людей? – Верно!– изумился Матвей,– и ты знаешь эту притчу. – Лагерь политзаключенных в тех местах стоял. Ниже пади. Сейчас он морем затоплен, а вот могилы остались. Тысячи людей там закопаны. Могилы были общие: широкие длинные рвы. И мама наша там, думаю, и отец тоже. Вот и берет там человека, как ты говоришь – одурь. Только не одурь это, брат, а отмщения просят жертвы. – Кто же, братка, отомстит за них, где возьмутся силы такие? – Нет пока сил таких, Матвей, забывать народ стал о своей великой трагедии, быстро стал забывать под партийной дудкой. И опять секретари да генералы творят что хотят, не желают жить по законам. – Да, у них закон что дышло… Братья некоторое время молчали, раздумывая над сказанным, первым заговорил Сергей: – Ты мне скажи, когда за пантами собираешься? – Только что, до твоего прихода сидел и мороковал, как быть? Голова нараскоряку – идти или не идти. – Идти, а почему, мы с тобой это ночью обсудим, а сейчас, вижу, племянник в дом идет! – У меня есть дядя? – Андрей стоял на веранде залитой ярким электрическим светом. Высокий, красивый с пышными овсяными волосами, стриженными под молодежную прическу, в спортивном костюме он выглядел атлетом в хорошей форме. Живые голубые глаза его смеялись. – Есть,– Сергей Петрович вскочил со стула, шагнул навстречу, крепко сжал протянутую руку и хлопнул племянника по плечу. – О! Да у вас тяжелая рука, видать мышцы железные! – Есть кое-что!– ответил Сергей, крепко сжимая широкую ладонь Андрея.– Матвей, смотри-ка на сына – климовская кость! – Бог наделил, не обидел,– улыбаясь, весело откликнулся Матвей.– Садитесь к столу, Андрюша, Софья. За встречу по единой рюмочке пропустим. Садись мать, садись, не часто у нас такое застолье. Они стояли на веранде и несколько смущенно смотрели друг на друга, на незнакомых своих близких родственников. Сергей, освободившись от рукопожатия Андрея, протянул руку Софье. – Рад с вами познакомиться, извините за маскарад, надо,– он снял с себя усы, отлепил брови и стал вылитым Матвеем, разве что с лицом менее обветренным и загоревшим. – И я рада встрече! Батюшки, вылитый Матвей, надо ж какое сходство!– воскликнула Софья. Они уселись за стол, выпили по рюмке водки за встречу, закусили. Сергей мягко спросил Андрея. – Как себя чувствует Таня? – Она не узнает меня,– с отчаянием в голосе сказал Андрей,– хотя все время твердит мое имя и зовет к себе, думает, что меня арестовали и посадили в тюрьму. –Травма глубокая,– сказал Сергей.– Но, думаю, когда все уляжется, она поправится. Сейчас ей только спать и спать. Надо продержаться два, максимум три дня. Потом – лечение. И еще, Андрюша, тебе хотелось бы услышать мою историю, как я, да что я. Но нет времени у нас. Потом наговоримся, а сейчас хочу спросить, не заметил ли ты кого-нибудь в поселке незнакомого, такого сутулого человека, в темном костюме и в кепке с большим козырьком? – Нет, не встречал, я ведь последние дни все в бегах – то в тайге, то в доме сижу. А что?– встревожился Андрей. – Думаю, Горин не успокоился. Такие не умеют проигрывать… – Сутулый, говоришь? – сощурив глаза и теребя окладистую бороду, спросил Матвей.– Мелькнул у конторы один, когда я с работы шел. Не уж-то Танюшку выслеживают? – Ее,– ледяным тоном сказал Сергей,– и это уже не Косихин, не милиция. Тебя, Андрюша, я считаю, задерживать не станут, но поберечься нелишне. Ты, говоришь, взял отпуск? – Да. – Это хорошо. Если мы не опоздали, надо навести Сутулого, так его обзовем, на ложный след. Тане надо срочно перебраться в другое убежище, в людное место, а не в доме на отшибе сидеть. Мне никто не говорил, где вы скрываетесь, но я думаю, угадал?– Сергей внимательно посмотрел на Андрея и брата, прочитав в их глазах удивление.– Если я догадался, то почему не догадаться Сутулому. Он уже все знает и ждет указаний. Мы должны его опередить – укрыть Таню в другом доме. Но в очень надежном. У Сутулого, наверняка, здесь есть глаза и уши… Андрей в сотый раз упрекал себя в том, что отпустил Таню в Предгорное одну. Бедная Танюшка! Как она осунулась и побледнела за эти дни. Что ожидает их впереди? Прежде всего, беспокоит здоровье, сможет ли она выбраться из своего страха и боли. Он по-прежнему любит ее. Более того, чувствуя, что от него зависит судьба любимой девушки, он стал обвинять себя в том, что допустил несчастье и желание жениться на Тане переросло в необъяснимую силу, против которой он не противился, но она, тем не менее, выражалась в нечто большее, чем желание. Это новое чувство он не мог выразить словами, мучался, убеждал себя, что ничего кроме желания вовсе и нет, но постепенно пришел к сознанию, что это долг. Да, он теперь должен жениться на ней вопреки всему на свете, хотя истинными мотивами все же являлась любовь к девушке. Его, конечно, не оставляло в покое то мерзкое и отвратительное, что вошло в Таню там, на берегу Громотухи, и когда он представлял, в силу своего юношеского воображения и темперамента все происходящее, то закипал жгучей злобой и глухо рычал, как зверь, которому мощным капканом защемило лапу. В такие минуты он готов был сорвать с крючка карабин и отправиться на поиски двух шакалов, с которыми еще не рассчитался. Такая минута пришла после слов дяди Сергея о Сутулом. Андрей не сдержал, да и не старался сдерживать свои эмоции, но дядя Сергей вдруг сказал: – Кстати, возмездие настигло негодяя, которого неизвестный парень привез в милицию: он покончил с собой. Вопль радости вырвался из груди Андрея, он вскочил со стула, сжал кулаки, потряс ими над головой. Софья в испуге вскрикнула, Матвей нахмурился. *** Ранним утром Сергей Климов вернулся в свой гостиничный номер, чтобы вздремнуть часика три, быть готовым к предстоящим служебным встречам. Он рассчитывал появиться в отделении к девяти, но в восемь его поднял телефонный звонок. На проводе был хозяин района – Толстиков. После дежурного приветствия он сказал: – Я очень хотел тебя видеть вчера, Сергей Петрович, но Еремчук доложил, что ты отправился в Листвяжный. Неужели что-то беспокоит? – Весьма и весьма,– деловым тоном ответил Климов. – Может быть, расскажешь мне о своих опасениях. Признаться, я не понимаю, как удастся уладить это анекдотическое осложнение с Грининым? – В этом вопросе и зарыта собака. – Что говорит генерал? – Генерал пока ничего не знает,– холодно ответил Климов. – Это, конечно, ваши проблемы, Сергей Петрович, но не мог бы ты подойти ко мне, и мы бы выяснили кое-какие детали. – Я как раз собирался к вам. Спасибо за приглашение, буду через полчаса. Климов опустил трубку на рычаги и на некоторое время задумался. В том, что Толстиков располагал информацией о намерениях Горина, Сергей засомневался, может быть, не хотел говорить об том по телефону? Прокрутив несколько вариантов, через минуту он был готов к словесной встрече с Толстиковым, оставалось лишь принять туалет и переброситься парой фраз с капитаном, который после смерти Гринина растерялся, сник, потерял всякую инициативу и выполнял только указания Климова. И когда Еремчук появился в его номере, полковник довольно бодро сказал: – Все идет по плану, капитан. Сын Толстикова на свободе, протоколы в деле. Можно докладывать генералу. – Я не разделяю вашего оптимизма, Сергей Петрович,– довольно мрачно сказал Еремчук, усаживаясь в кресло.– Как мы будем мотивировать смерть Гринина, и вообще теперь вся эта игра с девицами шита белыми нитками. – Наконец вы это поняли, голубчик,– весело откликнулся Климов, завязывая галстук.– Уж, не догадались ли вы начать розыск таинственного мстителя, обладающего громадным чувством юмора, а за одно и стрелка, продырявившего черную «волгу», чем нанесен государству солидный ущерб? – О таинственном мстителе и стрелке нетрудно догадаться, Сергей Петрович, но ваш тон… Будто я один и проворачивал алиби преступникам. – Я тороплюсь на аудиенцию к первому. Поэтому нет времени высказаться по затронутому вопросу. Не волнуйтесь, в худшем случае вы не получите трехкомнатную квартиру. А насчет генерала, я сам позвоню с удовольствием, тем более что у меня есть еще кое-что ему сообщить. – Как будет угодно полковнику,– с легкой обидой в голосе сказал капитан. – Ну-ну, капитан, впереди вас ждет столько свершений, я с вами не прощаюсь,– Климов удалился, оставив в коридоре раздосадованного Еремчука. Гостиница находилась в сотне метров от райкома партии, и через несколько минут Сергей сидел в кабинете первого секретаря райкома партии Толстикова Григория Ивановича. Это был просторный кабинет, напоминающий генеральский, только с той разницей, что задник украшал не портрет железного Феликса, а вождя мирового пролетариата. Портрет нависал над загорбком сидящего за столом довольно пожилого человека, без явных признаков сексуальных устремлений, а скорее с наклонностями алкоголика. Под глазами сквозь пудру проступали черные круги, а рука протянутая для пожатия, мелко подрагивала. Он не был грузен, хотя нельзя было сказать, что худ, с проницательными желтыми глазами, умеющими впиваться в самую глубину души человека и выпускать в нее столько яда, сколько требует обстановка: или слегка отравить жизнь, или убить наповал. Рука этого человека была холодной, но мягкой, рукопожатие – властным. «Чтобы не думал, что перед ним старая развалина»,– пронеслось в мыслях у Толстикова. – Конечно, рукопожатие определяет характер,– согласился Климов, усаживаясь в кресло, стоящее справа от стола хозяина. – Ты находишь, полковник, но я о характере не говорил,– озадаченно произнес Толстиков. – Тем не менее, это так. И еще по этой руке я узнал страстного старого стрелка и охотника, а в тайге сезон начинается – добыча пантов. Ваш сын на свободе, вы в долгу у генерала – побалуйте его охотой, давно о метком выстреле мечтает. – Что ты говоришь? – удивился Толстиков.– Вот не знал о пристрастии генерала, давно бы пригласил на отстрел маралов. А за сына спасибо. Проблема с Гориным – младшим – парень инвалид на всю жизнь. Девчонку можно привлечь за членовредительство. – Можно, но тогда придется разбирать все обстоятельства пикника. – Я это понимаю,– нахмурил тяжелый лоб секретарь, качая отрицательно головой.– Делу дальнейшего хода не дадим. Одна загвоздка – Горин-старший. Согласится ли? Евгений у него единственный сын, если не считать московской дочки. Жена в сыне души не чает. В такой ситуации самое разумное – девчонке исчезнуть. – Эту же мысль я высказал Лесковым. – Что ты говоришь, тебе что-то известно? – За Таней Лесковой идет охота грозными силами, и она будет взята не позднее завтрашней ночи. – Так-таки Горин решил наказать! И если ему не помешать, алиби моего сына не стоит выеденного яйца,– нахмурился Толстиков, нервно тарабаня пальцами по столу. – Ну что вы, Григорий Иванович, у Горина действительно грозные силы. Вы же его прекрасно знаете. Но с ним бороться незачем. Встреча заинтересованных лиц, скажем, за таежным шашлыком, как в былые дни, и ваш сын выступает всего лишь в роли свидетеля. – Понимаю,– Толстиков хлопнул по столу ладонью в знак полного удовлетворения.– Набираю номер генерала. В грядущую субботу приглашаю на охоту! Глава пятнадцатая Братья остановились на левом склоне широкой балки, откуда был хорошо виден знаменитый климовский солонец. Это были окруженные чахлым кустарником глинистые выходы, разбитые копытами зверей, облизанные языками. Кряжистые лиственницы отступили на почтительное расстояние, но их длинные, коряжистые ветви нависали со всех сторон, как бы стремясь закрыть лакомое место от постороннего глаза. Солонцы тянулись вдоль склона на несколько десятков метров, и то там, то здесь кристаллы соли вспыхивали под лучами солнца, открывая путнику таежное богатство. – Отсюда, если пересечь балку, до солонцов километра два,– тихо говорил Матвей,– Но ты знаешь, что она из себя представляет. Это именно та падь со своей таинственной силой. Отсюда молодой лесок не виден, закрывают деревья, вот и тянет человека идти напрямки, к солонцам. И я попервости попался на эту удочку, да прикоснулся к таинственной силе. Ничего дурного тогда со мной не случилось, как ты знаешь, но все ж хожу теперь стороной – тут тропа вдвое длиннее, но спокойнее. В тайге одному с тайными силами лучше в спор не встревать. – Давай спустимся к пади. Ведь и я бывал тут когда-то,– взволнованно сказал Сергей. – Но?!– удивился Матвей. – Да, Матюша, осенью. Отслужил свои три года в погранвойсках на Дальнем Востоке, пришла пора возвращаться на гражданку. Куда ехать? Нигде никто меня не ждал. Что у нас с тобой было? Война, детдомы, трудколонии. Вот и надумал еще раз тебя поискать. Навел коекакие справки, решил, что ты где-то здесь обитаешь. Двинул в Громотушинский район. Запомнилось это слово – Громотуха. На твой след, как видишь, не напал. Но в Предгорном выяснил, что на Енисее стоял крупный лагерь политзаключенных. Бараки в то время еще стояли. Вот я и подумал, что мама наша в нем была, а может и отец. Потянуло меня к лагерю, хоть могилы, подумал, разыщу. С этой мыслью до Листвяжного добрался. В то время – кордон охотничий. Несколько избушек приземистых, полуслепых из кругляка, да барак длинный, как скотская ферма: заключенных в ней на пересылке держали. Мужики на кордоне молчаливые, угрюмые. Разговорился с одним. «Зачем тебе, сынок, то страшное место?»– спрашивает с дрожью в голосе, а сам подозрительно на меня смотрит. Одет я был во все солдатское, то, что было на мне, то и мое все богатство. «Поклониться могиле родительской, помянуть добрым словом погибших»,– отвечаю. «Никто туда не ходит, сынок. Великий страх не могут побороть люди. Недавно там кровь лилась, горе, как темень ночная окутала все вокруг. Боязно». «Я поборю страх, отец». «Ступай, коли так. Держись на север. Верст десять отсюда и все тайгой. Выйдешь на падь с порослью молодого кедра, вот там-то и есть могилы лагерных узников. Смотри, не заплутай, коли что, к Енисею выходи, глухомань там, сгинешь ни за понюшку табаку». – Отказаться от своего намерения, братка, я не мог. Поблагодарил человека и двинулся в дорогу. Никогда раньше в тайге не ходил. Жутковато стало, когда отошел от кордона на километр. Глушь, однообразие, никакого ориентира нет. Остановился я, стал осматриваться куда идти. Кругом высоченные деревья застилают небо. Солнце, чувствую, не справа от меня, а где-то сзади. Где север – разобрать трудно. Подумал, что солнце все время справа не должно быть, земля-то вертится. Выходит, правильно я иду, только влево сваливать нельзя. И тут вроде чей-то голос услышал, поддерживает он меня, подбадривает, мол, иди смелее вперед. – Сам знаешь, в тайге всякое может послышаться, особенно новичку, жуть от голосов охватывает, мороз по коже дерет. Первые секунды и меня словно кипятком обдало, а дальше ничего подобного, наоборот уверенность появилась и просветление. Пригляделся, тропа вроде впереди просматривается: солнце яркое сквозь листву и ветви деревьев пробивается, лучи его, как свет от фонарей на тропу бьют. Двинулся я вперед, слышу, где-то недалеко от меня глухарь с дерева снялся, захлопал крыльями, промелькнул между соснами и ушел в неизвестность, как черный метеорит. Прибавил я шагу, а ощущение такое у меня, словно по знакомым местам иду легко и просто. К вечеру вышел вот сюда. Увидел я этот молодой лесок и онемел от красоты. Кедрушки были гораздо меньше, чем сейчас, высотой около метра, а может и того меньше, но стояли сплошным морем. «Где же тут искать могилы?» – подумал Сергей и вошел в кедровник. Иголки деревьев блистали в заходящих лучах солнца, были светлы и казались прозрачными. Верхушки со свежими побегами от легкого ветерка покачивались, словно кивали ему в знак приветствия. Он шел и шел в надежде увидеть могильные холмики с крестами и фамилиями, но не находил. Вдруг его осенила догадка, и он услышал собственный голос. Звучал он раскатисто и сурово: «Это и есть могила ни в чем не повинных мучеников». Сергей остановился в изумлении от своей догадки, долго оглядывал заросли кедра и решил, что находится в центре обширной братской могилы. В сгущающихся сумерках он тихо опустился на землю, прислушался к звукам тайги, и незаметно для себя уснул. Ночью ему не было холодно, напротив, он ощущал тепло и слышал чей-то голос, похожий на тот, что долетел до его слуха вечером. Голос разъяснял ему, что месть, даже справедливая не желанна Всевышнему, вершить суд он будет сам, но борьба за справедливость – благородна, и что он, Сергей Климов, наделен редчайшими способностями, о которых еще не знает, но обнаружит в себе их, как только возьмется за дело, предначертанное ему Всевышним. Проснулся Сергей ранним утром с ясным сознанием Великого Свершения, прикосновения к нему Всевышнего Разума. И он отправился назад. Ему безумно захотелось свершить кару над палачами, чьи невинные жертвы лежат в этой могиле. И пока он шел по кедровнику, белевшему кое-где костями погибших, то ощущал, как теплые волны падают на него с небес, озаряют его светлые помыслы о борьбе за справедливость, и что тех знаний, какие у него есть недостаточно и надо упорно учиться. Решение стать следователем пришло несколько позднее, когда потянулись годы труда за кусок хлеба и учебы по вечерам. Все эти годы он искал брата Матвея, писал письма в города и села, но получал безрадостные ответы. – Я появился в Листвяжном годом позднее. И по той же причине, что и ты,– сказал Матвей.– Флотская служба оказалась длиннее на год твоей. Кордон Листвяжный оживился. Большая группа поселенцев строила госпромхоз. Посмотрел-посмотрел, да и припарился к одному старому охотнику. Он меня в зимовье взял, обучил охоте-разуму. – О лагере он тебе что-нибудь говорил? – Почти ничего. Мало тогда люди что знали и рассказывали. Страх порождал немоту. Потом только все открылось, после Двадцатого партсъезда.– Матвей умолк, остановился, устремив взгляд на открывшуюся глубокую лощину, заселенную молодым лесом. Сергей тоже замер, глядя на этот девственный и безмолвный, пронизанный печалью и скорбью островерхий лес. Поразила монолитность и крепнущая сила этого юнца, прикрывшего своими изумрудными телами священную для братьев землю, но поруганную властями и сильными мира сего. Сердце защемила безысходная боль жалости к тем бессмысленным жертвам, которые породил оголтелый большевизм. Ему было жаль не только мать и отца, стоящего рядом с ним брата и его прекрасного сына, вынужденного скрываться безо всякой на то причины, но и весь народ, попавший под страшное иго коммунизма. –Что за таинственные силы в этом лесочке,– прервал мысли Сергея взволнованный Матвей, словно собирался открыть таинственную дверь в загадочный мир.– Что происходит с человеком, когда он ступает по этой земле? Всевышняя Сила, Всевышний Разум Вселенной – иначе не скажешь, скорбят и очищают землю от скверны. Я верю в эту Силу. Посмотри, как все складно получается в природе. Стихийно не может возникнуть, скажем, вот эта чудная пора, когда у маралов наливаются панты, и они целебны. Кто придумал, для кого? Для человека. Зверю это без надобности. Ты скажешь, братка, зов предков, зов природы – инстинкты. Откуда они взялись первоначально? Это законы, продиктованные Разумом! Посмотри, все путем, все ладно. Скажем, размножение: как все приспособлено, как все ловко получается и у человека, и у животного, и у насекомого. Нет, тут без творения Разума не обошлось. Матвей умолк, на его лбу выступили капельки пота. Это была, можно сказать, самая длинная тирада за всю его жизнь, когда-либо произнесенная охотником. Он с восторгом смотрел на окружающий его зеленый мир, такой дорогой ему и близкий, понятный и в то же время таинственный. По своему замкнутому характеру, характеру одинца, подобно брату, какими бывают старые заматеревшие самцы диких зверей, в особенности лоси и кабаны, он научился в одиночку, безо всякого угнетения духа, жить в тайге целыми месяцами, сам с собой беседовать в мыслях и лишь изредка бросать фразы собакам, своим незаменимым помощникам в охотничьем ремесле. В эти минуты Матвей все свое внимание сосредоточил на мысленном овладении тайной молодого кедровника, а потому не видел с каким изумлением и восторгом Сергей слушал его. Сергей был поражен совпадением мыслей: он множество раз раздумывал о гармонии природы и всемирных процессов, приходил всегда к одному – к сотворению мира Всевышним Разумом Вселенной. Но это совсем не тот библейский создатель, который в семь дней не из чего сотворил Землю и Адама. Это нечто иное! Это могучая всеобъемлющая вечная сила, но это не плоть божества. Это Разум неосязаемый, невидимый, как невидимая мысль человека, рожденная его разумом. Но разум человека это совсем не мозг, по объему которого определяется сила его, а нечто иное, та внутренняя сила, та энергия, что заложена в рождении и развита в дальнейшем. Это нечто иное и есть частица Разума Вселенной. Насколько она велика, познается в дальнейшем и называется одаренностью человека, способностью этой частицы осуществить контакт с Разумом Вселенной, и чем этот контакт прочнее, тем одареннее человек. У Сергея уникальные способности разгадывать преступления, читать мысли людей – это контакт с Всевышним Разумом, который фиксирует все происходящее в мирах, где покоятся отгадки на все законы Вселенной. Только единицы прорываются сквозь пространство Вселенной и находят пути к познанию мира. Единицам контакты с Разумом позволяют открывать все новые и новые законы. И когда будут открыты все законы, лишь тогда на Земле может создаться предпосылка для рая. Но, увы, разве может исчезнуть борьба противоположностей – борьба добра и зла, разве может жизнь уложиться в среднюю формулу: мне не надо много, мне не надо мало, а мне надо столько, чтоб на всех хватало! Ничто не сможет вечно удерживать этот баланс. Вечен только Разум с его законами жизни, но не течение жизни. Цивилизации преходящи и цикличны. После их гибели Земля залечивает свои раны, обновляется, и когда вновь возникают условия для жизни, Разум переносит из других миров эмбрионы человека, животных и начинается новая эра. Раздумья Сергея прервал Матвей: – Ты говорил, будто в этом лесу могила нашей мамы. Помянем же ее добрым словом, братка. – Матвей отвинтил крышку с фляжки, висевшей на поясе, вынул из кармана складной стаканчик, плеснул в него неразбавленного спирта, подал Сергею. В торжественной тишине они помянули погибших родителей, дата смерти которых была им неизвестна, об упокоении которых не справлялись поминки. Теперь братья решили поставить здесь обелиск. Они некоторое время молча смотрели на лесок, пытаясь угадать место, где лежат останки родителей, но море кедрушек безмолвно хранило тайну. – Помнишь, брат, ту ночь, когда в слякоть и холод нас с тобой оторвали от мамы,– сказал Матвей дрогнувшим голосом.– Тот безжалостный человек, с жабой на лице вместо носа, запомнился мне на всю жизнь. Он же, мне кажется, и отца нашего арестовал. – Тот, кто разорвал нас тобой, Матюша, теперь покушается на счастье нашего Андрюши. – Что ты говоришь?– Матвей до боли в руках сжал ремень карабина, который висел у него на плече.– Мне бы хоть глазком его увидеть, Сережа, а рука не дрогнет. – Нет, так не годится, Матвей. Это для него легкое наказание. Глава шестнадцатая Вика и Лола после долгой перебранки взаимных оскорблений в пятницу, во второй половине дня пришли к прокурору с повинной. Их принял заместитель прокурора. Девицы путано изложили суть дела. Оно заключалось в том, что некто, называть имя они не хотели, да и какой смысл, если фамилию все равно не знают, предложил за некоторое вознаграждение дать показания, что в такое-то время, в таком-то месте они с парнями выпивали и занимались любовью. Что за этим крылось, девушки не знали. Их уверяли, что в этом случае нет ничего уголовного, и они согласились. Но когда Лола и Вика узнали правду, то испугались и, по совету Сергея Петровича, отказываются от своих показаний. Признание, они надеются, им зачтется, а от прокурора девушки ждут защиты. Заместитель прокурора бесстрастно выслушал девушек, велел изложить все рассказанное письменно и подписаться. Заявления зарегистрировали, с девушек взяли подписку о невыезде из города, и ничего не обещая, отпустили домой до выяснения обстоятельств. Правда, заместитель прокурора строго посоветовал в ближайшие дни и вечера не болтаться по улицам и ресторанам, а сидеть дома взаперти, желательно в окружении родственников. На следующий день, в субботу, против Геннадия Толстикова прокуратурой было возбуждено уголовное дело. След его отыскался в городе быстро, и в тот же день на квартире у родственников он был арестован и отправлен в тюрьму. Арест переполошил родственников. Они бросились звонить в Предгорное родителям. Самого Толстикова не оказалось дома. Встревоженная жена от сообщения пришла в ужас и долго не могла сообразить, в чем дело. – Вы что-то перепутали,– нервно кричала в трубку Светлана Федоровна.– Как могли арестовать Гену, если его накануне выпустили подчистую. – Мы не можем понять, что случилось? Ему предъявлено обвинение в групповом изнасиловании. По крайней мере, нам так заявили. В трубке долго раздавалось что-то непонятное: не-то рыдание, не-то сиплое дыхание умирающего человека. – Алло, Света? Ты слышишь меня, это я, Шура, твоя сестра?– вопрошали из города. – Слышу, Шура. Мне плохо, я теряю рассудок. Ты говоришь, что Гену обвиняют в изнасиловании какой-то шлюхи?– в трубке слышалось рыдание несчастной женщины. – Света, Света, успокойся, милая. Где Григорий? Немедленно сообщи ему о случившемся горе. – Его нет в поселке, он на охоте,– заголосила в трубку Светлана Федоровна пуще прежнего, и связь оборвалась. Через несколько минут, придя в себя от шока, она подняла на ноги местную милицию, требуя объяснений. Ей ничего путного сказать не могли и посоветовали позвонить генералу. Но Светлана Федоровна вчера вечером видела, как генерал из своей «волги» пересаживался в «уаз» мужа, и они вместе укатили на охоту. Отчаянию женщины не было границ. Звонок Толстиковой выбил из колеи начальника милиции Гаврилова, когда тот после обеда решил заняться почтой. Ее накопилось за последние дни много. Он знал, что Толстиков уехал на охоту, потому не хотел брать трубку прямого телефона, который настойчиво звонил. Но, поколебавшись, он все же поднял трубку и сухо сказал: – Слушаю. Гаврилов как раз вскрывал конверт с какими-то фотографиями, и, прижав трубку к уху плечом, стал извлекать из конверта снимки. Но это были не фотографии людей, а фотокопии уничтоженных протоколов по делу Лесковой. В трубке рыдала Толстикова и просила. Нет, требовала немедленно разобраться и освободить из тюрьмы ее арестованного сына. Гаврилов похолодел. Как это понимать, и каковы будут последствия лично для него? Собравшись с духом, он как мог, стал успокаивать Светлану Федоровну, выяснять, что она знает конкретно. Выходило, что он по уши увяз в дерьме. – Поверьте, Светлана Федоровна, то, что происходит, я и сам не могу понять! Надо позвонить генералу, он лично контролирует дело,– с дрожью в голосе отвечал Гаврилов. – Генерал вместе с мужем уехал на охоту вчера вечером,– плачущим, переполненным отчаяния голосом, прокричала Светлана Федоровна.– Что же делать? Но Гаврилов, обливаясь холодным потом, сказал только одно: – Ждать их возвращения. Ему было нехорошо. Холодный пот градом выступил на его лбу, он тупо смотрел на лежащие перед ним фотокопии допроса по делу Лесковой. Отчаяние за свою шкуру, злость на генерала захлестнули его. Гаврилов знал: в уничтоженных протоколах излагались подлинные события. Оказалось, что не уничтоженных. Фотокопии налицо. Неспроста они оказались у него на столе именно в день повторного ареста Толстикова. Кто за этим стоит? Надо же так обгадиться. «Грядут солидные передвижения, и кто знает, где окажешься ты», – вспомнил Гаврилов недавние слова Климова. – Что бы это значило?– вслух спросил он сам себя. Через минуту Гаврилов отдал команду дежурному разыскать Косихина. *** Григорий Толстиков никогда не выказывал истинных чувств к женщинам. Женился он поздно. В годы молодости был рядовым энкавэдешником, но уцелеть, где реками лилась кровь, было непросто. Неверный шаг, неосторожное слово и загремел человек, запричитала жена, заплакали испуганные ребятишки…Наслушался он причитаний, просьб, мольбы. Молчать приходилось, молчать и напиваться вдрызг после службы. Какая уж тут женитьба. Женщин хватало, особенно, когда после окончания срочной службы, он остался в органах, и его перевели из конвоя в лагеря. Женщины были разные: и надзирательницы, и поварихи, и работницы по кухне. Зажмет, бывало, в подсопке на мешках с крупой и–и…эх! Сбросит дурную кровь, природа требовала. Поначалу заключенные охотно шли в подсопку, каждая надеялась забеременеть и вырваться из этого ада. Но кому нужен был этот приплод, когда шла такая кроворубка! Но и эти развлечения с женщинами не могли продолжаться вечно. Как-то вездесущий политработник, за глаза его звали Митрохой, серьезно поговорил с ним. –Молодость, Толстиков, понятное дело, берет свое, без женщин такому молодцу нельзя жить. Женись, а то, глядишь, потеряем тебя однажды. Партия, конечно, не пострадает, но все же. А ты парень не глупый, есть в тебе изворотливость. Сейчас этот разговор кажется сущей безделицей, а тогда напугал. Толстиков сделал правильный вывод, бросил пить и женился на надзирательнице, к которой он иногда забегал в общежитие. Она была нормальной, привлекательной бабенкой. Правда, крутовата нравом, но время, обстоятельства, и он, Григорий, обломали ее. Она стала довольно послушной и исполнительной женой. Детей не было долго и к счастью. Да и не торопились они заводить их. Кругом тайга, горе, слезы, кровь, смерть. Он помнит жуткие ночи с воплями, проклятиями и винтовочными залпами, падение изможденных тел во рвы. После таких ночей он напивался до бесчувствия, и не только он, но и вся команда. Выручал молодой крепкий организм: утром он был всегда в строю, готовый выполнять любые приказы начальника. Он не понимает современных молодых людей, которые после попоек, болеют и прогуливают на работу. Что за молодежь пошла, безвольная и слабая? У них таких не было. А если такой случался, то долго не задерживался и даже не запоминался: кто такой, каким был. Толстиков умел держать себя в руках. Но видел свой предел, и если бы этот кошмар не прекратился через год после женитьбы, неизвестно, сколько бы он выдержал. Но ему повезло. Как перспективного работника его отправили на учебу в партийно-хозяйственную школу. Там он быстро забыл эти лагерные кошмары. Он умел слушать и не возражать, знал, где надо поддакивать, научился произносить громкие, пропитанные преданностью партии и правительству слова и речи. Но главное достоинство своего характера он как бы не замечал – был лично предан. Обладая жестким характером, цепкой хозяйственной хваткой он стал руководителем леспромхоза. Помотавшись по лесозаготовкам и показав себя преданным человеком делу партии, был выдвинут на партийную работу. Сейчас он почти не вспоминает ни своей молодости, ни своей работы в лагерях, ни первую жену. Он был доволен судьбой, и тех, кто пытался ругать или даже вспоминать те времена, обрывал: –Не вороши дерьмовую кучу! Прошлое пережито, живи настоящим. Он жил сегодняшним днем, не стремясь заглянуть в завтрашний. Удобно расположившись с генералом на заднем сидении машины, предвкушая удовольствие сначала от пробежки по тайге и таежной баньки, затем от охотничьего азарта, он был в хорошем расположении духа и говорил генералу: – Когда, в какие времена у нас не были послушны все рычаги и клапаны? Все в одних руках! Надавил – пошла работа, мало – жми крепче. Вот в чем сила наша. Ты за меня, я за тебя, как у трех мушкетеров – один за всех… Мы за партию, партия – за нас. Вот и с сыном все вышло по-нашему. Его сукиного сына накажу по-отцовски строго, но главное в том, что и этот процесс управляем. –Управляем, не спорю,– с легкостью соглашался генерал,– но дается он не просто: личности наросли, свое – я, выражать желают, не прочь копнуть и прошлое. Твое, к примеру, мое. – А что его копать? Наше прошлое – история. Кровавая, но история. – История, правильно, так ведь мосты пытаются наводить. И в моем хозяйстве есть такие, и в твоем. Ты вот рад за исход дела с сыном, а Горин мириться не желает, достать требует девчонку. Я попытался урезонить его, опасения есть с одним моим человеком, но не вышло. – Если не секрет, то кто этот человек? – насторожился Толстиков. – Какой там секрет, все его знают – Климов это, батенька. Я уверен, – он уже знает о намерении Горина. – Неужели утечка информации? – воскликнул Толстиков. – Не утечка. Башка у Климова так сработана. – Что же Горин хочет предпринять? – не унимался Толстиков. Генерал не ответил, только пожал плечами и отвалился на спинку сидения, давая понять, что разговоры на эту тему его утомили. Они ехали по Громотушинскому району, и генерал вдруг пожалел, что согласился на эту охоту. Сомнения нет,– она будет организована превосходно. Но его река, с его дачей милее, там ничего не связывает с его молодостью, а здесь все напоминает о событиях и потрясениях, пережить которые второй раз было бы невозможно. А вот Толстиков, видать, ничего, толстошкурый. Несколько лет в лагере прослужил исполнителем, но спокоен – не та ответственность. Но он-то… Какой дух нужен! В самом Листвяжном, куда генерал заезжать отказался наотрез, был пересылочный пункт политических, осужденных на десять, пятнадцать лет, на четвертак. Наивно думать, что сроки имели значение: он не помнит такого человека, кто бы, отбыв свой срок, освобождался. Самый дальний и близкий путь из лагерей – ко рву мертвого лога. Порой Ломову казалось, что он сам сгинет в таком же рве. Но судьба от него не отвернулась, а вознесла в начальники лагерей. Что толку вспоминать и судить пережитое! Ломов ненавидел себя, если вдруг предавался воспоминаниям, начинал скулить, как старый пес под дождем. Он-то знает, сколько крови пролито, и Толстиков знает, а люди не знают, да и зачем знать? Спокойнее живется, когда человек мало что знает. Разве он мог остановить эти потоки крови или хотя бы уменьшить их? Глупости! Это как пожар на торфянике, занявшийся еще до тебя, перешедший в глубинные пласты. Мог ли он один его потушить? Даже со всей лагерной командой? Глупости. Тут средства и силы нужны необычайные. Нет уж, пусть эта кровь в сознании каждого остается как история. Не надо ничего вспоминать! – Тем более, когда едешь на охоту,– вслух сказал генерал. – Ты о чем, Алексей?– быстро откликнулся Толстиков. – Да так я, в дремоте бормотнул. Говорю, не надо ворошить историю, особенно когда на охоту едешь. Лучше подремать перед банькой. А?– и генерал сладко зевнул, поудобнее устраиваясь на сидении, закрывая глаза. *** В камере, куда поместили Толстикова, уже знали, что он участник группового изнасилования девчонки, которая в тот день подала в загс заявление о регистрации брака. В камере сидели воры-рецидивисты, в среде которых откровенно презирали насильников. Отсидевшие несколько сроков, эти грубые и здоровые мужики сразу поняли, чего от них хотят. Но и сами не прочь позабавиться с пухленьким и симпатичным малым. Федька Лось – огромный с волосатыми руками, похожими на механические лопаты и курчавой растительностью на широкой груди детина, скинул с себя штаны, обнажив внушительного размера хозяйство, прорычал: – Счас мы тебя превратим в даму! Толстиков растерянно стоял посреди камеры между нарами и остановившимся взглядом смотрел на хама. Он никого больше не видел, кроме этого верзилы, но хорошо слышал одобрительный смех еще нескольких мужиков. Наконец он повернулся и бросился к двери камеры, но кто-то ловко подставил ножку, и он брякнулся на живот. –Смотри-ка, он сразу все понял, принял нужную позу,– захохотал Лось.– А ну, подержите, счас я его сделаю. Несколько цепких рук схватили Генку, согнули его, засунули в рот кляп. Он чувствовал, как с него сдирают штаны, как его потащили в проход между нарами, и там, зажатый в угол, он задохнулся от мерзкого ощущения, от того, как его задний проход раздирают и там зажгло. Он завизжал, как поросенок, но голоса своего не слышал: мешал кляп. Содрогаясь всем телом, он монотонно стал стукаться головой о стену. Стук этот то затухал, то возобновлялся снова и снова, сопровождаемый галдежом и сопением. Потом Генку посадили на паращу и пообещали повторить процедуру, как только у мужиков восстановятся силы и появится желание. Глава семнадцатая В субботу во второй половине дня в Предгнорненском отделении милиции появился ничем не приметный, слегка сутулый человек. Одетый в темный костюм и кепку с большим козырьком, он уверенно прошел к дежурному, вытащил из внутреннего кармана пиджака удостоверение личности и, показав его офицеру, сухо поздоровавшись, потребовал: – Мне понадобится машина и кто-нибудь из оперативников. – В котором часу?– так же сухо спросил дежурный. – Сейчас семнадцать часов,– посмотрев на часы, сказал Сутулый.– Давайте в двадцать один час. А теперь я бы отдохнул. – К вашим услугам комната на втором этаже. Не люкс, но попить чайку, отдохнуть можно. Сержант, проводите. Дежурный вынул из ящика своего стола ключи от коморки и передал сержанту. В двадцать один час Сутулый сел в машину и в сопровождении оперативника выехал в сторону Листвяжного. Водителю он сказал, чтоб не торопился, а оперу, что будет брать женщину на местной малине, и осторожность не помешает. Опер бывал на местных малинах, и чувства отвращения от грязи, вони и пьяных рож, они в нем ничего не вызывали. Такие притоны алкашей, мелкой шпаны были в каждом поселке, люди, обитавшие в них, просто неспособны чем-то угрожать, и совет, быть настороже, лишь вызвал улыбку. Но здесь что-то не то, не будет же сотрудник госбезопасности заниматься какой-то паршивой бабой. – Я знаю в Листвяжном все притоны,– сказал опер,– там некому угрожать. Это безвольные, опустившиеся люди, промышляющие мелкими кражами. Мне их жаль. Сутулый предпочел не отвечать, и опер заглох, откинулся на спинку заднего сидения, задремал. Когда машина запылила в Листвяжном, он проснулся и с удивлением обнаружил, что они подъехали совсем не туда, где находился один из притонов, а к одному из домов, где живут добропорядочные люди. Как только машина остановилась, Сутулый быстро выскочил из кабины, – За мной,– приказал он оперу, открыл калитку, ломанулся к веранде. Дверь оказалась запертой. Сутулый требовательно затарабанил в филенку, не обращая внимания на яростный лай цепного пса. – Кого нелегкая несет в такой поздний час?– отозвался старческий голос. –Мы уже спать собрались. – Откройте, милиция!– требовательно рявкнул Сутулый. Опер стоял сзади и сомневался в правильности действий офицера. Что-то здесь не так. Пьянью тут не пахнет, может кагэбэшник ошибся. Но тот действовал быстро, без суеты. – Пресвятая Богородица, защити!– послышалось по ту сторону двери, затем щелкнула щеколда и, рванув на себя дверь, Сутулый быстро вошел в дом, проскочил на кухню, убедился, что там пусто, прошел в комнату, где на кровати, свесив ноги, сидел старик, а на полу играл кубиками шестилетний мальчуган. Сутулый шмыгнул во вторую комнату, в которой застал пожилую женщину, спокойно сидящую на стуле. Ее руки мирно покоились на коленях. В комнате стояла одна кровать с пышно заправленной постелью, горкой подушек. Во всем доме царила чистота и уют. – Так, а где же Татьяна Лескова?– спросил женщину Сутулый,– где вы ее прячете? – Танечка? С чего вы взяли, гражданин, что она у нас?– спокойно спросила женщина.– Кто вы такой? – Так ведь она у вас была всю прошлую ночь и до обеда. Ее навещал отец, местный фельдшер, жених и кое-кто еще. – Энти-то были, только они совета у меня спрашивали: как и чем лечить Танечку. Больная она, те изверги решили ее. Умом она тронулась. А зачем она вам, гражданин? – внезапно строго спросила женщина, ее жгучие черные глаза цепко впились в человека и сейчас, казалось, прожгут насквозь. Тот, не выдержав взгляда, отвернулся. – Милиция ее разыскивает по этому самому делу. – На что, бедняжку, разыскивать, она уж все вам рассказала и написала, а теперь ее лечить надо, а не допросы чинить, гражданин. Ступайте с Богом, не было у нас Танюшки, обознались вы.– Женщина закрыла глаза, покойно положив руки на колени, давая понять, что ей с пришлыми разговаривать не о чем. Опер, извинившись перед жильцами дома, поспешно вышел на улицу, нервно закурил, ожидая Сутулого. Когда тот с непроницаемым лицом подошел, опер сказал: – Этот старик полный кавалер орденов Славы. Его весь район знает. И к Лесковой Татьяне его семья никакого отношения не имеет,– в голосе опера звучал упрек.– Могли бы и у меня спросить. – Хорошо,– возвысил голос Сутулый,– спрашиваю, где может скрываться Татьяна Лескова? – Понятия не имею. Тут половина поселка Лесковых: братья, дядья, сестры, кумовья. В каждом дворе ей может быть убежище. У вас ордер на арест есть? А то ведь, я тоже Лесков. Сутулый такого исхода не ожидал. Он плотно сжал зубы, ничего не ответил, сел в машину и велел ехать к дому, что стоит на отшибе, у реки. Через несколько минут там раздались выстрелы. Стреляли из карабина. *** В субботу Матвей поднялся рано. Бледное солнце только что выкатилось над лесистым зубчатым горизонтом. Он вышел до ветру и по старой привычке отметил про себя: бледное солнце на восходе – к вечеру дождь соберется. Да и лес пошумливает, хотя во дворе тихо. К одному все сводится – к непогоде. Вернувшись в дом, он поднял с постели Сергея, подал прорезиненную накидку. – Сунь в рюкзак,– сказал Матвей, – пригодится. К вечеру дождь ожидаю. – А чего летом дождя бояться?– бодро ответил Сергей, вскакивая с постели. Он подошел к окну, приподнял занавеску, выглянул. – С чего ты взял насчет дождя? – У меня тут своя метеослужба поработала, говорят, барашки на небе появились, солнце бледное на восходе, да лес шумит. Дождь нам на руку, так что все путем. Завтракай тут без меня, Сережа, и двигай в условленное место. Мне пора уж, путь не близок. Матвей вышел на веранду, вскинул на плечи собранный рюкзак, из которого торчал карабин в чехле и скорым, но размеренным шагом вышел через огород на дорогу, ведущую в тайгу. Лес тихо шумел. Матвей прошелся по обочине дороги, по траве, глянул на сапоги. Они были сухими, а вот на лебеде – он приподнял листья – едва заметные капли. Все точно, проверил он и подтвердил еще раз свои заключения о предстоящем дожде. «Хорошо, потороплю охотничков,– подумал Матвей,– им мокнуть в дороге под дождем ни к чему, покладистей будут». Он шел знакомой дорогой, по которой ходил пешком, ездил верхом на лошадях, на мотоцикле до леспромхозовской базы, где стояла баня. Добротная ухоженная ночлежка, где сейчас спали ненавистные ему люди. Давно уж не вспоминал Матвей свое безрадостное детство. Спокойная, ровная жизнь умиротворяла, но последние события настолько резко встряхнули его, что воспоминания давно минувших дней чередой наплывали и наплывали, одни картины размытые временем просматривались смутно, другие – явственно, словно произошли совсем недавно. И всюду, как призрак, выплывал из тумана памяти красноперый верзила с жабой на лице, с острыми, злыми глазами и хищным ртом, откуда вылетали ругань и страшные слова, определяющие его и Сергуши судьбы. …Темень, порывы холодного ветра с дождем, крики женщин и плачь детей, безумный блеск маминых глаз, переполненных страхом и отчаянием, и свирепый голос: «Женщины старше шестнадцати лет становятся в одну колонну, дети до шестнадцати лет – в другую! Это приказ! – отпечаталось в памяти Матюши слово в слово, и он видел те события как контрастные негативы, слышал голоса, словно из динамика. Вопль ужаса пронесся над толпой женщин и детей, которые только что ехали в холодном вагоне: «Что они хотят с нами сделать?» «Они хотят разлучить нас с нашими детками!» «Не отдадим наших малюток!» Матюша держался за правую руку мамы, Сергуша – за левую. Толпа заколыхалась, люди куда-то побежали, закричали, но вопли заглушили винтовочные выстрелы, раздались страшные, как смерть, окрики конвойных: «Стоять на месте! Не-то всех перестреляем!» Толпа на мгновение онемела. Отовсюду неслись ругательства конвойных, толпа сжималась, и Матюша вдруг почувствовал, как чьи-то сильные руки отрывают его от мамы. Перепуганный мальчик онемел от страха и не мог даже вскрикнуть. Свирепый оскал зубов, расплывшаяся жаба на лице вместо носа, острые и злые глаза, мамин безумный крик, ее короткая борьба с жабой…И вот он, прижавшись к Сергуше, смотрит, как маму вталкивают в толпу красноперый верзила и слышит ее последние слова: «Сыночки, прощайте! Держитесь друг друга, никогда не расставайтесь! Я найду вас, когда этот кошмар кончится!» Смутно, но все же помнится долгая дорога в ночи под дождем и ветром, Мокрая рука Сергуши, стискивающая его руку, вязкая тяжелая грязь, прилипающая к ногам, наконец, барак с тусклой керосиновой лампой… Жаба и злые глаза появлялись во сне и наяву, приводили Матюшу в страх, по телу бегали холодные мурашки. Жаба всегда приносила новую беду Матюше. Он помнит первую попытку разыскать маму. Они сбежали из барака, выбрались на железную дорогу, но Матюшу и Сергушу догнала и схватила все та же жаба. Было страшно перед наказанием, которое их ждало в бараке по возвращению. Но наказание, которое придумала сухая воспитательница – выстойка в углу на горохе, оказалась только маленькой частью того, что случилось на другой день. Утром появилась жаба и утащила с собой навсегда Сергушу. Матюша рыдал навзрыд. Он умолял сухую воспитательницу вернуть брата, но та отгоняла его от себя тычками острых кулаков, а когда ей надоел плач Матюши, заперла его в темный и холодный чулан. Но мальчик не смирился и продолжал кричать и плакать. Это было безутешное сиротское горе мальчугана, и он понял, что только смерть жабы может оградить его и Сергушу от новых несчастий, надо ее убить. Однажды зимой жаба снова появилась в их детдоме. Страдая по брату, Матюша бросился к военному. «Где мой братка, куда вы его увезли? Я не могу жить без брата, мама не велела разлучаться!» – со слезами на глазах кричал мальчик, и, видя, что на него не обращают внимания, вцепился зубами в ногу ненавистному дядьке. «Пшел, гаденыш!» – отпихнул от себя Матюшу военный и ушел в другую комнату с сухой воспитательницей. Матюша не мог уснуть этой ночью. Он видел на поясе у военного нож в чехле, похожий на тот, что висел в комнате у папы. Мальчик знал, что это семейная реликвия, что на ноже есть тайные знаки. И еще Матюша знал, что военный и сухая воспитательница пьяные спят на одной кровати и можно незаметно пробраться в комнату, взять нож и убить жабу, пока она спит. Тихонько, стараясь не скрипеть половицами, Матюша на цыпочках пробрался в комнату воспитательницы, разыскал одежду военного, которая лежала на стуле, осторожно вынул из ножен кинжал. Люди на кровати зашевелились. Мальчик замер у стула, а когда снова все стихло, он шмыгнул в коридор, засунул нож в щель под полом. Нож провалился куда-то под балку и отыскать его было не просто. С надеждой, как-нибудь достать нож и убить ненавистную жабу, Матюша никем незамеченный пробрался к своей постели, притворился спящим, прислушиваясь к звукам, незаметно уснул… «Какова же теперь эта жаба,– подумал Матвей Климов, быстрым шагом приближаясь к таежной даче,– небось, подурнела. Узнает ли он меня? Вряд ли, столько воды утекло, и бороды на мне не было». *** Шел одиннадцатый час ночи, и сгустившиеся сумерки мешали преследовать бегущую от дома к Енисею девушку, но Сутулый знал, что если не схватит ее на берегу, она уплывет с парнем, который выскочил из дому минутой раньше, пальнул в воздух из карабина и сейчас возится с мотором на лодке, запуская его. Выжимая из своих ног всю скорость, Сутулый вотвот готов схватить девушку, но она ускользала. – Андрей,– раздался ее панический крик,– помоги! – Лескова, стойте! Вы арестованы, я вам приказываю!– вырвалось у Сутулого, и в тот же миг перед ним выросла крупная фигура парня, заслоняя собой девушку. Они сшиблись. Несколько коротких ударов под дых, рукояткой пистолета по голове, и парень грохнулся на землю. – Сопляк, это тебе не со шпаной драться. Девушку он настиг уже в лодке. – Лескова,– властно крикнул Сутулый. – Вы Лескова? – Да,– испуганно ответила девушка.– Отстаньте от меня. – Перед вами сотрудник милиции, вы задерживаетесь до выяснения обстоятельств, пройдемте со мной. – Что вам от меня надо? Никуда я не пойду. – Нет, вы пойдете, или я вынужден отвести вас в машину. – Вы не имеете права, может быть вы бандит. Андрюша!– позвала девушка парня. – Андрюша твой тебе не поможет. Вот мое удостоверение личности,– он вынул корочки из кармана и протянул девушке. – Я ничего не вижу, чего вы мне суете в темноте-то. – Пожалуйста, вот свет,– он вынул из кармана зажигалку, и тусклое пламя осветило удостоверение.– Убедились? А теперь пройдемте, пока ваш парень не очухался, не то я вынужден буду забрать и его, как оказавшего сопротивление, и отдать под суд. – Кто знает, кто вы такой? В темноте и без формы. – Вот это обстоятельство только и спасает его. Пошли. Я, вижу, вы совсем не больна, как говорят о вас ваши родственники. Девушка ничего не ответила, только ниже склонила голову. Они прошли мимо лежащего на земле Андрея. Сутулый наклонился к нему, ощупал голову, убедившись, что крови нет, а парень скоро придет в чувство, поторопился к машине. Она стояла возле дома, на крыльце которого суетились старики. Быстро сев с девушкой в машину, где безмолвствовал опер Лесков, Сутулый отдал команду двигаться в Предгорное. Никто из отъезжающих не слышал, как стоящий на крыльце старик горестно вымолвил: – Боже, неужели старые времена вертаются: невинных ночами хватают! Глава восемнадцатая К вечеру, как и говорил Матвей, по небу заходили облака. Они стали быстро уплотняться, заволокли все небо, а вдали слышалось погромыхивание. Потянул ветерок, тайга глухо зашумела, наполнилась множеством голосов. Сергей взглянул на часы, они показывали двадцать ноль-ноль. «Сейчас должен появиться Матвей»,– подумал Сергей, и не прошло минуты, как в прогалине между ветвистых лиственниц он увидел брата. За ним шли генерал и Толстиков. Когда охотники вышли на крошечную опушку между старых лиственниц и кряжистых кедров, Матвей пропустил их вперед. В ту же секунду с пенька поднялся Сергей и шагнул навстречу охотникам. Те в изумлении остановились. – Что за черт! Откуда ты взялся, Климов?– сказал генерал, оглядываясь на Матвея. Тот стоял в нескольких шагах от него с карабином наперевес. – В самом деле, что за чертовщина?– отозвался на вопросы спутника удивленный Толстиков.– Второй Матвей, только без бороды! Сергей тоже стоял с карабином наперевес и был одет в такую же выгоревшую на солнце штормовку, как и Матвей, такие же штаны, обут в кирзовые сапоги, а на голове – берет. – Я-то весь день голову ломаю – откуда мне знаком этот егерь? – смеясь, сказал генерал.– Двойники!– и у него шевельнулось далекое смутное воспоминание, от чего улыбка генерала сменилась на раздражение. – Братья-близнецы, генерал, которых вы разлучили почти сорок лет назад,– с ледяным холодом в голосе произнес Сергей, от чего генерал и Толстиков вздрогнули, сосредоточив внимание на карабине. – Ты что, полковник, в своем уме? С кем разговариваешь?– взревел генерал.– Да я тебя сотру в порошок! – Я в этом не сомневаюсь. Стирать в порошок людей – дело всей вашей жизни, генерал. Но вы уже никого не сотрете в порошок, товарищ бывший палач, экс-начальник лагеря политзаключенных,– холодно и чеканно продолжал Сергей. – Да я тебя, подлеца, пристрелю на месте!– вновь рявкнул генерал, дернулся за висевшей на плече нарезной двуствольной вертикалке. – Брось ружье на землю, дядя,– быстро сказал Матвей,– я бью без промаха. Генерал услышал сбоку от себя щелчок затвора карабина. Это не остановило взбешенного Ломова, сорвав с плеча ружье, он вскинул его. Сбоку раздался выстрел, ружье вылетело из рук охотника с расщепленным цевьем, шлепнулось на траву. Генерал, ошалело, поднял руки над головой. – Я предупреждал, дядя, а теперь, коль у тебя нервы не в порядке, вытащи из кобуры пистолет и брось к ружью, не то пуля попадет уже не в цевье, а в руку, – голос звучал насмешливо, и это еще больше взъерошило генерала, но он выполнил требование. Когда пистолет шлепнулся на траву, Матвей сказал: – Не мешало бы и тебе, секретарь, освободиться от лишнего груза, сними-ка, с плеча карабин, брось его в кучу, разговор у нас будет нервный, чего доброго возбудишься. Когда требование было выполнено, воцарилась тяжкая пауза. Тайга глухо шумела, раскаты грома прозвучали ближе, резче. Высоченные кедры и сосны стояли просторно, закрывая своими кронами небо и солнце, создавая легкий полумрак и прохладу. Под ногами густой ковер цветущего брусничника. Люди в этом величии казались мелюзгой, но ершистой и строптивой. Пауза затягивалась, Сергей смотрел на этих испуганных мужиков, презирая их, сверля взглядом. Матвей молча ждал действий брата, пытаясь понять, что же испытывают эти грозные и непреклонные люди в минуты, когда у них вдруг отобрали власть, превратили в изгоев, поставив под дула карабинов? Каковы их чувства? Сравнимы ли они с теми, что испытывали тысячи жертв, погибших во рвах впереди лежащей пади? Несомненно, им страшны братья-близнецы, да, они ненавидят Климовых. Но эти чувства иные. У Сергея ненависть к палачам непреходящее чувство, это то настоящее в человеке, что нельзя исчерпать за всю жизнь, как нельзя вычерпать воду из речной проруби, как нельзя утолить жажду одним глотком. Это настоящее – есть сила духа человека, его совесть и вера в правду. Жертвы тех лет – измученные, искалеченные и униженные – сознавали свою обреченность, но не страх был главенствующим, а ненависть-презрение к палачам, жажда отмщения. Матвей видел в глазах генерала и Толстикова низкий животный страх, какой присущ отъявленному негодяю перед возмездием, видел в глазах ненависть-уничтожение к братьяммстителям. Палачи не способны презирать, они не знают такого чувства. Оно не дано им, так же как любовь к женщине, к ближнему, к людям. Не ради любви к сыну Толстиков взялся за его спасение, а ради своего кресла, генерал помогал ему тоже ради своего кресла в роскошном кабинете. – Вы хотите нас шлепнуть? Не выдержал паузы генерал. – Марать руки о погань – не собираюсь,– сказал Сергей жестко.– Вашу участь определит Всевышний Разум, его аномалии находятся впереди вас. Вы сейчас пойдете в этот лес, где зарыты десятки тысяч жертв, палачами которых были вы! – Что он несет?– воскликнул генерал. – Замолчи, Ломов,– взвизгнул Толстиков, готовый вцепиться зубами в глотку своего спутника.– Так вы нас отпускаете? Правильно, мы же ни в чем не виноваты. – Отпускаем,– сказал Сергей холодно, от чего у Толстикова по коже побежал мороз,– только сначала вы нам скажите, когда были убиты наши отец и мать. Это первое требование. Воцарилось долгое молчание. Под взглядами Климовых генерал почувствовал себя неважно. Он понимал, что уйти от ответа ему не удастся. Задыхаясь от злобы и беспомощности, которые охватили его, будто трясина, куда он неудержимо проваливается, а спасения нет, генерал сопел и пыхтел, не решаясь произнести роковую правду. – Смелее, генерал,– окликнул его Сергей,– то, что с вами должно произойти – произойдет, каков бы ответ ни был. – В лагерях под Листвяжным были тысячи, откуда мне знать о вашей матери и отце. Климовых там насчитывалось около десятка, а то и больше. – Вы хорошо знали нашу семью. Здесь, на этой земле, вы разорвали нас с матерью, а затем, и этого делать вас никто не принуждал, разлучили меня с братом. – Да, я помню Петра Климова. Вместе дрались на Халхин-Голе, вместе были тяжело ранены. Мой нос изуродовал осколок. Но, истекая кровью, я все же вынес Петра с поля боя. Мы были молоды, и на нас все зарастало, как на собаках. Мы снова служили, но уже в разных войсках. Моей вины в его гибели нет. Я знаю, он расстрелян, но не здесь, в Европе. Ваша мать находилась тут. Она погибла от истощения и лежит где-то в логу. Я, думаю, Толстиков был ее палачом и могильщиком. Он тогда исполнял приказы… –Точнее от тоски по своим детям, как и тысячи других матерей!– Сергей сжал кулаки, в глазах у него потемнело, он двинулся на генерала, готовый свернуть ему шею, и если бы генерал попросил пощады, как самый низкий трус, он бы обрушился на него. Но генерал ко всему был неплохой психолог и чутье бандита, садиста и милиционера подсказали ему путь к самосохранению – молчание. Сжавшись, ожидая удара, он молчал. Удара не последовало, и когда после продолжительной паузы он понял, что опасность миновала, с трудом подбирая слова, сказал: – Это не совсем моя вина, таков был приказ. В моих силах можно было лишь кое-что сгладить, например, улучшить содержание заключенных. Но где на это были средства? Шла война. Разве ты, Климов, отказывался выполнять мои приказы? Правые и неправые? – Нам показывают фильмы об обыкновенном фашизме, мы ужасаемся, думаем, какое счастье, что советских людей миновала участь фашистской Германии,– задумчиво говорил для себя Сергей,– как нас обманывают! Обыкновенный большевизм хуже фашизма. Большевики не щадили ни детей, ни взрослых, ни своих сограждан, ни иностранцев… – Так вот почему ты не любишь слово – товарищ, и избегаешь его произносить,– с мрачной веселостью сказал генерал,– но ты не ответил на мой вопрос. – На вопрос насчет правых и неправых приказов? Не отказывался, но боролся и коечего добивался. Не так ли? – Все так, полковник. У нас с тобой разные возможности и разное время. – Разная совесть. Благополучие или тяжкое бремя – лакмусовая бумажка совести. Для вас жизнь человека, как и для любого большевика, как сигарета – выкурил, а окурок выбросил. Я еще могу понять действие человека в годы сталинской инквизиции. Но отказываюсь понимать их сегодня. – Наша система виновата, Климов. Мы, не спорю, ее творцы,– генерал широко развел руками, как бы охватывая всех живущих на российской земле. – Вы с Толстиковым творцы, но не мой брат, не я. Скорее, я ее могильщик. – Эка, куда хватил! – Вы не согласны? Что ж, попробую убедить тем, что сын Толстикова сегодня арестован в городе. Девицы, которые организованы генералом под горинским нажимом, вчера отказались от своих показаний. Уголовное дело против насильников возбуждено вновь.– Сергей сделал паузу, взглянул на Толстикова, который не в силах был что-то сказать, замер с открытым ртом.– Это, будем считать, официальное сообщение, а вот неофициальное. Ваш сын в тюрьме, по ошибке, попал в камеру к рецидивистам, думаю, его уже там изнасиловали. Генерал может подтвердить мои предположения: таких мальчиков воры-рецидивисты не терпят. Вы согласны, генерал? И так, слава о нем пойдет по его пятам, его будут использовать всюду, где бы он ни появился. Выдержит ли он такое скотское обращение в течение всего длительного срока, какой ему предусмотрен нашим гуманным законом – сказать трудно? Едва Сергей закончил свой иронический рассказ, как Толстиков беспомощно прохрипел: – Горин раздавит вас, и я приложу к этому руки. Мы хотели мира, теперь его не будет. –Что ж, похвально! – Сергей повеселел.– Случай с вашим сыном разве не яркая иллюстрация того, что есть силы, готовые бороться с сильными мира сего. Кстати, Горин завтра будет здесь собственной персоной.– И последнее. Я хочу напомнить, генерал, о том, что тайны, которую вы сохраняли пятнадцать лет, больше не существует.–Сергей вытащил из рюкзака кинжал и показал Ломову.– Узнаете? – Как же, как же! Только не поздно ли предъявлять обвинение, полковник? – Лучше поздно, чем никогда. – Валяй,– согласился генерал.– У тебя сильное воображение. – Свою жертву вы поразили точным броском этого клинка. Вероломный удар не оставил никаких шансов прокурору города, чтобы разоблачить вас как негодяя и мародера. В досье, которое скрупулезно вел прокурор, просматривался весь путь одного из прекрасных исполнителей кровавой сталинской инквизиции. Однако прокурор не собирался посадить вас на нары: в жестокости этот большевик ничуть вам не уступал. Цель иная. Ваш предшественник одряхлел и уходил на пенсию, претендентов на этот пост – двое. Вы и прокурор. Свалить соперника можно было, имея убийственный компромат. Оппонент собрал неопровержимые доказательства того, как при арестах граждан и обысках их квартир, в ваших карманах оседали различные драгоценности. В лагерях ваша алчность не знала границ: вы не только обирали заключенных, но и грабили трупы, ваши подручные вырывали золотые зубы и коронки. У вас собирался очень толстый кошелек, но чем толще неправедный кошелек, тем тоньше совесть! На золото вы сделали ставку. Тех, от кого зависела ваша карьера, вы одаривали дорогими подарками, и все шло хорошо, но на вашем пути встал прокурор. – Десять лет назад, придя в отдел, изучив материалы дела, я сделал выводы, что убийца прокурора – вы! – А что же молчал? – У меня не хватало доказательств, а вы к тому времени вожжи власти держали крепко. У вас был запасной вариант, и я мог поставить под удар своего брата, которого долго разыскивал. Следы его обнаружились благодаря этому делу. Стоило предъявить вам обвинение, как я был бы отстранен, а в ход пошел бы запасной вариант: у вас есть отпечатки пальцев снятые с ножа законного владельца, тайно хранимые у вас в сейфе. Но эту версию вы берегли на самый крайний случай. А так – зачем, дело сделано чисто. Профессионально, следов нет. Я верно говорю, генерал? – Климов сделал паузу и, получив утвердительный кивок Ломова, продолжил. – Вы знали, что никто не сможет выйти на верный след, его, по вашему мнению, не существовало. Но вы ошиблись, след все-таки проглядывался, правда, микроскопический. Я не преувеличиваю, генерал, о нем не знали даже вы. Однако я не открывал этот след и терпеливо ждал, за что можно было бы ухватиться дополнительно. Анонимное письмо расставило все на свои места. Оно доказывало виновность только вашу, и исключало косвенные улики против брата: этот нож принадлежал нашему отцу и несколько лет находился у Матвея. Парень владел им виртуозно: бросал клинок из любого положения, поражая цель. О мастерстве Матвея вы узнали случайно: тот не раз тешил своих приятелей метким броском, не подозревая о последствиях. Тогда же в вашей голове родился преступный план, который вы талантливо осуществили. – Ха–ха!– нервно рассмеялся генерал.– Ты прав, полковник! Но как ты узнал – чей кинжал? Неужели у тебя такая цепкая память? Поразительно. – Я узнал его по микроскопическому изображению на его рукоятке нашего фамильного знака – кубанских казаков. Отец незадолго до его ареста показывал его нам с Матвеем. А вот как нож попал к вам, я не знаю, вероятно, вы просто ограбили наш дом. Затем Матвею удалось завладеть этим ножом, когда вы пьяный спали с воспитательницей детдома. Генерал, казалось, оправился от шока, самоуверенность и безнаказанность вернулись к нему, он сел на траву, с любопытством слушая Климова, поглядывая на сгущающиеся тучи. – Хватился я клинка гораздо позднее, – сказал генерал,– потому не стал переворачивать вверх дном детдом. Дела в лагере шли напряженно, но я догадывался, кто мог его украсть и при случае надеялся вернуть клинок. – И «случай» этот был устроен, когда вам понадобилось доброе оружие, которое давало вам крупные шансы выйти сухим из воды,– продолжал Сергей.– К счастью для Матвея, ложный след, по которому вы намеревались пустить ход следствия, не понадобился. С одной стороны из-за сложности дела, с другой стороны, в результате ловкого убийства вашей рукой. – Да,– подтвердил генерал.– В этом деле никто больше не пострадал, и вам на меня держать зло, как вам точнее выразиться, не по-мужски. Прошлое – не моя вина. Прошлое пережито, полковник, каким бы оно кровавым не было – это история. Мы в ней только «винтики и шурупчики», весь механизм крутила одна рука. – Я бы согласился простить, но не забыть прошлое, если бы не ваш произвол теперь, произвол едва ли не на каждом вашем и его, – Климов указал на Толстикова, – шаге. Произвол над Таней Лесковой – последний. Нет, вы не забыли прошлого, вы помните его хорошо, оно ваше настоящее и никому не позволите без борьбы убрать руки с механизма власти, который вы крутите, как вам захочется. Ваш ломизм обрыдл не только мне, но и всему нашему народу. – Надо быть полным идиотом, чтобы иметь власть в руках и не использовать ее в своих интересах!– невозмутимо ответил Ломов. – Как же ваш лозунг: «Все для блага народа». – Полковник!– болезненно поморщился генерал, – не доводи до зубной боли – все это блеф! Благо для миллионов? Это же всегда было и будет – миллионы создают благо для элиты! Восстания черни никогда не заканчивались для нее победой. Впервые в истории, в Болгарии, восставшая чернь растоптала в Тырново своих поработителей – свергла власть прежнего царя. Но разве она победила? Чернь осталась чернью. На смену одним богачам пришла элита этой черни. Только и всего. А разве в нашей стране произошло не то же самое, разве наши вожди и кумиры не из той же черни, разве в нашей революции победили пролетарии? Где вы видите миллионы богатых рабочих? Кругом нищета и убогость. – Я революцию не защищаю. Она, как и всякое насилие, – зло. – А зло наказуемо! – усмехнулся генерал. – Совершенно верно, как и подделка документов, генерал. Не будем уходить от вашей персоны. – Ты о чем, полковник?– насторожился генерал. – Я хочу напомнить, что есть еще одна причина покушения. – Не понял? – Все вы прекрасно понимаете. Вы же не Ломов, генерал,– Сергей внимательно следил за реакцией своего противника, и заметил, что тот внутренне напрягся, ожидая очередного удара. – А кто же?– усмехнулся генерал,– уж не шпион ли какой иностранной спецслужбы? – Нет не шпион – вы бывший сионист Ломенштейн – враг российского народа. Прокурор и это знал. Как известно, в эру Хрущева евреев в верхние эшелоны власти старались не пускать. Как же вам было оставлять в живых человека, имеющего такую компру! – Батюшки, до чего договорился человек, я ведь тоже знал его с другой фамилией! – вскричал Толстиков, но Климов, не обращая внимания, продолжил: – Вы враг не только российского народа, сколько евреев вы погубили в своем лагере!? но и Божий враг, уничтожающий духовность, веру. – Сионист я или нет, сейчас не важно. Но было бы глупо не воспользоваться правом сильного, то есть прибегнуть в данный момент к тому, что дает право на силу: лицемерие, предательство, жестокость, подкуп, убийство. Все средства хороши! Если ты не способен применить весь сатанинский набор – ты – слабак. А право слабого – целовать зад сильному, до тех пор, пока это тебя чему-то научит. Если не научит – значит ты безнадежное дерьмо и раб. Вы сейчас с карабинами – сильные. – Но мы их применять не собираемся. – Тогда вы – слабаки. – Ну, что ж, мы – слабаки. Воспользуйтесь правом сильного и пройдите через этот лес. Выйдите из него – ваша взяла, ваша правда. Не выйдите – моя правда. Но я убежден, вы проиграете. В каждом человеке, творящем зло, сидит сатанинская сила, и поразить ее может лишь сила Всевышнего Разума. Пусть ОН определит вашу судьбу: накажет или помилует. Сейчас мы пойдем вместе и узнаем это. Поторопитесь, надвигается гроза. Пошли!– властно приказал Сергей. – Мы не пойдем туда,– жаба на лице генерала расплылась, засопела, готовая сорваться с места.– Вы нас не заставите! – Заставим! – сказал Матвей, вскидывая карабин. Раздался выстрел, потонувший в близких раскатах грома, пуля впилась в землю возле каблука генерала. – За сына я тебя здесь же порешу, если не пойдешь. А тайга, сам знаешь, следов не оставляет. Не вступавший в разговор Толстиков, подхлестнутый выстрелом, бросился в молодой кедровник, генерал – за ним. – Так-то лучше. – Но Горин, вы забыли о Горине. Он вас уничтожит!– крикнул генерал. – Желаю встречи с Гориным в этом же лесу,– сказал Сергей.– Я же говорил: он будет здесь завтра к обеду. Генерал и Толстиков, спотыкаясь, шли в глубь молодого леса и почти скрылись в молодой поросли, как Матвей сказал: – Опусти, братка, карабин, директор леспромхоза Еремеев сюда торопится. И только он проговорил, как из-за деревьев показался человек. – Что происходит? Вы стреляли по зверю?– спросил Еремеев, подходя к охотникам, глядя на валяющееся оружие. – Ничего не случилось,– сказал Сергей, – генерал собрался показать, где захоронена наша мама. Вы же знаете, что впереди ложбина – место расстрела ненвинно заключенных. – Да,– после некоторой растерянности ответил Еремеев,– но туда не стоит ходить – это опасно. Толстиков знает. – И все же мы пойдем, слышите голоса Толстикова и генерала? Они ждут нас. – Слышу, но почему они решили туда идти? – Им необходимо взглянуть на дело рук своих, – ответил серьезно Сергей.– Вы оставайтесь здесь, подождите нас и будите свидетелем нашего путешествия. Можете забраться на дерево. Сергей опустил карабин на траву, отстегнул патронташ. – Пошли, Матвей, а то наши спутники далеко уйдут. Будем надеяться, что наши контакты с Всевышним Разумом не будут парализованы этой сильнейшей аномалией. Матвей повесил карабин на сучок лиственницы, что стояла рядом и шагнул вслед за братом, оставив сторожить оружие недоуменно растерянного Еремеева. В лесу, почти над головами охотников, сверкнула ослепительная молния, и в ту же секунду шум ветра и приближающегося дождя заглушили раскаты грома. Брызнули первые крупные капли. Вот они зачастили, и вскоре молодой лес и люди утонули в косых потоках ливня. Глава девятнадцатая Солнце поднялось к полудню. Припекало. Но вчерашний дождь хорошо освежил таежку, дышалось легко, полной грудью, и было приятно сидеть в тени деревьев, потягивать ароматный чай, который Матвей заварил в небольшом котелке из букета набранных неподалеку трав. Костерок догорал, и чтобы чай подольше не остывал, Матвей поставил котелок на угольки, озабоченно сказал: – Появится Горин, нет ли? Может, одумается человек, осудит свои дела? – Нет, братка, не одумается, не осудит. Он не привык встречать возражения. С ним, и людьми ему подобными, можно бороться только их же оружием – силой, хитростью,– с глубокой убежденностью сказал Сергей. – Еремеев постарается отговорить Горина сюда не идти. Убедился, что этих неведомая сила повязала? –Трудно сказать, он организатор охоты, он отвечает за жизнь начальства. Перепугался. Но Горин упрям. Из кедровника время от времени доносились дикие вопли, которые вчера вечером не на шутку напугали Еремеева. Всю ночь он не сомкнул глаз, находился в обществе братьев Климовых, которые живыми и невредимыми вышли из кедровника, когда окончился ливень. На братьях не было сухой нитки, глаза лихорадочно сверкали, оба необычно возбуждены. Они быстро развели костер и принялись сушиться. – Как же Толстиков с генералом,– растерянно спросил Еремеев,– почему вы их бросили? В эту минуту в кедровнике раздались дикие вопли. Еремеев содрогнулся. – Кто кричит?– взволновался Еремеев. – Генерал и Толстиков – вами уважаемые. Оба решили провести ночь в кедровнике, на могиле своих жертв и ждут в собеседники Горина,– с холодной иронией ответил Сергей. – С ними, черт побери, все нормально?– с тревогой в голосе продолжал вопросы Еремеев. – Они ходят кругами и разговаривают со своими жертвами. Слышите?– жестко ответил Сергей.– Больше я ничего добавить не могу. Если желаете убедиться, сходите. – Что-то не хочется,– ответил Еремеев, разводя руками. – Завтра утром вас будет разыскивать в Листвяжном Горин. Я думаю, он торопится сюда, помогите ему добраться. Так что вам следует отправляться в поселок. – Но как же быть с Толстиковым и генералом? Я же организатор охоты, между прочим, по просьбе Григория Ивановича, и отвечаю за них головой,– волновался Еремеев. – Можете оставаться, я не принуждаю, но у Толстикова с Гориным здесь назначена встреча по делу интересному для обоих персон. Кому, как не вам оказать услугу Горину. Еремеев согласился, но в ночь не пошел, а только рано утром. И вот теперь с минуты на минуту братья ждали появления гостей. Климовы сидели в тени деревьев, потягивали ароматный чай, изредка отмахиваясь от комаров, которые не очень-то и беспокоили. Матвея тревожили необычайные события прошлого дня, и непредсказуемые для него последствия. Сергей понимал озабоченность брата. – Не переживай, Матвей, мы не тащили силой сюда этих людей. Охота – хуже неволи.– Сергей усмехнулся.– Правда, войти в кедровник мы их заставили, и все! А уж суд вершит над ними Всевышний. Кто мешает им выйти из кедровника? Мы же с тобой вышли, а они, почему не могут? Они свободны!– с некоторой жесткостью в голосе продолжал размышлять вслух Сергей, видя, что Матвей находится не в своей тарелке. – Так-то оно так, согласился Матвей,– однако, не по себе мне что-то. За молодых душа болит. – Потерпи, Матюша, час-два и все выяснится,– твердо с непоколебимой верой в свою правоту ответил Сергей.– Придет Горин, не может не прийти. Будь сюда проезжая дорога, то он был бы уже здесь. Он же не такой заядлый охотник, как эти двое, он не спешит. Слышишь, кричат. – Кричат, ошалели. Совесть меня мучает. Отвечать придется. – Не бери близко к сердцу, брат. Эту дорогу они выбрали сами задолго до того, как покусились на невинную девочку. Прощать – значит прощать зло. Ты лучше пройдись, встреть нашего недруга. Матвей вдруг насторожился, его охотничье ухо уловило характерные звуки. – Идти навстречу уже поздно. Слышишь, лошадь на поводе идет, удила брякнули, а вот и голос Еремеева,– Матвей возбужденно вскочил. Поднялся и Сергей, прислушиваясь и вглядываясь в пространство между деревьями, откуда должны появиться люди. И они вышли на опушку к стоянке Климовых. Сначала показался Еремеев, плотный и рослый, одетый в штормовку с поднятым капюшоном, за ним двигалась крупная фигура моложаво выглядевшего Горина так же экипированного потаежному, только во все новое. В отличие от первого путника, шаг второго был тяжел и неуверен, видно было, что человек этот пешими прогулками занимался редко. Пот градом катил по его лицу, он отфыркивался и бесконечно часто вытирал его уже мокрым носовым платком, человек этот снисходительно ворчал: – Все, Николай, бросаю сидячий образ жизни. Бросаю. Видишь, за тобой кое-как поспеваю. Совсем природу-матушку забыл. Помнишь, как несколько лет назад, совсем недавно, хаживал с тобой же по маральим тропам! И хоть бы что. А теперь? Хватит, захлестнула меня городская стихия, закабалила. – Решение правильное, Павел Викторович,– не расположенный к разговору только и ответил Еремеев. Третьим шел плечистый малый. Сергей знал его – телохранитель Горина. Он вел на поводе оседланную и навьюченную лошадь. Замыкал шествие личный шофер Павла Викторовича Горина. Последние двое несколько приотстали, шагали ломаной, неверной, как и их патрон, походкой и были одеты в такие же новые штормовки с поднятыми и наглухо застегнутыми капюшонами – боялись укуса энцефалитного клеща, которые еще свирепствовали в эту пору в тайге. Путники приблизились. Сергей после приветствия поинтересовался самочувствием, на что Горин криво усмехнулся, ища взглядом кого-то, но, не найдя, с некоторым раздражением спросил: – Где генерал с Толстиковым? Горин откинул с головы капюшон. К нему подошел атлет и стал внимательно осматривать одежду патрона,– не засело ли в складках одежды смертоносное насекомое. Удовлетворившись осмотром, он отошел в сторону, стал возиться со своим обмундированием. – И генерал, и Толстиков в этом красивом лесу,– с иронией на губах ответил Сергей. – Что они там делают?– в голосе Горина звучали нотки неудовольствия. – Сходят с ума, – просто ответил Сергей, – ждут вас. – Что это значит? Ты что, пьян? Вместо ответа Сергей увлек в сторону Горина, который охотно подчинился уединению. – Вы хороший хозяйственник, но такой же носитель зла, как и те двое,– бесстрастно говорил Сергей, наблюдая, как закипают гневом глаза Горина.– Советую отказаться от преследования Лесковой. Если не откажетесь, тогда идите, выручайте своих сообщников, вам без них не обойтись. Только возьмите с собой телохранителей, пусть они станут свидетелями вашего безумия. Мне легче будет составить протокол расследования. – Какой еще протокол? – Вашего безумия, Павел Викторович. Это будет нормальная плата за ваши преступления. – Ты о чем, полковник? – Горину вдруг стало холодно от мысли, что этот человек знает о нем много больше, чем положено. – Вы считаете себя чистеньким ангелочком, хотя это далеко не так. Хотел бы я знать, как вы расцениваете свое преследование Тани Лесковой? – Я не намерен перед тобой объясняться. Это твой удел. – Ну, как же вы можете снизойти до такого. Это вам не повелевать, не эшелоны леса гнать в Среднюю Азию за чемодан с деньгами. – Я могу только рассмеяться тебе в глаза, полковник. – Согласен, улыбку вызывает у вас и показательный суд над столяром, который вы с блеском устроили. Какой фарс, директор! Но признайтесь, вас что-то мучает? Вот уже полгода, как Горину не дает покоя один и тот же сон. Сном-то его назвать нельзя. Явь, настоящая явь. Все в нем происходит, как и было на самом деле. Только конец иной – все в нем наоборот. Поводом к тому сну служит всякий пустяк, способный как-то расстроить Горина. Ляжет он в кровать за полночь или раньше, только сомкнет глаза, еще не спит, а только отходит ко сну, а сон уже вот он, встает. Начинается он с московской красавицы. Павел Викторович считал это дело своей личной тайной. Во всяком случае, он так думал и надеялся. Но он прекрасно понимал, что жизнь такого крупного человека, каким он являлся для своего города, не может быть тайной, если не для жены и его близких, то уж не для его патрона и спецслужб, оберегающих их персональную безопасность, иначе бы он сам был о них невысокого мнения. Он познакомился с ней в Москве несколько лет назад, когда еще секретарил в Громотушенском районе вместо своего протеже – Толстикова. Она заведовала ателье, где обслуживались исключительно партийные секретари, где можно было в считанные дни обновить свой гардероб. Она была сама нежность и красота. Его потом удивляло, как она убереглась от всех мужчин для него одного. Может быть потому, что ее красота пугала остальных, хотя многие не прочь завязать с ней роман. Но каждый боялся, что не справится с собой, а высота поста в провинциях требовала не затуманенную любовью голову, допускала лишь кратковременное увлечение. С ней же никто из поклонников не мог дать гарантии, что эта кратковременная страсть не обернется в продолжительную любовь. И мужичок сдерживал себя от решительных действий, ограничивался вздохами пожирая ее глазами, уходил в гостиничный номер, проводил ночь со шлюхой или без. Она же оставалась не тронутой и даже оскорбленной. Когда Горин появился в ателье, чтобы заказать себе новый костюм, то был поражен ее обаянием. Она встречала и провожала посетителей со строго подчеркнутой вежливостью, казалась Павлу недоступной и далекой звездой. Пока с него снимали мерку, он весь горел мыслями о ней и лихорадочно искал повода, чтобы заговорить с нею, остаться наедине и пригласить в ресторан на ужин. Он вдруг перестал страшиться своего будущего и решил непременно обладать ею. Едва заказ был оформлен, поблагодарив закройщицу, он направился на розыски заведующей. Она, казалось, уже поджидала его, собираясь проводить до двери. Павел Виктрович не растерялся, галантно подхватив ее под руку, направился к выходу, чувствуя себя совершенно легко, предложил вместе поужинать сегодня в ресторане. Он был высок и строен, жгучий брюнет с черными, как ночь глазами, с правильными чертами лица, словом принадлежал к числу тех мужчин, которые нравятся женщинам, он не раз в этом убеждался и уверовал в свою неотразимость. Но здесь, когда получил решительное согласие, даже растерялся от столь легкой необыкновенной победы и понял, что все это неспроста. Она была восхитительна. Она была молода. Она, как запоздалая весна, вдруг спохватилась, что ее время уходит, с избытком опрокинула свое тепло на землю, так и она жадная до жизни и наслаждений заполонила его всего своей страстной бушующей любовью. Он же, как щедрый и богатый купец оплатил все счета. Тот месяц, который был отпущен ему для учебы в Москве, превратился в медовый, не обремененный, как его первый, заботой о хлебе насущном, комсомольской оголтелостью в политике, делах и учебе, сумасшедшей обстановкой в общаге ( в комнате на четверых), с тяжестью всех тех минусов и гадостей в разоренной войной, полуголодной стране. Весь месяц был иным и сам Павел, нежели тот, что прибыл сюда до знакомства с нею. Он выглядел гораздо моложе своих средних лет, попивал чай с родиолой розовой, попросту золотым корнем, коим богато запасся. Он чувствовал себя крепким молодым жеребцом, и медовый месяц захлестнул его с головы до пят и оказался самым счастливым во всей его жизни. К сожалению, за все удовольствие надо было платить наличными. Он быстро истратил те деньги, которые давала ему должность, а сбережения – поглощены, как пустынный песок пьет воду, беззвучно и бесследно. И однажды он почувствовал себя орлом с подбитым крылом. Это случилось незадолго до их расставания, когда он обнаружил в кармане последнюю сотню рублей, и впервые за много лет ощутил себя беспомощным и униженным. Как горько сознавать, что он, имея в своем районе неограниченную власть, не может здесь, в Москве, позволить ужин в ресторане с любимой женщиной, и тогда же подумал, что эту проблему ему следует решить навсегда. Каким способом – неважно. И все же, хоть и с подбитым крылом, но расставался он с нею полный любовного счастья. Писем договорились не писать, звонить он будет сам, а она ждать очередной встречи. И она терпеливо ждала, впрочем, не так долго. Новая командировка в Москву подвернулась через два месяца. Короткая, но бурная встреча оставила неизгладимый след известием, что она ждет от него ребенка. Ей нужна отдельная от родителей квартира, если, конечно, он не хочет потерять ее. Ради нее он готов пойти на все. Готов бросить жену, если бы это было возможно в его положении. Перспектива пробиться в Москву не светила. А вот в своем городе на большое дело, на солидную должность – была. А с нею надежды на будущее, на квартиру в Москве и частые встречи с любимой. Но это пока лишь перспектива, а сейчас Горин заметался в треугольнике с высокими стенами – между своей любовницей, семьей и положением в обществе. Через год после этих событий Горин материализовал перспективу и стал директором крупнейшего комбината. Зарплата его выросла, он стал часто бывать в центре. Расходов прибавилось. Содержать две семьи не просто. Денег хронически не хватало. Более того, ее не устраивала та хрущевка, которую он добыл с помощью связей. Конечно же, он обещал ей новую просторную квартиру. Где взять крупную сумму – головоломка из высшей математики. Однажды в конце рабочего дня (вот с этого момента сон Павла Викторовича ужасно тягостен, но настолько реалистичен, что он не может ничего решительно вычеркнуть или в чем-то усомниться и опровергнуть), в кабинет вошел Луневич, тип, у которого глаза всегда выпучены и испуганы, но в то же время как-то по-особому заглядывающие в душу. Павлу такое откровение напоминало кокетство и производило неприятное впечатление. Но тип этот, невероятно ловко проворачивал торговые операции с деловой древесиной, что Горин терпел его в своих заместителях. –Павел Викторович, – прошептал Луневич ему на ухо, хотя они находились вдвоем,– очень прошу пройти ко мне. Здесь говорить я не могу: ваш кабинет прослушивается. Луневич предостерегающе приложил палец ко рту – тсс. Горин едва сдержал себя, чтобы не воскликнуть от удивления и гнева. Лицо его страшно побагровело, показывая крайнее негодование. – Случилось это совсем недавно, – зашептал Луневич, по-прежнему держа палец поперек губ, – но все это во благо, во благо, Павел Виктрович. Я позже объясню. А сейчас прошу… Горин встал и пошел вон раздраженный и изумленный. В кабинете Луневича он услышал следующее: – Известно ли вам, Павел Викторович, что на товарном складе комбината стоит эшелон груженый деловой древесиной, готовый к отправке в Среднюю Азию? – Что за чушь собачья?– возмутился Горин. – Это не чушь, это реальность. Вот документы на этот эшелон, а вот чемодан с деньгами, и тоже за этот эшелон, если будут поставлены ваша подпись и печать. Горин молча взял документы, посмотрел их. Оформлены они безукоризненно, как всегда. – Откуда древесина?– задал законный вопрос Горин, зная, что запасов никаких на вчерашний день нет. – Эту древесину заготовили бригады бичей, которых никто не видел, финансируемые из этого же чемодана. Состав выкатился тоже из чемодана, а сам чемодан выловлен в Сыр– Дарье. – Сколько там? – как бы, между прочим, поинтересовался Горин. – Очень много. Вполне хватит на трехкомнатную квартиру с обстановкой. Павел качнулся задать вопрос. – Никто не обижен, все предусмотрено. Документы необходимы лишь на самый крайний случай. – А если я не подпишу, что будет?– директор приподнял тяжелый чемодан с деньгами, приказал открыть, и, увидев пачки купюр, тяжело вздохнул. – Плохо будет, Павел Викторович. И мне, и вам. Друзья старались. – Хорошо, подписываю,– зажмурил глаза директор. Подпись на таких документах он ставил еще несколько раз. Все обходилось, все шло счастливо до тех пор, пока с Луневичем не случилась несчастье. Горин ясно видел несчастье. Но оно было не всамделишное, а иное. Всамделишное было то, что грезилось ему дальше. Столяр Лоскутов таскает через дыру в заборе небольшие подъемные пачки отполированной древесины. Лоскутов несет их через пустырь к своему дому-особняку. Там он собирает из этих пачек мебельные стенки. Выглядят они шикарнее и богаче, чем фабричные. Столяр толкает их на черном рынке. Лоскутов до того обнаглел, что купил на стенки «волгу». Однажды Лоскутова схватили возле пролома в ограде с пачкой полировки. Горин потребовал показательного суда над расхитителем государственной собственности с широкой прессой. Лоскутова судили, о злостном расхитителе говорил весь город. Но разбойника Лоскутова мало кто осуждал, а сожалели о том, что столяр вместо Луневича, разбился на собственном, купленном на стенки автомобиле, а Луневич, видите ли, живой и невредимый попал за решетку. Но самое неприятное в этом сне ничто иное, как Горин лично, а как же иначе, приносил половину чемоданных денег и тайно оставлял в кабинете у первого секретаря горкома, у своего друга и однокашника. Хотя на яву никакой тайны в этом вопросе не существовало, как и того факта, что Лоскутов разбился, а Луневич сел за решетку. На яву погиб Луневич при странных обстоятельствах, а Лоскутова посадили, предварительно конфисковав имущество. – Вы разве не догадывались, что все это проделки хорошо вам знакомого Сутулого: и первый эшелон с лесом, и первый чемодан с деньгами, и автомобильная катастрофа Луневича,– услышал вдруг Горин голос Климова. – Знал, как не знать, – растерянно ответил Горин, выходя из задумчивости. – Тебе-то откуда известно? – Мне многое известно. Контакт с космосом у меня постоянный и прочный, информация поступает оттуда. Там содержится все, что мы, люди, творим на земле. Документы, подтверждающие левые эшелоны Луневича, мне довелось добывать. Разве не помните? – Как же не помнить. Только жаль, твой порученец, растяпа-следователь сгорел вместе с ними в вагончике, – осклабился Горин. – Да, растяпа-следователь. И сам не уберегся, и документы сгорели. – Вот видишь, ты тоже согласен,– сказал Горин и вдруг встрепенулся. – Чего это я перед тобой разоткровенничался. – В самом деле! Вы разве не приходите к мысли, что вам до чертиков надоела эта двойная жизнь? Контрабанда эшелонов леса в Среднюю Азию, московская семья, честный неподкупный директор… Вам бы отказаться от всего, ехать домой, признаться во всем, хотя бы своей жене, а потом оставить пост директора. Но вы не откажетесь, кишка тонка…– Климов прервал речь, прислушался. Из молодого леса донеслись глухие выкрики, насторожившие Горина.– Вас зовут друзья, Павел Викторович. – Кто это кричит, никак генерал? – Он самый. Тот, кто не раз отводил от вас топор правосудия. Вам без него и Лескову Таню не одолеть: не будет же вся городская госбезопасность вашим делом заниматься, хватит и Сутулого... – Так что же случилось с генералом? – перебил нетерпеливо Горин. – Я же говорил – сходит с ума и нуждается в вашей помощи. Горин уничтожающе глянул на Сергея, бросил: – Ты еще пожалеешь обо всем! Семен, пошли со мной!– крикнул Горин своему атлету. – Я предупреждаю: для вас, Горин, кедровник не безопасен,– громко, чтобы все слышали, сказал Сергей. Но Горин не хотел ничего слышать и через минуту скрылся в молодом лесе. – Ничего не пойму, Сергей Петрович, что им там нужно?– сказал подошедший к Сергею Еремеев. – Ищут ответы на свои вопросы, – спокойно сказал Климов. Подошли Матвей и личный шофер Горина. Все стояли у кромки молодого леса и смотрели, как покачиваются верхушки кедрушек, указывая движение людей. Тишина и покой наполняли окрестную тайгу, лежащую впереди падь, где поселилась вечная скорбь, о которой никто не хотел знать, и никто не собирался принести ПОКАЯНИЕ и отмаливать у погибших, у народа, у Всевышнего ПРОЩЕНИЕ за совершенные преступления перед жизнью человека. Тишина и покой здесь нарушались лишь залетевшим сюда ветерком да дождями с грозами. Ворон облетает стороной это место, посылая печальный пеленг-клич, изредка донесется крик кукушки или стремительное морзе дятла, и опять воцаряется тишина, заполненная ливнем солнца. Оно здесь особенно яркое и одухотворенное. Необычность солнечного света осознал сейчас каждый из стоящих здесь людей. Каждый по-своему. Сергей Климов понимал, что это освящаются не иссякнувшие контакты погибших с Разумом. Видел это сияние Матвей и раньше, но теперь понял, что это непростое отражение солнца от светлой зелени молодняка, а нечто большее – неведомая ему сила, поражающая носителей зла. – Сережа,– не выдержал продолжительного молчания Матвей,– что же, все-таки, там происходит? Сергей некоторое время не отвечал, собираясь с мыслями, затем, обращаясь к шоферу, сказал: – Шел бы ты, дружок, в Листвяжный да вызвал из района, а лучше всего из города медиков, желательно психиатров, а я тут попытаюсь ответить на заданный вопрос. –Не понял,– отозвался шофер,– кто же меня послушает, и с чего бы это я вызывал психиатров? – Ну, что ж, оставайся с директором леспромхоза, а я с братом отправлюсь в поселок и выполню эту миссию. Но не успел Сергей закончить фразу, как слева от них, метрах в пятидесяти в молодом лесочке раздались крики, закачались верхушки кедрушек, и все бросились в том направлении, не углубляясь в лесок. Через минуту на четвереньках, словно увязая в невидимой клейкой массе, постоянно отмахиваясь от чего-то, из леса выполз телохранитель Горина. – Что с тобой случилось, Семен?– подхватывая товарища, спросил шофер.– Где шеф? – Он там, он там!– сотрясаясь всем телом, махал рукой Семен.– Со мной творится что-то невероятное, но я успел повернуть назад и вернуться, а с ним случилось… Он, он… того, его надо выручать. – Но это твоя задача! – страшась неизвестности, воскликнул шофер. – Я не владел своим телом, я упал и с трудом смог подняться!– вскричал Семен.– Но странно, теперь я снова чувствую свою силу. Что происходит? – Вы носитель зла, и происходит то, что должно произойти,– сухо сказал Сергей.– Теперь вы убедились, что людям требуется медицинская помощь и отправитесь в поселок? – Да, тут творится что-то странное,– недоумевая, сказал шофер. – Мы пойдем вместе, – решил Еремеев. – И чем быстрее, тем лучше, пока контакт с космосом окончательно не поразил наших носителей зла. – Я попытаюсь все же вынести Горина из этого проклятого места,_ заявил телохранитель. – Священного места! – жестко поправил его Сергей.– В ложбине покоится прах десятки тысяч замученных и уничтоженных ни в чем не повинных жертв. Двое палачей находятся там! Пошли, брат, к нашему биваку, я отвечу на твой вопрос. Через минуту Климовы остались вдвоем и вернулись назад, где на углях потухшего костра стоял котелок с чаем. Матвей налил ароматного напитка в кружки, не спеша, отхлебнул глоток, приготовился слушать Сергея. Все та же тишина и покой окружали братьев, и негромкий голос Сергея звучал отчетливо, но таинственно. – Прах, что покоится под корнями этого молодого леса, я тебе уже говорил, многих тысяч наших соотечественников. Списки фамилий уничтожены, но по крупицам удалось установить, что в лагерях смерти под Листвяжным находились в основном ученые, писатели, актеры, музыканты, инженеры, словом цвет нашей нации. Их творческий потенциал был высок, то есть контакт с Разумом Вселенной был широк и прочен. Даже в неволе, на краю гибели, эти люди мыслили, то есть постоянно контактировали с Разумом, но обратные импульсы не доходили до конкретного носителя контактов: людей уничтожали, и последнее, что желали несчастные – это жажда мести. Их импульсы уходили во Вселенную. С гибелью простого человека, у которого контакт с Разумом незначительный, он обрывается сразу же. В данном случае произошло иное. Импульсы жертв были настолько сильны, что Разум посылал и посылал на Землю ответные. Так образовались аномалии невостребованных контактов мести. – Носители зла, какими бы они ни были, великие или рядовые люди, тоже имеют контакты с Разумом, тоже черпают оттуда информацию и душевные силы для исполнения своих замыслов. И вот трое из них с огромным багажом зла попали сюда, в мощные аномалии мести. И что мы видим? Невостребованные импульсы настолько сильны, что они поразили личные контакты с Разумом каждого из этих негодяев. Иными словами, приемник контактов – мозг, а вместе с ним и остальная нервная система утратили свои функции в управлении организмом. В данном случае это вылилось в безумие. И чем дольше человек там будет находиться, тем безнадежнее его положение. – Как же, Сережа, на кладбищах с людьми ничего не происходит?– осторожно спросил Матвей. – На кладбищах нет аномалий. Там похоронены люди умершие своей, естественной смертью. Обессиленный болезнью, старостью, человек нуждается скорее в прощении за свои неправые поступки, то есть за грехи и не помышляет о мести. Только немногие жаждут ее по тем или иным причинам. Но контакт умирающего человека с Разумом обрывается еще на его смертном одре. Здесь же, на этой земле,– Сергей широким жестом окинул лежащую впереди падь,– происходило насильственное умерщвление сильных духом людей, не погребенных в отдельные могилы, а сваленных, как груды камней, в ров. Ты приглядись, Матвей, рвы эти не трудно обнаружить. На их месте деревья поднялись гораздо выше. – Верно, Сергей, верно. Вот он ответ! – Матвей надолго задумался. Ощущение необычайного прикосновения к тайным силам природы не то чтобы пугали его, Матвея трудно было чем-либо напугать, но здесь было иное, неизвестное, ни с чем не сравнимое чувство одухотворенности от познания мироздания и принадлежности к нему самого человека. – Так что ж, выходит у меня тоже есть контакт с Разумом Вселенной!– негромко проговорил Матвей трагическим голосом. – Конечно, у тебя он выходит за рамки обычного. Диапазон широк. Суди сам: ты талантливый, незаурядный охотник. Свое ремесло ты возвел в искусство и помощник тебе – Разум. – Чудно ты объясняешь! – воскликнул Матвей, – я верю в то, что есть Всевышние Силы, способствующие удаче человеку или наоборот. Моя удача связана с кровью дикого животного, зверя. Для человека это естественно: добыча продукта питания. Но как же можно назвать удачей дела человека, которые связаны с кровью и страданиями другого человека и не одного, а многих и многих? – Потому и существует вечная борьба противоположностей. Разум Вселенной велик. Там сконцентрирована вся информация о жизни и ее развитии. Человек, при помощи установившегося контакта, получает ее в том объеме, какой может переработать мозг. Происходит накопление информации, человек открывает законы природы. Информация побуждает человека творить добро и зло. Добро сильнее зла, но слабость добра в его доброте. Ты был готов поверить в обещания наших недругов, простить их. Верно? Но продолжим нашу тему. Человек может управлять контактом в своих целях: в это Разум не вмешивается, он предоставляет человеку самому решать, как ему поступить. У каждого свой контакт, и человек живет в его диапазоне. Но поскольку главенствующее добро – жизнь, добро управляет процессами жизни на земле, сокращает действия носителя зла, наказывая смертью. – Разве смерть не главное зло? Любая жизнь заканчивается смертью. –Ты прав. Но смерть может и отступить под натиском добра. Не будь самой жизни – не будет и смерти. Не каждая смерть является несчастьем. Смерть старца, смерть злостного убийцы. Смерть Сталина и Берия. В данном примере и естественная и насильственная смерть – благо для народов. Или безумство твоих и моих противников? Они сами пришли к своему наказанию. Мы же с тобой вышли из лесочка в здравом уме и невредимы. Братья надолго умолкли под впечатлением сказанного и услышанного. Солнце перевалило зенит, и даже в тени леса чувствовалась жара последнего июньского дня. Сергей с наслаждением слушал тишину, он выполнил все, что задумал по этому делу. Все свершилось по справедливым законам Всевышнего Разума, если они существуют, а если нет, то по законам сотворенными человеком – зло наказуемо. – И все же мне непонятно,– неожиданно спросил Матвей,– откуда тебе стало известно о сыне Толстикова, ведь ты был все время в тайге, со мной? Или ты взял его «на пушку»? – Это предположение, но все произошло именно так, я уверен. Там работают мои надежные сторонники. – И все же я боюсь за наших детей, особенно за Таню. – Не тревожься, Таня в безопасности. Я спросил директора леспромхоза, не слышал ли он сегодня утром об аресте Лесковой. Он ответил утвердительно. – Как, Таню арестовали?– вскричал Матвей. Сергей Петрович в ответ расхохотался. *** В жизни Сутулого было много драматических страниц. Писал он их различным стилем: мрачным и грубым, витиеватым и корявым, прозаическим и поэтическим, но чернила были замешаны всегда на одном и том же: слезах и крови сограждан. Это он понимал, и понимание было главной чертой характера человека, постоянно исполняющего чью-то волю. В конечном счете, это была воля государства, заботящегося о нравственном здоровье своих подданных. В отличие от Климова, с которым Сутулый сейчас ведет войну, попав в исполнительный механизм государственной воли, не принадлежал себе и не боролся за свои интересы. С такой точки зрения ему не надо выбирать средства для исполнения воли, а лишь применить свое умение, а те сомнения в правильном или не верном выборе, какие преследуют человека, способного бороться за свои интересы, отсутствовали, что придавали Сутулому дополнительные силы, какие дает уверенность в своей безошибочности. Поэтому он не сомневался в своем успехе, в душе ругал идиотов, из-за которых ему пришлось, совсем не напрягаясь, немного поохотиться за девчонкой. Зная, каким кумиром у криминалистов слывет Климов, он понял, что цена кумиру грошовая: те, кто лепил его – местные головотяпы – не могут справиться с таким хлипким заданием, как поимка девчонки. Значение Климова в глазах Сутулого поблекло, вес его превратился в песчинку. Сутулый еще раз убедился, что тот государственный институт, которому он служит – правый и могучий, а климовские личные интересы – зло и беспомощность. Слезы этой девчонки, стиснутой на заднем сидении двумя мужиками, просто легкая плата за его небольшие усилия, они его не трогают. В Предгорном, пропуская вперед девчонку в небольшой вестибюль отделения милиции, он приказал дежурному срочно вызвать Косихина, чтобы тот в его присутствии допросил Лескову. Затем он покинет это здание. За Косихиным съездили на дежурной машине. Злой и раздраженный, никого не видя и не слыша, следователь прошел в свой кабинет и стал ждать, когда приведут Лескову. Косихин тупо изучал свой стол, Сутулый надменно, с застывшим сарказмом на губах, смотрел на удачливого, как ему сказали, капитана. Косихин набрался мужества и молча выносил пытку. Он не хотел объяснять этому наймиту обо всех перипетиях судьбы насильников, в частности Толстикова, чем был не мало обрадован, но потрясен начальник отделения Гаврилов. Наконец дверь отворилась, и дежурный сержант ввел в кабинет девушку. Косихин поднял голову, глянул на девушку, задрожал, губы его посинели, и из него прорвалось бешенство: – Сержант, вы кого мне приволокли? Вон отсюда! – Лескову, товарищ капитан, переданную мне из рук в руки вот этим сотрудником. Косихин рассмеялся в лицо Сутулого с таким наслаждением, что у того нервно задергалась бровь, и он готов был вскочить и врезать капитану про меж глаз. – Может это и Лескова, но не Татьяна! Ты кто?– нежно спросил Косихин, обращаясь к девушке. – Лескова Людмила,– то бледнея, то краснея, ответила девушка. – Х–х–э! – с силой рубанул кулаком по столу Косихин, как по кирпичам, отчего столешница проломилась.– А я что говорю, товарищ майор? Я Татьяну лично допрашивал. – Чушь! Комедия!– неуверенно выкрикнул Сутулый, глаза которого вылезли из орбит от позора.– Я вам не верю. Зовите сюда опера, он ездил со мной. Он подтвердит. – Что подтвердит? – устало сквозь слезы радости спросил Косихин.– Подтвердит, что это Людмила Лескова, двоюродная сестра Татьяны и весьма схожая обличьем? Валяйте, сержант за лейтенантом Лесковым. Так что вам придется извиниться перед девушкой и отвезти ее назад! Или ваше ведомство не извиняется? – Не берите на себя много, капитан! – зашипел Сутулый. – Да уж, куда больше! Такую телегу хотели запихать на мой горб! Там же весь поселок борется за Татьяну Лескову, весь народ партизаны! Его весь надо привлекать в таком случае! Весь народ, майор! Вы этого хотите?– Косихин был чрезвычайно возбужден, и если бы не его солидность, он наверняка бы заплясал от счастья в лицо этому наймиту. Сутулый, не отвечая, повернулся к выходу, сделал два неверных шага к двери, взялся за ручку и почувствовал, как дрожат у него руки, а стена вместе с дверью пошатнулась. Но он удержал стену и дверь от падения, шагнул в полутемный коридор, с ненавистью захлопнул дверь кабинета ничтожного следователя Косихина, который каким-то чудом оказался прав и сейчас вместе с партизанским народом ненавистного поселка празднует победу. Сутулый мог бы проклясть Косихина, эту негодную девчонку вместе с народом, а заодно Горина, подлеца Климова, подстроившего все это, но он не верил ни в Бога, ни в дьявола, а потому его проклятие не имело никакого смысла. Более того, он почувствовал, как вера в самого себя исчезает, растворяется в его сознании, как мышь, попавшая в серную кислоту, и уж ничто не может остановить разложение тела. Ему казалось, что еще шаг в полумраке этого здания, и он сам упадет в огромный сосуд с серной кислотой и ничего-то от него не останется, даже праха, который и похоронить-то нельзя. Гонимый позором из этого здания, он кинулся по коридору, сбежал по короткой лестнице, промелькнул мимо дежурного на улицу и исчез в темноте, нащупывая под мышкой кобуру с холодной сталью пистолета. До околицы недалеко, он дотянет, решимость его не умрет. У него никого нет – ни жены, ни детей. Зачем жить в позоре. Глухой хлопок пистолета никто не услышал в сонном Предгорном, а главное – не услышал Косихин. От таежной избушки Матвея Климова утром отбыли трое и взяли направление на северо-запад. Первым шел пожилой мужчина, ведя на поводе лошадь, на ней два наездника. Первым была девушка. Она сидела боком на подостланной на седло подушке, обхватив руками шею второго седока, спала, покачиваясь в такт лошади. Вторым восседал парень, который в свою очередь обхватил руками девушку. Правую ногу юноша поставил выше стремени, и подушка, поддерживаемая его ногой, создавала удобное ложе для спящей, голова которой покоилась на правой руке наездника. Стоило ему слегка наклониться, как он с наслаждением тонул в пышных волосах своей спутницы. Бесшумный и ровный шаг лошади не беспокоил девушку. Лошадь спокойная, низкорослая, обученная верховой езде с вьюками. Она лишь иногда всхрапывала от поднимающегося зноя да мотала головой, сбивая слезу с глаз, да назойливых мух. Переход в полтора десятка километров, по таежным меркам, сущий пустяк. Для Ивана Лескова, легкого на ногу, не смотря на годы,– прогулка. Но в седле находился больной человек. Таня в любую минуту могла проснуться, испугаться и каковыми станут последствия, сказать трудно. Потому Иван и Андрей долго решали, как везти Таню? Верхом – не годится, сонная, упадет. Стали сооружать что-то вроде люльки – не понравилось Андрею. Вот и решили: ехать верхом, и на коленях, а то и на руках, держать Таню. Благо, тайга в этих местах Ивану знакома: по бруснику, по чернику, да по грузди хаживал. С Матвеем белковал, соболевал. Не должен сбиться с пути. Тропа приметная, на климовский солонец ведет. Сорного леса тут почти нет. Листвяг да сосна с кедром. Мхи скрозь, брусничник, местами богатая завязь ягоды. Кисточки с беловатыми пупырышками выметаны густо-густо. Жди урожая. Торбы три-четыре вынесет нынче Иван из тайги бруснички. А торба у него – трехведерная. Можно лабаз поставить. Ему, пенсионеру, куда время девать. Наберет в запас, пусть родичи вывозят заготовленное. Царь-ягода зимой желанна на столе в каждой семье… «Ну, да будь она неладна,– увлекся Иван мечтами, – Андрейка кричит, велит держаться левее, на скос идти, близко уже». Иван повернул на убегающую вниз узкую тропу, и ветви гуще заслонили им путь. Иван тревожно заоглядывался: как там будет изворачиваться от ветвей Андрей. Танюшка, бедняжка, не проснулась бы, она все еще принимала снотворные и микстуру, выписанную фельдшером, но улучшения не наступало. Иван тяжко вздохнул. Кабы не Матвея брат, не повез бы он сюда дочку. Но убедительный человек этот Сергей, сильный, уверенный. Согласился с ним Иван. *** Путников ждали с нетерпением. Матвей дважды разогревал на костерке чай, выходил навстречу, прислушивался. И когда в просвете деревьев они появились, Климовы одновременно вскочили, бросились навстречу. Матвей бережно принял Таню из рук сына, опустил на разостланный плащ под кедрушками, вгляделся в бледное лицо девушки, удрученно качнул головой. Андрей соскочил с лошади. Прошелся, разминая затекшие ноги. – Как добрались? – спросил Матвей Ивана. – Беспокойно, но без происшествий. Ноги вот отмотал,– сказал Иван,– годы. Ну, да ничего. Ради дочки к черту на кулички пойдешь! –То-то и оно, Ванюша, дети! С дороги отдохни за чаем. Иван взял поданную Матвеем кружку с чаем, опустился на траву. Сергей налил чаю племяннику, который сидел рядом с Таней, молча поднес кружку. Андрей жадно принялся пить, осматривая величественную картину знакомой балки. Ослепительное солнце играло на бесчисленных иголках кедрушек и Андрею казалось, что видит и слышит льющуюся с неба таинственную светомузыку. Зашевелилась и внезапно проснулась Таня и спросила: – Где я? Она повернулась, увидела родное лицо отца, и вновь спросила: – Папка, где я? – Ты в хорошем месте доченька. На прогулке,– ответил отец. Таня долго смотрела на прекрасную панораму кедровника, открывшуюся с опушки, на лучистую зелень и в ее глазах засветились изумрудные огоньки. Таня несмело улыбнулась. – Как ты себя чувствуешь, Таня? – мягко спросил Матвей. – Я только что проснулась, мне бы умыться из родничка. – Родничок за кедровником, он вытекает из-под скалы. Идемте вместе к родничку. – Как хорошо здесь, свет необыкновенный и словно музыка играет,– сказала Таня, поднимаясь, все еще не обращая ни на кого внимания, хотя Андрей находился рядом с ней. – Я тоже слышу музыку, Таня,– сказал Андрей. Таня ничего не ответила, но впервые пытливо посмотрела на него и потянулась к стоявшему рядом отцу. – Пошли, дочка, к родничку умываться,– сказал отец и повел ее за руку.– Мама хотела с тобой пойти, да больно дорога дальняя. Они вошли в кедровник. Впереди Сергей, следом Андрей, Таня с отцом. Шествие замыкал Матвей. Они шли спокойно и ветви кедрушек касались их тел. Приятно было ощущать прикосновение иголок к голым рукам. Иголки ласково щекотали, и Таня рассмеялась. – Какие чудесные деревца, какие пушистые веточки и нежные иголочки! Андрюша, ты чувствуешь их ласку? Это было первое осознанное обращение к Андрею за последние дни, парень вспыхнул радость и, оборачиваясь к Тане, воскликнул: – Конечно, Танечка. Сейчас мы подойдем к родничку, ты умоешься и напьешься. Путники спустились в лог, туда, где с левой стороны из земли выпирала небольшая скала. Под ней действительно бил хрустальый родничок, скатываясь по камешкам, пропадая в нескольких метрах ниже, во мхах. Сергей первым остановился, приглашая девушку подойти к родничку. Он смотрел на тихо звенящие струйки, и ему казалось, что это слезы бывших узников, скопившиеся за долгие страдания и выплескивающиеся наружу. Он зачерпнул ладонью струйку и поднес к губам. Вода оказалась жгуче холодной и солоноватой, и впрямь как слеза. – Родничок, – воскликнула Таня,– ты живой! Сейчас я умоюсь и припаду к тебе губами! Девушка присела у родничка, зачерпнула в ладони прозрачную прохладу и плеснула в лицо. Потом еще и еще, освежая себя живительной водой. Брызги летели в разные стороны, искрились на солнце, попадая в стоящих рядом мужчин. Таня была уже мокрая, но продолжала плескаться как завороженная. Наконец, сделав пригоршню лодочкой, она бережно зачерпнула, добрую порцию воды и с наслаждением выпила. Одной лодочки ей показалось мало, и за первой последовала вторая, третья. – Какая прелесть эта водичка!– весело сказала Таня.– Папа, Андрюша напейтесь и вы этой живой воды! Она поднялась, уступая место у родника, окинула взглядом лес. – Как хорошо здесь, мне кажется, что я много раз бывала у этого родничка, а ты, Андрюша? – Танюша, ты узнаешь меня, какое счастье! – воскликнул Андрей. – Андрюша, почему ты меня об этом спрашиваешь?– вдруг нахмурилась Таня, и глаза ее затуманились. – Нет-нет, дочка, ничего такого Андрей не спрашивает. Так он, не подумавши. А ты бы еще водички выпила,– всполошился Иван. – Спасибо папа, ты напейся, и он то же,– указала Таня на Андрея. – Мы счас, мы счас,– заторопился отец, видя изменение в настроении дочери, и припал к родничку.– Ты права, дочка, какая вкусная водичка, живая она, видать. Где моя фляжка, дай-ка я наберу ее полную. Иван отстегнул висящую на поясе фляжку, вылил из нее воду, погрузил в родничок. Таня стояла рядом, хмуро наблюдала за действием отца. Когда фляжка наполнилась, потребовала: – Отец, отвези меня домой к маме. Я ей расскажу о том, как здесь хорошо, как я умывалась, как пила воду. Андрей пусть ко мне пока не приходит. Потом, позднее придет, ладно? Только пусть на меня не обижается. Хорошо? После этих слов девушка шагнула в обратном направлении. Климовы многозначительно переглянулись. – Как пожелаешь, доченька,– торопливо ответил отец.– Пошли, я отвезу тебя домой. Иван кинулся вслед за дочерью, глянув на Андрея и братьев Климовых. Мол, что-то происходит с дочерью… Сергей в ответ понятливо откликнулся взглядом и тихо сказал брату и Андрею: – Похоже, последние действия Тани осмысленные. Прогулка и родничок пошли на пользу. – Я думаю, пожить бы ей тут надобно с недельку в кругу семьи, с матерью и сестренкой. В палатке.– согласился Матвей. – Верная мысль, – поддержал брата Сергей.– Ты ее Ивану выскажи. Глядишь, на природе вдали от людей зарубцуется рана. Иван Лесков едва поспевал за дочерью, которая проворно шла меж кедрушек. – Папка, не отставай,– просила Таня, – поторопись. Скоро вечер. – Куда мне, дочка, за тобой угнаться. Успеем до темноты домой добраться. Серко – лошадь справная. Сядем верхом и – пошел. Иван оглядывался, не идут ли Климовы. Сказать бы им надо, что, не мешкая, отправится он с Таней, да ладно, понятливые они люди. Счастье иметь в друзьях таких. Спасибо Сергею за дочку. Вон как домой торопится, говор у нее правильный, не бессмысленный, каким был еще вчера. У Ивана навернулась на глаза слеза счастья. Он смахнуть ее хотел, да остановил руку. Слезы счастья не смахивают. Они должны оставаться при тебе. Глава двадцать первая Сергея Петровича Климова вызывал сам хозяин. Сергей знал, что ковра ему не миновать, а потому давно приготовился отвечать и ничего не боялся. Обвинить его в том, что генерал Ломов, Горин и Толстиков с охоты попали в психбольницу совершенно в невменяемом состоянии, никто не мог. «Да, он вместе собирался с ними поохотиться. Да, он жив, здоров, а у этих что-то с рассудком. Но почему это обстоятельство пытаются поставить ему в вину?» «Вам это не понятно, полковник? У нас есть сведения, что вы были заинтересованы в таком исходе». «Я, как профессионал, был заинтересован в том, чтобы преступление против Лесковой было раскрыто, а преступники понесли заслуженное наказание. У вас на руках есть протоколы судебной медицины, в которых сказано, что ни физического, ни наркотического воздействия против высоких пострадавших персон не применялось. Они, правда, выпивали, я – нет». «Все верно, но кто кроме вас может связно объяснить: что же произошло в том таинственном лесе?» Все эти и другие вопросы были заданы Климову в комиссии, созданной по расследованию чрезвычайного происшествия с высокопоставленными руководителями. На руках у членов комиссии был подробный рапорт Климова о трагедии Лесковой на берегу Громотухи. Причем, в рапорте имелись копии свидетельских показаний шофера автобуса, трех пассажиров, подтверждающих, что Лескова вышла из автобуса, не доезжая до развилки, собираясь идти пешком в Листвяжный по броду через реку. В комиссии насчитывалось около десяти человек, и создавалась она по указанию второго секретаря в то время как первый находился в Москве. И вот он вернулся, приостановил всякое разбирательство и потребовал к себе Климова. Жаркий июльский день подходил к концу. Но зной все еще держался над городом и зловонные испарения от растопившегося на солнце асфальта вместе с выхлопными газами тысяч автомобилей, проносившихся по проспектам, мешал свободно дышать и мыслить. Воля человека раскисала, как тот асфальт, и ощущение зыбкого несовершенного мира усиливалось вместе с растущим недоверием к жизни и ее идеалам, погрязшей в суете осознанного властолюбия и жестокости, и вместо реального взгляда на действительность наплывает призрачная потусторонняя фантазия с некоторыми уродливыми, но ускользающими гранями. Что как не Всевышние силы способны рассеять смуту в твоем сознании, привести в соответствие ускользающую истину? Но хотя ты знаешь, что тоя истина – это твоя плоть и твое сознание, но понять такое обстоятельство дано не каждому, потому что тебе необходимо доказывать это, умирая – воскресать, собирать всю свою выдержку и волю, а получится ли это у тебя? Можно найти решение проще: отказаться от своей истины, как это делает множество людей… Вот в таком размышляющем состоянии Климов поднимался по лестницам огромного здания, шел по коридорам с ковровыми дорожками мимо монументальных фигур милиционеров, неизвестно что сторожащих, возможно тишину и прохладу, в которых нуждается поселившаяся на высоких этажах власть. Когда Сергей Петрович вошел в приемную, помощник тут же провел его в кабинет. Это сразу же встряхнуло Климова, он понял, что хозяин его ждет, и разговор будет важным, трудным, но для него безопасным. «Неужели пришла депеша, о содержании которой он уже знает, и с нетерпением ждет?» Кабинет первого секретаря мало, чем отличался от генеральского. Та же ковровая роскошь, то же обилие столов и стульев. Только вот библиотека побогаче: кроме сини томов классиков марксизма-ленинизма, пылились здесь и советские классики художественной литературы, зарубежные прокоммунистические писатели. Главной рабочей достопримечательностью кабинета – огромный, шагающий в настоящее портрет Ленина. И слова поэта-гиганта: «Я себя под Лениным чищу». «Какой фарс!»– подумал Климов, проходя в глубину кабинета. Климов знал, что эта фраза, ставшая любимой у коммунистов, поселилась здесь давно. Приемники кабинета не осмеливались убрать ее, как бы она наивно не выглядела в современных условиях, а все потому, что для каждого из них преемственность была святая святых, и то, что каждый хозяин этого кабинета хорошо кончал: или его отправляли с почестями на пенсию, или уходил в Кремль. И хотя из них никто не верил во Всевышние силы, а вот в приметы – верили, и сторожащая их строка поэта, обречена на бессмертие. «Какой фарс!– повторил про себя Климов. – Впрочем…» Мысли его прервал возглас: – Заставляешь себя ждать, полковник. – Здравия желаю, Николай Павлович! – ответил приветствием на упрек Климов. – Проходи поближе, вот сюда, садись. Разговор у нас с тобой будет долгий,– он протянул Климову руку с толстыми волосатыми пальцами, мягкую и горячую. Климов почувствовал энергичное пожатие. «Мягко стелет », – быстро подумал Климов. – Оставь нас одних,– махнул Николай Павлович помощнику, когда Климов уселся в мягкое скрипучее кожаное кресло, не дожидаясь, пока тот выйдет, продолжил.– Хорошие вести я для тебя привез, полковник. Николай Павлович подался вперед, пристально посмотрел в глаза Климову и, видя, как насторожился собеседник, весело и даже как-то азартно засмеялся, затем несколько подозрительно спросил: – Может, я ошибаюсь? Привык ты тут у себя дома. Король. А там другое дело, там другая обстановка, а? Что молчишь? – Поживем – увидим, Николай Павлович. – Философ! Ты посмотри на него, философ, да и только! Я не хотел тебя отдавать, боролся. Но!– Николай Павлович широко развел руки в сторону, его басок приобрел нотки разочарования.– Но через две недели будешь в Москве. Понял? – Так точно, Николай Павлович. – Брось ты свое «так точно», полковник, не у генерала в кабинете. Ничего ты не понял, ты только услышал, я хотел, чтобы ты все понял. Если все же до тебя дошло, то теперь расскажи, как ты умудрился генерала угробить? Да не одного? Как посмел? – в голосе Николая Павловича зазвучали металлические нотки.– Мне надо понять твою сущность. Кто ты есть: часть волны, что пошла по стране, или так, случайность, защита личных интересов? Признаться, Климов не ожидал такой постановки вопроса, хотя тщательно готовился к встрече. Он глубоко задумался, и после паузы, медленно выговаривая слова, ответил: – Нет, Николай Павлович, не случайность, это принципиальная позиция. Я хочу, чтобы закон уважал не только народ, но и начальники. И коль вы так ставите вопрос, то дерзну подумать, что действия Ломова в данном вопросе для вас не явились неожиданностью.– И, видя по глазам согласие собеседника, уверенно продолжил.– Теперь, пожалуй, все на своих местах, а мой рапорт… – Твой рапорт,– наморщил высокий лоб собеседник,– иным он и не должен быть! В нем же ни строчки о противоправных действиях Ломова и Горина. Это умно. Ты мне расскажи, что там случилось на самом деле? – То и случилось, что в рапорте,– стоял на своем Климов. – Ты подожди! Не думаю, что такой сыщик, как ты, не знал, что из себя представляет тот лесок, и какую связь с ним имели Ломов и Толстиков?– Николай Павлович пристально посмотрел на Климова, который спокойно выдержал его взгляд.– Не стихийно же они оказались там? Мужики возбудились, узнав те места. Допускаю, жутко им стало, психика не выдержала: не на сухую же они там ходили! Воспоминания, алкоголь сделали свое дело с Ломовым и Толстиковым. Допускаю. Но Горин, Горин! Он же не связан с репрессиями, знал, конечно, о могиле братской, о лесочке, допускаю. Но почему и он свихнулся? Это же уму непостижимое ЧП! Наконец, чья идея встретиться именно в том лесочке?– Николай Павлович возбудился, на его широких залысинах выступили капельки пота, и он полез в карман за платочком, принялся вытирать высокий лоб и залысины, ожидая объяснения Климова. – Пострелять мужики захотели. Как-никак старые товарищи. Разве плохо за шашлыком из дичи решить все наболевшие вопросы? Солонцы там богатые, наверняка бы охота состоялась удачная, да вот не вышло. Но не белая горячка тому виной, и совесть не замучила их, а скажу так: удар получен из космоса, небесный. – Ты в своем уме, полковник?– изумился от этих слов Николай Павлович. – Не торопитесь с выводами, Николай Павлович. Все трое – носители зла – они покушались на честь и жизнь невинной девочки. Я уж не говорю о прежних преступлениях. Их безумство заслуженное – кара Всевышнего! Мои слова подтверждают дальнейшие события. Прибывший главный психиатр города и его санитары, телохранитель Горина бросились спасать заблудших, но подверглись ударам существующей там неизвестной аномалии. Кому, как не вам знать, сколько загублено в нашей психушке здоровых мужиков при участии медицинского чиновника? Между тем я предупреждал психиатра о грозящей ему опасности, но он только посмеялся над моими словами. И смеется до сих пор в прямом смысле слова. Но прошу заметить и другое: Таня Лескова была опасно больна, ее психика нуждалась в длительном исцелении, и вряд ли бы это удалось сделать нашим врачам. Но ее привезли на страх и риск в тот лесок и свершилось чудо – к Тане вернулся рассудок, это главное. Но зарубцуется ли у нее в сердце рана, нанесенная насильниками? Николай Павлович сидел хмурый. Он давно бы оборвал многословие полковника да так, что тот онемел бы на несколько дней. Но невероятные жертвы происшествия существовали, и это сдерживало его от окрика. Если о первой троице он мог подумать грязно – лишились рассудка на почве пьянки и страха, то главный психиатр был совершенно трезвый. Что же, все таки произошло, неужели надо верить бреду Климова? Однако не мистика полковника тревожила сейчас Николая Павловича, а волна противоборства, нет, он не хочет сказать, против беззакония, это слишком громко, против тех нарушений законности, которые совершают высшие чины общества. Его беспокоило обстоятельство: как же могло провалиться пустяковое дело, и он лишился сразу нескольких крепких свай, на которых держится весь храм местной власти. Сейчас он не располагает данными, кто поддерживает Климова, но наведет порядок в собственном доме. Климов не одинок, хотя такому ассу провалить дело не проблема. Он – часть этой волны протеста, а возможно эпицентр в его городе. Климов хитер, дальновиден, уходит из-под удара, чтобы самому наносить его. – Хорошо,– как бы, придя в себя от страшной информации, сказал Николай Павлович с некоторой меланхолией в голосе,– кто, по-твоему, может получить удар в том леске? – Все носители зла. – То есть – убийцы? – Не только. Психиатр никого не убивал, но он руководитель, опора властной структуры, которая все чаще идет на конфликты с народом. – Интересно излагаешь, полковник. С генералом и Толстиковым все ясно. У этой старой гвардии руки в крови по локоть. Но они – ценные кадры. Они умеют выполнять приказы без рассуждений. – Конечно, особенно когда рыльце в свежем пушку. – Ты имеешь ввиду убийство прокурора? Ничего себе, свеженина! – Так вы знаете?– вскричал изумленный Климов. – Нет. Я только пришел к выводу, когда оказался в этом кабинете хозяином. Но и ты, я вижу, знаешь имя убийцы? – в свою очередь удивился собеседник. – Да, это Ломов, теперь у меня есть доказательства, но увы, уже слишком поздно. Буквально десяток дней назад он выдал себя. – Неужели ты рассчитывал его взять?– усмехнулся Николай Павлович. – Мне одному не под силу. Только с вашей помощью. – Ну-у, я тебе плохой помощник. Не думаю, что у него не было запасного варианта. – Был. Мой брат-близнец. Клинок принадлежал нашему деду. Затем отцу, а владел им в тот год брат. – Вот как! – Николай Павлович подпрыгнул в кресле, встал, высокий, хорошо сложенный, плечистый, несколько потяжелевший, но весьма подвижный.– Давай-ка, по рюмке коньяка пропустим, Сергей Петрович, что-то голова кругом идет. На прощание! Он нажал кнопку на столе, и в кабинет с накрытым подносом вошел помощник, поставил его на столик у стены и бесшумно удалился. Николай Павлович нетерпеливо прошел к столику, налил в рюмки коньяк, сказал: – Прошу! Сергей Петрович, не спеша, приблизился, взял предлагаемую рюмку. Они чокнулись. – За тебя, Сергей Петрович, за твои таланты,– сказал первый секретарь и резко опрокинул рюмку, закусил бутербродом с черной икрой. – Спасибо,– скромно сказал Сергей Петрович и последовал его примеру. Николай Павлович прожевал бутерброд, глядя на Климова, усмехнулся чему-то, налил по второй. – Не отпущу я тебя в Москву, Сергей Петрович, не отпущу. Будешь у меня генералом. Посуди сам, такого человека отпускать! Нет. Мне тоже надо с преступностью бороться, а не только в Москве. Там, видишь ли, бригады создаются. В Узбекистан работать поедут, в Краснодар, на Кавказ. Как ты на это смотришь? Сосватал? Первый поднял рюмку, сделал жест приглашения собеседнику, и когда тот последовал за ним, выпил. – Одна только проблема будет с твоей партийностью, ты же у нас исключение, талант! Ну, да решим ее. – Отца моего, мать мою партия погубила. – Не партия, а сволочи в партии, поправлю тебя, Сергей Петрович. Это очень существенная разница. Но партия вынесла на суд общества ошибки этих сволочей, и ты этого не признать не можешь. – Сложный это вопрос, Николай Павлович. Пью я вот коньяк, а будто вода это – никакой крепости, так у меня нервы напряжены. Вы же знаете мой характер, на ножах жить будем. – И хорошо, что на ножах. Надоели мне холуи, мне настоящего мужика надо. – А что, если это у вас под настроение, или Москва сыграла? – Нет, Сергей, не под настроение. И не Москвы боязнь, хотел ты сказать, да не сказал. А ты говори! К нам пока бригады не направляют, не обнаглели мы, по меркам живем. И с тобой не должны допустить такую бригаду. Ты понял? – Я ответить так быстро не могу. Осмыслить надо. Завтра у меня большое событие – День счастья. Проведу. Тогда и отвечу. – Что это за день счастья? – Десятилетие встречи с женой. Брат Матвей с женой впервые у меня гостят. – Ну что ж, проводи свой день счастья. Ах, как красиво назвать сумел – поэт! Чудесно! Жду тебя на следующий день с ответом, вот так же, в этот час. Понял? Проведешь свой день счастья, поздравления от меня прими, жене передай, а на следующий день ко мне. Понял? Николай Павлович налил в рюмки коньяку, сказал: – Не могу не выпить за такое поэтическое название. Давай, за твой День счастья! – Спасибо, Николай Павлович,– скромно сказал Климов и поднял рюмку. Сухобузимское. Владимир Георгиевич Нестеренко родился на Алтае, близ озера Маркаколь. Первые восемь лет работал на заводах, затем в районных и областных газетах, на студии телевидения, окончил Казахский университет, специальность журналист. Последние пятнадцать лет до выхода на пенсию, работал фермером. Владеет около двадцати рабочими и агротехническими профессиями. В издательствах Тувинской АССР, Красноярска ,Москвы опубликовал ряд повестей, романов, сборников рассказов и сказок, издавался в журналах «УлугХем», «Енисей», в ряде коллективных сборников. Живу в с. Сухобузимское, Красноярского края. _