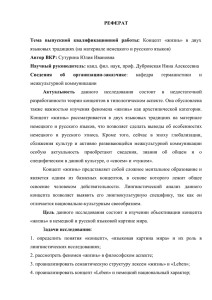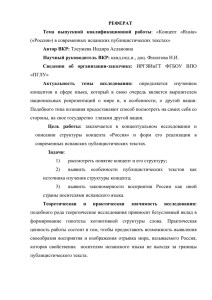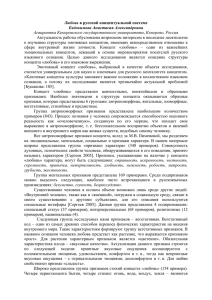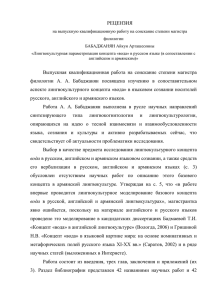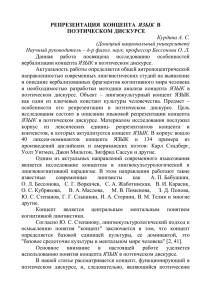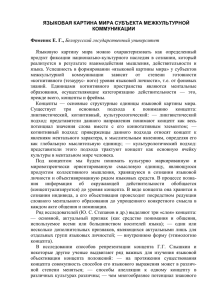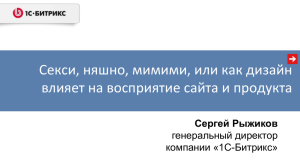Принципы и методы описания языковой картины мира
advertisement
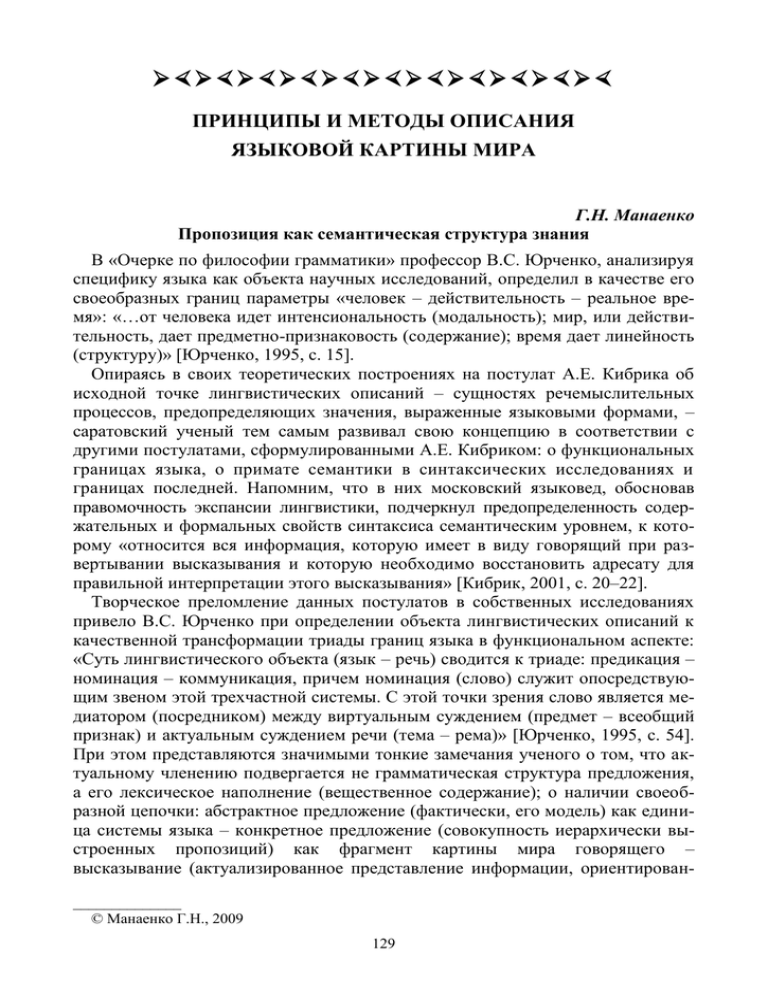
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА Г.Н. Манаенко Пропозиция как семантическая структура знания В «Очерке по философии грамматики» профессор В.С. Юрченко, анализируя специфику языка как объекта научных исследований, определил в качестве его своеобразных границ параметры «человек – действительность – реальное время»: «…от человека идет интенсиональность (модальность); мир, или действительность, дает предметно-признаковость (содержание); время дает линейность (структуру)» [Юрченко, 1995, с. 15]. Опираясь в своих теоретических построениях на постулат А.Е. Кибрика об исходной точке лингвистических описаний – сущностях речемыслительных процессов, предопределяющих значения, выраженные языковыми формами, – саратовский ученый тем самым развивал свою концепцию в соответствии с другими постулатами, сформулированными А.Е. Кибриком: о функциональных границах языка, о примате семантики в синтаксических исследованиях и границах последней. Напомним, что в них московский языковед, обосновав правомочность экспансии лингвистики, подчеркнул предопределенность содержательных и формальных свойств синтаксиса семантическим уровнем, к которому «относится вся информация, которую имеет в виду говорящий при развертывании высказывания и которую необходимо восстановить адресату для правильной интерпретации этого высказывания» [Кибрик, 2001, с. 20–22]. Творческое преломление данных постулатов в собственных исследованиях привело В.С. Юрченко при определении объекта лингвистических описаний к качественной трансформации триады границ языка в функциональном аспекте: «Суть лингвистического объекта (язык – речь) сводится к триаде: предикация – номинация – коммуникация, причем номинация (слово) служит опосредствующим звеном этой трехчастной системы. С этой точки зрения слово является медиатором (посредником) между виртуальным суждением (предмет – всеобщий признак) и актуальным суждением речи (тема – рема)» [Юрченко, 1995, с. 54]. При этом представляются значимыми тонкие замечания ученого о том, что актуальному членению подвергается не грамматическая структура предложения, а его лексическое наполнение (вещественное содержание); о наличии своеобразной цепочки: абстрактное предложение (фактически, его модель) как единица системы языка – конкретное предложение (совокупность иерархически выстроенных пропозиций) как фрагмент картины мира говорящего – высказывание (актуализированное представление информации, ориентирован______________ © Манаенко Г.Н., 2009 129 ной и на слушающего) как единица речи; а также об абстрактном говорящем (с нашей точки зрения, в определенной степени соответствующем третьему участнику диалога в трактовке М.М. Бахтина) как представителе языкового сознания некоторого социума. Идеи, высказанные профессором В.С. Юрченко, оказались вполне созвучными выдвинувшейся в последние годы на первый план деятельностной концепции языка, что подтверждается не только дневниковыми записями ученого: «Язык (предложение) отражает не предмет как таковой. Язык (предложение) отражает явление, структуру явления, структуру “атомарного факта”, как выражается Витгенштейн»; «Предложение – это живой, одушевленный феномен» [Предложение и слово, 2000, с. 3], но и оригинальной трактовкой соотношения предложения и слова как единиц языка: «…в общем и целом, предложение – генетически и логически – первичная единица, а слово – вторичная, однако, возникнув, слово в большей мере представляет язык, чем предложение. Это объясняется специфическими свойствами данных единиц: предложение выражает мысль активную, живую, динамичную (выделено мною. – Г.М.), а слово выражает, в сущности, ту же мысль, но в снятом, фиксированном, как бы законсервированном виде. Слово выражает в виде номинации знание носителей языка о мире – в конечном счете, о реальных предметах и их признаках» [Юрченко, 1995, с. 46]. Необходимо отметить, что данное положение свободно коррелирует с выдвинутыми примерно в то же время идеями о способах репрезентации знаний, которые разрабатывались в русле когнитивного подхода к языку: «Словарь, однако, не может рассматриваться как база знаний, потому что сам словарь не порождает нового знания (выделено мною. – Г.М.). При пользовании словарем изменяется наш тезаурус, но не тезаурус самого словаря: новое знание есть продукт деятельности нашего мозга, словарь же сохраняет лишь то, что уже было туда заложено составителем» [Фрумкина и др., 1990, с. 87]. Понимание слова как номинации знания, ставшего достоянием языкового коллектива, как более «знаковой» сущности перекликается и с бахтинской теорией идеологичности знака: «Знак – явление внешнего мира. И он сам, и все производимые им эффекты, то есть те реакции, те действия и те новые знаки, которые он порождает в окружающей социальной среде, протекают во внешнем опыте» [Бахтин, 2000, с. 155]. Трактовка В.С. Юрченко соотношения слова и предложения в целом поддерживает бахтинскую традицию подчеркивания социальной природы языкового общения: «Вся действительность слова всецело растворяется в его функции быть знаком. В нем нет ничего, что было бы равнодушно к этой функции и не было бы порождено ею. Слово – чистейший и тончайший medium социального общения» [Там же, с. 358]. При определении сущности исходного предложения как грамматической структуры В.С. Юрченко не только слово, но и предложение как единицу языка включает в структуру обобщенного речевого акта (говорящий – слушающий – предмет речи) на основе реализации категории синтаксического лица [Юрченко, 1995, с. 52–53]. Тезис о разграничении абстрактного говорящего (по сути, олицетворяющего конвенциальную, социальную природу значений языковых выражений) и конкретного говорящего (в принципе, раскрывающего созидательную роль человека 130 в акте общения), предложенный В.С. Юрченко, не только вскрывает динамику общего (социального) и отдельного (индивидуального) в процессе порождения и восприятия речи, но и перекидывает мостик к осознанию другой глобальной дихотомии – универсального и национального в языке. Творческий характер познания мира индивидуумом, равно как и языковым коллективом, приводит к закреплению в общественном сознании на основе языковой (речевой) деятельности неповторимого образа мира. Именно таким представляется следствие многих теоретических посылок и выводов саратовского ученого, что опять-таки оказывается в соответствии с параллельно развиваемыми и актуализированными в когнитивных исследованиях теоретическими положениями, берущими свое начало в воззрениях В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни: «Языковые знания суть не что иное, как компонент наивной картины мира данного этноса, закодированный в самой системе языка, то есть в его словаре и грамматике. Действительно, набор грамматических категорий, способ организации лексики отражают специфическое видение мира, присущее языковому коллективу» [Фрумкина и др., 1990, с. 99]. Совмещение же вершин двух исследовательских триад профессора В.С. Юрченко, представленных в его «Очерке по философии грамматики», вне всяких сомнений, достаточно наглядно и непротиворечиво представляет заложенную в основе его научных изысканий диалектику соотношения языка и речи, языковой личности и языкового коллектива, знания как достояния индивидуума и достояния социума. При этом вершина «человек – предикация» иллюстрирует сущность и специфику познания мира индивидуумом, вершина «действительность – номинация» – освоения мира языковым коллективом, а вершина «реальное время – коммуникация» – процесса включения каждого индивидуума в социальное пространство языковой общности. Если говорить о предложении, то к вершине «действительность – номинация», безусловно, можно отнести пропозицию как семантическую сущность конвенционального характера, служащую названием ситуации. Понятие «пропозиция» стало необходимым условием релевантной современному уровню знаний репрезентации синтаксических единиц, и прежде всего простого предложения. Заимствованное из логики в качестве научной метафоры понятие пропозиции претерпело значительную эволюцию в лингвистических исследованиях [см.: Арутюнова, 1976], но до сих пор как в лингвистике, так и в логике термин «пропозиция» употребляется неоднозначно в зависимости от следующих факторов: объема исходного понятия (предложение, высказывание или речевой акт) и способа его расчленения [Арутюнова, 1990, с. 401]. Помимо этого, призванное из логики в лингвистику для систематизации представлений о языке, понятие «пропозиция» должно быть приспособлено к новой области применения и избавлено от инерции соотношений логического понятийного аппарата, на что и обращают внимание лингвисты, но что им не всегда удается преодолеть. Так, Е.В. Падучева в «Семантике нарратива» приводит прагматически развернутое определение пропозиции как общего содержания утверждений, обещаний, предсказаний, пожеланий и желаний; вопросов и ответов, того, что может быть возможным или вероятным, а затем, мгновенно «переместившись» в 131 логику, продолжает: «Пропозиция – это приблизительно то же, что и суждение. Суждением в логике называется концепт (смысл) предложения, которое может быть истинным или ложным... Истинность и ложность – главные интересующие логику атрибуты суждения. В недавнее время было, однако, осознано то обстоятельство, что истинность и ложность не являются неотъемлемыми параметрами суждения: суждение обретает истинность или ложность тогда, когда оно утверждается, то есть суждение – это нечто способное утверждаться (см. [Lewis, 1946]); а вообще говоря, суждение может и не утверждаться, а использоваться, например, как мнение, предположение или как-то иначе» [Падучева, 1996, с. 231]. Этот «скачок» в другую область научного знания потребовался для обоснования очень интересного для лингвистики положения об ответственности говорящего за истинность высказывания. Однако, определяя последнее в качестве признака высказывания как использования предложения, Е.В. Падучева, пожалуй, никак не проясняет лингвистическую сущность пропозиции, оставаясь в пределах ее логического понимания (ср.: «Пропозиция (лат. рropositio) – 1) предложение, высказывание; 2) абстрактное суждение, смысловое содержание некоторого предложения или высказывания» [Логический словарь, 1994]. В то же время Е.В. Падучевой указываются основные контексты, в которых необходимо обращение к понятию пропозиции: «1. Пропозиция – это то, что фигурирует в речевом акте, то есть то, что может быть подвергнуто утверждению, сомнению; то, что может быть предметом просьбы, приказания, пожелания, обещания; то, что остается, если из семантики предложения вычесть иллокутивную функцию <...>. 2. Пропозиция является естественным аргументом модальных операторов (таких как возможно, необходимо) и пропозициональных установок (таких как знать, считать, бояться). Пропозиция (неутверждаемая) является семантическим актантом перформативных глаголов; ср. Прошу тебя открыть окно; Советую тебе пойти к врачу. Пропозицию необходимо отличать от пропозициональной формы, которая содержит свободные переменные и не может быть истинной или ложной» [Падучева, 1996, с. 232]. Конечно же, здесь представлены не контексты, а признаки пропозиции, неявное определение данного понятия, и здесь проявляется неразличение уровня представления объекта: высказывание («то, что фигурирует в речевом акте»), предложение (то, что остается за вычетом иллокутивного потенциала), суждение (п. 2), семантическая структура предложения (п. 3). Вне всяких сомнений, пропозиция в логике и лингвистике обладает чем-то общим, родственным, но все же, как отмечает В.А. Звегинцев, «логика и лингвистика в своих исследованиях языка лишь пересекаются, но никак не следуют параллельно друг другу» [Звегинцев, 1996, с. 66]. Именно поэтому «с лингвистической точки зрения удобнее не проводить различия между пропозицией и пропозициональной формой, или функцией... Иррелевантность истинности / ложности для лингвистических (семантических. – Г.М.) пропозиций имеет своим следствием то, что в таких пропозициях нет никакой информации (курсив мой. – Г.М.) сверх того, что данному предикату сопоставлены данные переменные или термы (= аргументы. – Г.М.)» [Касевич, 1998, с. 59–60]. 132 Так или иначе, в результате преодоления инерции логического и активного применения многими авторитетными лингвистами понятия пропозиции в исследованиях по семантическому синтаксису, его содержание, претерпев некоторые мутационные изменения, обусловленные прежде всего сферой применения, приобрело определенную устойчивость и достаточно четкие дефиниции. Так, в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» Н.Д. Арутюнова определяет пропозицию как «семантический инвариант, общий для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложений и производных от предложения конструкций (номинализаций)» [Арутюнова, 1990, с. 401], соответственно, в учебной литературе: пропозиция – это «объективное содержание предложения, рассмотренное в отвлечении от всех сопровождающих его субъективных значений и от тех особенностей, какие придает ему та или иная формальная организация предложения» [Современный русский язык, 1989, с. 686]. На первый взгляд, подобные определения адекватно представляют семантическую (лингвистическую) сущность данного понятия, но вполне справедливым является замечание И.Б. Шатуновского о том, что эти определения слишком рано впадают в «круг»: «...предложение естественно определить как то, что выражает “мысль”, “пропозицию”, “суждение”... А главное – это определение (пропозиция – это то, что выражается предложением и его трансформами) не является содержательным и имеет демонстративный характер. Таким же “внешним” является определение пропозиции как того, что может быть истинным и ложным, либо как того, что может быть объектом “пропозиционального отношения” – веры, мнения, ожидания, надежды и т.д.» [Шатуновский, 1996, с. 22]. Отсюда следует, что прежде всего надо установить семантические (референциальные, по И.Б. Шатуновскому) и структурные свойства пропозиции. Проанализировав семантическую структуру предложения и его референцию, исследователь приходит к выводу о существовании двух различных по объему смыслах термина «пропозиция»: «Пропозиция в полном и собственном смысле этого слова – это семантическая структура (повествовательного, констативного) предложения, взятая в полном объеме, вместе с компонентом ‘есть’ (в действительности)... В более узком смысле пропозиция представляет собой предметнопризнаковую концептуальную структуру, “структуру, объединяющую денотативное и сигнификативное значения” [Арутюнова, 1976, с. 37], отвлеченную от модального компонента» [Шатуновский, 1996, с. 43]. В отношении первой трактовки необходимо заметить, что это, скорее, не определение пропозиции, а определение пропозиции в предложении (причем справедливое преимущественно для констативов). Такое стало возможным прежде всего потому, что автор формулировки в начале своих рассуждений утверждает, что говорить о современной трактовке пропозиции – значит говорить о значении предложения, хотя далее использует термин «содержание», что, как известно, не одно и то же, и при этом стремится не упустить из виду, что предложение, «хотя и строится из единиц знакового характера (тех же слов), обладает смыслом, который не представляет арифметическую сумму значений составляющих его знаков. Смысл как бы “надстраивается” над ними» [Звегинцев, 1996, с. 169]. На наш взгляд, в результате здесь отмечается специ133 фика пропозиции как компонента семантической структуры простого предложения, подлежащего обязательной предикации и, соответственно, подразумевающего эпистемическую ответственность говорящего (по Е.В. Падучевой), так как, по определению, элементарное простое предложение – монопропозиционально и монопредикативно. В то же время простое предложение может быть и полипропозициональным, как, например, в случае, отмеченном Е.В. Падучевой, когда пропозиция в одной из своих языковых манифестаций может выступить в качестве семантического актанта перформативного глагола, а точнее, предиката как пропозиции. Второе лингвистическое понимание термина «пропозиция», приведенное И.Б. Шатуновским, вполне коррелирует с общепринятыми определениями данного понятия типа: «...пропозиция – это семантическая конструкция, которая образована предикатом с заполненными валентностями» [Касевич, 1998, с. 59]. Возникает вопрос, не является ли в таком случае понятие пропозиции избыточным для лингвистического описания, поскольку языковеды значительно раньше стали использовать также заимствованный из логики термин «предикат» в сходном значении, тем более определяя в настоящее время через него собственно пропозицию. Видимо, нет, так как, во-первых, лингвист может утверждать, что предикат «в общем случае – это пропозициональная функция (иногда, но редко употребляют также термин “высказывательная функция”)» [Степанов, 1998, с. 294], для логика понятие пропозициональной функции близко понятию предиката, но не тождественно ему, понятия же пропозиции и пропозициональной функции не пересекаются [Логический словарь, 1994, с. 196]; во-вторых, в формализованном языке предикат есть n-местное отношение, в естественном же языке валентности предиката заполнены конкретными переменными, а сам предикат предстает как отношение, способное приобретать модальность, что в совокупности переводит предикат в качество пропозиции; в-третьих, «лингвистическое описание пропозициональной функции (или предиката) есть не что иное, как “тип предложения”, “модель предложения”, “структурная схема предложения”. Таким образом, предикаты – это особые семантические сущности языка, и они типизируются не в форме словарных единиц, глаголов, а в форме пропозициональных функций и соответствующих им “структурных схем предложений”» [Степанов, 1998, с. 294–295]. Добавим, пропозициональных функций как пропозиций, предицируемых в предложении. Следует также отметить, что «предикат, лежащий в основе пропозиционной структуры, несет на себе следы структуры конкретного языка. Он обладает определенным, характерным для данного языка лексическим значением, допускающим или запрещающим связь с тем или иным количеством аргументов, или актантов, и регулирующим распределение «ролей» между ними. Пропозиционная структура – это «лингвистический ген, содержащий “генетическую информацию” о способах развертывания предложения» [Звегинцев, 1996, с. 204]. В итоге получается, что если пропозиция, по Г. Фреге, представляла семантическую константу, инвариант, отделенный от вербальных способов его выражения, то в настоящее время в лингвистических исследованиях пропозиция не 134 только вербализована, но и грамматикализована (отсюда интересная и плодотворная теория номинализаций, глубинных и поверхностных синтаксических структур). Как и почему это произошло? Одним из первых отечественных лингвистов понятие пропозиции использовал В.Г. Гак, который отметил: «Иногда, пользуясь терминологией логики, событие, описываемое в предложении, называют пропозицией» [Гак, 1981, с. 66]. Кстати, позднее слово «событие» из определения семантического содержания пропозиции исчезло, и не без оснований, так как в дальнейшем стало использоваться в оппозиции «событие – факт» как более частное представление понятий «положение дел», «ситуация». В общепринятом же понимании, когда пропозиция определяется как семантический инвариант, само предложение представляется как структура, в которой репрезентируется некий «образ положения дел»: «Предложение рассматривается как номинация определенного типа положения вещей, в силу чего за первичное в нем принимается его денотативное содержание, а в основу дифференциации предложений и их классификации кладутся релевантные для носителей русского языка признаки отражаемых предложениями положений вещей» [Володина, 1991, с. 5]. Подобные формулировки вполне согласуются с положениями раннего Л. Витгенштейна: «4.03. <...> Предложение повествует о некоей ситуации, следовательно, оно должно быть существенно связано с этой ситуацией. И эта связь состоит как раз в том, что оно является ее логической картиной. Предложение высказывает нечто лишь постольку, поскольку оно есть картина» [Витгенштейн, 1994, с. 21]. Естественно, возникает вопрос, что же такое «положение дел (вещей)», «ситуация»? И.Б. Шатуновский приходит к следующему выводу: «Это, попросту говоря, “фрагмент”, “кусочек” действительности, мира. Таким образом, сказать, что пропозиция способна описывать “положение вещей”, равносильно тому, чтобы сказать, что пропозиция, в отличие от слова, способна описывать действительность» [Шатуновский, 1996, с. 23]. Следовательно, онтология является исходным пунктом семантического описания, а минимальным компонентом экстралингвистической действительности, который отображается в предложении, выступает ситуация: «Между ситуацией и пропозицией существует отношение полного структурного изоморфизма. Это значит, что признаку ситуации соответствует предикат пропозиции, а партиципанту ситуации – аргумент пропозиции. Количество и характер партиципантов ситуации полностью соответствует количеству и характеру аргументов пропозиции. Под характером здесь понимаются роли партиципантов в ситуации, которые полностью совпадают с ролевыми, или глубинно-падежными характеристиками аргументов пропозиции. Различие между ситуацией и пропозицией состоит в том, что первая есть онтологический объект, а вторая – мыслительный, или логический феномен» [Богданов, 1996, с. 187–189]. Таким образом, в большинстве современных исследований по семантике при определении понятия пропозиции доминирует онтологоцентрический подход: онтологическое «положение дел» детерминирует структуру пропозиции, которая под субъективным воздействием говорящего может быть преобразована в различные языковые выражения: «То, что пропозиция изоморфна ситуации, не 135 должно вызывать удивления, так как пропозиция есть результат логического отражения ситуации в предложении. При отражении природа отражаемого и отражающего будет различной, а структура тождественной. Если бы указанная закономерность не имела места, пришлось бы предположить, что логика отражает онтологию наподобие кривого зеркала. Из сказанного вовсе не следует, будто отношение изоморфизма сохраняется также между пропозицией и предложением (элементарным). Такое отношение в принципе может быть, а может и не быть. Оно наблюдается в случае ядерного воплощения элементарного предложения. Элементарное предложение отличается от всех других видов предложений тем, что в нем реализована одна пропозиция (или одна атомарная пропозиция, если пользоваться терминологией логики)» (курсив мой. – Г.М.) [Там же, с. 188]. При этом используя слово ситуация для обозначения «фрагмента» действительного мира, мы должны понимать, что реальные ситуации как денотаты предложений-высказываний находятся вне языка, равно как и мышления. «Не менее реальны и ситуации общения: это ситуации, которые заключаются в том, что А обращается к Б с высказыванием И» [Касевич, 1998, с. 57]. Третье понятие «ситуации» – «сигнификативная ситуация» как содержание предложениявысказывания, семантическое соответствие денотативной ситуации (по Л. Витгенштейну, ее логическая картина). Такая ситуация характеризуется цельностью в восприятии и представлении действительности: «...это целостное образование, для которого внутренняя структура существенна лишь в той мере, в какой она может отличать данную ситуацию от любой другой, пропозиция же – это ситуация, взятая в аспекте ее внутренней логической структуры» [Там же, с. 58]. Следовательно, будучи представлением (картиной) реального мира, действительности, сигнификативная ситуация предстает как информация, поскольку еще Н. Винер отмечал, что это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств. Информацию же, в свою очередь, в настоящее время понимают и представляют как знание (в логике – как формализованное знание, выступающее в качестве объекта коммуникации между людьми), определяемое обладанием опыта и пониманием, на основании которых можно строить суждения и выводы, обеспечивающие целенаправленное поведение. Знание выступает как многомерная категория, поскольку является продуктом мыслительной деятельности, которая может быть самой различной по типу: понятийной, образной, интуитивной, технической и т.п. Рассматривая формы отношения языка к знанию, американский лингвист У. Чейф понятие пропозиции, лежащее в основе процесса пропозиционализации, выводил за пределы языка, определив единицы (пропозиции), возникшие в результате членения эпизода (исходной величины, воспринимаемой человеком), в качестве «идей», извлекаемых из события или ситуации [Chafe, 1977, р. 226–227]. Таким образом, пропозиция, по У. Чейфу, равнозначна ментальной структуре, состоящей из ситуации, в которой говорящим выбраны объекты как участники ситуации для последующей вербализации. Доминирование идеи выбора, на наш взгляд, заставляет задуматься над тем, что же на самом деле опи136 сывает пропозиция и на какой стадии чейфовской модели организации содержания в действительности происходит включение языка и его средств. Прежде всего отметим известное положение Г. Гийома, что «сознание склонно к использованию языка для выражения мысли, которую надо сообщить кому-то, или же для прояснения себе» [Гийом, 1992, с. 93]. В этой связи рассмотрим три предложения: 1. Рабочие строят дом. 2. Дом строится рабочими. 3. Строительство дома осуществляется рабочими. На вопрос о том, с одной ли пропозицией соотносятся данные предложения, мы получим отрицательный ответ, так как предложения 1 и 2 являются номинациями событийной пропозиции конкретного физического действия, а предложение 3 – событийной пропозиции существования (или, точнее, «претерпевания» в духе аристотелевских категорий). В.Г. Гак не без оснований считает, что субъектный актант здесь ложный, так как это семантический предикат, однако принятая трактовка пропозиции приводит к тому, что несмотря на явную соотнесенность с одним и тем же «кусочком» («фрагментом») действительности, мы имеем дело с разными семантическими инвариантами. Данное противоречие остается без внимания многих лингвистов, сохраняясь в их исследованиях и теоретических построениях. Так, в отмеченной ранее работе Г.И. Володиной утверждается, что исходным моментом рече-мыслительного акта при построении высказывания «служит фиксация нашим сознанием общего характера отношений в ситуации (на уровне функций ее участников). Вербализуя свое видение ситуации, говорящий избирает из возможных показателей соответствующих отношений между участниками тот, который наиболее полно отвечает его коммуникативному намерению» [Володина, 1991, с. 7]. И хотя далее исследователь вновь утверждает, что семантическая структура предложения представляет обобщенный «образ некоторого положения вещей», главное уже сказано – видение ситуации говорящим как конституирующий фактор пропозиции. То же мы видим и у В.Г. Гака, когда он подчеркивает, что: 1. Одна и та же ситуация (предметные отношения) может быть описана разными способами. 2. Способ описания ситуации происходит путем выделения и наименования ее элементов в процессе формирования высказывания. 3. Синтаксическая конструкция не является просто механическим объединением слов по правилам грамматики: она целостно отражает структуру ситуации такой, какой мы себе ее представляем» (выделено мною. – Г.М.) [Гак, 1998, с. 256–257] . В пропозиции компактно и органично моделируется то или иное субъективное представление о действительности, поскольку содержание информации – «результат процесса мышления, и поэтому передающий информацию субъект обязательно “ограничивает” ее субъективной “формой”, отражающей не предмет информации, а специфику восприятия мира коммуникатором» [Глаголев, 1985, с. 55–62]. Перед говорящим всегда стоит задача перекодировки континуальных «картин» его внутреннего мира (отражающих «картины» мира внешнего) в структуры дискретных элементов – ситуаций, которые, заметим, и не могут существовать без человека: «Уже на довербальном уровне человек оперирует соответствующими фреймами, которые уже определенным образом структурируют информацию. Следовательно, при речепроизводстве (возьмем этот аспект рече137 вой деятельности) задача состоит в том, чтобы сопоставить довербальному, чисто-перцептивному фрейму языковые, а первым из них оказывается семантический, осуществляющий первичную «подгонку» довербального фрейма под коммуницируемые структуры, под возможности языка и коммуникации. Вполне понятно, что от природы семантического фрейма (семантического представления высказывания) зависит синтаксическая структура для его кодирования» [Касевич, 1998, с. 78]. Это, безусловно, есть «субъективное представление о действительности» и не только в целом (на уровне высказывания), а именно на семантическом уровне – уровне пропозиции как взгляда на «положение дел»: говорящий субъект, наделенный сознанием и волей (интенсиональностью), для коммуникации находит свой «угол зрения», выявляя в континууме фрагмента действительности информацию, наиболее соответствующую его коммуникативным намерениям. «Только мышление и закрепляющий его результаты язык, – справедливо замечает И.Б. Шатуновский, – отделяют (абстрагируют) признак от предмета (а предмет от признаков), форму от субстанции, объекты – от пространства, часть от целого, мир от объектов и т.д., “разрывая” континуум на мысленные части (точнее, аспекты)» [Шатуновский, 1993, с. 78]. Именно в этом смысле невозможно использовать в лингвистике понятие пропозиции вне человеческого фактора, вне говорящего, именно поэтому пропозиция – это не образ действительного мира, а взгляд на действительный мир, выделение в недискретном «фрагменте» внешнего мира структурированной ситуации, информативно ценной для говорящего и подлежащей коммуникации. Пропозиция, таким образом, выступает как соединение концептов определенного рода, потому что «в противном случае она не будет описанием положения вещей и тем самым пропозицией. Поскольку пропозиция всегда есть соединение концептов, ее обязательным компонентом является “идея” соединения, “совмещения” образующих ее компонентов, или как мы будем называть в соответствии с давней традицией этот компонент – “связка”» [Шатуновский, 1996, с. 42]. Этот компонент структуры пропозиции, обусловленный «присутствием» говорящего, позволяет ей быть изоморфной структуре ситуации, но в то же время лишает пропозицию ранга некоего зеркала – «отражение», «образ» положения дел – и является основанием для различного рода ее конкретных вербализованных манифестаций в предложении, тем самым устанавливая виды соотношения пропозиции с такими различными формальными построениями, как «событие», «редуцированное событие», «номинализованное событие», «явление», «факт» (в различных классификациях). Таким образом, осуществить пропозиционализацию «фрагмента» действительности, «кусочка» эпизода, вопреки У. Чейфу, без языка невозможно: «выбор» говорящего позволяет смотреть на этот «фрагмент» с разных точек зрения, то есть вычленять ситуации, и пропозиция при этом является не абстрагированной инструкцией, а информативно значимой семантической структурой, опосредованной языком, что «хорошо согласуется с известным философским положением о “существенности формы”: языковая оболочка (даже если бы это действительно была “всего лишь” оболочка) есть своего рода форма для мысли, 138 а любая форма небезразлична для передаваемого ею содержания» [Касевич, 1998, с. 42]. На основе всего вышеизложенного можно следующим образом определить понятие пропозиции: в лингвистическом представлении это семантическая структура, обозначающая ситуацию как взгляд говорящего на «фрагмент» действительности (а не просто пассивное отражение «фрагмента» внешнего мира; если это и «положение дел», то только с позиции говорящего, выделяющего в нем информативно ценную ситуацию); представленная предикатом с заполненными валентностями, то есть конкретным отношением, соединяющим актуализированные концепты; выступающая обязательным компонентом семантической структуры предложения, подлежащим в нем предицированию; являющаяся семантическим инвариантом, общим для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложения и производных от него конструкций; предполагающая реализацию определенных структурных схем предложения (имеющая «синтаксический ген»); подразумевающая эпистемическую ответственность говорящего при своей реализации в высказывании (в силу «выбора» говорящего); включающаяся в различные системы (сети) фреймов понимания на докоммуникационном уровне своего функционирования. Наконец отметим, что разнообразные определения пропозиции, представленные в научной и учебной литературе, подчеркивали то или иное ее свойство, существенное для определенного аспекта лингвистического анализа. Вне всяких сомнений, данное понятие обладает значительной эвристической емкостью и ценностью для лингвистических исследований по семантике, синтаксису, прагматике, а также значительным интегрирующим потенциалом. Библиографический список Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976. Арутюнова Н.Д. Пропозиция // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Бахтин М.М. (под маской). Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка: статьи. М., 2000. Богданов В.В. Моделирование семантики предложения // Прикладное языкознание / отв. ред. А.С. Герд. СПб., 1996. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. Володина Г.И. Принципы описания простого предложения в идеографической грамматике русского языка: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1991. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка: синтаксис. М., 1981. Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992. Глаголев П.В. Вычленение семантических элементов коммуникативной стратегии в тексте // Филологические науки. 1985. № 2. Звегинцев В.А. Мысли о лингвистике. М., 1996. Касевич В.Б. О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики. СПб., 1998. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). М., 2001. 139 Логический словарь: ДЕФОРТ / под ред. А.А. Ивина, В.Н. Переверзева, В.В. Петрова. М., 1994. Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996. Предложение и слово: парадигматический, текстовый и коммуникативный аспекты: межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 2000. Современный русский язык / под ред. В.А. Белошапковой. М., 1989. Степанов Ю.С. Язык и Метод. К современной философии языка. М., 1998. Фрумкина Р.М., Звонкин А.К., Ларичев О.И., Касевич В.Б. Проблема представления знаний и естественный язык // Вопросы языкознания. 1990. № 6. Шатуновский И.Б. Семантическая структура предложения, «связка» и нереферентные слова // Вопросы языкознания. 1993. № 3. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нереферентные слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). М., 1996. Юрченко В.С. Очерк по философии грамматики. Саратов, 1995. Chafe W. The recall and verbalization of past experience // Current issues in linguistic theory / ed. R. Cole. Bloomington; London, 1977. М.В. Пименова К вопросу о методике концептуальных исследований (на примере концепта звезда) Концептуальная структура формируется шестью классами признаков: мотивирующим признаком слова-репрезентанта концепта (иногда в словаре может быть указано несколько мотивирующих признаков, это зависит от истории слова, когда первичный признак уже забыт и не воссоздается); образными признаками, выявляемыми через сочетаемостные свойства слова-репрезентанта концепта; понятийными признаками, объективированными в виде семантических компонентов слова-репрезентанта концепта, а также синонимами; ценностными признаками, актуализируемыми как в виде коннотаций, так и в сочетаниях со словом-репрезентантом концепта; функциональными признаками, отображающими функциональную значимость референта, скрывающегося за концептом; символическими признаками, выражающими сложные мифологические, религиозные или иные культурные понятия, закрепленные за словом-репрезентантом концепта. Понятие есть часть концепта; понятийные признаки входят в структуру концепта. Процессы концептуализации и категоризации тесно взаимосвязаны и взаимопереплетены между собой. Эти процессы помогают нам вычленить некий объект – реально или виртуально существующий – из общего фона подобных объектов, наделить его общими с другими и присущими только ему одному признаками. Рассмотрим способ выявления концептуальной структуры на примере концепта звезда. Концепт объективируется различными языковыми средствами. Согласно «Большому академическому словарю русского языка» [БАС, т. 6, с. 665–667], концепт звезда вербализуется множеством языковых единиц раз______________ © Пименова М.В., 2009 140 личной частеречной принадлежности (звезда, звездочка, звездинка, звездастый, звездистый, звездить, звездиться, звездность, созвездие). Признаки концепта вербализуются в сложных лексемах (звездообразный, звездопад, звездоплавание, звездочет), во фразеологизмах (хватать с неба звезды), в пословицах и поговорках (Звезды на небе суть ангелы Божии), в свободных и фиксированных словосочетаниях (путеводная звезда; верить в счастливую звезду; полярная звезда; звезда горит / светит / сияет / блещет), в предложениях (Вот ночь: но не меркнут златистые полосы облак. / Без звезд и без месяца вся озаряется дальность. / На взморье далеком сребристые видны ветрила / Чуть видных судов, как по синему небу плывущих (Н.И. Гнедич. «Рыбаки»)). В одном и том же предложении могут встретиться разнородные признаки. Ср., например: Скажу той звезде, что так ярко сияет, – / Давно не видались мы в мире широком, / Но я понимаю, на что намекает / Мне с неба она многозначащим оком: / – Ты смотришь мне в очи. Ты права: мой трепет / Понятен, как луч твой, что в воды глядится. / Младенческой ласки доступен мне лепет, / Душа откровенно так с жизнью мирится (А.А. Фет. «Младенческой ласки доступен мне лепет»). В данном тексте мотивирующий признак – ‘блеск’ (сияет), понятийные признаки – ‘небесное тело’ (с неба) и ‘светило’ (луч), образные признаки (посредством которые проявляются витальность и антропоморфизм звезды): перцептивные – ‘зрение’ и ‘слух’ (смотришь, глядится; скажу… звезде), интерперсональный – ‘встреча’ (видались) и т.д. Исследование концепта происходит в несколько этапов (см. подробнее: [Пименова, 2007, с. 16–17]). Первый этап – анализ мотивирующего(их) признака(ов), репрезентирующего(их) концепт, то есть внутренней формы слова. Второй этап – определение способов концептуализации как вторичного переосмысления соответствующей лексемы: исследование концептуальных метафор и метонимий. Третий этап – изучение функциональных и оценочных признаков концепта: первичные признаки – признаки оценки, вторичные признаки – признаки имущества; те и другие объединяются признаками ценности. Четвертый этап – выявление понятийных признаков концепта путем описания лексического значения слова-репрезентанта концепта посредством определения его семантических компонентов, очерчивание синонимического ряда лексемырепрезентанта концепта. Пятый этап – изучение символических признаков концепта. Возможен шестой этап – исследование сценария. Сценарий – это событие, разворачивающееся во времени и / или в пространстве, предполагающее наличие субъекта, объекта, цели, условий возникновения, времени и места действия. Такое событие обусловлено причинами, послужившими его появлению [Пименова, 2003, с. 58–120]. Рассмотрим подробнее структуру концепта звезда. Ядром будущего концепта, который в дальнейшем обрастет новыми признаками, служит мотивирующий признак, положенный в основу номинации. Первоначальное развитие концептуальной структуры предполагает развитие образов на основе внутренней формы слова-репрезентанта концепта, то есть образные признаки концепта – следующий этап переосмысления мотивирующего признака. Затем параллельно развиваются абстрактные понятийные при141 знаки и оценка, при этом оценка может исторически меняться на крайне противоположную. Мотивирующим называется такой признак, который послужил основанием для именования некоего фрагмента мира, это внутренняя форма слова. В зависимости от времени появления слова в языке у соответствующего концепта может быть несколько мотивирующих признаков. Чем древнее слово, тем больше мотивирующих признаков у концепта, скрывающегося за этим словом. «Внутренняя форма есть тоже центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми остальными. <…> Внутренняя форма, кроме фактического единства образа, дает еще знание этого единства; она есть не образ предмета, а образ образа, то есть представление» [Потебня, 1993, с. 100]. Слово звезда восходит к индоевропейскому *g’huoigu – «светать», «светить», «сияние», от которого образовано общеславянское *zvezda [Черных, т. 1, с. 319]. Мотивирующий признак ‘свет’ и его варианты ‘сияние / блеск / мерцание’ до сих пор актуальны для анализируемого концепта: – Звезда… / Люблю твой слабый свет в небесной вышине: / Он думы разбудил, уснувшие во мне (А.С. Пушкин. «Редеет облаков летучая гряда»); Уж кое-где и звездочки блистают (А.С. Пушкин. «Монах»); Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей, ленивенькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды (М. Горький. «Знахарка»); Ночная мгла пронизана блеском звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня (М. Горький. «Автобиографические рассказы»); ср.: Я прожил с ними две – три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника (М. Горький. «Мои университеты»). Образные концептуальные признаки – первичный этап переосмысления внутренней формы слова. Для исследователя интересна история появления тех или иных образных концептуальных признаков. «Образ должен изучаться с точки зрения генезиса, породивших его представлений. Религиозные представления важны не своим содержанием, но общим принципом своего возникновения; вот это-то возникновение, отрицающее формальную логику, говорит, что мышление понятиями вырабатывалось в течение долгих веков, и что ему предшествовало мышление образами» [Трубецкой, 1908, с. 553]. К дохристианским народным представлениям восходит превращение души в звезду, их тесная ассоциативная связь предопределяет персонификацию второй. Звезды описываются витальными и антропоморфными признаками: У ночи много звезд прелестных, / Красавиц много на Москве. / Но ярче всех подруг небесных / Луна в воздушной синеве (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»). Звезда «способна» дышать, дрожать, говорить: Одна звезда меж всеми дышит / И так дрожит, / Она лучом алмазным пышет / И говорит… (А.А. Фет. «Одна звезда меж всеми дышит»), петь: Как пестрел соседний бор, / Как белели выси гор, / Как тепло в нем звездный хор / Повторялся (А.А. Фет. «Горячий ключ»). Только жизнь звезд отличается от человеческой своим бессмертием, нетленностью: Мой дух, о ночь! как падший серафим, / Признал родство с нетленной жизнью звездной, / И, окрылен дыханием твоим, / Готов лететь над этой тайной бездной (А.А. Фет. «Как нежишь ты, серебряная ночь»). 142 Облик звезды описывается соматическими признаками: через признаки ‘голова’: Уж звезды светлые взошли / И тяготеющий над нами / Небесный свод приподняли / Своими влажными главами (Ф.И. Тютчев. «Летний вечер»); ‘глаза’: В тиши и мраке таинственной ночи / Я вижу блеск приветный и милой, / И в звездном хоре знакомые очи / Горят в степи над забытой могилой (А.А. Фет. «Schopenhauer»); ‘ресницы’: Еще темнее мрак жизни вседневной, / Как после яркой осенней зарницы, / И только в небе, как зов задушевной, / Сверкают звезд золотые ресницы (Там же): ‘веки’: Всю ночь со всем уже, что мучило недавно, / Перерывает связь, / А звезды, с высоты глядя на нас так явно, / Мигают, не стыдясь (А.А. Фет. «Добро и зло»). Особую группу в структуре концепта звезда образуют перцептивные признаки. Звезда «обладает» зрением: Все звезды до единой / Тепло и кротко в душу смотрят вновь... (А.А. Фет. «Еще майская ночь»); слухом: Хороню ль ей, сладко ль спится, / Я предузнаю, / И звездам, что ей приснится, / Громко пропою (А.А. Фет. «Соловей и роза»). Звезды постоянно наблюдают за человеком, следя за его действиями и поступками: Сердце робкое бьется тревожно, / Жаждет счастье и дать и хранить; / От людей утаиться возможно, / Но от звезд ничего не сокрыть (А.А. Фет. «От огней, от толпы беспощадной»). На основе сравнения, аналогии, тождества в языке формируются понятия. Под понятийными понимаются признаки концепта, актуализированные в словарных значениях в виде семантических компонентов (сем) слова-репрезентанта концепта. Для анализа понятийных признаков привлекаются данные не только толковых словарей современного русского языка, но и данные исторических, а также диалектных словарей. Согласно «Большому академическому словарю русского языка», звезда – это «небесное тело (раскаленный газовый шар), видимое ночью с Земли как светящаяся точка» [БАС, т. 6, с. 665]. На основе данной словарной дефиниции можно выделить следующие понятийные признаки соответствующего концепта: ‘небесное’ (локализация), ‘тело’ (природный объект), ‘огонь’ (раскаленный – принадлежащий определенный стихии), ‘газовый’ (природное вещество), ‘шар’ (реальная форма – дименсиональный признак), ‘видимое’ (воспринимаемое зрением), ‘ночью’ (темпоральный признак проявления), ‘с Земли’ (удаленность), ‘светящаяся’ (это повторяющийся мотивирующий признак), ‘точка’ (воспринимаемая форма – дименсиональный признак). Следует отметить, что в контекстах редко встречаются сразу все упомянутые понятийные признаки звезды, ср.: Светись, светись, далекая звезда, / Чтоб я в ночи встречал тебя всегда; / Твой слабый луч, сражаясь с темнотой, / Несет мечты душе моей больной; / Она к тебе летает высоко; / И груди сей свободно и легко (М.Ю. Лермонтов. «Звезда»); И ночь в звездах нема была! (Ф.И. Тютчев. «Не то, что мните вы, природа»); И я знаю, взглянувши на звезды порой, / Что взирали на них мы как боги с тобой (А.А. Фет. «Alter ego»); Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды (В.Г. Короленко. «Дети подземелья»); Солнце крупной, неспокойной звездою лучилось в морозном окне, на котором стояла не одна герань, а целый их ряд в стареньких посудах, но цвела одна (В.П. Астафьев. «Веселый солдат»). По части этих понятийных признаков совпадают концепты 143 звезды и фейерверк: Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали, и снова вспыхивали (А.С. Пушкин. «Дубровский»); звезды и снег: Мелькает, вьется первый снег, / Звездами падая на брег (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»). Стихийная часть понятийного признака берет истоки из народных представлений. Считалось, что звезды – это небесный огонь, ср. существующие до сих пор стертые метафоры: звезда горит, звезды погасли, звезда пылает, звезды зажглись на небе; ср. также: Где красота, там споры не у места: / Звезда горит – как знать, каким огнем? / Пусть говорят: тут девочка-невеста, / Богини мы своей не узнаем (А.А. Фет. «К портрету графини С.А. Т-ой»). Огонь звезды загорается на небе после захода солнца, а с появлением солнца – потухает: Звезда губителя потухла в вечной мгле, / И пламенный венец померкнул на челе! (А.С. Пушкин. «На возвращение императора из Парижа в 1815 г.»); Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды (М. Горький. «О первой любви»). Другое значение слова звезда – «перен. О счастливой судьбе, благоприятном предначертании судьбы, удаче (первоначально – предсказанной астрологами)» [БАС, т. 6, с. 665]. Ср.: Примите чашу! / Вам звездой / В ночи судеб она светила / И вашу немощь возносила / Над человеческой средой (Ф.И. Тютчев. «Чехам от московских славян»). В различных мифологических традициях отмечается представление о том, что у каждого человека есть своя звезда, которая рождается и умирает вместе с ним. Умирает человек – гаснет и его звезда: Звезда губителя потухла в вечной мгле, / И пламенный венец померкнул на челе! (А.С. Пушкин. «На возвращение императора из Парижа в 1815 г.»). Огонь звезды-души может потушить Бог, и тогда звезда падает на землю: К утру звезда золотая / С божьих небес вдруг сорвалась и упала, / Дунул господь на нее, / Дрогнуло сердце мое (Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный Нос»). Упоминание о том, что душа человека приходит со звезды, а затем возвращается на нее, можно найти на страницах произведений Платона. В народе до сих пор бытует мнение, что падение звезды и ее появление обозначают смерть. Душа человека после смерти появляется на небе в виде звезды: Как мог, слепец, я не видать тогда, / Что жизни ночь над нами лишь сгустится, / Твоя душа, красы твоей звезда, / Передо мной, умчавшись, загорится (А.А. Фет. «Светил нам день, будя огонь в крови»). Появление звезды-души на небе ассоциируется с дорогой на тот свет: Дух окрылен, никакая не мучит утрата, / В дальней звезде отгадал бы отбывшего брата! (А.А. Фет. «В долгие ночи, как вежды на сон не сомкнуты»). Наравне с этим существуют совершенно противоположные поверья. Появление новой звезды на небе связано с рождением младенца: сколько людей на земле, столько и звезд на небе. Падающая с неба звезда символизирует рождение человека: Гляди – звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! (М. Горький. «Детство»). Душа – это звезда (душа на небе / небесах; яркая душа). Души-звезды – это божества: Душа хотела б быть звездой, / Но не тогда, как с неба полуночи / Сии светила, как живые очи, / Глядят на сонный мир земной, – 144 / Но днем, когда, сокрытые как дымом / Палящих солнечных лучей, / Они, как божества, горят светлей / В эфире чистом и незримом (Ф.И. Тютчев. «Душа хотела б быть звездой»). Души общаются со звездами: Но там, за этим царством вьюги, / Там, там, на рубеже земли, / На золотом, на светлом Юге / Еще я вижу вас вдали: / Вы блещете еще прекрасней, / Еще лазурней и свежей – / И говор ваш еще согласней / Доходит до души моей! (Ф.И. Тютчев. «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный»). Образ души-звезды чрезвычайно устойчив в русском языковом сознании [Пименова, 2004, с. 321–322]. Отождествление души со звездой имеет давнюю традицию, основанную на древних мифологических воззрениях. Об этом писал А.Н. Афанасьев: «Душа представлялась звездой, что имеет близкую связь с представлением ее огнем; ибо звезды первобытный человек считал искрами огня, блистающими в высотах неба. В народных преданиях душа точно так же сравнивается со звездой, как и с пламенем; а смерть уподобляется падающей звезде, которая, теряясь в воздушных пространствах, как бы погасает» [Афанасьев, 2002, т. 3, с. 198]. Угасание – метафора старости и кончины человека. Угасшая звезда – символ смерти: Может быть, нет вас под теми огнями: / Давняя вас погасила эпоха; / – Так и по смерти лететь к вам стихами, / К призракам звезд буду призраком вздоха (А.А. Фет. «Угасшим звездам»). Понятийный признак ‘предсказанная судьба’ в разных контекстах реализуется широким спектром своих вариантов: ‘звезда щедрот’: И предо мной, в степи безвестной, / Взошла звезда твоих щедрот: / Она свой луч в красе небесной / На поздний вечер мой прольет (А.А. Фет. «Ей же при получении ее портрета»); ‘воля звезд’: И взгляд мой унес отраженье блистающих глаз. / Я прожил пять лет близ мечетей Валата-Могита, / Но сердцем владычица дум не была позабыта. / И волей созвездий второй мы увиделись раз (К.Д. Бальмонт. «Песня араба»); ‘астрологические вычисления’: Но качнулось коромысло золотое в Небесах, / Мысли Неба, Звезды-Числа, брызнув, светят здесь в словах (К.Д. Бальмонт. «Люди Солнце разлюбили»); ‘объект следования на пути жизни’: Он чует над своей главою / Звезду в незримой высоте / И неуклонно за звездою / Спешит к таинственной мечте! (Ф.И. Тютчев. «Как дочь родную на закланье»); ‘пророчество’: Прекрасный день его на Западе исчез, / Полнеба обхватив бессмертною зарею / А он из глубины полуночных небес – / Он сам глядит на нас пророческой звездою (Ф.И. Тютчев. «Прекрасный день на Западе исчез»); ‘предвестник счастья’: Товарищ, верь: взойдет она, / Звезда пленительного счастья, / Россия вспрянет ото сна, / И на обломках самовластья / Напишут наши имена! (А.С. Пушкин. «К Чаадаеву»). Согласно древним поверьям, каждый человек рождается под определенной звездой, которая дарует ему счастье или несчастье в его жизни. Это влияние астрологии находим в произведениях А.С. Пушкина: Уродился юноша / Под звездой безвестною, / Под звездой падучею, / Миг один блеснувшею / В тишине небес; / Под каким созвездием, / Под какой планетою / Ты родился, юноша? / Ближнего Меркурия, / Аль Сатурна дальнего, / Марсовой, Кипридиной? (А.С. Пушкин. «Под каким созвездием»); Мы рождены, мой брат названый, / 145 Под одинаковой звездой. / Киприда, Феб и Вакх румяный / Играли нашею судьбой (А.С. Пушкин. «Дельвигу»). Такая звезда ведет человека по жизни, указывая ему путь, ср.: путеводная звезда; Лучше здесь остановиться, да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам (А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»); Я думал, что любовь погасла навсегда, / Что в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный, / Что дружбы наконец отрадная звезда / Страдальца довела до пристани надежной (А.С. Пушкин. «Элегия»); Великий день Бородина / Мы братской тризной поминая, / Твердили: «Шли же племена, / Бедой России угрожая; / Не вся ль Европа тут была? / А чья звезда ее вела!..» (А.С. Пушкин. «Бородинская годовщина»). Выдающиеся личности рождались под особыми звездами, их появление на свет и жизнь воспринимались как чудо: [Друг:] Когда ж твой ум он поражает / Своею чудною звездой? / Тогда ль, как с Альпов он взирает / На дно Италии святой; / Тогда ли, как хватает знамя / Иль жезл диктаторский; тогда ль, / Как водит и кругом и вдаль / Войны стремительное пламя, / И пролетает ряд побед / Над ним одна другой вослед; / Тогда ль, как рать героя плещет / Перед громадой пирамид, / Иль как Москва пустынно блещет, / Его приемля, – и молчит? (А.С. Пушкин. «Герой»). Звезда определяет не только судьбу отдельного человека: Та звезда, что двигаться не хочет, / Предоставя всем свершать круги, / В поединке мне победу прочит / И велит мне: «Сердце сбереги» (К.Д. Бальмонт. «Поединок»), но и всего народа в целом: Ты долго ль будешь за туманом / Скрываться, Русская звезда, / Или оптическим обманом / Ты обличишься навсегда? (Ф.И. Тютчев. «Ты долго ль будешь за туманом»). При этом счастье и успех народа знаменует восходящая звезда: Товарищ, верь: взойдет она, / Звезда пленительного счастья, / Россия вспрянет ото сна, / И на обломках самовластья / Напишут наши имена! (А.С. Пушкин. «К Чаадаеву»), падение империи – ее закат: Но, прощаясь с римской славой, / С Капитолийской высоты / Во всем величье видел ты / Закат звезды ее кровавый!.. (Ф.И. Тютчев. «Цицерон»). Эти отголоски древней астрологии можно отыскать в Библии. На особую роль рожденного Иисуса Христа указала волхвам звезда Вифлеемская: А вблизи – все пусто и немо, / В смертном сне – враги и друзья. / И горит звезда Вифлеема / Так светло, как любовь моя (А.А. Блок. «Я не предал белое знамя»). Эта звезда появилась на востоке: Звезда сияла на востоке, / И из степных далеких стран / Седые понесли пророки / В дань злато, смирну и ливан (А.А. Фет. «Ей же при получении ее портрета»), она определила движение волхвов к рожденному Иисусу: Изумлены ее красою, / Волхвы маститые пошли / За путеводною звездою / И пали до лица земли (Там же). До сих пор по звездам принято находить путь: Их привела, как в дни былые, / Другая, поздняя звезда. / И пастухи, уже седые, / Как встарь, сгоняют с гор стада (А.А. Блок. «Успение»). Со звездами в культуре любого народа связаны особые поверья. Так, в русской культуре на «падающую» звезду принято загадывать желание: Думала я, вспоминала – / Что было в мыслях тогда, / Как покатилась звезда? (Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный Нос»). Считается, что звезда-душа умершего, находясь между небом и землей, может донести это желание до небес: Вдруг 146 увидя / Младой двурогий лик луны / На небе с левой стороны, / Она дрожала и бледнела. / Когда ж падучая звезда / По небу темному летела / И рассыпалася, – тогда / В смятенье Таня торопилась, / Пока звезда еще катилась, / Желанье сердца ей шепнуть (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»). Звезда-душа падает с неба, чтобы на земле родился новый человек, ср.: Она манит его рукою, / Кивает быстро головой... / И вдруг – падучею звездою – / Под сонной скрылася волной (А.С. Пушкин. «Русалка»). По славянским поверьям, падающие звезды – души грешников. В предсказаниях падающая звезда считается знаком различных несчастий: Вот проносящийся ангел трубит, / С треском звезда к нам на землю летит, / Землю прошибла до бездны глухой, / Вырвался дым, как из печи большой (А.А. Фет. «Аваддон»). Таким же предвестием считалась комета: Ты нам грозишь последним часом, / Из синей вечности звезда! / Но наши девы – по атласам / Выводят шелком миру: да! (А.А. Блок. «Комета»). Третье значение слова звезда – «перен. Тот, кто пользуется широкой популярностью (об артисте, певце, спортсмене и т.п.)» [БАС, т. 6, с. 666]. Признак ‘популярная личность’ объективируется квантитативными характеристиками, когда в количественном ряду актуален только признак первой величины: Медведева открыла, угадала и дала театру звезду первой величины – Ермолову (Т.Л. Щепкина-Куперник. «Театр в моей жизни»). Четвертое значение лексемы звезда – «геометрическая фигура с остроконечными выступами, равномерно расположенными по окружности; предмет в форме такой фигуры» [БАС, т. 6, с. 666]. Понятийный признак ‘геометрическая фигура’ связан с изображением звезды, в том числе на могильном памятнике: Звезды фанерной, правда, не было (не успели, видно), но могилка как могилка, будто в мирное время (В.Л. Кондратьев. «Сашка»); с узором на ткани: На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу (М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»); Имелась сцена, завернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десяток… (М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). Некоторые рукотворные предметы сравниваются со звездами по признаку формы: награды: Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост (А.С. Пушкин. «Рославлев»); шпоры: Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор (М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). Со звездами сравниваются и нерукотворные – природные – объекты, например, беспозвоночное животное по типу иглокожих (морская звезда) или цветы: Хочу я родимых березок, / Влюблен в полевую ромашку, / И клевер в душе расцветает, / И в сердце звездится сирень (К.Д. Бальмонт. «Среди магнолий»). Как показывает фактический материал, в БАС дается узкое понимание понятийного признака, ср.: На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине, полетела штукатурная пыль (М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). БАС указывает на пятое значение слова звезда – «светлое пятно на лбу животного» [БАС, т. 6, с. 666–667]. Признак ‘светлое пятно на лбу животного’ 147 восходит к ритуалу жертвоприношения, когда в стаде отыскивали помеченное богом или богиней животное. Ритуалы исчезли, а признак сохранился: Конь был рослый и статный, с белой звездой на лбу (К.Ф. Седых. «Даурия»). Научная и наивная картины мира могут в своих моделях чрезвычайно отличаться друг от друга. Расхождение это вызвано развитием науки в обществе. В языке фиксируются не только новые знания, но и знания, когда-то существовавшие у носителей языка. Язык хранит в себе первичные знания о природе, человеке и его месте в этом мире. Первичные знания фиксируются в языке в виде архаичных признаков концептов. Архаичными понятийными называются признаки концептов, зафиксированные в исторических и историко-этимологических словарях конкретных языков, но не отмеченные в словарях современных языков, а также признаки, диктуемые языковым материалом, но отсутствующие в словарях. Архаичные признаки выражают наивные, обыденные представления народа о природе и человеке, которые не утрачены языком, но уже не осознаются носителями современного языка. Архаичные признаки возможны только у тех концептов, история репрезентантов которых достаточно древняя. Обратимся к архаичным понятийным признакам концепта звезда. Бытовое время жизни и сейчас соизмеряется с моментом появления звезд: Свободы сеятель пустынный, / Я вышел рано, до звезды; / Рукою чистой и безвинной / В порабощенные бразды / Бросал живительное семя – / Но потерял я только время, / Благие мысли и труды (А.С. Пушкин. «Свободы сеятель пустынный»). Звезды ассоциируются с сумерками: Где же ты? не медли боле. / Ты, как я, не ждешь звезды. / Приходи ко мне, товарищ, / Разделить земной юдоли / Невеселые труды (А.А. Блок. «Как свершилось, как случилось?»); ночью: Источник быстрый Каломоны, / Бегущий к дальним берегам, / Я зрю, твои взмущенны волны / Потоком мутным по скалам / При блеске звезд ночных сверкают / Сквозь дремлющий, пустынный лес, / Шумят и корни орошают / Сплетенных в темный кров древес (А.С. Пушкин. «Кольна»), при этом они воплощают силы духа, восстающие против тьмы. Такие силы символично описываются признаками утра, возрождения дня: Друзья! священны нам их узы; / До ранней утренней звезды, / До тихого лучей рассвета / Не выйдут из руки поэта / Фиалы братской череды (А.С. Пушкин. «Мое завещание друзьям»); Клянусь четой и нечетой, / Клянусь мечом и правой битвой, / Клянуся утренней звездой, / Клянусь вечернею молитвой (А.С. Пушкин. «Подражание Корану») или признаками вечера – заката жизни: Редеет облаков летучая гряда; / Звезда печальная, вечерняя звезда, / Твой луч осеребрил увядшие равнины, / И дремлющий залив, и черных скал вершин (А.С. Пушкин. «Редеет облаков летучая гряда»), а также колоративными признаками белого цвета. Считается, что в языковой картине мира отобразились все существовавшие ранее обыденные (наивные) воззрения народа на природу: «Языковую, или наивную, картину мира принято интерпретировать как отражение обиходных (обывательских, житейских, бытовых) представлений о мире. <…> Заметим, что на аналогичном предположении основана и гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, в соответствии с которой наши обиходные пред148 ставления формируются языковой картиной мира. Иными словами, считается, что язык отражает наши обычные, житейский представления о том или ином объекте (ситуации)» [Урысон, 2003, с. 11]. Наивные представления о звездах, отображенные в русской языковой картине мира, разноаспектны. Начнем с того, что славянами «к звездам причисляются также кометы… и метеориты» [Плотникова, 1999, с. 290]. В русском языке существует до сих пор выражение хвостатая звезда. Появление комет на небе предвещало невзгоды, ср.: Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства (Л.Н. Толстой. «Война и мир»). Согласно «наивной» классификации звезд, в число последних включаются планеты – Венера, Марс и др.: Но в путаных словах вопрос зажжен, / Зачем не стала я звездой любовной, / И стыдной болью был преображен / Над нами лик жестокий и бескровный (А.А. Ахматова. «Косноязычно славивший меня...»), а Млечный путь – скопление множества звезд – именуется Становищем, буськовой дорогой (Полесье), мышиными тропками (нижегород.). Архаические признаки концепта прочитываются в сохранившихся символах культуры. Символическими называются такие признаки, которые восходят к существующему или утраченному мифу или ритуалу и могут восприниматься в виде метафоры, аллегории или культурного знака. Миф сохраняет ранее распространенное в народе представление о мироустройстве. В процессе развития народа мифы утрачиваются, но их возможно восстановить, анализируя стертые метафоры. «Религиозные ритуалы – это типичный пример деятельности, в основе которой лежат метафоры. Метафорика религиозных ритуалов обычно включает метонимию: объекты реального мира замещают сущности в соответствие некоторому аспекту реальности так, как это понимается в религии» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 250]. Небо во многих культурах описывается метафорами полога, шатра, занавеса, украшенного звездами: Какая ночь! Мороз трескучий, / На небе ни единой тучи; / Как шитый полог, синий свод / Пестреет частыми звездами (А.С. Пушкин. «Какая ночь! Мороз трескучий»). Полог, покрывало являются предметными образами неба: В душе смиренной уясни / Дыханье ночи непорочной, / И до огней зари восточной / Под звездным пологом усни (А.А. Фет. «Ты видишь, за спиной косцов...»). Красоте небесного, украшенного звездами одеяния поэты уделяют большое внимание: Вдали затихавшие волны белели, / А с неба отсталые тучки летели, / И ночь красотой одевалася звездной (А.А. Фет. «Море и звезды»). Свет (блеск, сияние) звезд актуализируется признаками драгоценных камней: Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка (А.П. Чехов. «Дядя Ваня»); С какой я негою желанья / Одной звезды искал в ночи, / Как я любил ее мерцанье, / Ее алмазные лучи (А.А. Фет. С какой я негою желанья) или драгоценных металлов: О Делия драгая! / Спеши, моя краса; / Звезда любви златая / Взошла на небеса (А.С. Пушкин. «К Делии»). 149 Существует еще одно мифологическое представление о небе как о крыше мира, железном куполе, к которому гвоздями прибиты звезды: Небо – тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня (М. Горький. «О вреде философии»). Язык аккумулирует в своей системе знаков те знания, которые предшествовали научному познанию. В случае с концептом звезда можно говорить о народной астрономии или даже астрологии. До сих пор мы употребляем выражение движение звезд, которое восходит к представлению, что звезды передвигаются по небу: По мглистым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды (А.А. Фадеев. «Разгром»). На это указывают и предикаты, используемые для описания звезд: Там звезда зари взошла, / Пышно роза процвела (А.С. Пушкин. «С португальского»). В небесной сфере звезды образуют замкнутый круг: Она любила на балконе / Предупреждать зари восход, / Когда на бледном небосклоне / Звезд исчезает хоровод, / И тихо край земли светлеет, / И, вестник утра, ветер веет, / И всходит постепенно день (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»). Народно-поэтическая астрономия как прототип и аналог астрономии научной – это целая система взаимообусловленных «первичных» представлений о небе, звездах и их выражение в обряде, тексте, слове, знаке, образе, символе. В русской языковой картине мира сохранились бытовавшие ранее имена утренней и вечерней звезды – Венеры – Денница, Зоряница, Утренница: И новых приветливых звезд, / И новой любовной денницы, / Трудами измучены гнезд, / Взалкали усталые птицы (А.А. Фет. «Ты помнишь, что было тогда»). Пространство над землей представлялось народу небесным океаном, в котором звезды плавают: И звезд ночных при бледном свете, / Плывущих в дальней вышине, / В уединенном кабинете, / Волшебной внемля тишине, / Слезами счастья грудь прекрасной, / Счастливец милый, орошай (А.С. Пушкин. «К Батюшкову»); Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба (А.А. Фадеев. «Разгром») или укореняются как надводные растения: Они манят и свежестью пугают; / Когда к звездам их взорами прильну, / Кто скажет мне: какую измеряют / Подводные их корни глубину? (А.А. Фет. «В степной глуши над влагой молчаливой»). По иным представлениям небо обладает собственным ландшафтом. Так, по небу может течь звездная река: Как звезд река, по небосклону вкруг / Простершися, оно вселенну обнимает / И блага жизни изливает / На Запад, на Восток, на Север и на Юг (Ф.И. Тютчев. «Урания») или, как вариант, небесная звездно-огненная река: Казалось возможным, что все звезды млечного пути сольются в огненную реку, и вот – сейчас она низринется на землю (М. Горький. «О вреде философии»). Другое представление народа зафиксировано в метафоре небесной тверди: Я хотел, чтоб мы были врагами, / Так за что ж подарила мне ты / Луг с цветами и твердь со звездами – / Все проклятье своей красоты? (А.А. Блок. «К Музе»). Оно обусловливает расширение этой метафорической зоны до «небо – поле» и «небо – сад»: поле неба засеяно звездами: 150 Сеево звезд на небе сгустилось (В.П. Астафьев. «Царь-рыба»); В небе различил две мерцающие звездочки, величиной с семечко таежного цветка майника (Там же), в саду неба «цветут» звезды: Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие (Там же). Небесное пространство выражается в метафорах пустыни: Глубокой ночи на полях / Давно лежали покрывала, / И слабо в бледных облаках / Звезда пустынная сияла (А.С. Пушкин. «Наездники»). Пустыня – символ ограничения физической жизни и одновременно пространство жизни духовной. Постижение тайны звезд есть постижение тайны души человека: Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои – / Пускай в душевной глубине / Встают и заходят оне / Безмолвно, как звезды в ночи, – / Любуйся ими – и молчи (Ф.И. Тютчев. «Silentium!»). В русской культуре отобразились воззрения других народов. Так, римская богиня Венера отождествляется с одноименной звездой: Поверьте, милые мои, / Одно другому помогает, / И солнце брака затмевает / Звезду стыдливую любви (А.С. Пушкин. «К Родзянке»). Ее «аналог» – греческая богиня Афродита – со звездой не ассоциировалась. Звезды и ночное время воспринимаются как символ любви: И ночь, и Звезды, и Луну, / Луну, небесную лампаду, / Которой посвящали мы / Прогулки средь вечерней тьмы,/ И слезы, тайных мук отраду... Но нынче видим только в ней / Замену тусклых фонарей (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»). Существование астральных культов отмечено у многих народов мира. У славян встречается культ звезд, ср.: Я буду петь тебя, я небу / Твой голос передам! / Как иерей свершу я требу / За твой огонь – звездам! (А.А. Блок. «Кармен»). «В славянском фольклоре и некоторых поверьях звезды выступают как дети (реже сестры) Солнца и Месяца» [Плотникова, 1999, с. 291]. В русской литературе часто встречается образ девы-лебедя из славянской мифологии. У этой девы-лебедя луна (месяц) под косой блестит, а во лбу звезда горит: Смотрят – что ж? княгиня-диво: / Под косой луна блестит, / А во лбу звезда горит; Да на свете, / Говорят, царевна есть, / Что не можно глаз отвесть. / Днем свет божий затмевает, / Ночью землю освещает – / Месяц под косой блестит, / А во лбу звезда горит (А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»). Месяц под косой и звезды на челе – символы верховной (божественной) власти Великой Богини или Царицы Небесной, ср.: Царит весны таинственная сила / С звездами на челе. – / Ты, нежная! Ты счастье мне сулила / На суетной земле (А.А. Фет. «Майская ночь»); Мой лик ночной повторен, / Хотя из звезд мой царственный венец (К.Д. Бальмонт. «Пламя мира»); Все та же ты, заветная святыня, / На облаке, незримая земле, / В венце из звезд, нетленная богиня, / С задумчивой улыбкой на челе (А.А. Фет. «Музе»). Эта богиня вечно юна: Как ясность безоблачной ночи, / Как юно-нетленные звезды, / Твои загораются очи / Всесильным, таинственным счастьем (А.А. Фет. «Как ясность безоблачной ночи»). Великая Богиня-мать олицетворяет не только хаос, но и космос – устойчивый миропорядок. В качестве символа космоса может выступать ткань (материя). Сотворение мира по аналогии с ткачеством – важная функция Богини: Богиня Белой Жатвы, / Богиня Звездотканности, / Бог-Пламя, Бог-Зеркальность, Богиня – Сердце Гор… / Колибри, птичка-мушка, в безжизненной туманности / 151 Ты сердце научила знать красочный узор! (К.Д. Бальмонт. «Колибри»). И, наоборот, узоры ткани, повторяющие объекты мира, – повсеместное воспроизведение этой функции: Певцам, высокое нам мило: / В нас разгоняет сон души / Днем – лучезарное светило, / Узоры звезд – в ночной тиши (А.А. Фет. «Е.И.В.»). «Ткачество выступает как образ бытия и творения. В упанишадах сказано, что все сущее выткано на воде, вода же выткана на ветре, ветер – на воздушном пространстве» [Адамчик, с. 202]. Ткачество – преимущественно женское занятие. Оно символизирует жизнь, взаимоотношения между людьми: Ты, сердце, сплети всепротяжные нити, / Крути златоцветность – и вновь, / От сердца до сердца, до моря, до солнца, / от солнца до мглы отдаленнейших звезд, / Сплетенья влияний, воздушные струны, / протяжность хоралов, ритмический мост (К.Д. Бальмонт. «Хвалите»). Одной из древнейших метафор является «небо-книга». В современном русском языке она обозначается в виде второго понятийного признака концепта. Небо – это книга, звезды – это знаки, по которым люди читают судьбу: Ты и сам был когда-то мрачней и смелей, / По звездам прочитать ты умел, / Что грядущие ночи – темней и темней, / Что ночам неизвестен предел (А.А. Блок. «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух»). Звезды предвещают события: И милосердою судьбою / Мне было счастье суждено, / Что весь мой век я над собою / Созвездье видел все одно (Ф.И. Тютчев. «17-е апреля 1818»). Однако не всем доступно понимание таких предвестий: Вот – свершилось. Весь мир одичал, и окрест / Ни один не мерцает маяк. / И тому, кто не понял вещания звезд, – / Нестерпим окружающий мрак (А.А. Блок. «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух»). Понятийные и символические признаки исследуемого концепта трудно разделимы. Отголоски былых верований и мифов мы находим в непонятных современному носителю языка признаках анализируемого концепта. Эти отзвуки древних взглядов на мир указывают на существовавшие мифологические представления и ненаучную картину мира. Исследование развития концептуальных структур в диахронии и в сопоставительном аспекте – перспективы особых направлений когнитивной лингвистики. Сложность таких исследований заключается в том, что многие концептуальные признаки в древних текстах отсутствуют, что связано со спецификой их функционирования. Воссоздать структуры концептов возможно, обратившись к фонду устного народного творчества. При этом особое внимание следует обращать на изменение категорий и форм мышления в разные эпохи, на смену верований и переходы в интерпретациях одних и тех же категорий. Библиографический список Афанасьев А.Н. Мифы, поверья и суеверия славян: в 3 т. М.; СПб., 2002. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. Пименова М.В. Особенности репрезентации концепта чувство в русской языковой картине мира // Мир человека и мир языка. Кемерово, 2003. Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации. Кемерово, 2004. Пименова М.В. Концепт сердце: образ, понятие, символ. Кемерово, 2007. Плотникова А.А. Звезды // Славянские древности: этнолингвистический словарь / под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 2. М., 1999. 152 Потебня А.А. Мысль и язык. Киев, 1993. Трубецкой С.Н. Новая теория образования религиозных понятий // Трубецкой С.Н. Собр. соч. Т. 2. М., 1908. Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: аналогия в семантике. М., 2003. Словари Адамчик В.В. Словарь символов и знаков. М.; Минск, 2006. (В тексте – Адамчик.) Большой академический словарь русского языка / гл. ред. К.С. Горбачевич. М.; СПб., 2006. (В тексте – БАС.) Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М., 1993. (В тексте – Черных.) Т.П. Рогожникова, Ж.Б. Есмурзаева Языковые средства репрезентации концепта родина в русской языковой картине мира Характерной чертой современного языкознания является развитие когнитивной лингвистики, изучающей особенности усвоения и обработки информации, способы ментальной репрезентации знаний с помощью языка. Язык каждой культуры имеет свои особенности и формирует у своих носителей определенный образ мира, представленный сетью понятий, характерной именно для данного языка. Однако сам язык непосредственно этот мир не отражает. Он отражает лишь способ представления (концептуализации) этого мира национальной языковой личностью [Мысоченко, 2005, с. 157]. Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном виде могут быть представлены в традиционных символах данной культуры [Колесов, 1995, с. 15]. Язык является также средством доступа к мыслительным единицам и достоверным инструментом исследования содержания и структуры концепта как «основной единицы ментального плана, содержащейся в словесном знаке и явленной через него как образ, понятие и символ» [Колесов, 1999, с. 5]. Концепт как сложный комплекс признаков имеет разноуровневую представленность в языке. Лексико-семантический уровень исследования дает возможность выявить набор групп признаков, которые формируют структуру того или иного концепта. Концептуальные признаки, являясь комплексными информационными структурами, проводят информацию о внеязыковой реальности, отражают в сознании людей свойства явлений и предметов окружающего мира и эксплицируются через значения языковых единиц. Способы выражения концептуальных признаков в семантике изучаемых языков служат своеобразным окном, через которое можно смотреть на то, как отражается мир в сознании представителей разных лингвокультур [Алефиренко, 1999, с. 30]. В данной статье речь пойдет о некоторых языковых средствах, репрезентирующих концепт родина в русской языковой картине мира, и их особенностях. ______________ © Рогожникова Т.П., Есмурзаева Ж.Б., 2009 153 Понятие «родина» сложное и многогранное, поскольку в нем актуализируется общественно-историческая практика людей, подытоживается опыт, накопленный за многовековую историю существования нации. Отношение к родине отражает общую иерархию ценностей и предпочтений русского человека. «Нет *чувства работы / природы / искусства, но есть чувство родины, “святей и чище” которого “людям никогда не обрести” (Фирсов)» [Воркачев, 2006, с. 26]. Анализ составляющей концепта родина на материале лексикографических источников [МАС, т. 3, с. 723; БТСРЯ, с .745; Даль, т. 4, с. 11; БССРЯ, с. 379; СО, с. 607; Ушаков, с. 22; РАС, с. 733; Ссин, с. 379] позволил выделить в ней следующие понятийные признаки [Пименова, 2007, с. 17]: 1. Родина – ‘мать’; 2. Родина – ‘земля, край отцов, где живут родные и близкие’; 3. Родина – ‘страна, в которой человек родился и гражданином которой человек состоит’; 4. Родина – ‘отечество, отчизна, государство’; 5. Родина – ‘место возникновения, зарождения чего-либо’. Сложению данной структуры признаков предшествует многовековая история их концептуализации – сложнейшая проблема в общей теме «Концепт родина в русской языковой картине мира». По мнению В.В. Колесова, «признак – всегда образ, история каждого древнего слова и есть сгущение образов – исходных представлений – в законченное понятие о предмете» [Колесов, 2000, с. 11]. Процесс «сгущения» представлений в понятие позволяет выявить и осознать историкоэтимологический анализ. В основе слова родина лежит древнерусский корень -род-, образованный от индоевропейской основы *Hordhu. По мнению этимологов, в культе Рода отразился именно индоевропейский культ Hordhu – рода, собрания потомков. В славянской мифологии бог Родъ стал воплощением рода, единства потомков одного предка, который дарует жизнь, плодородие, долголетие. В древнерусских списках языческих божеств Родъ и связанные с ним женские мифологические существа рожаницы обычно следуют непосредственно за главными богами. Возникновение признака «родина – ‘мать’» связано именно с этим архетипическим представлением о матери сырой земле. В славянской мифологии умение рождать / родить означало силу женщины и животворящую силу земли (‘способность давать урожай семенем, плодами или иным чем, производить живую растительную силу’) [Мифы, с. 450–456, 384–385]. Этот признак актуален и в сознании современных носителей русского языка. Так, по данным «Русского ассоциативного словаря», почти треть реакций (65) на слово-стимул родина представлено лексемой мать [РАС, с. 420, 428, 558]: Волгоград – город-герой, куда родина-мать зовет («Человек и закон», 1 канал, 15.02.2007); Родина – мать, умей за нее постоять (НМ, с. 87); Милая, многострадальная наша Родина! Ты равно мать всем своим детям (КО, с. 7–9); …отметил, что в столице образ Родины-матери уже запечатлен в скульптурах на Поклонной горе и в Крылатском («Вечерняя Москва», 16.05.2002). Признак родины как ‘земли, края отцов, где живут родные и близкие’ этимологически связан с наименованиями отчина, отечество и отчизна, которые являются словами, образованными от одной общеславянской основы *otьk (в старшем значении это ‘земля отцов’). Отчизна – ‘место рождения, родина’: 154 Отчизна всякому мила [СЦСРЯ, с. 140]; отечество, родина: Рыбам море, птицам воздух, а человеку отчизна вселенный круг [Даль, т. 2, с. 600]. Данное толкование нашло отражение в словаре В.И. Даля: родина – ‘родимая земля, чье место рождения’; в широком значении это ‘земля, государство, где кто родился’; в узком – ‘город, деревня’: И кости по родине плачут. Родима деревня краше Москвы. Он родимую землицу защитную в ладанке носит [Даль, т. 4, с. 11]. Родина – ‘место, где кто родился’: Здесь моя родина [СЦСРЯ, с. 67].Думается, что в современном русском языковом сознании этот признак соответствует понятию «малая родина»: ...а на состарившихся дачных улицах большими стали Колюня с друзьями, которые убожества малой родины еще не видели, но отныне владели всеми ее богатствами (А.Н. Варламов. «Купавна»); Жду вас в гости на родине моей – в северном русском городе Великом Устюге («Мурзилка», 2002, № 12); Для многих писателей и для меня тоже милая малая родина – самое притягательное место на свете (Айсли, «Известия», 14.08.2002); Прежде думал, что знания мне понадобятся только на моей малой Родине, так как никуда уезжать не собирался («Аграрный журнал», 15.02.2002); Впрочем, апологеты теории «малой родины», якобы запавшей в душу каждого столичного жителя, были бы расстроены, узнав, что Тарковский, заехав на один день в Юрьевец… был крайне раздосадован и почти не узнал город своего детства… («Известия», 05.04.2002); А родина у меня особенная: село знаменитое, у него потрясающая история («Аграрный журнал», 15.02.2002); Дедушка давно мечтал посетить места, где родился, где лежат в могиле его предки, одним словом – родину (А.Н. Рыбаков. «Тяжелый песок»). Значение родины как ‘страны, в которой человек родился’, впервые встречается в конце XVIII в. в произведениях Г.Р. Державина [Фасмер, с. 491]. На сегодняшний день это значение первично. Так, в словаре С.А. Кузнецова родина – ‘страна, в которой человек родился и гражданином которой является’; ‘отечество’. Наша р. Россия [БТСРЯ, с. 1125], в словаре Д.Н. Ушакова родина – ‘Отечество’; ‘страна, в которой человек родился и гражданином которой он состоит’. Мы любим свой язык и свою р.; ‘место рождения кого-н.’. Р. Ломоносова – деревня Денисовка близ Холмогор [Ушаков, с. 22]; в словаре С.И. Ожегова родина – ‘Отечество, родная страна’. Защита социалистической Родины [СО, с. 607]. Считаем, что данный признак соответственно актуализируется в речи в значении ‘большая родина’: Такого откровенного советского подхода к людям («раньше думай о Родине, а потом о себе») тут не слышали лет пятнадцать («Время МН», 26.07.2003); Мы боремся против религиозных и общественных организаций, финансируемых из-за рубежа, если их деятельность создает угрозу для безопасности нашей Родины, для нашей духовности и культуры («Завтра», 25.07.2003); У многих ностальгия по родине со временем притуплялась, у Георгия Владимировича, напротив, с годами обострялась («Звезда», 2003, № 6); Каков бы ни был режим – Россия наша Родина («Завтра», 22.08.2003). Использование лексем синонимического ряда «родина – отечество – отчизна» отечество и отчизна в значении ‘страна, где родился данный человек и к гражданам которой он принадлежит’ в современном русском языке является стилистически маркированным (книжн., высок.). Чаще всего они встречаются в 155 художественных произведениях (преимущественно XIX в.), в публицистике, в официальной речи, где они участвуют в создании торжественной тональности текстов. Соотношение ключевых слов концепта можно свести к понятийной оппозиции «природное» (родина) – «идеальное» (отечество, отчизна). Приведем примеры из «Большого синонимического словаря русского языка»: Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству (Н.Г. Чернышевский. «Очерки гоголевского периода русской литературы»); Это – моя родина, моя родная земля, мое отечество, – и в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе… (А.Н. Толстой. «Что мы защищаем»); Но пылала в его беспокойной крови / К милой родине чистая сила любви. / Этот взрыв до сих пор над курганом гремит, / Это пламя на стяге отчизны горит (М.А. Дудин. «Памяти военного моряка Михаила Паникако») [БССРЯ, с. 379]. Перенос значения родины как ‘места рождения кого-либо’ на ‘место возникновения, зарождения чего-либо’ также представлен в сознании русских носителей языка: На родину Шопена, Костюшко и Даниэля Ольбрыхского из далеких Соединенных Штатов Америки приехали три инструктора Таможенной службы («Криминальная хроника», 08.07.2003); Поэтому посмотрим, как это качество создается на родине продукта («Автопилот», 15.05.2002); А в США, на родине Yahoo.com – нет, так что Yahoo! без труда выиграл встречный процесс в Калифорнии («Известия», 27.02.2002); Это не только колыбель образования, но и родина регби («Туризм и образование», 15.06.2006); В 25 км от Дагомыса находится родина русского чая – селение Солохаул (Там же, 15.03.2001). Восприятие родины у каждого человека различно, поскольку отражает индивидуальное представление об этом понятии. Родине можно служить: Служи родине хорошо, как мы сказали («Октябрь», 2001, № 8). За нее сражаются: Раз ты сражаешься за Родину, то будь добр – посвяти борьбе все силы («Новый мир», 1997, № 11). Ее покидают, проведывают, к ней возвращаются: Он покинул родину в багажнике посольского автомобиля («Коммерсантъ-Власть», 1998, № 10); …чудом живым и невредимым вернулся на родину (И. Кио. «Иллюзии без иллюзий»); …потому что это было так кстати: проведав покойных родителей, проведать родину – хутор Зоричев (Б. П. Екимов. «Пиночет»). О ней помнят, ее вспоминают: …вспомнил свою родину, рязанское село на берегу узкой речки (И. Грекова. «На испытаниях»). Ей изменяют: …но рыжая сказала: «Лучше б он изменил мне, чем Родине! Мне б тогда легче было его простить! (А.И. Солженицын. «В круге первом»). По ней тоскуют, скучают: …он, как и дочь его Рахиль, скучал по родине (А.Н. Рыбаков. «Тяжелый песок»); Я оттого завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине (В.М. Шукшин. «Калина красная») и т.д. Родина может быть покинутой: Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу (К.Г. Паустовский. «Орест Кипренский»); великой: Один небритый татуированный зэк, поднимая кружку, сказал: – За нашу великую родину! За лично товарища Сталина! (С.Д. Довлатов. «Наши»); исторической или второй: Николай Владимирович Кравец, русский, нашедший в Дании 156 вторую родину («Новый мир», 2001, №№ 1–2,); Арон Купершток отбывает на историческую родину. Ура! (В.Н. Войнович. «Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру»); нашей, своей: …которые многие годы борются за правду о своей родине (Д.А. Гранин. «Месяц вверх ногами»); Да не за углом, не за поворотом – в столице нашей Родины, самом блудливом городе страны (В.П. Астафьев. «Обертон») и т.д. Рассмотрев понятийные признаки концепта на материале лексикографических источников и данных «Национального корпуса русского языка», мы предприняли попытку выявить концептуальные признаки концепта родина. Такая форма анализа позволяет отобразить национальную специфику рассматриваемого концепта как составляющей языковой картины мира. Историко-этимологический анализ ключевых слов концепта позволяет проследить, как постепенно формируется ядро – периферия в структуре концепта, выявить процессы актуализации, замещения, идеологизации определенных концептуальных признаков, основанной на исторически первичных смыслах. Библиографический список Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики. Волгоград, 1999. Воркачев С.Г. Слово «Родина»: значимостная составляющая лингвоконцепта // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2006. Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова…». СПб., 1999. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000. Колесов В.В. Ментальные характеристики русского слова в языке и в философской интуиции // Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995. Мысоченко И.Ю. Языковая картина мира: концептуальный анализ // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. трудов / отв. ред. Т.В. Симашко. Вып. 2. Архангельск, 2005. Пименова М.В. Концепт сердце: Образ. Понятие. Символ. Кемерово, 2007. Словари Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2001. (В тексте – БТСРЯ.) Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1999–2003. Кожевников А.Ю. Большой синонимический словарь русского языка. Речевые эквиваленты: практический справочник: в 2 т. Т. 2. СПб., 2003. (В тексте – БССРЯ.) Мифы народов мира: энциклопедия / гл. ред. С.А. Токарев. Т. 2. М., 1997. (В тексте – Мифы.) Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. (В тексте – СО.) Русский ассоциативный словарь. Т. 1. М., 2002. (В тексте – РАС.) Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1984. (В тексте – МАС.) Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 2. Л., 1971. (В тексте – Ссин.) Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленный вторымъ отделениемъ Императорской академiи наукъ. СПб., 1847. (В тексте – СЦСРЯ.) Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 3. М., 2000. (В тексте – Ушаков.) 157 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3. М., 1971. (В тексте – Фасмер.) Источники Кубасова О.В. Любимые страницы: учебник для 2 кл. по лит. чтению: в 2 ч. Ч. 1. Смоленск, 2002. (В тексте – КО.) Новицкая М.Ю. Введение в народоведение: родная земля: учебник для 4 кл.: в 2 ч. Ч. 1. М., 2003. (В тексте – НМ.) Е.А. Пименов Религиозные и национальные признаки концептов дух, spirit и Geist Язык играет важную роль в процессе познания. С его помощью человек кодирует и перерабатывает информацию о мире. Мир есть организованная иерархия различных одновременно осуществляющихся способов существования человека как существа природного, социального, практического, духовного, включенного в отношения со значимой и соотносимой с ним объективной реальностью. Мир человека есть способ организации и развития его жизнедеятельности в определенной культурной форме, в имеющемся культурном пространстве. Картина мира включает в себя элементы окружающей действительности, оценочно осмысленные национальным языковым сознанием на основе жизненного и творческого опыта. Это – целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека. Еще В. фон Гумбольдт отмечал, что «язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [Гумбольдт, 1984, с. 48]. Языковая картина мира, продукт распредмечивания действительности, суть иерархически ценностно выстроенной вербализованной понятийной системы, базирующейся на человеческих представлениях о мире [Красавский, 2001, с. 23]. Языковая картина мира представляет собой неотъемлемую составную часть общей концептуальной картины мира, которая включает в себя знания социума о предметах объективной действительности, знания и представления народа о внешнем и внутренним мире. Эти знания формируются в виде системы концептов. Язык отражает процесс познания, выступая как основное средство выражения мысли. Язык начинает восприниматься как путь, по которому можно проникнуть не только в современную ментальность, но и в воззрения древних людей на мир, на общество и на самих себя. В центре внимания исследователей оказывается проблема взаимодействия человека, языка и культуры. Каждому языку присущ свой способ концептуализации действительности, который имеет специфические национальные и универсальные черты. «Мышление, язык кажутся нам теперь единственным в своем роде коррелятом, картиной мира» ______________ © Пименов Е.А., 2009 158 [Витгенштейн, 1994, с. 124]. Носители разных языков, по мнению В. фон Гумбольдта, видят мир по-разному, через призму своих национальных языков: «Язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт, 1984, с. 304]. Язык в свою очередь передает определенное «видение» мира народа, и это «видение» имеет ряд своих особенностей. Сформировавшаяся антропологическая парадигма знаний исходит из допущения того, что человек познает мир через осознание своей практической и теоретической деятельности в нем. «Язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся языковая категоризация объектов и явлений внешнего мира ориентирована на человека; это общая черта всех языков. Каждый язык национально специфичен. При этом в языке отражаются не только особенности природных условий и культура, но и своеобразие национального характера его носителей» [Вежбицкая, 1997, с. 21]. Основной термин, используемый когнитивной лингвистикой, – концепт. Посредством концепта изучается ментальность народа. В.В. Колесов пишет, что концепт культуры «в границах словесного знака и языка в целом предстает в своих содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [Колесов, 1999, с. 81]. Исследователь отмечает, что «в данном случае под концептом следует понимать не CONCEPTUS (условно передается термином “понятие”), а CONCEPTUM – “зародыш, зернышко” первосмысла, из которого и произрастают в процессе коммуникации все содержательные формы его воплощения в действительности» [Там же]. Таким образом, в позиции В.В. Колесова прослеживается мысль о том, что концепт – это первооснова, фундамент, который «диктует говорящим на данном языке, определяет их выбор, направляет мысль, создавая потенциальные возможности языка-речи» [Там же, с. 36]. Одним из ведущих направлений когнитивной науки является изучение знаний, используемых в ходе языкового общения. У терминов «значение» и «концепт» важными и дифференцирующими выступают когнитивные и коммуникативные факторы существования языка. Так, когнитивная сторона языкового знака (концепт) относится к субъективному его содержанию, это проявляется в сочетаемостных свойствах того или иного языка. Отсюда – возникновение окказионализмов. Коммуникативная сторона (значение) определяется использованием знака для передачи некоторого общего знания. В языковой картине мира содержится большая информация о системе ценностей народа, об особенностях видения и представления отдельным человеком. В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин отмечают, что «лингвокультурный концепт отличается от других ментальных единиц акцентуацией ценностного элемента. Центром концепта всегда является ценность, поскольку концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит именно ценностный принцип» [Карасик, Слышкин, 2001, с. 77]. Ценностная составляющая структур концептов отображает не только систему ценностей, свойственную конкретной культуре, но и способы вторичной концептуализации, относящейся к сфере внутреннего мира человека. При этом каждая культура идет двумя путями познания: используя общечеловеческие и национально специфические категории познания (см. подробнее [Пименова, 2004]). 159 В тексте Библии частотно выражение нищие духом. Такому состоянию духа дается оценка – люди, которые нищие духом, блаженны (Мф. 5: 3; Лк. 6: 20). В русской, английской и немецкой концептосферах признак нищеты духа был расширен. Рассмотрим это явление на примере признаков ‘богатство’ и ‘бедность’, отмеченных у концептов дух, spirit и Geist [Пименова, Пименов, 2004, с. 57–62]. При помощи признака ‘богатство’ у концепта Geist могут быть описаны ситуации остроумия (Geistreichelei «остроты»). В русском языке этот признак у концепта дух совмещается с национальным признаком: Увы! Все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека, но… может быть, в сей же повести почуются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самопожертвования (Н.В. Гоголь. «Мертвые души»). Богатство духа в русском означает духовную гармонию, бедность духа – духовную нищету, ср. в английском: to be concerned about one’s spiritual welfare, где welfare – ‘благосостояние, благополучие’; to be in royal spirits «быть в ударе», где royal – ‘разг. роскошный; королевский’; a money-making spirit, где money-making – ‘стяжательский’; poor in spirit Bible; poor-spirited «трусливый, малодушный», букв. ‘духовно бедный’; In poor spirits; geistreich «остроумный», букв. ‘богатый духом’. Ср. также в немецком: in Gesellschaft geistreichelt er gerne «в обществе он судорожно пытался острить», букв. «пытался [показать себя] богатым духовно». Признак ‘бедность’ у концепта spirit используется для описания настроения: poor spirits «уныние; упадок духа»; You’ll been in poor spirits for so long, a little amusement will do you good (S. Maugham. «A man with a conscience»). Немецкий концепт Geist при помощи признака ‘бедность’ реализует значение ‘болезнь’ (Geistarmut «душевное заболевание», букв. ‘нищета духа’, geistige Behinderung «душевное заболевание», букв. ‘духовное’). Другими словами, социальные признаки ‘бедность’ и ‘богатство’ способны выразить в духовной сфере деятельности человека как умственные способности и знания, так и психическое его состояние. Ценностная составляющая концепта дух восходит к религиозным представлениям о триипостасности Бога: третья ипостась Бога – Дух Святой. Для русского, немецкого и английского народов христианство является общей религией (вопрос о православии, католичестве и протестантизме в данной статье не затрагивается) и, следовательно, текст Библии повлиял на общность признаков концептов дух, spirit и Geist у этих народов. Каким предстает дух в Библии? Каковы его основные концептуальные признаки? Дух – третья ипостась Бога, чистый дух: Дух Божий носился над водою (Быт. 1: 2); Бог есть дух (Ин. 2: 24). Дух является создателем человека: Дух Божий создал меня (Иов 30: 4); Дух животворит (Ин. 6: 63). Именно Дух Божий есть свет в человеке: Светильник Господень – дух человека (Пр. 20: 27). Дух – способность к провозглашению истины, к провидению, пророчеству, предвидению: человека, в котором был бы Дух Божий (Быт. 41: 38); есть дух пророчества (Отк. 19: 10); На нем был дух Господень (Суд. 3: 10); Дух истины, 160 который от Отца исходит (Ин. 15: 26). Истина и дух уравниваются, в этом случае дух, истина и Бог являются синонимами: Когда же приидет он, Дух истины (Ин. 16: 13). Дух – небожественное в человеке, бес, нечистый (дух): когда нечистый дух выйдет из человека (Мф. 12: 43; Лк. 11: 24); нечистого духа удалю с земли (Зах. 13: 2). Дух есть жизнь: в котором есть дух жизни (Быт. 6: 17; 7: 15); Ибо я скоро умолкну и испущу дух (Иов 13: 19); в твою правую руку предаю дух мой (Пс. 30: 6); все, что имело дыхание духа жизни (Быт. 7: 22). Бог дарует жизнь. После смерти человека его дух возвращается к Богу: а дух возвратился к Богу (Ек. 12: 7); Господи Иисусе, прими дух мой (Деян. 7: 59). Дух животных уходит в землю: дух животных сходит ли вниз, в землю? (Ек. 2: 21). Дух есть воздух: испустил Исаак дух и умер (Быт. 35: 29); дух Божий в ноздрях моих (Иов 27: 3). Дух есть нематериальная часть человека: дух всякой человеческой плоти (Иов 12: 10); покрою вас кожей, и введу в вас дух (Иез. 37: 6); дух бодр, плоть же немощна (Мф. 26: 41); ибо дух плоти и костей не имеет (Лк. 24: 39). Человек состоит не только из плоти, но и из духа и души: ваш дух и душа и тело во всей целостности (1 Фес. 5: 23). Дух есть призрак: тогда ожил дух Иакова, отца их (Быт. 45: 27). Дух есть физическое состояние человека: Господь послал на него дух опьянения (Ис. 19: 14); ибо навел на вас Господь дух усыпления (Ис. 29: 10). Этот признак не свойственен ни русской, ни английской картине мира (см. подробнее: [Пименова, 2004]). Дух есть смелость, храбрость: Он укрощает дух князей (Пс. 75: 13). Дух есть настроение, эмоциональное состояние: Тогда успокоился дух их против него (Суд. 8: 3); дух злой отступал от него (1 Цар. 16: 23); от духа гнева Его (Иов 4: 9); сокрушение духа (Пр. 15: 4); суета и томление духа (Ек. 1: 14). Дурное расположение духа воздействует на плоть: а унылый дух сушит кости (По. 17: 22). Дух – волеизъявление, желание: куда дух хотел идти, туда и шли (Иез. 1: 12). Интересна стихийная дифференциация признаков духа. Дух предстает как воздух, когда описываются эмоции: от дуновения духа гнева его (2 Цар. 22: 16; Пс. 17: 16), и жизнь-воздух: испустил дух (Мк. 15: 37; 15: 39). Дух описывается как вода для передачи ситуаций благословения: вот, изолью на вас дух мой (Пр. 1: 23), а также испытания благих чувств: изолью дух благодати и умиления (Зах. 12: 10). Н.Д. Арутюнова определяет концепты как «понятия обыденной философии», которые возникают «в результате взаимодействия таких факторов, как национальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы искусства, ощущения и системы ценностей» [Арутюнова, 1998, с. 3]. Таким образом, согласно данному подходу концепт является отражением определенных ценностей общества, хранящихся в сознании индивидуумов, привнесенных религиозными контекстами. 161 В Библии основными ценностями духа выступают премудрость, знание, благодать и благочестие, праведность, совесть (рациональные и религиозно-этические ценности): которых я исполнил духа премудрости (Исх. 28: 3); дух премудрости (Вт. 34: 9); дух ведения и благочестия (Ис. 11: 2); но дух жив для праведности (Рим. 8: 10); дух благодати (Евр. 10: 29); совесть моя в духе Святом (Рим. 9: 1). Ценность духа подчеркивается необходимостью его спасения: чтобы дух был спасен (1 Кор. 5: 5). Ценность духа заключается в его способности прямого общения с Богом: хотя дух мой и молится (1 Кор. 14: 14). Дух Божий есть благо для человека: Ты дал им Духа Твоего благого (Неем. 9: 20). Благо, даруемое человеку в виде духа, не может быть измеряно и не имеет эквивалента ценности: ибо не мерою дает Бог Духа (Ин. 3: 34); получите Дар Святого Духа (Деян. 2: 38). Язык является одной из форм отражения культуры и может быть самой значимой формой, в том числе и в плане той информации, которая может быть получена на основе его анализа, так как в языке фиксируются и воспроизводятся социальные, этические, этнические и идеологические концепты и стереотипы, которые характеризуют менталитет, образ жизни, социальные, этические, культурные ценности, нормы поведения определенного этноса. Существует культурная картина мира, внутри которой функционируют дополнительные компоненты: политические, экономические, художественные; одним из важнейших является религиозный компонент. Все эти компоненты составляют такой феномен, как культурная картина мира. Каждая культурная картина мира наделена специфическими чертами. Большое влияние на культурную картину мира оказывает история народа. Это проявляется при исследовании структур концептов [Пименова, Пименов, 2004, с. 57–62]. Так, например, немецкий народ в своей истории сталкивался с другими народами, общение с которыми позволило ему отделить собственные качества от качеств, присущих иным народам. Такое познание отпечаталось в структуре концепта Geist. В структуру данного концепта входят признаки ‘немецкий’ и ‘турецкий’. Признаками ‘немецкий’ и ‘турецкий’ определяется особая – духовная – жизнь человека и народа: die Entwicklung des deutchen Geisteslebens; Istanbul, wo dem Bundespräsidenten nach Gesprächen mit Vertretern des türkichen Geisteslebens … die Ehrendoktorwürde … verliehen wird (Welt). Русский народ исторически взаимосвязан с другими народами, что также наложило отпечаток на концептосферу внутреннего мира. В русской языковой картине мира частотным выступает признак ‘русский дух’: русский дух; русским духом пахнет (фольк.). Русский дух – это традиционный уклад жизни народа, традиционный пейзаж: Там русский дух! Там Русью пахнет! (А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила»). Сила и величие духа – в единстве народа: Какой великий дух в вождях!; Свершило храбрых россов рвенье; / Великий дух был вместо крыл (Г.Р. Державин. «На взятие Измаила»). Для русской культуры важнейшими характеристиками русского духа является православная идея мученичества: А на стене над ними [иконами. – Е.П.] – прекрасный портрет нашего страстотерпца, мученика глубин русского духа, Достоевского (К.Д. Бальмонт. «Рознь»). Концептом дух, определяемым признаком ‘русский’, передается сложное значение ‘манеры 162 поведения, внутреннего настроя, настроения’: Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка (Л.Н. Толстой. «Война и мир»). Признак ‘немецкий’ у концепта дух позволяет передавать значение ‘традиции, обычаи народа’: Словом, он [Гаврила Афанасьевич Ржевский. – Е.П.] был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины (А.С. Пушкин. «Арап Петра Великого»); – Да и мне они не по сердцу: ветрогон, слишком набрались немецкого духу (Там же). В Библии национальные признаки концепта дух не упоминаются вовсе. Менталитет представляет специфику отражения мира (как внешнего, так и внутреннего мира человека), специфику, которая детерминирует свои способы реагирования (то есть поведения, в том числе и речевого) достаточно большой общности людей. Язык можно было бы назвать народной энциклопедией, фиксирующей все знания и опыт предыдущих поколений. В языке хранится все, что было познано народом на протяжении своей истории существования, «язык и интеллектуальный уклад ввиду их постоянного взаимодействия нельзя отделить друг от друга» [Гумбольдт, 1984, с. 196]. Особую область исследования образуют работы, посвященные процессам познания. Язык ни на одном этапе своего развития не выступает в качестве самостоятельной креативной силы и не создает своей собственной картины мира, он лишь фиксирует концептуальный мир, первоначальным источником которого является реальный мир. При анализе языкового мышления и познания мира следует исходить из следующего понимания мира: 1. Мир является единым для всех. Хотя люди живут в различных частях мира и для них характерны различные психологические и ментальные миры, данные миры, взятые в целом, являются едиными для всех. Однако языки нам преподносят иное: вúдение мира каждого народа, помимо черт универсальности, обладает этноспецификой. 2. Мир носит континуумный характер. Человек делит мир как физически (с помощью границ и социальных установок), так и с помощью языка. Познавательные концепты противопоставлены художественным концептам. В художественном концепте заключены понятия, представления, чувства, волевые акты. Как пишет Л.Ю. Буянова, «каждый художественный текст / дискурс можно интерпретировать как личность, завершившую речевой акт, но не перестающую мыслить. Множество интерпретаций, множество воспринимающих, множество ассоциаций, связанных с перцепцией каждого конкретного текста, характеризуются неопределенностью и непредсказуемостью реакции. Художественный концепт является как бы заместителем образа, в силу чего природа художественного освоения мира отличается эмоционально-экспрессивной маркированностью, особым словесным рисунком, в котором красками выступают эксплицируемые вербальными знаками образы и ассоциативно-символьные констелляции» [Буянова, 2002, URL]. В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин в работе «Лингвокультурный концепт как единица исследования» рассматривают проблему концептуальных исследований. Они выдвигают несколько важных принципиальных положений, в частности: 163 1. Лингвокультурный концепт – условная ментальная единица, используемая в комплексном изучении языка, сознания и культуры. 2. Соотношение лингвокультурного концепта с тремя назваными сферами может быть сформулировано следующим образом: 1) сознание – область пребывания концепта (концепт лежит в сознании); 2) культура детерминирует концепт (то есть концепт – ментальная проекция элементов культуры); 3) язык и / или речь – сферы, в которых концепт опредмечивается [Карасик, Слышкин, 2001, с. 76. Исследования по сопоставлению концептуальных сфер показывают, что существуют фрагменты картин мира, которые были особенно полезны при анализе различных культур: они оказываются лексически воплощенными во всех языках мира. Эти фрагменты дают нам возможность говорить о духовном единстве человечества, несмотря на разнообразие мировых культур. Концептуальные универсалии могут быть обнаружены только путем концептуального анализа, основанного на данных многих языков мира. Библиографический список Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998. Буянова Л.Ю. Концепт «душа» как основа русской ментальности: особенности речевой реализации // Культура. 2002. № 2 (80). URL: http://www.relga.rsu.ru. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, 2001. Колесов В.В. Тезисы о русской ментальности // Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова…». СПб., 1999. Красавский Н.А. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 2001. Пименова М.В., Пименов Е.А. Антропоморфизм психических составляющих человека // Историческая психология, психоистория, социальная психология: общее и различия. СПб., 2004. Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации. Кемерово, 2004. Т.С. Медведева Концепт судьба в русской и немецкой лингвокультурах Концепт судьба присутствует в мифологических, религиозных, философских, этических системах многих народов. Тема судьбы привлекала внимание отечественных религиозных философов Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, А.Ф. Лосева, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, а также немецких философов А. Шопенгауера, Ф. Ницше, Ф. Шеллинга и др. Концепту судьба в русской лингвокультуре посвящено значительное количество исследований. А. Вежбицкая справедливо отмечает уникальность данного концепта и распространенность его репрезентаций как в повседневном речевом ______________ © Медведева Т.С., 2009 164 общении русских, так и в произведениях русской классической и народной литературы [Вежбицкая, 1997, с. 33]. В.И. Карасик обращает внимание на тот факт, что концепты судьба и душа наиболее часто оказываются предметом изучения отечественных ученых, что позволяет признать эти концепты культурными доминантами русской ментальности [Карасик, 2002, с. 157]. А.Д. Шмелев полагает, что слово судьба не случайно оказывается одним из самых характерных слов русского языка, так как оно соединяет в себе две ключевые идеи русской картины мира: идею непредсказуемости будущего и представление, согласно которому человек не контролирует происходящие с ним события. Ученый отмечает, что эти идеи присутствуют в понятии судьбы не одновременно, а сменяют друг друга, когда решается судьба. Приводимые автором сентенции Такая уж у меня судьба; не судьба была встретиться; Значит, не судьба представляют собой формулы «примирения с действительностью», характерные для русской речи [Зализняк, Левонтина, Шмелев, 2005, с. 455–456]. В.В. Колесов, анализируя русскую ментальность в категориях языка, приходит к выводу о многогранности судьбы: судьба – это проявление многих видовых оттенков; это и доля, и участь, и удача, и знаменитый русский авось [Колесов, 2006, с. 536–545]. В работах, посвященных немецкой ментальности, отсутствует выделение данного концепта в качестве значимого элемента немецкой концептосферы. В глубоком и детальном исследовании немецкой ментальности Б. Нусс анализирует, в терминологии В.И. Карасика, «немецкие ценности», или «немецкие культурные доминанты», которые скорее противопоставлены концепту судьба: Ordnung, Streben, Sicherheit, Fleiß [Nuss, 1993, S. 49–63, 123–134 и др.]. Автором высказывается идея, что немец вследствие своего основного качества Lebensdrang (букв. «жизненный натиск») вопреки всем препятствиям пытается das Schicksal erzwingen (букв. «усмирить судьбу»). В более современных исследованиях немецкого менталитета данные идеи развиваются, и на первый план также выдвигаются Ordnung, Fleiß, Leistungsfähigkeit, Disziplin, Sauberkeit [Bausinger, 2005, S. 82], Sachorientierung, Zeitplanung, internalisierte, regelorientierte Kontrolle [Schroll-Machl, 2003, S. 34]. Таким образом, для немецкого менталитета, в противоположность русскому, значимыми являются идеи предсказуемости будущего и контроля за событиями. Предметом рассмотрения в настоящей публикации является репрезентация концепта судьба в русской и немецкой лингвокультурах на материале лексикографических источников и текстов разных типов. По данным исследований российских лингвистов, выделяются от двух до девяти значений имени концепта судьба. Основными значениями являются ‘события в чьей-либо жизни’ и ‘таинственная сила, определяющая события в чьейлибо жизни’ [Зализняк, Левонтина, Шмелев, 2005, с. 30]. В.П. Москвин в результате анализа контекстуальных реализаций имени концепта и его синонимов выявил также значения: ‘волеизъявление высшей силы’; ‘волеизъявление’; ‘то, что суждено’; ‘жизнь’; ‘будущее’; ‘история’ [Цит. по: Карасик, 2002, с. 171–172]. 165 Анализ данных современных немецких лексикографических источников позволяет выявить следующие значения лексемы Schicksal: a) ‘von einer höheren Macht über jmdn. Verhängtes, was sich menschlicher Berechnung und menschlichem Einfluss entzieht und das Leben des einzelnen Menschen entscheidend bestimmt’; b) ‘höhere Macht, die das Leben des Menschen bestimmt und lenkt’. Оба лексикосемантических варианта указывают на наличие высшей силы, определяющей жизнь людей, а в первом значении имеется указание на наличие результата воздействия этой силы, неподвластной воле человека. Представляется необходимым отметить, что немецкая дефиниция имплицирует негативные коннотации, которые содержатся в субстантивированном причастии от глагола verhängen, ср.: ‘eine Strafe über jmdn. verhängen’ (присуждать кого-либо к наказанию). Сопоставление семантики имен концептов позволяет заключить, что русская лексема отличается более широким смысловым объемом по сравнению с немецкой лексемой, а также обладает рядом нейтральных лексикосемантических вариантов. Синонимами имени концепта в русском языке являются лексемы судьбина, рок, удел, жребий, доля, участь, предназначение, предопределение, провидение, промысел, фатум, фортуна. За исключением частотного и нейтрального имени концепта остальные лексемы синонимического ряда так или иначе маркированы: судьбина (устар., высок.), рок (устар., поэт.), фатум (книжн.), жребий (книжн., устар.), промысел, провидение относятся к религиозному дискурсу, доля, талан (поэт., просторечное). В немецком языке соответствующий синонимический ряд представлен незначительным количеством единиц: Fügung, Geschick, Verhängnis, Fatum, Los, из которых два последних слова снабжаются в современных лексикографических источниках пометой «высокое». Лексема das Verhängnis имеет ярко выраженные негативные коннотации, лексемы Fügung и Geschick в плане коннотации нейтральны, однако, по сведениям немецких информантов, употребляются в речи крайне редко. Сопоставление устойчивых словосочетаний и фразеологизмов русского и немецкого языков показывает, что некоторые русские словосочетания являются безэквивалентными, например: Какими судьбами! Не судьба! Ряд русских и немецких фразеологических единиц выражают аналогичные смыслы: от судьбы не уйдешь – er wird seinem Schicksal nicht entrinnen / entgehen; смириться со своей судьбой – sich in sein Schicksal finden / ergeben; роптать на судьбу – mit seinem Schicksal hadern. В исследуемых языках имеются устойчивые словосочетания, выражающие идею возможности влияния на свою судьбу: изменить, решить (свою) судьбу; устроить (свою) судьбу; sein Schicksal meistern; dem Schicksal entgegentreten; das Schicksal erzwingen. Анализ сочетаемости имени концепта Schicksal показывает, что превалируют явно выраженные негативные коннотации, подчеркивающие враждебный характер судьбы по отношению к человеку: Schicksalsschlag, Schicksal straft, Opfer feindseligen Schicksals. О возможности актуализации негативных коннотаций в семантике имени концепта свидетельствует также заголовок статьи из современной немецкой прессы Globalisierung als Schicksal, что явствует из ее содер166 жания. Глобализация представлена в качестве неумолимой, неподвластной воле человека силы, перед которой люди испытывают чувство беспомощности. В русских пословицах и поговорках выражается амбивалентное отношение к судьбе: На Бога надейся, а сам не плошай; Не нашим умом, а Божьим судом; Что ни делается – все к лучшему; Судьба придет – по рукам свяжет; Своя воля – своя и доля; Придет судьбина, не отгонит и дубина; Авось кривая вывезет; Чему бывать, того не миновать; От суженого на коне не уедешь. В немецких пословицах высказываются идеи о том, что у каждого человека своя судьба: Kurz und dick hat sein Geschick; судьбу изменить нельзя: Seinem Geschick kann niemand entgehen; Was einem das Schicksal bestimmt, kann einem niemand nehmeп; с судьбой можно бороться, но судьба сильный враг: Wer gegen das Schicksal kämpft, hat einen schlimmen Feind; человек может «сделать» свою судьбу: Der eine macht sich das Schicksal selber, der andere bekommt es fertig. Таким образом, анализ паремий показывает, что в целом смыслы, заключающиеся в русских и немецких пословицах и поговорках, являются сходными, их различает лишь расстановка акцентов. При исследовании репрезентации концепта судьба невозможно обойти вниманием современное русское песенное творчество, в котором имя концепта является чрезвычайно распространенным. Тексты песен, многократно повторяемых по радио и телевидению, являются своего рода прецедентными, известными практически каждому носителю русского языка, и оказывают влияние на представление о концепте в обыденном сознании. Показательно, что в рассматриваемых текстах превалируют скорее позитивные, чем негативные коннотации. К судьбе можно обратиться, она персонифицируется: Судьба, судьба, судьбинушка, / Будь ласкова со мной; Ах судьба моя, скажи, почему; Судьба, прошу, не пожалей добра; судьба играет значительную роль в счастливой и несчастливой любви: Вот и свела судьба нас; Скажи, узнать мы могли откуда, / Что ты моя, а я твоя любовь и судьба; Видно, не судьба, видно, нет любви; Сэра, что же так жестоко нас развела судьба; часто реализуется наиболее общее значение «судьба – жизнь»: Все, что в жизни есть у меня, / Все, в чем радость каждого дня, / Все, что я зову своей судьбой, / Связано только с тобой; Наша крыша – небо голубое, / Наше счастье – жить такой судьбою; Судьбе не раз шепнем «merci beaucoup». Приведенные примеры являются весьма небольшим фрагментом репрезентации концепта в русском песенном творчестве. В немецком песенном творчестве концепт судьба не представлен. По данным немецких информантов, в немецкой разговорной речи репрезентации концепта используются крайне редко и лишь в негативном смысле. Приведенные в публикации языковые факты указывают на более позитивное отношение к концепту судьба в русском языковом сознании, что выявляется при сопоставлении с репрезентацией концепта в немецкой лингвокультуре. Таким образом, можно констатировать существенные различия в понятийном и ценностном компонентах данного концепта в русской и немецкой лингвокультурах. Библиографический список Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997. 167 Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2006. Bausinger H. Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen. München, 2005. Nuss B. Das Faustsyndrom. Ein Versuch über die Mentalität der Deutschen. Bonn, 1993. Schroll-Machl S. Die Deutschen – Wir Deutsche. Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben. Göttingen, 2003. Л.В. Адонина, О.С. Фисенко Концепт гроза в обыденном сознании носителей русского языка В настоящее время актуальными являются исследования форм языкового представления информации, отражающей различные уровни познавательной деятельности человека; систематизация имеющихся в современной науке подходов и способов изучения обыденного сознания и его языковой фиксации; разработка когнитивно-лингвистической методики исследования концепта. Данная статья посвящена комплексному анализу языковой объективации концепта гроза в русской языковой картине мира как отражении познания мира обыденным сознанием. Работа выполнена в рамках лингвистической концептологии – лингвокогнитивной науки, ставящей своей целью моделирование концептов как единиц национальной концептосферы на основе языковых средств, в частности, используется методика описания концептов, предложенная в работах [Попова, Стернин, 2001; 2002; 2003]. Исследовательский материал составили результаты свободного ассоциативного эксперимента, проведенного в 2002–2003 гг. среди жителей Кемеровской области (всего опрошено 1020 человек), и дополнительного перцептивного эксперимента, проведенного для выявления образного компонента изучаемого концепта, участие в котором приняло 100 человек. В качестве вспомогательного материала привлечены тексты русской художественной литературы XIX–XX вв. Концепт гроза в обыденном сознании имеет сложную структуру – это комплексное образование, которое включает информационно-понятийный, образный компоненты и интерпретационное поле. Рассмотрим каждую из составляющих. Информационно-понятийный компонент концепта является наиболее объемным по составу, включает основные знания и представления носителей обыденного сознания о грозе как собственно атмосферном явлении и образуется следующими когнитивными компонентами: молния, гром, осадки, состояние атмосферы, ветер. Когнитивный компонент «Молния». Молния является самым распространенным атмосферным световым явлением, входящим в состав грозы. В обыденной картине мира когнитивный классификатор атмосферные световые явления, представленный признаком ‘мгновенный искровой разряд скопившегося в воз______________ © Адонина Л.В., Фисенко О.С., 2009 168 духе атмосферного электричества’ (151), включает в себя реакции, принадлежащие центральной ядерной зоне – молния 146 и периферии ассоциативного поля – молнии 4, а также это же слово с союзом и: и молнии 1. Ср.: Вот пробилась из-за тучи / Синей молнии струя – / Пламень белый и летучий / Окаймил ее края (Ф.И. Тютчев); Где-то громыхало, вспыхивали молнии, озаряя купол парашюта (Д.А. Гранин); Тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина (М.А. Булгаков). Классификатор яркость включает когнитивный признак ‘испускающая сияние’ (12) – свет 3, вспышка 2, вспышка на небе 1, искры 1, сверкает молния 1, яркие вспышки молний 1, яркий блеск молнии 1. Ср.: Сверкнуло и ударило над самым холмом (М.А. Булгаков); Давай! – негромко скомандовал он, взмахнул, и тотчас, включая грозу, вспыхнула молния (Д.А. Гранин); Гром грохотал, не переставая, и сверкала молния, прорезывая огненным зигзагом черные, нависшие тучи (К.М. Станюкович). Конституенты огненная 1, полыхает 1, представленные в ассоциативном поле единичными реакциями, восходят к древней традиции отождествления молнии и огня, отразившейся даже в научных представлениях XVIII в. Ср. в текстах: Туча ворчала, и из нее время от времени вываливались огненные нити (М.А. Булгаков). Когнитивный классификатор внешний вид представлен признаком ‘шаровая’ (3) – шаровая молния 3. Присутствие данной реакции в периферии ассоциативного поля говорит о том, что подобное явление, как одно из самых необычных, вызывающих сильную эмоциональную реакцию человека, наблюдается в обыденной жизни достаточно редко: Он улетал в страну своего будущего, пронизанную электрическими бурями и вихрями, навстречу полярным сияниям, грозам, шаровым молниям, в непознанный хаос, окружающий Землю (Д.А. Гранин). Классификатор цвет включает в себя признак ‘красный’ (2) – красное пламя молний 1, стрелы красного цвета на темном небе 1: Красная молния прорезала небо наискосок (Д.А. Гранин). Когнитивный классификатор электрический потенциал демонстрирует, что в обыденной картине мира зафиксированы знания об электрической природе молнии – ‘электрический заряд’ (3) – разряды молнии 2, электрический разряд 1. Когнитивный компонент «Гром» в обыденной картине мира представлен признаком ‘наличие звука’, входящим в когнитивный классификатор акустическая характеристика (146) – гром 130, гремит 3, гром гремит 3, грохот 3, раскаты 3, удар 2. Ах, опять этот гром! (Ф.М. Достоевский); Уже гремит гроза, вы слышите? (М.А. Булгаков); Гром взорвался над головами, сотрясая воздух (Д.А. Гранин). Для обыденной картины мира свойствен антро- и зооморфизм. Например, грозовые облака представлены быками и коровами: Ревнул вол за сто гор, за сто речек; Заржал жеребец на Сионской горе, Услыхала кобыла на Русской земле; Сивый жеребец на все царства ржет; Ржет жеребец на перегороде, Слышно его голос в Новгороде (гром); Тур ходит по горам, турица-то по долам; Тур свистнет, турица-то мигнет (гром и молния). Природное явление воспринимается по аналогии с живым существом, что подтверждают экспонен169 ты рев грозы 1, поет 1: Там в ковыльных просторах ревет гроза... (С.А. Есенин); Ревут валы, / Поет гроза! (С.А. Есенин). Обыденным сознанием гром воспринимается также как ‘кара, наказание свыше’ (1) – гром небесный 1, ‘неожиданно обрушившееся несчастье, беда’ (1) – гром среди ясного неба 1, ‘угроза’ (1) – метать громы и молнии 1, ‘клятвенное заверение в чем-либо’ (1) – разрази меня гром 1. Существенным признаком развития грозы является характер звучания грома – гремит 3, гром гремит 3, грохот 3, раскаты 3, удар 2: Удары грома и блистания становились реже (М.А. Булгаков); Но опять прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли золотых идолов во тьму (М.А. Булгаков). Когнитивный компонент «Осадки» является самым объемным по численным показателям в ассоциативном поле, в котором он представлен двумя когнитивными классификаторами. Признаки ‘жидкие’ (169), ‘твердые’ (31) экспонируют когнитивный классификатор виды явления (200) – дождь 149, град 31, ливень 4, осадки 4, дожди 3, льет дождь 3, шумит дождь 2, и сильный дождь 1, грозовые дожди 1, и сильный ливень 1, ливень с грозой 1. Ср.: – Давай! – негромко скомандовал он, взмахнул, и тотчас, включая грозу, вспыхнула молния. Еще. Еще. И крупный, сильный дождь наполнил парк плещущим шумом (Д.А. Гранин); После грозовых дождей последних дней наступила холодная, ясная погода (Л.Н. Толстой). Дождь во время грозы в народных представлениях – это ‘защита от огня’: В грозу дождик льет, чтобы мать сыра-земля не загорелась. Другим атмосферным явлением, сопутствующим грозе, является град 31: Если бы не рев воды, если бы не удары грома, которые, казалось, грозили расплющить крышу дворца, если бы не стук града, молотившего по ступеням балкона, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривая сам с собой (М.А. Булгаков). Обыденное сознание связывает грозу с интенсивными осадками в виде дождя и града. Классификатор интенсивность включает когнитивный признак ‘значительный по степени проявления’ (7) – ливень 4, и сильный дождь 1, и сильный ливень 1, льет ливень с грозой 1: Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу (И.А. Бунин). Когнитивный классификатор источник образования включает признак ‘облака’ (12) – облака 3, туча 3, грозовые тучи 2, все небо в облаках 1, грозовые облака 1, грозные тучи 1, низкие облака 1: На небе сходились тяжелые, грозные тучи... (Н.С. Гумилев); Грозовые тучи утонули на северо-востоке (А.Н. Толстой). Когнитивный классификатор цвет (5) представлен признаками ‘лиловый’ (1), ‘серый’ (3), ‘черный’ (1) – лиловые тучи 1, серые тучи 3, черная туча 1. Ср.: – Кажется, гроза, – отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу (Ф.М. Достоевский); Кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник (М.Ю. Лермонтов). Когнитивный компонент «Состояние атмосферы». В обыденной картине мира классификатор характер видимости (9) представлен признаками ‘отсут170 ствие света, освещения’ (3) – мрак 1, темно 2, ‘отсутствие видимости’ (6) – пасмурно 2, черное небо 2, темное небо 2. Настала полутьма, и молнии бороздили черное небо (М.А. Булгаков); Лежащий на ложе в грозовом полумраке прокуратор сам наливал себе вино в чашу, пил долгими глотками... (М.А. Булгаков). В силу интенсивности проявления, гроза вызывает резкие колебания температуры воздуха. Классификатор температура представлен в обыденной картине мира признаком ‘низкая’ (1) – холодно 1. Когнитивный классификатор влияние на погоду в обыденном сознании характеризуется признаком ‘перемена погоды’ (3) и включает полярные оценочные экспоненты: ухудшение погоды 2, после грозы наступает хорошая погода 1. Ср.: Где гроза, тут и ведро; После грозы ведро, после горя радость; Отколе гроза, оттоле и ведро. Обыденная картина мира отражает также изменения, происходящие после грозы в воздушном слое атмосферы. Классификатор степень влажности включает признак ‘насыщенный влагой’ (2) – <на улице; в воздухе>… мокро 2. Классификатор производимые химические изменения характеризуется признаком ‘насыщенность воздуха кислородом’ (2) – озон 1, свежесть 1. Ср.: Вечерний воздух к тому же и сладостен, и свеж после грозы (М.А. Булгаков); Одного только меня не освежит гроза (А.П. Чехов); Она <гроза> прошла, очистив воздух, освежив зелень (Д.А. Гранин). Когнитивный компонент «Ветер». Классификатор интенсивность представлен когнитивным признаком ‘значительный по степени проявления’ (14) – ужасный ветер 3, ветер 6, сильный ветер 1. Исписанные Иваном листки валялись на полу; их сдуло ветром, влетевшим в комнату перед началом грозы (М.А. Булгаков). Показателем особой интенсивности являются конституенты ураган 2 – ‘ветер разрушительной силы’ и шквал 2 – ‘резкое усиление ветра в течение короткого времени, сопровождающееся изменениями его направления’: Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган (М.А. Булгаков). Рассмотрим качественные и количественные признаки концепта Когнитивный компонент «Темпоральность». Несмотря на то, что проблема описания категории пространства и времени поднималась в языкознании неоднократно (труды Е.С. Яковлевой, А.В. Кравченко, М.Ю. Всеволодовой, Е.Ю. Владимирского), концепт гроза с точки зрения его пространственновременной организации лингвистами не описывался. Между тем это одна из важнейших характеристик данного природного явления. Когнитивный классификатор сезонная периодичность (99) эксплицируется признаками ‘лето’ (29), ‘весна’ (5), ‘зима’ (1) – летом 24, весной 5, только летом 3, летняя 2, не будет всю зиму 1: Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами (И.А. Бунин); ‘месяц года’: ‘май’ (64): люблю грозу в начале мая 54, в мае 7, май 3: Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель (М.А. Булгаков). 171 Классификатор суточная периодичность в обыденной картине мира актуализируется признаком ‘ночь’ (8) – ночная 3, ночь 3, ночью 2: Ночью в горах Ала-Тау глухо гремела гроза (К.Г. Паустовский). Признаки ‘предбытие’, ‘начало’, ‘существование’, ‘прекращение’, раскрывающие классификатор фазисная характеристика явления (90), в обыденной картине мира отражают текущий жизненный опыт человека, основанный на наблюдении. Признак ‘предбытие’ (63) характеризует фазу приближения грозы – собирается 59, придет 3, наступает 1: На дворе гроза собирается (А.П. Чехов); Сейчас придет гроза, последняя гроза, она довершит все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь (М.А. Булгаков). Момент возникновения природного явления представлен фазовым глаголом, отражающим ‘начало грозы’ (5), – начинается 3: В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: начиналась гроза (Ф.М. Достоевский); Он [удар. – Л.А.] повторился, и началась гроза (М.А. Булгаков). Внезапное начало грозы характеризуется экспонентом разразилась 2: Хотя дождя уже не было, они все еще стояли в том же положении, в которое они стали, когда разразилась гроза (Л.Н Толстой). ‘Существование грозы’ (6) отражается конституентами была 2, будет 2, идет 2: Но ты видел? Гроза будет, что ли? (В.В. Головачев); Идет гроза (М.А. Булгаков). На прекращение явления в природе указывает признак ‘прийти к концу, прекратиться’ (28) – закончилась 22, прошла 5, утихла 1: Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы (М.А. Булгаков); Прошла гроза (А.П. Чехов); Гроза утихла; в комнате было накурено, бутылка стояла пустая, а Павел Павлович спал на другом диване (Ф.М. Достоевский). Когнитивный классификатор продолжительность существования в обыденной картине мира определяется признаком ‘очень продолжительный’ (2) – затяжная 2, ср.: Затяжная гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня (И.А. Бунин). Когнитивный компонент «Локализованность». Когнитивный классификатор территориальное распределение (29) представлен признаками ‘видимое над землей воздушное пространство’ (18), ‘земная твердь, суша’ (1) – небо 18, земля 1, ‘места с повышенным уровнем грозовой деятельности’ (1) – грозовой очаг 1, ‘местность’ (9) – в лесу 4, над городом 3, улица 1, поле 1. В наивном понимании небо – это пространство Бога, а земля – пространство человека. Указанные реакции отражают древние представления, согласно которым грозы ниспосланы на человечество с неба в качестве кары. Экспоненты в лесу 4, над городом 3, улица 1, поле 1 образуют антиномии: дом, город – улица, поле, лес. Древнейшее противопоставление «внутри – снаружи» нашло отражение в семном составе лексем: ‘место, где можно укрыться, найти приют, спасение’ – ‘угроза чегонибудь очень плохого’. Для обыденной картины мира характерно специфичное понимание границы – пространственного коррелята. Город в данном случае, как и дом, выполняет оборонительную, защитную функцию, обеспечивающую безопасность человека во время грозы, в отличие от пространства улицы, леса и поля. Ср.: Гроза в лес не гонит; Гроза застала в поле – садись на землю. 172 Когнитивный классификатор степень представлен признаком ‘происходящий на отдаленном расстоянии’ (4) – далеко 2, прошла мимо 2: Гроза идет мимо, только краем захватит (А.П. Чехов); <Варвара> Да что ты уж очень боишься: еще далеко гроза-то (А.Н. Островский). Когнитивный компонент «Количественные характеристики». Когнитивный классификатор интенсивность в обыденном сознании характеризуется признаками ‘сильная’ (3) – бушует 2, сильная 1: Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна (Ф.М. Достоевский). Когнитивный компонент «Частота и периодичность». Когнитивный классификатор частота явления в обыденной картине мира представлен признаком ‘происходящий, повторяющийся через короткие промежутки времени’ (1) – идут часто 1. А грозы, и правда, куда как часто в старину сбирались (И.А. Бунин); Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов (А.Н. Островский). В обыденном сознании номинативные признаки характеризуют грозу как непостижимое, возникающее не по воле человека атмосферное явление (62), отличающееся могущественной, трудно преодолимой и часто разрушительной силой: ‘природное явление’ (56), ‘стихия’ (6) – явление природы 51, природное явление 3, атмосферное явление 2, стихия 4, природная стихия 2: Прежде она говорила, что гроза – «явление природы» (И.А. Бунин). Обратимся к анализу интерпретационного поля концепта гроза, которое в обыденной картине мира является сложным структурным образованием и включает в себя эмоциональную, утилитарную, эстетическую и гедонистическую оценки. Эмоциональная оценка. В ассоциативном поле, полученном на слово-стимул гроза, 32% ассоциаций являются эмотивными. Грозное и эффектное явление природы во все времена оказывало воздействие на психику человека, вызывало чувство страха (69) – беспокойство 46, страшно 6, страх 4, ужасная 2, ужас 2, волнение 2, тревога 2, сердце в пятки уходит от страха 1, очень страшно 1, чувство опасности 1. Ср.: Они, голубчики, уж очень грозы боялись, – рассказывала Наталья (И.А. Бунин); Нынче после этого страха во время грозы я понял, как я люблю его (Л.Н. Толстой); Напугалась грозы до смерти, а тут, слышу, ктой-то подъехал, еще пуще испугалась... (И.А. Бунин). Ассоциативное поле представляет грозу как нечто неизведанное, приносящее беду – грозная 1 <гроза>, грозные тучи 1: Грозная гроза встретила Градуса в Нью-Йорке в ночь его прибытия из Парижа (понедельник 20 июля) (В.В. Набоков). Витальный признак ‘угроза для физиологического существования человека’ (4) – опасность 3, опасно для жизни 1 направлен на предупреждение внешнего воздействия грозы и обеспечение индивидуального и видового существования человека. С грозой обыденное сознание связывает возможную опасность – угроза 2. Эмоциональная оценка грозы проникает и в сферу социальных отношений. Характерной чертой обыденной картины мира является сравнение природного явления с ‘душевным состоянием человека’ (66) – неприятно 3, предчувствие 3, неприятные ощущения 1. Так, выражение гроза собирается 59 173 можно интерпретировать как угрозу опасности, беды, предвестие чего-либо неприятного, тяжелого. Ср.: Если же кого-нибудь бабушка называла по имени и по отчеству, так тот знал, что над ним собирается гроза (И.А. Гончаров). Эмоционально-утилитарную оценку экспонируют лексемы с негативной коннотативной семантикой ‘ненужный’ (3) – не нужна 1, лучше бы не было 1, не хочу 1: Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было (Ф.М. Достоевский). Утилитарная оценка. Отличительным признаком утилитарной оценки грозы является полярность в ее восприятии: она может быть одновременно полезной и вредной, что зафиксировано в обыденном сознании. Признается, что гроза оказывает воздействие на объекты живой и неживой природы (21), чаще всего разрушительное. Грозу и связанные с ней метеорологические явления обыденное сознание относит к наиболее опасным для человека. Она может частично или полностью разрушать различные предметы; причинять вред человеку (ожечь, привести к гибели) – смерть 3, упавшее дерево 2, смертельная опасность 1, ожог 1. Ср.: Южин озадаченно погладил ежик, – вы же знаете, в грозу летать нельзя. Чертовски опасная штука (Д.А. Гранин); Гроза убьет! (А.Н. Островский). Связь грозы с пожарами эксплицируется единичной реакцией пожар 1: Каждый день приходили отовсюду вести о бедах – о грозах и пожарах (И.А. Бунин). В обыденном сознании четко закреплено представление о том, что животный мир обладает «чувством» погоды – ‘изменение в самочувствии и поведении живых существ’ (2) – душно 1, птицы летают ниже 1: Оно, сударь, коли злу человек причастен, так еще издали чует беду, словно перед грозой птица небесная (Ф.М. Достоевский). Но гроза может быть не только губительной, но и полезной. Она выполняет ‘очищающую живительную функцию’ (1) – природа оживает 1: Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Не гроза это, а благодать! (А.Н. Островский). Эстетическая оценка. Гроза и процессы, связанные с ней, всегда привлекают внимание человека, вызывают восхищение, будят воображение. Немногочисленным в интерпретационном поле является когнитивный признак ‘эстетическая оценка’ (4) – красиво 3, красота 1: Он зрительно видел эту фантастическую и прекрасную картину: черное грозовое небо, набрякшее молниями и громом, и спокойно летящий самолет, а за ним стелется сияющий шлейф чистого неба (Д.А. Гранин). Гедонистическая оценка. К гедонистической оценке в обыденной картине мира относятся лексемы, связанные с удовлетворением потребности в телесном и душевном комфорте. Для человека важна личная безопасность, поэтому в ассоциативном поле представлены реакции, отражающие способ защиты (2) – укрыться в доме 2, что говорит об адаптивности и регуляторности знаний, заключенных в концепте обыденного сознания. В русском сознании дом – это особый мир со своим специфическим типом хозяйства, культурных и человеческих отношений, в котором можно укрыться от внешних невзгод. Реакция – люблю грозу в начале мая 54 (строчка стихотворения Ф.И. Тютчева «Весенняя 174 гроза») отражает приятные ощущения (54), возникающие в ответ на природное явление. Ср.: В беседку отовсюду сбегались люди. Отряхивались, смеялись, любуясь первой грозой (Д.А. Гранин). Образный компонент концепта гроза в обыденном сознании строится на элементах денотативных сфер <природные явления>, <живой мир> и <неживой мир>. В образном компоненте закрепилось представление о грозе как природном атмосферном явлении. Метеообразы, описывающие атмосферные осадки, возникают на основе визуальных, акустических, вкусовых и тактильных ощущений. В ядро чувственного образа входят одномодальные и полимодальные образы, связанные с атмосферными осадками – дождем и градом, источником образования осадков – тучами, атмосферными электрическими явлениями – молнией и громом. Дождь. В русском языковом сознании омбрические (от греч. ombros – дождь) образы, основанные на визуальной модальности, свидетельствуют о том, что дождь как одно из атмосферных явлений, сопровождающих грозу, состоит из частиц воды – дождевых капель, которые во время грозы имеют большую величину и во многих случаях трудноразличимы – ‘крупные капли воды’ (16), ‘струи воды’ (12). Кроме того, к одномодальным относится образ, основанный на вкусовых свойствах грозового дождя – ‘соленые капли воды’ (1). Полимодальные образы являются более сложными структурными образованиями: визуально-акустический – ‘стук капель воды’ (4), визуально-тактильный – ‘капли воды, (доставляющие) приятное ощущение’ (1), ‘струя воды, (стекающая) по спине’ (1). Град: одномодальный визуальный образ ‘белые кусочки льда’ (3) фиксирует представление о цветовой окраске града. Полимодальными являются визуально-акустические ‘стук белых кусочков льда’ (19) и визуально-тактильные ‘белые кусочки льда бьют по лицу’ (2) образы. Молния: разнообразно представлены одномодальные визуальные образы, описывающие молнию: ‘светящиеся полосы на небе’ (14), ‘светящаяся полоса молнии (в виде) тонкого стрежня с заостренным концом’ (7),‘светящаяся продолговатая полоса молнии’ (3), ‘светящаяся полоса молнии (в виде) ломаной линии’ (1). Состояние атмосферы: одномодальные визуальные образы акцентируют также внимание на цвете видимой части небосвода: ‘покрытое тучами небо’ (16). Одномодальные визуальные нефелетические (от греч. nephelē – облако, туча) образы ‘черные облака’ (5), ‘серые облака’ (2) отражают цветовую окраску грозовых туч. Ветер: тактильные образы эксплицируются анемотическими (от греч. anemos – ветер) ‘порывистый ветер’ (4) и визуально-акустическими ‘ветер, вызывающий шелест листьев’ (2). Образы неживого мира немногочисленны. Среди них одномодальные визуальные предметные ‘дом’ (9) и ‘зонт’ (3), дендрические ‘горящее дерево’ (5), ‘сломанное дерево’ (7) и ботанические ‘примятые и сломанные посевы’ (1), иллюстрирующие разрушительное воздействие грозы на растительный мир. 175 Образы живого мира подразделяются на антропоморфные и орнитологические. Антропоморфные образы в обыденном сознании являются сложными по структуре, поскольку включают обозначение говорящим самого себя и других: ‘субъект и совокупность близких людей’ (6) – ‘мы вместе с мамой’ (4), ‘мы со старшей сестрой’ (1), ‘я с младшими братом и сестрой’ (1). К атропоморфным принадлежат также демонические ‘колдун’ (2) и мифологические ‘Перун’ (1) образы. Имеющиеся в обыденном сознании представления о существовании взаимосвязи данного природного явления с ‘черным вороном’ (2) иллюстрирует орнитологический образ. Таким образом, обобщая, отметим, что структура концепта гроза включает когнитивные компоненты «молния», «гром», «осадки», «состояние атмосферы», «ветер», которые являются составляющими грозы, и когнитивные компоненты «темпоральность», «количественные характеристики», «локализованность», «частота и периодичность», эксплицирующие грозу через совокупность качественных и количественных признаков. Концепт гроза, объективирующий обыденное сознание, выступает как репрезентация уровня отражения действительности, который включает житейские представления об атмосферном явлении, обыденные знания о его физической сущности, механизмах проявления и ценностное отношение к наблюдаемому процессу, исходящие из представления о грозе как источнике опасности. Библиографический список Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. Воронеж, 2002. Попова З.Д. Стернин И.А. Проблема моделирования концептов в лингвокогнитивных исследованиях // Мир человека и мир языка / под ред. М.В. Пименовой. Кемерово, 2003. С.В. Коростова Эмотивно-оценочные концепты в русской языковой картине мира Вербализация эмоций – это процесс, объединяющий механизмы сознания и акты бессознательного, инстинктивного выражения эмоциональных переживаний. Эмоции детерминированы способами восприятия мира, связанными со спецификой этноса: комплексом норм поведения, культуры, коммуникации. На наш взгляд, процесс концептуализации эмоциональных состояний включает и индивидуальный опыт личности, и жизненный контекст в его интерпретации коллективным сознанием. Эмоции познаются человеком через жизненный опыт, который позволяет установить логическую связь между событиями. Наш субъективный опыт – это часть оценочной системы, которая непосредственно связана с представлением о ценности, ориентированным на позитивный поведенческий стереотип. Духовная жизнь общества всегда находит отражение в сознании человека, затрагивая его глубинный, когнитивный уровень. ______________ © Коростова С.В., 2009 176 С лингвистической точки зрения целесообразен анализ языкового представления лишь тех эмоций, которые интерпретируются как таковые в обыденном (наивно-языковом) сознании. Данный подход можно считать правомерным еще и в силу того, что, по мнению ряда психологов, донаучные представления об эмоциях обладают большей степенью достоверности и верифицируемости, чем научные. Статус концепта слово приобретает именно тогда, когда оно является национально-культурно специфичным. В исследовании концепта мы принимаем мнение Д.С. Лихачева о том, что материальным его воплощением следует считать слово в одном из его основных значений, а не во всей их совокупности [Лихачев, 1993, с. 3–10]. Говоря о ядерных компонентах эмотивно-оценочных концептов, мы имеем в виду лексемы, значения которых составляют содержание национального языкового сознания и формируют наивную картину мира носителей языка. Этнокультурный статус рассматриваемых концептов находит отражение в системе разноуровневых языковых средств и отношений между ними. Представляется интересным семантический и лингвокогнитивный анализ концептов, языковые проекции которых включают эмоциональную оценку ситуации и ее компонентов. К числу таких концептов в русской языковой картине мира относится концепт страх, изучению которого посвящены работы отечественных и зарубежных лингвистов А. Вежбицкой, С. Крипке, О.Г. Кравченко, Е.А. Покровской и др. По мнению Ю.С. Степанова, внутренняя форма концепта страх в русском языке восстанавливается лишь гипотетически, так как предложено много разных этимологий, противоречащих одна другой. Ученый ссылается на исследования французского слависта А. Вайана, который утверждает, что русское слово, а также старославянское и древнеславянское страх содержит тот же корень, что и страдать, страсть, таким образом представляя «в концептуальном плане по происхождению единство двух концептов – “Страх” и “Страдание”» [Степанов, с. 895]. В рамках христианской релизиозной традиции, согласно которой события человеческой жизни есть результат личных отношений между человеком и Богом, страдание осмыслялось как искупление, как свидетельство брошенности человека, от которого отвернулся Бог, но по Новому завету искупительная жертва Христа придает страданию значение залога спасения. Радость, с точки зрения христианства, есть состояние внутренней и внешней, физической, собранности и гармонии. Именно отсутствие душевной гармонии характеризует смысловую доминанту эмотивно-оценочного концепта страдание, этимологически близкого лексеме страх. Нельзя не согласиться с автором работы «Константы: словарь русской культуры» в том, что в русском языковом сознании рассматриваемый концепт представлен двумя линиями. Одна из них – это страх, соединенный с ненавистью, страх перед насилием и террором, другая – это «страх перед самим бытием», «страх перед существованием вообще», «тоска, страх, тревога», боязнь греха, страх перед смертью [Степанов, с. 892–898]. Лексикографическое описание концепта строится на синонимических отношениях ядерного компонента: страх – ‘очень сильный испуг, сильная боязнь’. Отсутствие антонимических отношений компенсируется объемным списком синонимов: ужас, трепет, жуть (разг.), страсть (прост.), испуг, паника; пере177 пуг (разг.) / перед чем-либо, что угрожает в будущем: боязнь, опасение, опаска (разг.). Синонимические отношения между лексемами определяются интегральной семой ‘бояться’, дифференциальные семы отражают степень проявления интенсивности эмоционального состояния, лексикографические пометы устанавливают прагматические характеристики членов синонимического ряда. В отличие от близких по физиологической природе негативных эмоциональных состояний горя и печали, которые тяготят, подавляют, то есть характеризуются известной степенью длительности переживания, деструктивная эмоция страха поражает, берет, а высшая степень проявления этого чувства – ужас – сковывает, охватывает, приковывает к земле. Метафоры и фразеологические единицы со значением ‘страх’, составляющие ядро концепта, основываются преимущественно на номинациях частей тела человека, подвергающихся воздействию чувства страха: мороз по коже пробегает, кровь леденеет, стынет в жилах, со страху поджилки дрожат, под страхом ноги хрупки, волосы встают дыбом и т.п. В большинстве русских паремий страх субъективируется, ассоциируясь в сознании с одушевленным «нечто во мне». Концепт эмоциональной оценки, актуализирующийся в речи, непосредственно связан с интерпретацией негативной ситуации, нежелательной для говорящего, не соответствующей его ожиданиям. Языковой проекцией концепта страх могут служить эмотивные предложения-высказывания, включающие лексему страх и синонимичные ей: Страх как испугался! Страх какой сердитый! В коллективном сознании говорящих на русском языке концепт страх вызывает ассоциации с темнотой, ночью, черным цветом, неопределенностью. Например: Вот солнце село, кругом темнеть стало – боится Маруся одна оставаться («Упырь», русская народная сказка); Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного, но сердце в ней трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает (А. Погорельский. «Лафертовская маковница»). Страх в русском языковом сознании представлен как нечто враждебное человеку, не зависящее от его воли и желания. Страх субъективируется, опредмечивается, «очеловечивается» и «действует» автономно, хотя и целенаправленно: единственным «объектом», то вмещающим, то отторгающим чувство страха, является человек: …когда поутру взошло красно солнышко и яркими лучами украсило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало (Там же). Такое национально-культурное представление о концепте отражается в синтагматических связях ядерной лексемы: страх обуяет, и растеряешься; нагнать страху; держать в страхе кого-либо; навести страх на кого-либо; обмереть от страху; онеметь от страха; привести в страх; застыть от страха; у страха глаза велики; от страха душа в пятки уходит. Эмотивно-оценочные фразеологизмы в этом ряду подчеркивают специфику восприятия русского человека в эмоциональном состоянии страха: оно гиперболизируется, искажается, часто не соответствует объективному положению дел. В то же время языковые проекции концепта имплицируют в сознании представление о том, что человек должен преодолеть свой страх, что на самом деле это чувство не обладает приписываемой ему силой воздействия и интенсивностью. 178 Концепт эмоциональной оценки, соотносимый с понятием «страх», не дублирует семантические отношения ядерной лексемы, но привносит дополнительные эмотивно-оценочные компоненты значения, а в некоторых случаях (например, когда оценка имеет ситуативный характер) может происходить десемантизация лексемы страх и синонимичных ей лексических единиц: Страх как пить хочется! Жуть как устал! Ужас как спать хочу! Вероятно, появление в речи ненормативных (с точки зрения синтагматических связей лексем) сочетаний типа страшно красиво, жутко вкусно есть результат влияния эмотивного высказывания, построенного по схеме: Страх (страшно, ужас, ужасно, жуть, жутко) как хочется (хочу) + Inf. Причем ядерная лексема или ее ближайшие понятийные синонимы играют роль интенсификатора действия, соотносимого с наречием меры и степени очень, только в сочетании с частицей как. Эмоциональное состояние страха может быть вербализовано в декларативных речевых актах, когда речевой действие совпадает с физическим и эмоциональным, например: – Мамочка сказала, что человек умирает… и все. Ничего не остается. Совсем ничего. Только дети и профессиональные достижения. Вот вам хорошо, а от меня, от меня ничего не останется. Мне же страшно!.. (У. Тулина. «Дура»). Концепт страх в русском языковом сознании близок концепту смерть: издавна черный цвет на Руси символизирует печаль и траур, сопровождающие уход человека из жизни. Ассоциативные связи отразились в устойчивом сочетании страх смерти (при невозможности трансформации в сочетание с согласованием компонентов – смертельный страх, выражающее отношение уподобления и интенсифицирующее семантику ядерной лексемы), под страхом смерти. Негативная оценка концепта смерть вызвана прежде всего неопределенностью понятийной составляющей, о чем писал Ж. Деррида, заключая выражение моя смерть в кавычки из-за полной иллюзорности его значения. Интерпретируя это понимание концепта, известный лингвист, философ Е. Гурко пишет: «Смерть как феномен не имеет в качестве прототипа то, что она предположительно должна обозначать, – никто не видел смерть (если припомнить древнее изречение, приписываемое Эпикуру, но, видимо, намного более давнее, о бессмысленности страха смерти, ибо, пока есть человек, смерти нет, а когда есть смерть, человек больше не существует)» [Гурко, Деррида, 1994, с. 166]. Концептуальное представление о страхе смерти воплощается и в русском паремиологическом фонде: Смерти бояться – на свете не жить; смелый умирает один раз, а трус – каждый день; страх хуже смерти. В православии, которое господствовало в России не только в качестве общегосударственного, но и общенародного круга идей, понятие о страхе смерти тесно связано с концептом греха как намеренного нарушения божественных заповедей, приводящего к смерти духовной. Фразеологизм страх Божий отражает состояние боязни греха, которое относительно стабильно, длительно и не связано с «эффектом обманутого ожидания», ср.: Начало премудрости страх Божий. Скорее, это эмоциональная реакция на происшедшее с другим, чем вербализация оценки собственных действий. Репрезентация концепта страх в речи связана прежде всего с уровнем эмотивного синтаксиса: междометные предложения, обращения, фразеосхемы, 179 коммуникемы реализуют функцию выражения чувства и не предназначены для воздействия на собеседника. Появление коммуниканта и восприятие его в качестве объекта целенаправленного речевого действия нейтрализует эмоции говорящего и переводит эмотив в разряд перформатива. При этом высказывание может передавать и императивное значение, например: Но девушка сказала следующее: – Жутко хочу что-нибудь съесть. Я сегодня еще не завтракала. (А.Г. Битов. «Пенелопа»). Эмоциональное отношение человека к окружающему миру, его состояние и поведение может измениться под воздействием слова. Психологами установлено, что преднамеренное обращение к эмотивам в речи может вызвать в сознании говорящего то эмоциональное состояние, знаками которого являются использованные единицы. К таким эмотивам, входящим в семантическое поле концепта страх, можно отнести следующие фразеосхемы и коммуникемы, то есть нечленимые предложения, экспрессивность которых «заложена не только в их коннотативном аспекте, но и в ядре значения» [Меликян, с. 22]: «Страсть!; <Просто> страсть <какая(-то) [да и только]>! Прост. Выражение страха, ужаса, негат. оц., отнош.; Страх! <Просто> страх <какой(-то) [да и только, какой-то да и только]>! Выражение страха, ужаса, негат. оц., отнош.» [Там же, с. 180]. Таким образом, исследуя динамику понятийных составляющих эмотивнооценочного концепта, можно обнаружить тенденцию развития эмоциональной оценки, изначально связанной с ядерным компонентом, но в современной живой речи выполняющей роль интенсификатора в эмотивном высказывании, отражающем ситуацию, не связанную с концептом страх. Типичное событие, в котором реализуется концепт страх – это событие смерти, которое всегда вызывает негативную эмоциональную оценку ситуации. Представление о страхе смерти в русском языковом сознании определяется философским пониманием неизбежности этого события, его интерпретацией в языковой картине мира как события будущего, о котором незачем думать в настоящем, см.: Не умри раньше смерти; Умереть сегодня – страшно, а когда-нибудь – ничего. Социокультурный аспект исследования эмотивно-оценочных концептов, как нам представляется, открывает более широкие контексты для понимания синтагматических, парадигматических, ассоциативных и деривационных отношений между составляющими концепта. Эмотивно-оценочный концепт страх, вербализация которого возможна только в состоянии аффекта, крайнего возбуждения субъекта речи, по отношению к другому может получить негативную оценку как страх (боязнь) потери близкого человека, а в коллективном сознании – как страх потери чего-либо, представляющего ценность (работы, семьи, авторитета и т.п.), что отражается в речи разноуровневыми языковыми средствами, различающимися по интенсивности и способам выражения. Поскольку эмоции развиваются вместе с личностью, при описании эмотивнооценочных концептов необходимо учитывать связь языка с историей и культурой нации. По мнению Д.С. Лихачева, концепт является результатом столкновения значения слова с личным и народным опытом человека. Интерпретация действительности в сознании человека отличается динамичностью, изменяемостью, следовательно, и рамки языковых репрезентаций концептов оказываются по180 движными, зависимыми от социокультурных условий, опосредованно формирующих языковую картину мира. Библиографический список Гурко Е., Деррида Ж. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск, 1994. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз., 1993. Т. 52. № 1. Словари Меликян В.Ю. Словарь: Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи. М., 2001. (В тексте – Меликян.) Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М., 2004. (В тексте – Степанов.) Л.О. Трушкова Категориальные признаки эмоционального состояния Sadness Понятийная категория эмоций, как и все категории эгоцентрической направленности, имеет определенный набор категориальных признаков, позволяющих очертить ее границы и противопоставить ее другим понятийным категориям. Категория эмоционального состояния Sadness рассматривается как составляющая понятийной категории эмоций и, следовательно, обладает своим набором категориальных признаков. Большинство исследователей выделяют такие признаки эмоциональных состояний как оценочность, причинность, целостность, интенсивность [Виноградов, 1975; Вольф, 1989], статичность, временная локализованность, длительность, неконтролируемость, ненаблюдаемость, внешняя манифестация [Kenny, 1963; Булыгина, 1982; Елисеева, 1982; Вольф, 1982]. Связь эмоции и оценки является одной из основных проблем при анализе эмоциональных состояний. Оценочность является одним из признаков эмоциональных состояний. По мнению Н.Д. Арутюновой, «для того, чтобы оценить объект, человек должен “пропустить” его через себя: природа оценки отвечает природе человека. Оценке подвергается то, что духовно и физически нужно человеку, она представляет Человека как цель, на которую обращен мир. Ее принципы: мир существует для человека, а не человек – для мира» [Арутюнова, 1988, с. 58]. Е.М. Вольф утверждает, что разделение чисто рационального и эмоционального в языке является условным. В зависимости от того, «какое начало лежит в основе суждения о ценности объекта, эмоциональное или рациональное», в языке различаются способы выражения двух видов оценки [Вольф, 2002, с. 41]. Эмоциональные процессы приобретают положительный или отрицательный характер в зависимости от того, находится ли действие, которое индивид производит, и воздействие, которому он подвергается, в положительном или отрицательном отношении к его потребностям, интересам, установкам. Характером эмоции, порождаемой объектом у оценивающего, определяется ее оценочный ______________ © Трушкова Л.О., 2009 181 знак. В соответствии с этим положительное эмоциональное воздействие получает положительный знак, а отрицательное – отрицательный [Богуславский, 1994, с. 165]. Так, например, радость, наслаждение, симпатия подразумевают переживания типа «удовольствие», для которых характерен оценочный знак «хорошо», а огорчение, горе, гнев, то есть переживания типа «неудовольствие», имеют оценочный знак «плохо» [Вольф, 1989, с. 60]. Следующим категориальным признаком эмоций является причинность. Причиной положительных эмоций (радости и т.п.) является интеллектуальная оценка каких-то событий как желательных, а причиной отрицательных эмоций (тоски и т.п.) – оценка каких-то событий как нежелательных. Именно вследствие возникновения причины, которую субъект оценивает либо положительно, либо отрицательно, он испытывает различные эмоции. Как явствует из примера, персонаж (субъект эмоционального состояния) испытывает печаль из-за смерти своих детей и жены: Kito was deeply saddened by the deaths of his children and their mother (GH, р. 383). Причина эмоционального состояния может быть не обозначена непосредственно, но тем не менее ее существование обычно подразумевается. Следующее высказывание принадлежит герою, которому грустно из-за того, что в Нью-Йорке очень много бездомных детей, попрошайничающих на улицах: Sadly, I understood them (GH, р. 411). Эмоциональные состояния характеризуются также признаком целостности. В наивной картине мира физический субъект, испытывающий эмоцию, представлен как некая целостность. Образ целостного человека складывается из образов разных по своей природе частей, параметров, ипостасей. Если болят отдельные части тела – рука, нога, голова и т.п., то эмоции охватывают человека полностью. Целостность субъекта эмоции отражается в употреблении глагола охватывать [Вольф, 1989, с. 61]. В подтверждение этому можно привести следующий пример: So overwhelming was the grief that seized me, I sank prostrate with my face to the ground (BC, р. 92). Интенсивность является следующим, не менее важным признаком категории эмоций. Эмоции могут быть более сильными и более слабыми, и их ряды расположены на шкале, где имеются, по крайней мере, четыре зоны: слабой степени эмоции, средней степени эмоции, сильной степени эмоции, аффекта [Вольф, 1989, с. 60]. Интенсивность может достигаться двумя средствами: качеством и количеством. Качественная интенсивность заключается в выборе более сильного слова в ряду синонимов; количественная – в повторении слова, имеющего эмоциональную окраску [Гак, 1996, с. 22]. Согласно словарным дефинициям [MED; LDELC], номинации sadness, melancholy, dejection обозначают менее интенсивное эмоциональное состояние печали, чем номинации gloom, sorrow, grief, heartache, anguish. Номинации, описывающие эмоциональные проявления, также обозначают эмоциональные состояния различной интенсивности. Глаголы groan, sob, bewail вербализуют состояние печали, имеющее большую интенсивность, чем состояние, эксплицируемое номинациями groan, sob, bewail. В следующем примере можно увидеть количественную интенсивность, выраженную на синтаксическом уровне повтором: That girl, her daughter, stayed sad… sad… sadder (KT, р. 224). 182 Изменение интенсивности эмоциональных состояний может обозначаться различными интенсификаторами, например very much, awfully, greatly etc. Е.М. Вольф отмечает тот факт, что интенсификаторы сами по себе также расположены на шкале постепенного перехода от меньшей к большей степени признака [Вольф, 2002, с. 162], например: She said he had been very sad in the past two years, and he would be happy now with God (SD, р. 25); Poor Mr. Galloway was dreadfully upset (MWS, р. 114). Важно обратить внимание на интенсификаторы крайней степени, в значении которых имеется представление о предельной точке: ...till her heart was so heavy that no farther sadness could be gained; and this nourishment of grief was every day applied (AJ, р. 81). Интенсификатором эмоции может выступать сравнение, посредством которого субъект может соотнести свое эмоциональное состояние с какой-либо печальной ситуацией, тем самым подчеркивая высокую степень интенсивности своего эмоционального состояния. Сравнение содержит интенсификацию, поскольку оно устанавливает «отношение аналогии между состоянием субъекта в реальной ситуации и его же состоянием в возможной воображаемой ситуации, которая имеет экстраординарный характер» [Силин, 1988, с. 94]. То, что героиня в ниже приведенном примере испытывает высокую степень печали, становится ясным благодаря объекту сравнения. Чья-либо смерть концептуализируется как очень печальное и горестное событие: She woke up every morning feeling as though someone had died (SD, р. 281). С.Л. Рубинштейн указывает на наличие в эмоциях противоположности напряжения и разрядки, возбуждения и подавленности, также характеризующиеся различной степенью интенсивности. Например, существует напряженная грусть, исполненная тревоги, возбужденная грусть, близкая к отчаянию, и тихая грусть – меланхолия, в которой чувствуется разрядка и успокоенность [Рубинштейн, 1984, с. 153]. Примером тому служат следующие высказывания: ...and she thought with the tenderness compassion of that violent sorrow which Marianne was in... (AJ, р. 75); His pleasantly depressing melancholy was dissipated by a puff of violent emotion... (HA, р. 125). При эмоциональных состояниях слабой и средней интенсивности встречаются деинтенсификаторы [Вольф, 2002, с. 165]. Как правило, деинтенсификация используется с определенной прагматической целью, для снижения категоричности высказывания [Шмайлов, 1987, с. 87]. К деинтенсификаторам можно отнести сочетания a little, a sort of, etc: The smile goes off her face an’ she stands there lookin’ sorta sad (CP, р. 34). Статичность эмоциональных состояний предполагает их неизменяемость в течение определенного временного отрезка. Исследователи отмечают, что «состояния длятся, стоят», а не протекают и не могут изменяться во времени [Селиверстова, 1982, с. 123]. Однако следует обратить внимание на высказывания, в которых передается информация о переходе в состояние. Для реализации этого значения используются глаголы-связки to become, to grow, to get, to begin: I want the dead lovers of the world to hear our laughter and grow sad (WO, р. 71). 183 Одним из признаков эмоциональных состояний является их временная локализованность. Анализ эмпирического материала показывает, что в высказываниях, описывающих эмоции, присутствуют временные маркеры, свидетельствующие об их отнесенности к определенному временному отрезку. В представленном примере темпоральное обстоятельство at the point указывает на точную временную локализацию эмоционального состояния: I was too upset myself at that point to question it, or be suspicious (SD, р. 401). Временной отрезок может быть задан с помощью другого события: And when he left on the first of July, they were both sad (SD, р. 311). Состояние может повторяться с определенной периодичностью: Whenever you’re sad, Daddy, you want to buy me things (KT, р. 113). Следует отметить, что эмоциональное состояние может не иметь точной локализации во времени, другими словами, оно может быть представлено во времени неопределенно: She was tired and depressed most of the time, refused to go out (SD, р. 448). Временная локализованность тесно связана с длительностью, поскольку состояния соотносятся с отрезком на временной оси, а не с точкой [Булыгина, 1982; Селиверстова, 1982]. «Внезапно можно услышать громкий шум, ощутить сильную боль, и не важно, что этому предшествовало, и что за этим последует. Но нельзя таким же образом, на короткий период времени, вдруг почувствовать глубокое горе или страстную любовь» [Kenny, 1963, р. 58]. Известный психолог К. Изард отмечает онтологические признаки эмоциональных состояний, среди которых выделяется способность «длиться от секунд до часов и значительно меняться по интенсивности» [Изард, 2000, с. 21]. Признак длительности подтверждается наличием в высказываниях об эмоциональных состояниях темпоральных обстоятельств со значением длительности: for a moment, for many years, all the time, all day, constantly, still etc, которые предполагают ограниченную, «хотя и неопределенно, протяженность во времени» [Вольф, 1982, с. 320]. В подтверждение можно привести пример: She was constantly angry and depressed (SD, р. 448–449). Длительность эмоционального состояния может подразумеваться: She had actually been sad since he left, and she was annoyed at herself for it (SD, р. 102). Как следует из ситуации, героиня художественного произведения находилась в состоянии печали на протяжении всего времени, с тех пор как жених покинул ее. Признак неконтролируемости эмоционального состояния субъектом выдвигается как один из основных признаков, присущих эмоциям. Со стороны субъекта не требуется приложения усилий для возникновения и поддержания состояния. Рассматривая особенности тех или иных действий по признаку их контролируемости / неконтролируемости со стороны субъекта, Анна А. Зализняк дает следующее определение ситуации, контролируемой субъектом: в случае, когда Х (субъект) является участником Р (ситуации), сказать, что Х контролирует Р, равносильно тому, что Р есть намеренное действие Х-а [Зализняк, 1985, с. 58]. Эмоциональные состояния возникают помимо воли субъекта и провоцируются либо внутренними причинами, либо событиями, лежащими вне субъекта и также не зависящими от его воли и желания [Вольф, 1989, с. 63]. Е.М. Вольф также отмечает невозможность употребления предикатов эмоцио184 нального состояния в императиве, что дополнительно указывает на то, что внутренние эмоциональные состояния не контролируются субъектом [Там же, с. 63]. «Характер, интенсивность и протекание эмоционального состояния зависит не столько от его субъекта, сколько от внешнего источника, каузирующего данное эмоциональное состояние» [Силин, 1988, с. 4]. Субъект состояния не только не агентивен, но и представляет собой «страдательный» субъект [Елисеева, 1982, с. 123]. Данный признак эмоциональных состояний выражается в неконтролируемых физиологических реакциях тела на причину, вызывающую эмоцию, например, поднятие бровей и расширение глаз в случае удивления, сужение глаз в случае злости и гнева, бледность в случае страха, пот в случае смущения, покраснение в случае стыда и т.п. [Апресян, 1995, с. 53]. Как показывает пример, у человека, переживающего эмоцию печали, непроизвольно опускаются руки: He spread his hands, then dropped them back to his sides as though they were to heavy to hold up (CH, р. 210). Следует отметить, что контроль над эмоциональным состоянием может выражаться в том, что испытывая определенное эмоциональное состояние, например, печаль, человек пытается что-нибудь предпринять для того, чтобы уменьшить свои страдания: Elinor sat down to her drawing table as soon as he was out of the house, busily employed herself the whole day, neither sought nor avoided the mention of his name, appeared to interest herself almost as much as ever in the general concerns of the family... (AJ, р. 101). Проявление эмоций может также рассматриваться как контролируемое, так как субъект способен в той или иной мере воздействовать на свои чувства волевыми усилиями [Вольф, 1989, с. 64]. По данным психологии, людям свойственно подавлять свои эмоции [Изард, 2000, с. 23]. Так, например, многие люди способны подавлять выражение печали. Даже испытывая сильную печаль, они пытаются улыбаться и стараются сохранить невозмутимое, спокойное выражение лица: She looked wistful despite her bright smile (SD, р. 34). Еще одним признаком эмоциональных состояний является их ненаблюдаемость [Виноградов, 1975; Вольф, 1982; Силин, 1988]. Ненаблюдаемость свойственна эмоциональным состояниям, поскольку только чувствующий субъект способен определить наличие такого состояния, его причину, интенсивность, длительность [Kenny, 1963, р. 32]. Особенность номинаций, обозначающих психические состояния, заключается в том, что они образуют высказывания, которые не могут оспариваться. В.В. Бурлакова в этой связи замечает, что «нельзя отрицать наличие того психического состояния, которое автор речи сам себе приписывает. Можно только надеяться, что он искренен» [Бурлакова, 1985, с. 31]. Состояния субъективны по своей природе, носитель состояния – это чувствующий субъект, поэтому «следует различать состояния как таковые, представляющие собой признаки чувствующего субъекта, оцениваемые как бы изнутри, и внешние проявления состояний, поведение субъекта, оцениваемое со стороны» [Вольф, 1982, с. 324]. Собственно состояние ненаблюдаемо и может быть кажущимся, в то время как внешние признаки объективны и не допускают контекста предположения [Там же, с. 326]. О переживании человеком той или иной эмоции можно судить 185 по сложнейшему комплексу поступков, слов и связанной с ними экспрессии: мимике, пантомимике, интонации и т.п. Среди движений человеческого тела исследователи выделяют утилитарные движения, симптоматические и коммуникативные жесты. Симптоматические жесты – это психологически значимые жесты, позы, мимические движения, производимые не только в присутствии наблюдателя, но и тогда, когда человек остается один. Симптоматические жесты выступают своего рода знаками, которые в невербальной коммуникации осмысляются наблюдателем как переживание эмоции [Мечковская, 1999; Крейдлин, 2002]. Онтологическая связь между эмоцией и ее физиологическим проявлением основывается на метонимическом принципе «Поведение – это эмоция» [Лакофф, 2004, с. 505]. Следовательно, можно говорить о таком признаке эмоциональных состояний как внешняя манифестация. Благодаря ей осуществляется невербальный контакт за счет косвенных признаков эмоционального состояния печали. В приведенном ниже примере мать с печалью вспоминает о том, как плохо относилась к своей дочери в детстве. Наклон ее головы интерпретируется как симптоматический жест, выражающий чувство печали: No, her mother said weakly. She lowered her head, her crucifix dangling like a pendulum. She began to weep (CH, р. 119). Таким образом, анализ эмпирического материала позволил выделить дифференциальные признаки категории эмоционального состояния Sadness, а именно: оценочность, причинность, целостность, интенсивность, статичность, временная локализованность, длительность, неконтролируемость, ненаблюдаемость, внешняя манифестация. Библиографический список Апресян Ю.Д. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988. Богуславский В.М. Человек в зеркале русской культуры, литературы и языка. М., 1994. Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. Бурлакова В.В. Влияние семантики глагола на значение зависимых // Семантика и функционирование английского глагола: межвуз. сб. науч. трудов. Горький, 1985. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975. Вольф Е.М. Состояния и признаки. Оценки состояний // Семантические типы предикатов. М., 1982. Вольф Е.М. Эмоциональные состояния и их представления в языке // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. М., 1989. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., 2002. Гак В.Г. Синтаксис эмоций и оценок // Функциональная семантика. Оценка, экспрессивность, модальность. М., 1996. Елисеева А.Г. Семантические типы предикатов в английском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. Зализняк Анна А. Функциональная семантика предикатов внутреннего состояния: дис. … канд. филол. наук. М., 1985. 186 Изард К. Психология эмоций. СПб., 2000. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. М., 2002. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004. Мечковская Н.Б. На семиотическом перекрестке: мотивы движения тела в невербальной коммуникации, в языке и метаязыке // Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М., 1984. Селиверстова О.Н. Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикативных типов русского языка // Семантические типы предикатов. М., 1982. Силин А.А. Средства описания эмоционального состояния (на материале португальского языка): дис. … канд. филол. наук. М., 1988. Шмайлов Д.Н. Некоторые аспекты семантики и прагматики смягченных утверждений в португальском языке // Функциональная семантика и проблемы синтаксиса. М., 1987. Kenny A. Action, Emotion and Will. London, 1963. Словари Longman Dictionary of English Language and Culture. Harlow, 2005. (В тексте – LDELC.) Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford, 2007. (В тексте – MED.) Источники Austen J. Sense and Sensibility. London, 1994. (В тексте – AJ.) Bronte C. Jane Eyre. M., 1954. (В тексте – BC.) Cheyney P. Don’t Get Me Wrong. London, 1994. (В тексте – CP.) Coben H. Deal Breaker. London, 2002. (В тексте – CH.) Grisham J. The Street Lawyer. New York, 2003. (В тексте – GH.) Huxley A. Crome Yellow. London, 1964. (В тексте – HA.) Kral T. Being People. Washington, 1999. (В тексте – KT.) Maugham W.S. Cakes and Ale or the Skeleton in the Cupboard. М., 2006. (В тексте – MWS.) Steel D. Lone Eagle. Sydney, 2002. (В тексте – SD.) Wilde O. The Picture of Dorian Gray. Новосибирск, 2007. (В тексте – WO.) С.А. Цапенко Принципы описания семантики слова в лингвокультурологической словарной статье Антропоцентрический подход к описанию семантики языковых единиц предполагает рассмотрение слова как капсулы для хранения социально значимой информации об окружающем мире. Экспликация культурной значимости единицы – основная задача лингвокультурологического описания, которое направлено на выяснение того, как отражено в семантике единицы национальноспецифическое восприятие тем или иным народом фрагмента действительности – реальной или сконструированной. По нашему убеждению, лингвокультурологической ценностью обладает любая лексическая единица вне зависимости от характера денотата, с которым она соотнесена, наличия / отсутствия эквивален______________ © Цапенко С.А., 2009 187 тов в сопоставляемых языках и т.п. условий, ср.: [Маслова, 1997, с. 11; Берков, 1996 и др.]. Поскольку действительность не отражается, а преображается в семантике языка, постольку национально-специфический колорит присущ любой семантической единице генетически (по происхождению), хотя, безусловно, формы и степень его проявления могут существенно отличаться. В связи с этим встает вопрос о выработке методики комплексного описания семантических единиц с целью обнаружения их лингвокультурологического потенциала. Традиционной, подтвердившей свою безусловную эффективность формой аккумуляции информации о семантическом объеме языковых единиц является их лексикографическое описание в лингвистических словарях. По мнению А.Т. Хроленко, к концу XX столетия складывается тенденция к лексикографизации методов лингвистики: «...глубина лексикографического описания соединилась с тотальным охватом языкового материала, обеспеченным так называемыми корпусными исследованиями» [Хроленко, 2008, с. 148]. В рамках новой лингвистической парадигмы в лексикографии появляется особое направление – лингвокультуроведческая лексикография, для которой первостепенной становится задача воссоздания культурного пространства на основе описания семантики единиц. Если целью традиционных толковых словарей является адекватное отражение значения слова в рамках дефиниции, то лингвокультурологические словари используют накопленный опыт лексикографического описания семантики как точку опоры для выхода через слово в концептуальное, культурное пространство, концептуализированное языком. Теоретическая ценность и практическая востребованность лингвокультурологических словарей не вызывает сомнений, в то время как проблема выработки принципов лингвокультурологического описания слов в рамках словаря решается на уровне отдельных лексикографических проектов [Славянские древности, 1995, 1999, 2004; Русское культурное пространство, 2004; Степанов, 1997; Симашко, 2005; Третьякова, URL и др.]. Имеющийся опыт убедительно свидетельствует о научной значимости результатов такого описания. В рамках нашей работы предлагается макет лингвокультурологической словарной статьи, реализованный на материале 5 английских и 6 русских лексем, именующих суточные отрезки: morning, day, evening, twilight, night, утро, день, вечер, сумерки, ночь и сутки (выражаю благодарность Д.Н. Филатовой за помощь в сборе и анализе материала). Выбор данных единиц в качестве объекта лингвокультурологического описания обусловлен следующими обстоятельствами. Во-первых, признается, что время (в том числе суточный цикл) – «неотъемлемый компонент представления человека о мире в целом» и вместе с тем обладает национальной спецификой, так как «каждой культуре присущ особый способ переживания, осмысления и осознания времени» [Гайденко, 1969, c. 88]. Во-вторых, представления о суточном круге времени, ставшем фактом человеческого сознания в доисторическую эпоху, прошли длительный путь формирования в рамках различных картин мира (мифологической, религиозной, «наивной», научной, художественной). Выявление того, каким образом и в каком объеме разновременные пласты представлений о суточном течении времени отразились в семантике языковых единиц, является интересной исследовательской за188 дачей. Неудивительно, что данная группа лексем неоднократно привлекала внимание разных исследователей, см., например: [Гарская, 1976; Зализняк, Шмелев, 1997; Шмелев, 2002, с. 55–67; Lachur, 1993 и мн. др.]. Таким образом, третьим обстоятельством, обусловившим выбор объекта, стало наличие богатого опыта его разноаспектного описания, который нуждается в обобщении. Каркас разрабатываемой статьи был предопределен избранным контрастивным принципом описания семантики лексем. «Русское осознается тогда, когда есть с чем сравнить» [Иванищева, 2007, с. 124]. Действительно, сопоставительное описание позволяет акцентировать специфику национального видения, создавая необходимый фон, однако контрастивное описание мы считаем возможным лишь при условии ранее осуществленного детального описания семантики единиц на базе национальных словарей. Так, сопоставляемые наименования суточных отрезков были предварительно исследованы в составе кумулятивных полей «Суточный круг времени» и «Twenty four hours time circle» [Цапенко, 2005]. Разрабатываемые словарные статьи адресованы в первую очередь изучающим русский или английский языки в качестве иностранного. Эти материалы призваны активизировать процесс включения в языковое сознание нового слова как носителя информации о знакомом фрагменте мира, но получившем особую концептуализацию в изучаемом языке. Задача такой статьи – эксплицировать совпадающие и несовпадающие смысловые сферы, закрепленные в языке за описываемыми лексемами, облегчить освоение иноязычного слова путем его сопоставления со словом родного языка. Предлагаемый макет лингвокультурологического описания слова реализует идею синтеза лексикографической и лингвокультурологической информации об особенностях языковый концептуализации суточного цикла. Базой для его содержательного наполнения выступают, с одной стороны, толковые, этимологические, фразеологические, двуязычные и др. лингвистические словари, с другой стороны, данные различных научных исследований. Макет включает пять компонентов, на характеристике которых мы остановимся подробнее. 1. Сравниваемые заголовочные единицы; информация о звуковой форме слова: ударение, транскрипция. В рамках этого раздела статьи представлена информация о графической и звуковой форме сравниваемых слов, обеспечивающая возможность их опознания и произношения носителями обоих сопоставляемых языков. 2. Сопоставительное описание семантической структуры сравниваемых единиц. Данный раздел является содержательным ядром статьи, так как именно в нем представлена информация о тех смыслах (денотатах, смысловых областях), которые накоплены в разных культурах. Лексикографическая работа над этим разделом основана на сопоставительном анализе всех лексико-семантических вариантов (ЛСВ) сравниваемых слов, которые фиксируются в национальных толковых словарях. В нашем исследовании использовались данные 5 английских и 5 русских толковых словарей: «Oxford English Dictionary», «Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English language», «Macmillan English Dictionary», «Collins’ Graphic English Dictionary», «Oxford Advanced Learner’s 189 Dictionary» A.S. Hornby, «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова, «Словарь русского языка» А.П. Евгеньевой, «Большой академический словарь», «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Обращение к толковым словарям, разноплановым по времени и целям создания, продиктовано установкой на максимально достижимую полноту информации о семантике описываемых слов. При сопоставлении данных английских и русских словарей выявлено, что в английских словарях в целом зафиксировано большее количество ЛСВ (149), чем в русских словарях (89). Мы связываем этот факт с двумя обстоятельствами. Во-первых, с тем, что в английских словарях семантика слов описывается более дифференцированно, детализируется в целом ряде оттенков. Так, например, для английского слова night словари фиксируют 13 (!) самостоятельных значений, четыре из которых конкретизированы в виде оттенков (всего выделено 9 оттенков), в русских словарях семантическая структура лексемы ночь представлена 4 ЛСВ. Во-вторых, в русском языке все ЛСВ наименований суточных отрезков сохраняют субстантивную частеречную соотнесенность, в то время как в английском языке ЛСВ одного и того же наименования могут быть соотнесены с разными частями речи (в нашем материале: существительные – 78%, прилагательные – 17% и глаголы – 5%). На основе аппликации словарных статей одного и того же слова, извлеченных из разных источников, разрабатывалась сводная статья, в которой отражена максимально полная информация о значениях и оттенках значений слов, зафиксированных в национальных словарях. Отметим, что это очень ответственный этап исследования, предполагающий кропотливый компонентный анализ дефиниций сопоставимых ЛСВ, привлечение результатов специальных лингвистических исследований о семантике слова, собственных наблюдений за сочетаемостью слова, его функционированием в текстах. На этой основе принимается решение о целесообразности включения того или иного значения или его оттенка в сводную статью, о необходимости и характере корректировки дефиниции. На основе сопоставления семантической структуры исследуемых английских единиц в толковых словарях было установлено, что наибольшее количество самостоятельных значений и оттенков значений имеют лексемы night (22) и day (19); лексемы twilight, evening и morning представлены сопоставимым количеством ЛСВ (соответственно 9, 8, 8). По данным русских толковых словарей наиболее разработанной семантической структурой обладает слово день – 8, в то время как для слова ночь зафиксировано лишь 4 ЛСВ. Лексемы вечер, утро и сумерки, как и их английские эквиваленты, представлены соотносимым числом ЛСВ (соответственно 6, 4 и 4), лексема сутки, не имеющая однословного английского эквивалента, фиксируется всеми используемыми словарями в единственном значении. Описание каждого ЛСВ в рамках лингвокультурологической статьи включает следующие компоненты: а) указание таких его характеристик, как грамматические особенности (для английских ЛСВ – часть речи; для английских и русских – особенности формообразования); степень актуальности для современного носителя языка (устар., нов. и т.п.); стилистическая характеристика (поэтич., разг. и др.); б) формулировка предметно190 понятийного содержания; в) иллюстративная зона (под знаком □); г) характеристика системных отношений (наличие синонимов, антонимов, паронимов, омонимов). Следующим этапом организации описания семантической структуры единиц в рамках разрабатываемой статьи стало сопоставление набора ЛСВ английского и русского наименований одного и того же суточного отрезка. При этом лексикосемантические варианты были распределены по двум зонам описания. Первая зона включает соотносимые значения английской и русской единицы. Учитывая тот факт, что полная эквивалентность значений принципиально невозможна, мы говорим именно о соотносимости (пересекаемости) значений, подразумевая под этим совпадение доминантных предметно-понятийных сем сопоставляемых значений. Эти семы вынесены в качестве заголовка к дефинициям ЛСВ. Вторая зона содержит несоотносимые значения, для которых приводятся эквивалентные слова или устойчивые выражения другого языка или (в случае их отсутствия) перевод на другой язык значения данного ЛСВ и примеров его употребления. Например, описание семантической структуры лексем twilight и сумерки выглядит так: Twilight ['twailait], noun Су;´мерки, - рек, -ркам Зона пересекающихся значений 1 Полутьма, когда солнце за горизонтом 1. The soft, defused light from the sky, 1. Полутьма, наступающая после заwhen the sun is below the horizon хода солнца □ Faith and the Twilight seeming to agree in this Property, that a mixture of Darkness is requisite to both. 1661 Boyle Style of Script. Syn.: dimness, dusk, evening, gloaming, halflight, sundown, sunset Ant.: dawn, daybreak, morning, sunrise, sunup □ Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния. Н.В. Гоголь. «Вий». Син.: мгла, полумгла, полумрак, полутьма, сумрак Время утром или вечером, когда угасает свет 2 2. The period in the morning or in the 2. Время; от первого рассвета до восevening during which the light prevails хода солнца, и от заката до ночи, до □ We could still just see the hills in the twi- угасания последнего солнечного света light 3 Период упадка (перен.) 3. A terminal period after success □ The twilight of his life Syn.: decline, ebb, last phase Ant.: climax, crowning moment, height, peak 3. перен Состояние упадка, разрушения □ [Орловская битва] есть результат столкновения двух общественных систем.., двух общественных устремлений: одно к всеобщему человеческому счастью, другое ко всеобщему рабству и сумеркам жизни. А.Н. Толстой. «Гибель вурдалака». Зона несовпадающих значений Значения лексемы TWILIGHT, не имеющие соответствий в семантической структуре лексемы СУМЕРКИ 1 (Неточность представления или поня- 5. (n) A state of uncertainty or gloom 191 □ They fell into that twilight zone between тия; неясность (чего-л.); промежуточmilitary personnel and civilian employees. ное состояние) (Они попали в ту сумеречную зону между военным личным составом и гражданскими служащими). 2 Сумеречный (относящийся к сумер□ The muse has broke the twilight-gloom. кам) 6. (a) Of or pertaining to twilight 1764 GRAY Pom. Syn.: crepuscular, darkening, dim, evening 3 4 6. || (a)Appearing or flying at twilight, зоол. Сумеречный (Появляющийся crepuscular или летающий в сумерках) 7. (adj.) Imperfectly illuminated Сумеречный (Неотчетливый, смутный; темный, тусклый (как бы в сумеречном освещении)) 8. (a) Obscure (неопределенный, неясный) Syn.: declining, dying, ebbing [www. dictionary.reverso.net] 5 (Освещать тускло) 9. (v) To illuminate faintly Значение лексемы СУМЕРКИ, не имеющее соответствия в семантической структуре лексемы TWILIGHT 1 (Half-light in imperfectly illuminated 4. сущ. Полумрак в слабо освещенном place or room, faint, not distinct light) месте, помещении; слабый, неяркий свет (You raise eyes to the sky – it’s smoked and □ Поднимаешь глаза к небу — небо закопis still closed with this air way, from what чено и еще закрыто этой настилкой возthere is constant twilight out side) душной дороги, от которой в улице вечные сумерки. В.Н. Королев. «Без языка». 3. Этимологическая справка. В этимологическую часть статьи включается зафиксированная в этимологических словарях и частных исследованиях информация о внешней форме слова на предшествующих этапах развития языка, о первичном признаке, мотивирующем наименование, об истории развития значения слова. 4. Фразеологические единицы, в семантику которых наименование суточного отрезка входит на правах компонента. Фразеологизмы, по выражению А.Т. Хроленко, являются «самыми представительными единицами культурологии» [Хроленко, 2008, с. 79]. В рамках разрабатываемой статьи предполагается выделение и лексикографическое описание двух групп фразеологизмов: а) синонимичные фразеологические наименования суточного отрезка; б) фразеологизмы, содержащие наименование суточного отрезка в составе внутренней формы. Значение фразеологизмов второй группы не связано непосредственно с суточным циклом, однако знакомство с этой группой единиц позволяет выявить круг тех объектов, признаков, которые осмысляются языковым сознанием в тесной связи с суточным временем. Так, например, фразеологизмы the king of day, дневное светило фиксируют информацию о том, что солнце осмысляется как неотъемлемый атрибут дневного времени. Признак максимальной степени освещенности, видимости в течение 192 дневного периода отражен в семантике фразеологизмов clear as a day, ясно как день в значении ‘совершенно ясно’. 5. Лингвокультурологический комментарий. Завершает словарную статью лингвокультурологический комментарий, цель которого синтезировать представленные в предшествующих разделах сведения об особенностях концептуалиации стоящего за словом объекта в каждом из сравниваемых языков, акцентировать сходства и различия, предоставить в распоряжение читателя дополнительную информацию о результатах исследования этого же объекта в рамках других наук. Отметим, что на данном этапе лингвокультурологическая статья представлена нами в виде макета, который не претендует на полноту и завершенность. На этой стадии его разработки мы старались эксплицировать отличие предлагаемой словарной статьи от статей толковых, двуязычных переводных словарей, в которых фиксируется комплекс лингвистических характеристик слов. Лингвокультурологическое описание призвано показать, как связаны описываемые языковые единицы с областью тех или иных предметных знаний, закрепленных в языке. Конечная цель статьи лингвокультурологического словаря – актуализировать или сформировать в индивидуальном языковом сознании образ обозначенного словом фрагмента действительности в том виде, в каком его воссоздало национальное языковое сознание. Библиографический список Берков В.П. Двуязычная лексикография. СПб., 1996. Гайденко П.П. Тема судьбы и представление о времени в древнегреческом мировоззрении // Вопросы философии. 1969. № 9. Гарская Л.В. Структурно-семантическое исследование группы английских существительных, обозначающих части суток и времена года, в сопоставлении с русским языком: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1976. Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Время суток и виды деятельности // Логический анализ языка. Язык и время / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. М., 1997. Иванищева О.Н. Язык и культура. Мурманск, 2007. Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию. М., 1997. Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. Вып. 1 / Брилева И.С., Вольская Н.П., Гудков Д.Б. и др. М., 2004. Симашко Т.В. Структура и содержание словаря денотативных классов // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. трудов. Вып. 2 / отв. ред. Т.В. Симашко. Архангельск, 2005. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н.И. Толстого. Т. 1–3. М., 1995, 1999, 2004. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. Третьякова Л.Н. Проект создания лингвокультурологического словаря // Журнал молодежной культуры. Проект Ахей. URL: mmj.ru/index.php. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологи. М., 2008. Цапенко С.А. Особенности концептуализации суточного круга времени в русской языковой картине мира: автореф. дис. … канд. филол. наук. Архангельск, 2005. 193 Шмелев А.Д. Время в русской языковой картине мира // Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: материалы к словарю. М., 2002. Lachur C. Relikty pionowej osi czasu w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). Model dobowy // Zeszyty nank Wyzszej szkoly ped Filologia ros. Opole, 1993. № 91. Словари Большой Академический Словарь: в 17 т. М., 2006. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1978. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2000. Collins’ Graphic English Dictionary. London and Glasgo, 2000. Hornby A.S., Cowie A.P. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English: in 2 v. Oxford, 1995. Macmillan English Dictionary for advanced learners. United Kingdom, 2002. The Oxford English Dictionary. Oxford, 2004. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English language. New York, 2004. Т.В. Симашко Сопоставительный анализ слов с генетически родственными корнями в составе денотативного класса Семантический универсум как результат освоения объективной действительности неоднороден во многих отношениях, в том числе и в аспекте характера связи языковых единиц с объектами мира. С одной стороны, это обусловлено национальным мировидением, о чем особенно ярко писал В. фон Гумбольдт [Гумбольдт, 1984, с. 47–49, 66, 68]. С другой стороны, определяется собственно ономасиологическими процессами: в языковых значениях отражаются результаты различной степени обобщения знаний об объектах действительности и абстрагирования разного порядка. С итогом этих сложных процессов познания и речемыслительной деятельности связан тот интересный факт, что в словарном составе любого языка содержится множество единиц, значение которых включает денотативный признак, отсылающий к одному и тому же объекту мира. Тем самым каждое значение по-своему раскрывает свойства этого объекта. Такие единицы отражают наиболее конкретный уровень как обобщения объектов, так и фрагментации семантического универсума и названы денотативным классом [Симашко, 1998]. При обозначенном подходе к систематизации, которая осуществляется не извне, то есть не на базе общих знаний о действительности, а изнутри, то есть на основе особенностей семантических единиц, выделенные классы охватывают в известной мере однородный информационный блок об одной из сфер действительности. Это представляется достаточно надежным основанием для определения и сравнения фрагментов языковой картины мира разных языков [Симашко, 2000, с. 132; развитие этой идеи см.: Нифанова, 2004]. ______________ © Симашко Т.В., 2009 194 Сложная структура любого денотативного класса позволяет рассматривать его состав под разными углами зрения, в соответствии с этим его отдельные компоненты могут становиться членами различных групп внутри того или иного денотативного класса. При сопоставительном анализе выделение групп, объединенных не только общим денотативным признаком, но и другими чертами, создает еще большую однородность материала, что повышает степень успешности сравнения. Значительной мерой спаянности обладают единицы денотативного класса, содержащие те же корни, что и его имя (о методике установления имени-метки денотативного класса см.: [Симашко, 1998, с. 60–69]). Таковыми, например, являются русские и английские семантические единицы с корнями -ветер- и -wind-: выветриваться, ветровой, ветрогон, to wind, windward, windy, upwind и т.д. (выражаю благодарность студентке Е.В. Долгих за помощь в сборе материала). Обращаясь к анализу денотативных классах <ветер> и <wind> русского и английского языков, нельзя не учесть и того, что в них есть единицы с корнями веj- и -winnow-, состоящими в генетическом родстве с названными выше. Генетическая общность единиц – -ветер- и -веj-, а также -wind- и -winnow- – единодушно утверждается этимологами, более того, как в русских, так и в английских этимологических словарях эти корни возводятся к одной и той же индоевропейской основе [Фасмер, с. 306, 310; Шанский, с. 77–78, 84; ED, URL]. Таким образом, с одной стороны, можно предположить, что слова с генетически родственными корнями каждого из сопоставляемых языков обладают тесным семантическим единством и в настоящее время. С другой стороны, генетическая общность данных корней в славянских и германских языках позволяет поставить вопрос о том, какой объем информации, связанной с концептуализацией природного явления <ветер> / <wind>, охватывается единицами, которые возникли в процессе развития каждого из сопоставляемых языков на базе данных корней. Открываются и другие направления в сопоставлении, например, выяснение сфер действительности, получивших отражение в единицах с рассматриваемыми корнями, выявление их семантики, установление степени их эквивалентности и т.д. Небезынтересным представляется и сопоставление состава единиц изучаемых групп с целью определения частеречной принадлежности и структурных особенностей каждой из них, хотя, как известно, в работах по сопоставительному языкознанию высказываются сомнения в целесообразности таких сравнений. Так, отмечается, что сопоставительный анализ состава частей речи осложняется их несоответствием в разных языках (см., например [Гак, 2000, с. 95]). Однако отметим, что по отношению к корпусу изучаемых слов эти трудности практически не проявляются. Состав выявленных единиц ограничен: это преимущественно глаголы и существительные, небольшое количество прилагательных, а другие части речи – наречия и причастия – в обоих языках представлены незначительно. Кроме того, поскольку источником материала служили словари, постольку использовались приведенные в них грамматические характеристики, которые можно признать как наиболее устоявшиеся. Впрочем, возможные затруднения, связанные с отдельными словами, не могут быть причи195 ной отказа от осмысления соотношения разных частей речи, входящих в изучаемые группы. В связи с этим стоит вспомнить, что при выявлении особенностей концептуализации важно установить, «каким объективным или онтологическим свойством должна обладать та выделяемая разумом человека реалия или же бытийная сущность, чтобы человек обозначил ее, назвал существительным или глаголом, прилагательным или числительным» [Кубрякова, 1997, с. 220]. Сравнение рассматриваемого корпуса денотативно связанных единиц показывает, что в английском языке более 60% составляют существительные, тогда как в русском практически в том же объеме содержатся глаголы. Такое соотношение свидетельствует об особенностях распределения информационного блока, зафиксированного в каждом из языков единицами генетически родственных групп. Преобладание глаголов в русском языке можно расценить как то, что в языковом сознании его носителей складывается представление о ветре прежде всего как о процессе. Русские глаголы, обладающие развитыми категориями вида и залога, способны отразить разные стадии процесса под различным углом зрения. Например, в слове провеивать ‘очищать обмолоченное зерно от мякины и сора’ неограниченность названного процесса, его непосредственно длящееся течение, незавершенность противопоставлены завершенности благодаря виду глагола провеять ‘очистить зерно’; скрытость субъекта, совершающего действие, и вследствие этого выдвижение на первый план самопроизвольности протекающего процесса актуализированы в страдательных глаголах провеиваться, провеяться (Зерно провеялось). См. аналогично: выветрить ‘действием ветра, свежего воздуха удалить, заставить исчезнуть (запах, сырость)’, выветривать, выветриться; овеять ‘обдуть, охватить дуновением струи воздуха, ветра’, овевать, овеваться, овеиваться, обвеять, обвевать, обвеваться. В английском же языке в большей мере закрепляются наименования предметов, явлений, связываемые языковым сознанием с какими-нибудь свойствами ветра. За счет этого объем субстанциональных сущностей увеличивается. Заметим также, что в ряде случаев такие слова не имеют эквивалентов в русском языке и переводятся описательными сочетаниями. Например, английское существительное woodwind, обозначающее разновидность музыкальных инструментов, передается в словаре как ‘деревянный духовой инструмент’, существительное windage имеет три значения: ‘сопротивление воздуха’, ‘ снос ветром’ и ‘надводная часть судна’, слово windbreak переводится как ‘защитная лесополоса’ и т.д. Интересно, что соотношение, выявленное в генетически родственных группах, не вполне соответствует распределению частей речи в денотативном классе <ветер> в целом, где существительные преобладают над глаголами и в русском языке (46% и 36%). Между тем как при полном подсчете единиц денотативного класса <wind> количество существительных, причем значительно – на 25%, превышает глаголы [Нифанова, 2004, с. 112] так же, как и в группе генетически родственных слов. Результаты такого сопоставления, конечно, требуют интерпретации. 196 Не находит полного соответствия распределение отдельных «долей» информационного блока, образовавшегося в результате концептуализации природных объектов <ветер> и <wind>. Так, по предварительным подсчетам в денотативном классе <ветер> количество единиц с корнями -ветер- и -веj- приблизительно одинаково, а в денотативном классе английского языка значительно большей продуктивностью обладает корень -wind-, число же отдельных значений с корнем -winnow- незначительно. Анализ небольшого объема устойчивых сочетаний, извлеченных пока лишь из словарных статей, показывает, что в их составе гораздо активнее используются слова с корнями -ветер- и -wind-, причем в английском языке обнаружены устойчивые сочетания, в которых отражаются характеристики ветра, связанные с его способностью проявляться особым образом или перемещать объекты своей силой – before the wind, sail close to (or near) the wind, trade winds. Тогда как в статьях словарей литературного русского языка составных номинаций нет. Однако, по данным диалектных словарей, их немало, во многие из них входит слово ветер, эквивалент английского языка: ветер московский (Брян.) ‘северный’, ветер летний (Беломорск.) ‘южный’, ветер в поход (Арх., Пск.) ‘попутный ветер’, отдорный ветер (Олон.) ‘встречный ветер’. В корпусе рассматриваемых единиц обоих языков преобладают фразеологизмы, одним из компонентов которых также являются слова ветер и wind. Как в русском, так и в английском языке в этих устойчивых сочетаниях характеризуется поведение человека. Анализ их внутренней формы позволяет выявить выделенные людьми и зафиксированные те или иные существенные свойства ветра, например, его способность к бесконтрольным, хаотичным, бесполезным действиям, его свойство обладать направленным движением, его способность своей силой уносить предметы в неизвестном направлении и т.д. Например: бросать (или кидать, швырять) деньги на ветер; держать нос по ветру; как (словно, точно) ветром сдуло; to catch the wind in a net ‘переливать из пустого в порожнее, заниматься бесполезным делом’; to fling / cast smth. to the winds ‘отбросить что-л. (благоразумие, осторожность и т.п.)’; take the wind out of smb.'s sails ‘лишить кого-л. уверенности, смутить или разочаровать’. Обращение к достаточно узкой группе единиц денотативного класса, обладающих генетической общностью, предполагает выявление степени развитости к настоящему времени гнезд исследуемых корней и особенностей словообразовательных цепочек, которые можно рассматривать как своеобразный показатель дифференциации концептуальных признаков. Значимость процессов деривации, которая отражает результаты предметно-познавательной деятельности носителей языка и помогает определить организацию семантического пространства, справедливо подчеркивается учеными (см., например: [Вендина, 2002, с. 44]). Между тем при сопоставлении единиц разных языков исследователи сталкиваются с известными трудностями, ведь еще многие теоретические вопросы деривации остаются дискуссионными. Достаточно вспомнить хотя бы то, что специалисты разных языков различно трактуют понятие морфемы. Например, R. Coates, анализируя английские слова, утверждает, что морфофонему (мор197 фонему) следует признать особым видом словообразовательной морфемы на том основании, что она изменяет произношение дериватов [Coates, 2004, р. 318]. Однако подобные явления в русском языке рассматриваются как процессы, которые протекают в рамках одной морфемы и отражают особенности сочетания определенных морфем (см., например: [Немченко, 1984, с. 74]). Есть и другие теоретические разногласия. Так, если в русском языке сомнения в отдельности и цельнооформленности слова возникают редко, то в английском языке не всегда просто определить, является ли некоторое сочетание графем одной лексемой или же представляет собой словосочетание. Критерии различения сложных слов и словосочетаний, как известно, давно и широко обсуждаются в литературе. Учитывая их совокупность, а также осуществляя сверку по другим словарям, мы в определенной мере стремились разрешать сложные случаи. Так, непривычные с позиции русской орфографии раздельные написания, впрочем, спорные и с точки зрения английского правописания, следует отнести к словам: wind instrument (wind-instrument), wind chill (wind-chill), wind gap (wind-gap) и т.д. Ряд структурных и словообразовательных особенностей номинативных единиц в сопоставляемых языках вполне предсказуем в силу типологических свойств языков: русские производные слова преимущественно образованы морфологическим путем, в изучаемой группе самым распространенным является суффиксальный способ. В английском языке морфологическая деривация не столь разнообразна, самым продуктивным способом является сложение основ, немало слов образовано путем конверсии. Вместе с тем можно отметить некоторые особенности, присущие изучаемым группам. Так, в русском языке словообразовательные гнезда с корнями -ветер- и -веj- приблизительно равны по объему. В английском языке иная картина: преобладают производные слова с корнем -wind-, а доля слов с корнем -winnow- лишь немного превышает один процент. Словообразовательное гнездо с корнем -winnow- концентрирует в себе небольшой объем информации. В значении слов с данным корнем преимущественно фиксируется один из концептуальных признаков ветра – ‘его способность приводить в движение объекты и уносить от первоначального положения’. Это свойство ветра люди заметили и приспособили присущие ветру свойства обладать определенной силой и направлением для выполнения сельских работ. Данный концептуальный признак зафиксирован в значении слова to winnow ‘blow air through (grain) in order to remove the chaff’ – веять (зерно), навеять, провеять, провеивать, а также во фразовом глаголе to winnow out (to winnow away)‘ remove (chaff) from grain’, что соответствует русскому слову отвеивать. За счет слов с этим же корнем происходит расширение области концептуализации. Это находит выражение в существительном, называющем процесс веяния, – winnowing, в наименовании человека, занимающегося этим трудом, – winnower ‘веяльщик’, в названии машины для очистки зерна – winnowing machine (русский эквивалент – веялка), в прилагательном winnowed (веяный), значение которого отражает признак зерна, подвергнутого обработке с помощью ветра. 198 Признак ‘очищение с помощью ветра с целью удаления сора и отбора пригодного зерна’, который содержится в значении глагола to winnow, был осмыслен и перенесен на другие объекты. В более обобщенном и абстрактном виде этот признак закрепился в особом значении слова to winnow ‘examine in order to identify the most valuable or useful elements’, то есть ‘исследовать с целью выявления наиболее значимых или полезных элементов’. Интересно, что этот же признак реализовался во фразеологизме to winnow false from true ‘отделять ложь от правды’. Нетрудно заметить, что русскими эквивалентами лексем с корнем -winnow- являются слова с корнем -веj-. Однако в целом в значениях слов с корнем -веj- реализуется гораздо больше концептуальных признаков природного явления ветер по сравнению с английским. Уже из приведенного выше анализа видно, что концептуальный признак не отождествляется с семантическим. Один концептуальный признак может находить выражение в целом ряде единиц, в том числе и различающихся структурой. Концептуальный признак выводится на основе обобщения тех результатов, которые получены путем анализа семантики отдельных единиц с ориентацией на имя-метку денотативного класса. Поскольку имя-метка обозначает семантически однородный информационный блок, отражающий совокупное (и продолжающееся пополняться) знание об одном из фрагментов мира, постольку любая единица денотативного класса с целью определения ее роли в процессе концептуализации должна быть соотнесена с именем-меткой. Иначе говоря, необходимо ответить на вопрос о том, какой признак, свойство или действие ветра отражается в значении номинативной единицы. Например, знание о ветре (wind) как природном объекте, представляющем собой ‘движение воздушных масс в горизонтальном положении’, прежде всего заключено в словах, совпадающих с именем-меткой: ветер и wind. Этот же концептуальный признак находит отражение в значениях таких слов, как ветерок, ветрено, ветреный ‘сопровождаемый ветром’, ветренеть ‘о становлении ветреной погоды’, безветренный, безветрие, windy, windless, ср.: windy weather, windy place, windless day. Информация о становлении ветра и разных фазах его проявления реализуется в русских словах веять, веяние ‘дуновение, движение воздушной струи’, повеять. Если выйти за пределы рассматриваемой здесь генетически родственной группы, то можно заметить, что данный концептуальный признак проявляется и в других словах денотативного класса, не связанных общностью происхождения, например: дуть ‘(о ветре) приводить в движение струи воздуха’, blow ‘(of wind) move creating an air current’. Концептуальный признак, отражающий одно из познанных свойств природного явления, лишь очерчивает некую область, в пределах которой каждый язык представляет ее по-своему, что хорошо видно из примеров, приведенных выше. Сопоставительный анализ генетически родственных групп показывает, что значительный объем информации представлен общими концептуальными признаками: ‘проявляться со значительной силой’, ‘производить действия разрушительного характера’, ‘изменять положения предметов в пространстве’, ‘со199 вершать движения в различных направлениях’, ‘становиться полезным источником в хозяйственной деятельности людей’ и некоторые другие. Ряд концептуальных признаков устанавливается на основе анализа слов с переносным значением, причем в сопоставляемых языках выявлено больше различительных, чем сходных черт. Даже один и тот же концептуальный признак может получать различную спецификацию в сопоставляемых языках. Так, присущее ветру свойство непостоянства, быстрой смены направления движения было перенесено в русском языке в область психологических характеристик человека, не способного здраво мыслить и совершающего необдуманные поступки. Например: ветреный ‘легкомысленный, непостоянный’, ветреность, ветреник ‘легкомысленная личность’, ветреница, ветреничать, ветрено ‘легкомысленно’, ветрогон, ветрогонка. В английском языке данный концептуальный признак реализуется в единицах, характеризующих речь: windbag ‘person who talks too much’ (‘человек, слишком много говорящий’), windy ‘using or expressed in numerous words of little substance’ (‘говорящий много ни о чем’), windy demagogue (‘болтливый демагог’), windy speeches (‘напыщенные речи’). Это не значит, что в английском языке отсутствуют характеристики легкомысленного поведения. Они реализуется в словах с корнями, не имеющими отношения к рассматриваемой здесь группе: frivolously, frivolous, empty-headedness. Некоторые концептуальные признаки в генетически родственных группах выявляются лишь на материале одного языка. Например, в русском языке переосмысливается ‘способность ветра совершать движения в различных направлениях’ и в новом значении используется в области социальной жизни человека: веять ‘распространяться, передаваться’, веяние (ср.: веяние войны, веяние весны), повеять ‘вызвать определенные состояния, мысли’, поветрие ‘явление, получившее широкое распространение’. В сознании носителей английского языка ветер ассоциируется с физиологическими процессами человеческого организма: слово wind как существительное используется для обозначения дыхания, запаха (человека, животного), метеоризма, как глагол оно выражает значение ‘вызывать отрыжку’, windpipe называет дыхательное горло, break wind обозначает высвобождение газов из кишечника. Корень -wind- используется в единицах, связанных с ситуацией пребывания на море, что, очевидно, отражает факт объединения языковым сознанием носителей английского языка двух стихий – ветер и море: to windsurf (катание на паруснике), windsurfing (парусный спорт), windjammer (купеческое судно), windbound (корабль, задержанный встречными ветрами). Таким образом, анализ генетически родственных групп в составе денотативных классов двух языков показывает, что единицы, накопленные к настоящему времени, проявляют различные типы соотношения с действительностью. Слова и устойчивые словосочетания с прямым смыслом демонстрируют значительное сходство в процессе дискретизации объектов <ветер> и <wind>. Единицам вторичной номинации больше присущи специфические черты, которые отражают различие не столько выявленных базовых концептуальных признаков, сколько объема семантических единиц, их реализующих. Обнаруженные на этом фоне индивидуальные черты в семантике единиц, репрезентирующих концептуаль200 ный признак, можно рассматривать как отражение особого способа восприятия и интерпретации одного и того же фрагмента мира. Библиографический список Вендина Т.И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания. 2002. № 4. Гак В.Г. Русская динамическая языковая картина мира // Русский язык сегодня. М., 2000. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997. Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984. Нифанова Т. С. Сопоставительное описание семантических единиц разных языков: монография. Архангельск, 2004. Симашко Т.В. Денотативный класс как основа описания фрагмента мира: монография. Архангельск, 1998. Симашко Т.В. Особенности структурирования семантического пространства с учетом семантики составляющих его единиц // Язык, речь, коммуникация. Мурманск, 2000. Coates R. Morphophonems // Morphology overview. London; New York, 2004. Словари Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Филина. Вып. 4. Л., 1969. Словарь русского языка / под ред. А.П. Евгеньевой: в 4 т. М., 1981–1984. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1986. (В тексте – Фасмер.) Этимологический словарь русского языка / под ред. Н.М. Шанского. М., 1968. (В тексте – Шанский.) Online Etymology Dictionary. URL: http://www.etymonline.com. (В тексте – ED.) URL: http://www.askoxford.com. А.Г. Бондарева Особенности характеристики единиц денотативного класса < лес> в словарях Изучение класса слов, объединенных денотативной общностью, в исторической перспективе предполагает оценку состава избранного денотативного класса на разных временных срезах, определенных в рамках нашего исследования периодом с XI по XVIII вв. С учетом заданных хронологических рамок исследования определяются источники фактического материала. Лексический состав русского языка XI–XVIII вв. находит отражение, во-первых, в «Словаре Академии Российской» 1789–1794 гг., который фиксирует лексику XVIII в. в ее современном тому времени состоянии; во-вторых, в так называемых исторических словарях: в «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.», в «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского, в «Словаре русского языка XI–XVII вв.», в «Словаре русского языка XVIII в.». Обследуемые словари существенно отличаются друг от друга по времени создания (что вполне естественно отражается на технике представления материала), ______________ © Бондарева А.Г., 2009 201 по теоретическим установкам, по принципам, положенным в их основу, по протяженности исторического времени, охваченного описанием. Заметим также, что словари, частично совпадающие хронологически (с одной стороны, «Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.», «Материалы для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского, «Словарь русского языка XI–XVII вв.», с другой – «Словарь Академии Российской» и «Словарь русского языка XVIII в.»), не повторяют друг друга ни составом содержащихся в них слов, ни характером использованных источников, ни содержанием и объемом словарных статей. Привлекая для обследования такие различные с точки зрения «идейной организации» словари, мы исходим из необходимости выявить как можно в более полном объеме корпус единиц денотативного класса <лес>, наличествующих в языке в период с XI по XVIII вв. И в этом смысле материалы, извлеченные из данных словарей, расширяют, дополняют и уточняют друг друга. Анализ организации словарных статей единиц, включенных в денотативный класс <лес>, позволил выделить в их структуре обязательные и факультативные элементы. По нашим наблюдениям, в словарных статьях практически всех денотативно связанных единиц, получивших разработку в каком-либо из обследуемых лексиконов, имеются следующие структурные элементы: 1) заголовочное слово; 2) грамматическая характеристика слова; 3) толкование значений слова; 4) иллюстративный материал. Описание данных элементов словарных статей см. в [Бондарева, 2009]. Словарные статьи отдельных единиц денотативного класса <лес> могут включать в себя не только набор обязательных элементов, но и целый комплекс других сведений. В рамках данной статьи рассмотрим на конкретных примерах, какую дополнительную информацию об интересующих нас единицах можно получить при обращении к тому или иному словарю. Так, во всех обследуемых лексиконах используются пометы, характеризующие специфику речевой употребительности единиц денотативного класса <лес>. Вместе с тем следует отметить, что в словарях, которые фиксируют лексику XVIII в., перечень включаемых в характеристику слова помет весьма богат и разнообразен, в то время как в словарях, описывающих лексику XI–XVII вв., пометы применяются, как правило, лишь по отношению к тем словам, которые содержат в себе, если воспользоваться терминологией авторов Акчимского словаря, «размерноколичественную» (уменьшительную или увеличительную) оценку обозначаемых реалий [Акчимский словарь, с. 18]. В связи со сказанным считаем необходимым привести рассуждения Л.Л. Кутиной, которая пишет, что «русские словари донационального периода (периода литературного двуязычия) вряд ли могут ставить своей задачей стилистическую характеристику словоупотребления. Собственно стилистическая характеристика возникает в рамках единого литературного языка» [Кутина, 1985, с. 76]. Анализ материалов различных словарей позволил осуществить классификацию представленных в них помет. На наш взгляд, пометы, которыми могут снабжаться единицы исследуемого денотативного класса, делятся на пять групп. Первая группа объединяет пометы, которые указывают на характер эмоционально-оценочной окраски, содержащейся в слове. Так, среди единиц, входя202 щих в состав денотативного класса <лес>, в словарях обнаруживаются слова уменьшительные или умалительные, уменьшительно-уничижительные, ласкательные, увеличительные. Например: боръкъ. Уменьш. к боръ [ДРЯ, т. 1, с. 298]; перелhсочекъ, умал. [САР1, ч. 3, с. 1365]; лhсишко, уменьш.-уничиж. к лhсъ [СлРЯ XI–XVII, вып. 8, с. 211]; дубровушка, ласкат. к дуброва [СлРЯ XI– XVII, вып. 4, с. 371]; лhсище, увелич. [САР1, ч. 3, с. 1364]. Во вторую группу входят пометы, которые, говоря словами создателей «Словаря русского языка XVIII в.», относят ту или иную единицу к «определенному источнику формирующегося литературного языка (народная разговорная речь, церковнославянский язык)» [Правила, 1984, с. 35]. Слова с пометой, указывающей на их генетическую связь с народно-разговорной речью, в составе исследуемого денотативного класса нами не выявлены. В нашем материале выделяется лишь незначительное количество слов с пометой «славянское», среди них: густыня – «Слав. Чаща, густой лес; густота (лесов, деревьев)» [СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 18]; чаща – «Сл. Частой лhсъ» [САР1, ч. 6, с. 667] и др. Интересно заметить, что в «Словаре русского языка XVIII в.» пометой «славянское» снабжаются не только лексемы, занимающие позицию основной формы заголовочного слова, но и их варианты, ср., например: бревно и (слав.) бервно, дремучий и (слав.) дремущий [СлРЯ XVIII, вып. 2, с. 134; вып. 7, с. 7]. Кроме того, соответствующую квалификацию получают грамматические формы отдельных слов, например: иссhчь, сов. изсhкать и (слав.) изсhцати, несов. По мнению Е.А. Захаровой и З.М. Петровой, это связано со стремлением создателей названного лексикона «с наибольшей полнотой показать роль церковнославянизмов в формировании русского литературного языка нового времени» [Захарова, Петрова, 2002, с. 27]. Осуществляя разработку славянизмов, составители «Словаря Академии Российской» активно используют прием противопоставления лексических вариантов русского и славянского происхождения, ср.: бhлка <…> по Славянски вhверица [САР1, ч. 1, с. 436]. Противопоставления такого рода очень характерны при разработке фонетических и морфологических вариантов, например: олень, по Слав. елень; гоню, гониши, гонихъ, гонити, слав.: просто же гонишь, гналъ, гонить, гнать [САР1, ч. 4, с. 628; ч. 2, с. 201–202] и т.п. Третья группа включает пометы, актуализирующие преимущественную связь слова с определенными жанровыми разновидностями речи. Например, помета «поэтическое», сопровождающая слово дебрь – ‘долина; пропасть; долина, заросшая лесом // заросли, чаща’, указывает на «типизированное употребление» [Правила, 1984, с. 37] данной единицы денотативного класса <лес> в поэтический речи XVIII в. [СлРЯ XVIII, вып. 6, с. 63]. Отметим, что составители «Словаря русского языка XVIII в.» специально не оговаривают характер пометы «мифологическое», которая, тем не менее, применяется ими при характеристике ряда слов, в том числе и относящихся к денотативному классу <лес>. Однако если учитывать то, что в XVIII в. основным литературным направлением был классицизм, с его развитой системой мифологических образов в произведениях высокого слога, то названная помета может быть также квалифицирована как «жанрово-характеризующая». Слов с пометой 203 «мифологическое» в составе исследуемого денотативного класса немного, среди них: Гамадриада – ‘лесная богиня, нимфа’, Диана – ‘богиня луны, покровительница охоты у древних римлян; богиня ловли и лесов’, Дриада – ‘богиня гор и лесов’ [СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 87; вып. 6, с. 125; вып. 7, с. 8]. В четвертой группе сконцентрированы пометы, демонстрирующие отнесенность слова к определенной сфере употребления, ограниченной социально или локально. Так, в «Словаре Академии Российской» отмечаются денотативно ориентированные на лес единицы, которые используются преимущественно в языке земледельцев (чистить ляды; прятать ляды, реч. земледhльч. [САР1, ч. 3, с. 1384–1385]), охотников (втечка <...>. Речен. охотничье [САР1, ч. 6, с. 79]). Пометы «лесоводство и лесоведение», «ботаника», «военное дело», «юриспруденция», применяемые в «Словаре русского языка XVIII в.», указывают на связь некоторых единиц денотативного класса <лес> с терминосистемами определенных областей знания, ср.: въезд – «// Юр. Право пользования лесными угодьями на землях их владельца», засhка – «1. Воен. Препятствие, завал из срубленных деревьев», линней и линнея – «Бот. Стелющийся кустарник мшистых лесов» и др. [СлРЯ XVIII, вып. 4, с. 185; вып. 8, с. 86; вып. 11, с. 182]. В словарях, фиксирующих лексику XVIII в., предусмотрены пометы для определения территориально ограниченных слов. Квалифицируются как областные следующие единицы денотативного класса <лес>: дром в значении ‘непроходимая чаща с валежником, буреломом’; елань – ‘ровное, открытое место; поле, долина, лощина, лесная равнина’; ерник – ‘мелкий лес (в Сибири, на Камчатке)’; киселица – ‘красная смородина, растущая в лесу’ и некоторые др. [СлРЯ XVIII, вып. 7, с. 12, 76, 80; вып. 10, с. 40]. Пятую группу составляют пометы, указывающие на историческую перспективу слова или словосочетания, а также касающиеся степени их употребительности. Так, в «Словаре Академии Российской» пометой «старинное» снабжаются те единицы анализируемого денотативного класса, которые к XVIII в. вышли из активного употребления, ср., например: рамень – «Старин. Строительный, годный на строенiе лhсъ», засhчная голова – «Старин. Начальникъ, смотритель военныхъ засhкъ» [САР1, ч. 5, с. 70, 1048] и др. Интересно то, что указывая на архаичность слова гай, составители данного словаря отмечают, что «слово сiе во многихъ Славенскихъ нарhчiяхъ и въ Малороссiи донынh употребительно» [САР1, ч. 2, с. 16]. Для характеристики степени употребительности той или иной единицы, входящей в состав денотативного класса <лес>, в словарях используются пометы «редко», «единично», ср.: краснодеревый (един.), лhсоватой (редко) – ‘слегка поросший лесом’ и т.п. [СлРЯ XVIII, вып. 10, с. 236; вып. 11, с. 156]. Отдельно следует сказать о способе подачи информации, касающейся употребительности некоторого слова в определенный период развития языка, который применяется в «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.». Составители названного лексикона включают в словарную статью разрабатываемой единицы указание на количество ее употреблений в древнерусских памятниках, например: лhсъ (89), лhсьныи (9) и т.п. [ДРЯ, т. 4, с. 460, 461]. 204 Несомненно, создатели обследуемых словарей не ставят целью решение подлинно этимологических задач. Вместе с тем в словарных статьях значительного количества заимствованных слов обнаруживаются некоторые сведения об их происхождении. Так, в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» отдельные единицы, включаемые нами в состав денотативного класса <лес>, сопровождаются указанием на возможный иноязычный источник, например: помра – «роща; перелог (ср. морд. помра ‘роща’)», сельга (сельва) – «1. Лесистая возвышенность (ср. фин. selkä); вырубленное и выжженное для пашни место, росчисть» [СлРЯ XI–XVII, вып. 17, с. 35; вып. 24, с. 48]. Авторы «Словаря Академии Российской», определяя происхождение заимствованного слова, приводят сокращенное название языка, к которому данное слово возводится, ср.: бурундукъ – «татарск. <…>. Небольшой звhрокъ водящiйся въ борахъ начиная отъ Камы по всей Сибирh…» [САР1, ч. 1, с. 387]. «Словарь русского языка XVIII в.» последовательно определяет этимологию лишь для заимствований своей эпохи. В этимологическую строку «внешней» новации столетия включаются: 1) исходный этимон, при условии, что он «оказал непосредственное воздействие на оформление слова в русском языке» или что «другие значения слова восходят непосредственно к этимону» [Правила, 1984, с. 45]; 2) набор вариантов (модификации формы) начального этапа заимствования, несущий, по мнению одного из авторов названного словаря Л.Л. Кутиной, «наиболее отчетливую информацию о языке (языках) – источнике заимствования» [Кутина, 1985, с. 77]; 3) сведения о языке-источнике; 4) при необходимости, указания на язык-посредник. В качестве иллюстрации приведем примеры этимологических справок, представленных в словарных статьях некоторых единиц денотативного класса <лес>: аллея 1719 (алея 1712, алhя) <…>. Фр. allée, непоср. и через пол. аlea, нем. Alee; квит1 1755 (-тт 1771) <…> и квита 1755 <…>. Нем. Quitte, непоср. и через укр. квит [СлРЯ XVIII, вып. 1, с. 49; вып. 10, с. 30]. Словарная статья какого-либо слова может содержать одно или несколько устойчивых сочетаний, обладающих денотативной общностью с именем исследуемого класса. При этом само слово может как включаться в корпус единиц денотативного класса <лес>, так и не иметь к нему непосредственного отношения. Например, устойчивое словосочетание дуброва пашенная в значении ‘лиственный лес, вырастающий на выпаханной почве’ приводится в словарной статье слова дуброва [СлРЯ XI–XVII, вып. 4, с. 370–371]. Обе указанные единицы входят в состав анализируемого денотативного класса. Другой пример. Значение прилагательного попельный – ‘относящийся к пеплу, золе, саже’ не связано с данным денотативным классом. Однако в пределах его словарной статьи содержится денотативно ориентированное на лес устойчивое словосочетание станъ попельный – ‘место в лесу, где изготовляют золу’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 17, с. 79–80]. Интересно заметить, что в «Словаре Академии Российской» устойчивое словосочетание может выступать в роли самостоятельной заголовочной единицы, ср.: вороней глазъ – ‘paris quadrifolia. Трава въ рощахъ растущая…’; заячей щавель – ‘oxalis acetofella. Травка ежегодно отъ корня вырастающая… Ростетъ по лhсамъ въ Сhверныхъ странахъ Европы’; звhробой бhлой – ‘svertia corniculata. Трава… Ростетъ въ Сибирh за Енисеемъ въ борахъ’ и др. 205 [САР1, ч. 1, с. 853–854; ч. 3, с. 24; ч. 3, с. 37–41]. Во всех остальных словарях неоднословные наименования разрабатываются при определяемом, а иногда и при определяющем слове. Как правило, устойчивые словосочетания располагаются в словарной статье после толкования и иллюстраций всех значений. Исключение составляют случаи, когда какое-либо слово фиксируется в памятниках только в устойчивом словосочетании. При таких условиях последнее помещается в словарной статье сразу после заголовочного слова и грамматической пометы, ср.: подсhчный, прил. Подсhчная рожь – ‘рожь, сжатая на подсеке (росчисти)’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 16, с. 56]. Подводя итоги, отметим, что словари, избранные в качестве источников фактического материала, содержат богатые сведения о единицах денотативного класса <лес>. Помимо обязательных структурных элементов (заголовочного слова, грамматической его характеристики, толкования значений и оттенков значений, иллюстративного материала) словарная статья той или иной единицы исследуемого денотативного класса может также включать: 1) характеристику ее речевого употребления; 2) этимологическую справку; 3) устойчивые словосочетания. Названные структурные элементы могут быть признаны факультативными только потому, что содержатся не во всех словарных статьях, а не потому, что представленная в них информация является не существенной для характеристики интересующих нас единиц. Итак, фиксируя единицы денотативного класса <лес> во всем многообразии их вариантов, представляя семантическое описание данных единиц, подкрепленное тщательно отобранными цитатами из письменных документов, включая сведения о специфике их речевого употребления, вводя в пределы словарной статьи интересующих нас единиц элементы грамматического, этимологического и исторического комментария, обследуемые словари могут, несомненно, выступить в качестве мощной опоры для исследования, ориентированного на выявление исторического состояния денотативного класса <лес>. Библиографический список Бондарева А.Г. Словарное представление единиц денотативного класса <лес> // Изменяющийся славянский мир: новое в лингвистике / отв. ред. М.В. Пименова. Севастополь, 2009. Захарова Е.А., Петрова З.М. Церковнославянская лексика в «Словаре Академии Российской» (1789 1794) и в «Словаре русского языка XVIII в.» // Словарь Академии Российской 1789–1794. Т. 3. М., 2002. Кутина Л.Л. Элементы этимологического анализа в словаре исторического типа // Вопросы языкознания. 1985. № 5. Словарь русского языка XVIII в.: Правила пользования словарем. Указатель источников. Л., 1984. (В тексте – Правила.) Словари Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области: в 4 вып. / гл. ред. Ф.Л. Скитова. Вып. 1. Пермь, 1984. (В тексте – Акчимский словарь.) Словарь Академии Российской: в 6 ч. СПб., 1789–1794. (В тексте – САР1.) Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.: в 8 т. М., 1988–2008. (В тексте – ДРЯ.) Словарь русского языка XI–XVII вв.: в 28 вып. М., 1975–2008. (В тексте – СлРЯ XI–XVII.) 206 Словарь русского языка XVIII в.: в 15 вып. СПб., 1984–2005. (В тексте – СлРЯ XVIII.) Срезневский И.А. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3 т. М.; Л., 1958. (В тексте – Срезневский.) Н.В. Хохлова Мир природы в языковом сознании диалектоносителя: динамический аспект Статья подготовлена при финансовой поддержке Администрации Архангельской области (конкурс «Молодые ученые Поморья-2009», проект № 02-17 «Живое слово Русского Севера») В лингвистических работах последних лет все чаще говорится о том, что эволюция народных говоров под влиянием стремительно меняющейся информационной среды становится неизбежной. Перед учеными, прежде всего диалектологами, встает вопрос о характере изменений современных русских народных говоров, в частности, о сохранности диалектного словарного фонда, о современной лингвистической культуре жителей села. Становится очевидным, что диалектные словари, представляя собой уникальные памятники народной речевой культуры, не способны в полной мере отражать современное состояние русских говоров: «...не раз, проверяя словники старых словарей Г. Куликовского, А. Подвысоцкого, многих чисто диалектных слов мы уже не услышали, что само по себе свидетельствует о временнóй неустойчивости многих диалектных, в особенности непредметных слов» [Герд, 2004, с. 47]. Важное значение поэтому приобретают диалектологические экспедиции, которые позволяют получить информацию о степени сохранности в актуальном сознании того фонда знаний диалектоносителей о мире, который зафиксирован в толковых словарях и может оцениваться как традиционный. Описываемый в настоящей работе материал собран силами студентов и преподавателей Северодвинского филиала ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова» в экспедициях 2000–2009 гг. География экспедиций включает Ленский, Пинежский, Онежский, Мезенский, Лешуконский, Холмогорский, Шенкурский, Вельский районы Архангельской области. Количественные итоги экспедиционных исследований таковы: в 74 населенных пунктах 8 районов Архангельской области опрошено 647 сельских жителей в возрасте от 58 до 97 лет. Работа с представителями этой возрастной категории, на наш взгляд, особенно важна, поскольку именно это поколение является звеном, связующим переломные периоды XX в. Это люди, пережившие эпохальную Великую Отечественную войну и тяжелые послевоенные годы, смутные реформенные времена; люди, сумевшие сохранить традиционный уклад жизни, если не на практике, то хотя бы в памяти. В настоящей работе изложены результаты наблюдений над семантическими единицами, денотативно ориентированными на объект дождь; исследование ______________ © Хохлова Н.В., 2009 207 диалектного материала проводится с учетом контекстного употребления метеорологических единиц в речи диалектоносителей. При сборе материала использованы анкеты, разработанные на основе концепции денотативного описания языковой семантики, автор которой – доктор филологических наук, профессор Т.В. Симашко [Симашко, 1998]. Анкеты составлены с тем расчетом, чтобы получить как можно более полную информацию о «народном погодоведении», о связи его с народной культурой, определить актуальные для современного диалектоносителя сведения о метеорологических явлениях. Поэтому в состав анкет помимо денотативно ориентированных слов различных частей речи включены фразеологические единицы, пословицы, поговорки, приметы, заклички и т.п., связанные с определенным видом атмосферных явлений, в нашем случае – с объектом дождь, или содержащие в своем составе имя этого объекта природы. При разработке анкет учитываются лингвогеографические характеристики включаемых в их состав единиц. Затем все отобранные для анкет единицы классифицируются в соответствии с семантической доминантой, в результате чего выделяются группы слов, связанных с одним и тем же направлением опроса. Например, единицы анкеты, посвященной объекту дождь, распределяются по двум основным группам: 1) физические характеристики дождя; 2) взаимодействие дождя с другими объектами. Каждая группа содержит несколько подгрупп: «мелкий дождь», «время выпадения дождя»; «характеристика погоды по наличию / отсутствию дождя», «дождевые облака» и др. Описанные принципы составления анкет задают схему ведения опроса путем уточнения запаса знаний информанта об отдельных признаках объекта. Благодаря этому опрос приобретает целенаправленный характер, не позволяя информанту переключаться на другие темы; вместе с тем нет необходимости прибегать к сугубо лингвистическим вопросам. Записанные в ходе экспедиций сведения о метеоявлениях в разной степени актуальны для языкового сознания современных диалектоносителей. Этот вывод получен на основе учета нескольких факторов: 1) количество семантических единиц, относящихся к той или иной смысловой группе и подгруппе; 2) распространенность соответствующих единиц и частота их употребления в различных контекстах (так, актуальность того или иного типа информации подтверждается тем, что выражающие ее единицы употребляются большинством опрошенных информантов и активно функционируют в современных архангельских говорах, являясь средством коммуникации в повседневной жизни); 3) объем записанных контекстов, содержащих рассуждения об определенном виде атмосферных явлений и связанных с ними объектах, действиях, процессах. Наблюдения показывают, что из всего объема анкеты, посвященной объекту дождь, наибольшей распространенностью в современных архангельских говорах характеризуются такие единицы (а также связанные с ними контексты), которые объединяются семантической доминантой ‘связь дождя с хозяйственнобытовой деятельностью человека’. Анализ собранного материала позволяет определить круг таких объектов, действий и процессов хозяйственно-бытовой деятельности сельского жителя, которые осмысляются как зависящие от характеристик погоды либо по наличию, либо по отсутствию дождя. К ним относят208 ся: заготовление и хранение сена; рост и созревание зерновых культур; созревание корнеплодов; рост грибов; состояние дорог; использование дождевой воды в быту. Кратко охарактеризуем перечисленные подгруппы. Заготовление сена начинается с оценки травяного покрова – травостоя, что и фиксируется в значениях и внутренней форме ряда записанных слов. Хорошая трава – значит, сено будет едкóе (то есть быстро съедаемое домашними животными) (Пин., зап. 2002, 2003; Вель., зап. 2009) и дóйное (то есть позволяющее получать большие надои молока) (Холм., зап. 2008). Анализ сделанных записей показывает, что информанты отмечают зависимость роста и качества травы от характеристик погоды по наличию / отсутствию дождя: порыжéть – ‘о траве: сгореть; стать желтой, рыжей в результате долгого отсутствия дождя’ (Лен., зап. 2002); причóкать – ‘прибить, повредить растения дождем’ (Холм., зап. 2008); горéть – ‘страдать от продолжительной засухи, сохнуть (о растениях)’ (Холм., зап. 2008); пересýха – ‘трава, ставшая грубой, жесткой, не сочной во время засухи’ (Лен., зап. 2002) и др. Ср.: Лонúсь така сушúна была / засýха / долго дожжа не было / всё подгорело / одне только черешки от травы остались (Дорофеева Т.А., 1916, Пин., д. Городецк); Зáвсё засýха не быват / одúново дожжей всё лето не было / на пóжнях косить нечего было / всё сгорело / одни тûчки торчат (Дубровская В.В., 1938, Онеж., д. Сельский Бор) и др. По свидетельству опрошенных информантов, характеристики погоды по наличию / отсутствию дождя оказывают влияние на выбор места сенокоса. Так, в случае плохого вызревания трав из-за недостатка дождей сено заготовляли во влажных, недоступных солнцу местах: кулúга – ‘сырое место в лесу, в кустарнике, с которого собирают сено во время засухи’ (Вель., зап. 2009), ýйта – ‘болото, с которого собирают сено во время засухи’ (Шенк., зап. 2008), с тем же значением пéнус / пёнус (Шенк., зап. 2008) и др. Ср.: На ýйтах косили в засýху / до полуголÿшки вода на ýйте (Лодыгина Г.И., 1924, Шенк., д. Зеленинская); В сухостóй косили на пенусáх / до колена воды / для себя сено ставили / подмóсьё ставили / измóски делали (Беляева А.А., 1926, Шенк., д. Данковская) и др. Получает свое выражение и противоположная ситуация: В сырое лето на боровúнках старались косили / это сухое место / повыше (Олуферова К.А., 1923, Онеж., д. Большой Бор) и др. Заготовка сена начинается с определенного дня, что зависит как от созревания трав, так и от погоды: На Ивáньской неделе (неделя после 7 июля (24 июня ст. ст.). – Н.Х.) всю неделю дожжи / они хорошие / травы ростут / потом сенокос будёт (Фефелова Е.В., 1934, Вель., д. Андричево); Ивáнски дожжи лучче золотой горы / весной потому что / трава ростёт / после Иван-дня до сенокоса неделя остаётся (Полуянова Т.М., 1932, Холм., д. Ильино) и др. Наличие либо отсутствие дождя в период сенокоса непосредственно влияет на заготовку сена, что и получает отражение в целом ряде семантических единиц, например: вéдряная страдá – ‘сеноуборка при хорошей солнечной погоде без дождей’ (Пин., зап. 2003; Онеж., зап. 2005), с тем же значением вéдрие костянóе (Пин., зап. 2001); отбúть гребь – ‘смочить дождем высохшее сено’ (Лен., зап. 2000); охвостáть – ‘промочить дождем сено’ (Пин., зап. 2002); невéдрие – ‘дождливая погода в период сенокоса’ (Пин., зап. 2001, 2002, 2003; 209 Онеж., зап. 2005; Холм., зап. 2008), с тем же значением сеногнóйка, сеногнóй (записано во всех обследованных районах) и др. Та же информация выражается в многочисленных приметах, присказках, присловьях и т.п. Так, о дождливой погоде в период заготовки сена говорят: Сено гниёт / а река ростёт (Семушина Е.И., 1924, Холм., д. Часовенская); примечают: Если в Ильин день (2 августа (20 июля ст. ст.). – Н.Х.) сено грáбить / то оно сгорит (= сгниет в зароде, так как в этот день бывает дождь. – Н.Х.) (Чуракова К.П., 1934, Шенк., д. Пасканда); На Троицу дождь / значит / дождливо будет / вода вспûхивать будет / а страдá плохая будет (Чухин В.А., 1932, Шенк., д. Зеленинская); приговаривают: На Ильин день дожж / и на Богомолье дожж / и страдай как хошь (Макарова Р.П., 1944, Холм., д. Хомяковская); После Авдóтьи-сеногнойки (17 августа (3 августа ст. ст.). – Н.Х.) сено не сушáт / и жито не зорÿт (Ковалева А.С., 1928, Мез., д. Азаполье); Илья-пророк утáшшит сена хохолок (Быкова К.А., 1929, Вель., д. Малая Липовка); советуют: Не носи грабли шáлгами кверху / морокóв награбишь / дождь будет (Ипатова В.П., 1944, Онеж., д. Пурнема); дразнят: Дожж дожжит / Сюря сено косит / Дожж перестал / Сюря под куст стал (Радюшина М.С., 1918, Леш., д. Палуга) и др. Многочисленные контексты показывают, что сельские жители оценивают летнюю погоду в зависимости от того, способствует она сенокосу или препятствует ему: Сегодня день вéдряной / хорошой / на сенокос пойдем / перво слово утром (Клепикова Г.И., 1911, Шенк., д. Уколок); Невéдриё-то было / все перевалы выгнили / дожж всё был / дак уж как не худая / это худа погода (Шангина А.С., 1921, Онеж., Пурнема); Невéдренная погода / плохое погóдье / на сенокосе делать нечего (Карковцева А.Я., 1923, Холм., д. Хомяковская) и др. В семантике многих единиц фиксируется негативное влияние дождя на хранение заготовленного сена. Эта группа единиц отличается большим количеством производных слов от одних и тех же корневых морфем. Так, сено, подмоченное дождем, называют топлянúна (Лен., зап. 2002); испорченное дождем сено на верху зарода именуется овёршьё / обвёршьё (Холм., зап. 2008; Онеж., зап. 2007; Шенк., зап. 2008; Пин., зап. 2001, 2002, 2003), вершóк, овёршки, шáпка (Шенк., зап. 2008), вершéньё (Вель., зап. 2009) и др.; испорченное дождем сено в нижней части зарода – одéнье, одéньё (Лен., зап. 2000; Пин., зап. 2001, 2002; Онеж., зап. 2007; Холм., зап. 2008), одóнник, одóнок, подёнок (Шенк., зап. 2008) и др.; подмоченное дождем и смерзшееся сено в зароде – мерзлúна, мерзлÿтина (Холм., зап. 2008), мерзлúньё (Шенк., зап. 2008), мерзлÿк (Пин., зап. 2001, 2002, 2004; Лен., зап. 2000, 2002; Онеж., зап. 2006, 2007) и многие др. Опрошенные информанты свидетельствуют, что таким сеном редко кормили скот; как правило, его использовали для других хозяйственных целей: Овéршьё / на постúлку корóвам шло (Шошина А.П., 1921, Шенк., д. Часовенская); Мерзлúньё появится / его не кормили / выбрасывали / а если не вовсе гнилые / весной скоту даваем (Макарова Р.П., 1944, Холм., д. Хомяковская). Неудивительно поэтому, что сено старались защитить от негативного воздействия атмосферных осадков. Делались специальные поддóнки – ‘подстилка под стог сена, чтобы дождь не мочил его’: Поддóнок под зарод ложили / так-то его замочит ведь (Клепикова Г.И., 1911, Шенк., д. Уколок). В некоторых деревнях 210 использовали лепýн или лепунь – ‘приспособление, которое кладется на зарод для защиты сена от ветра и дождя в виде связанных или сплетенных ветвей деревьев’, – им полагалось залепýнить зарод (Пин., зап. 2001, 2002, 2003, 2004). Итак, сведения о влиянии дождя на процесс заготовления и хранения сена сохраняют свою актуальность для современных жителей села. Для языкового сознания диалектоносителей важна и информация о влиянии дождя на рост грибов, что представляется закономерным, поскольку грибы остаются важной частью рациона жителя северной деревни. Наиболее распространенным из всех зафиксированных нами является составное наименование грибнóй (грúбной) дождь (дóжжик), которое бытует во всех обследованных населенных пунктах со значением ‘дождь, после которого начинают расти грибы’: Дóжжик грибнóй / тёплый / поливает / и солнышко / как шубкой покрывает / хорошо (Репина В.А., 1931, Онеж., д. Анциферовский Бор); Грибнóй дожж / грибы ростут / ишшо туман стелется по земле (Хабарова Л.Ф., 1928, Шенк., д. Одинцовская) и многие др. С тем же значением в современных архангельских говорах можно встретить слова грúбница (Лен., зап. 2002), грибóвник (Пин., зап. 2001), однако география распространения этих слов намного ýже. Значительно реже встречается другое составное именование с рассматриваемым значением – гýбной дождь, фиксируемое словарями А.Х. Востокова, А.О. Подвысоцкого с XIX в. Сами диалектоносители ощущают архаичный характер этой номинации: Гýбной дожж / давно-то говорили так / после ево гýбы заростут (Хромцов Е.А., 1924, Пин., Сура). Интерес представляет сохранившееся в языковом сознании диалектоносителей различение грúбнóго дождя и гýбного дождя, связанное с тем, какими температурными характеристиками обладает дождь и росту каких грибов он способствует. Грúбнóй дождь идет летом, так именуется теплый дождь, после него растут губчатые грибы; гýбной дождь – это холодный осенний дождь, после которого растут гýбы – пластинчатые грибы. Ср.: Гýбы / пластинчатые грибы / а такой гриб / дак бахтор-мý снимают / варят (Рябова А.Г., 1931, Пин., д. Остров); Гýбы солёны грибы / их солят // жарят и варят которы / это грибы (Харитонова Ф.А., 1913, Онеж., д. Пурнема); Гýбные дожди осенью / они не тёплые / после их гýбы ростут / серýшки / волнýшки / солёны гýбы (Лихачева Г.П., 1927, Мез., д. Лампожня). Кроме того, в архангельских говорах бытуют именования дождя с рассматриваемым значением, образованные от названий отдельных грибов. Важно отметить, что основой внутренней формы названий дождя послужили номинации лишь двух видов грибов, что, во-первых, лишний раз свидетельствует об избирательном характере процесса концептуализации мира природы, во-вторых, позволяет судить об особой ценности этих видов грибов для жителей Архангельского региона. Ср.: обáбочник (Пин., зап. 2002, 2003); рûжичной дóждик (Лен., зап. 2002; Мез., зап. 2008): Обáбочник / и грибóвник / одно и то жё // тихой / тёплой дóжжик / обáбки заростут (Кузнецова Т.Н., 1939, Пин., Шардонемь); Рûжичной дóжжик / дождь грибнóй / да нынь уж мало рыжиков-то ростёт (Выборова А.М., 1927, Лен., с. Ирта). Ср. также: Обáбок дорогой гриб / пуще всякого ценится (Дорофеева Т.А., 1916, Пин., д. Городецк); Рûжики пошто-то царскими грибами звали (Пиминова О.Д., 1914, Лен., д. Лопатино). 211 Существенно меньшим количеством единиц в архангельских говорах представлена информация о влиянии дождя на созревание корнеплодов. Все записанные слова не являются распространенными. Отмечается лишь негативное влияние слишком продолжительного обильного дождя: вûмокнуть – ‘сгнить от избытка влаги’: Картошка вûмокла серёдка / сыро всё / дожди / дожди / она испáрилася вся / как сварúлася (Пономарева Е.А., 1928, Вель., д. Малая Липовка). Информация об использовании дождевой воды для хозяйственных нужд отражается в семантике различных именований дождевой воды, различающихся признаком их внутренней формы. Как правило, это процессуальные признаки ‘капать’, ‘течь’, отражающие способ сбора дождевой воды: капéльная вода, подкапéльная вода (Вель., зап. 2009), потóчная вода (Лен., зап. 2000, 2002; Шенк., зап. 2008; Онеж., зап. 2006), потóка (Холм., зап. 2008; Мез., Леш., зап. 2007) и др. Ср.: Потóка наберётся / в бане моемся / стираемся / что друго делам (Темкина А.И., 1934, Холм., д. Копачево); Потóчну воду собирам / в баню и везде тратим / осень богата на потóчну воду (Боженкова Н.Ф., 1947, Мез., д. Лампожня); Подкапéльну воду берут на всё / она чистая самая считается / на леченье и на всё берут (Быкова К.А., 1929, Вель., д. Малая Липовка). Однако современные сельские жители подчеркивают ограниченное использование дождевой воды по причине неблагоприятных экологических факторов: Всяки идут / эки красны дожжи / да кисловûе дожжи / дак нонь уж не берем потóчную воду (Самодова А.П., 1926, Холм., д. Ичково); Капéльную воду раньше брали голову мыть / теперь не берут (Барышникова В.А., 1939, Вель., д. Малая Липовка); Кúслые дожди / кислÿтина / они вредные / после их на воде желтизна / такую-то уж воду не пользуем (Титова О.В., 1940, Холм., с. Матигоры) и др. Отметим остающуюся актуальной информацию о негативном воздействии дождей на дороги: западáть – ‘замывать, размывать дождем (дорогу, следы)’ (Пин., зап. 2002); лÿча / нÿча – ‘грязь на дороге после дождя’ (Пин., зап. 2001, 2003), с тем же значением ýтопель (Холм., зап. 2008) и др. Ср.: Прямо лÿчей брели (Амосов И.А., 1922, Пин., д. Малое Кротово); Лужи да грязь на дороге после дожжа / ýтопель / не пройдёшь (Мальгина А.С., 1927, Холм., д. Кижина). Менее устойчивы к изменениям оказались единицы, в содержании которых отмечается связь характеристик погоды по наличию / отсутствию дождя с созреванием зерновых культур. Нам удалось записать лишь две единицы с подобным значением, обе фиксируются в словарях с XIX века: мелкоколóсница – ‘рожь с мелкими колосьями из-за засухи, мокроты и пр.’ [Востоков, с. 113]; бéздожь – ‘сорная трава при плохих всходах зерновых, от засухи’ [Даль, т. 1, с. 61]: Мелколóсница / выколосилась плохо / дожжа не было или от земли / от голодной земли / навозу не попадало (Мальгина А.С., 1927, Холм., д. Кижина); Бéздожи много бывало / дожжей нет / жито не ростет / одна бéздожь в поле / говорили это слово (Беляева А.А., 1926, Шенк., д. Данковская). Итак, приведенные факты позволяют судить об особенностях языкового отражения тех изменений, которые происходят на протяжении XIX–XXI вв. в укладе жизни и в системе представлений о мире в диалектном сознании. Библиографический список 212 Герд А.С. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей // Проблемы диалектной лексикологии и лексикографии. СПб., 2004. Симашко Т.В. Денотативный класс как основа описания фрагмента мира: монография. Архангельск, 1998. Словари Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1978–1980. (В тексте – Даль.) Опытъ областнаго великорусскаго словаря, изданный вторымъ отделенiемъ Императорской Академiи Наукъ. СПб., 1852. (В тексте – Востоков.) Подвысоцкий А.О. Словарь областного Архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885. (В тексте – Подвысоцкий.) Е.В. Брысина Узуальная и речевая многозначность диалектных фразем В системе языковых средств, отражающих логические закономерности и отношения между реалиями окружающего мира, диалектные фраземы (ДФЕ) занимают особое положение, так как независимо от своей грамматико-синтаксической структуры всегда выражают понятие. В понятии же, являющемся итогом человеческого освоения реального мира, многомерно отражается опыт человека, особенности его мировосприятия и мироощущения. Языковой знак в системе диалекта, выступая средством коммуникации, неизбежно содержит в себе определенный набор информации, которая в процессе диалектного общения передается от одного участника речевого акта к другому и обладает узуальной или потенциальной способностью к прагматическому воздействию. Отчетливо это проявляется в области диалектной фразеологической полисемии. Донские ДФЕ, как и фразеологизмы литературного языка, могут быть однозначными и многозначными. Однако фразеологизмы, по сравнению со словами, уже будучи по своему происхождению единицами вторичной номинации, в большинстве своем моносемичны. Многозначных ДФЕ заметно меньше, чем однозначных. Развитие полисемии во фраземике, по мнению ученых, тормозится по разным причинам. Одна из них состоит в том, что фразеологизмы, функционирующие прежде всего как экспрессивно-оценочные характеристики предметов, менее значимы в номинативной и коммуникативной функциях языка и используются в речевой деятельности реже, чем слова. Кроме того, фразеологизм формируется на основе какого-либо сложного образа, восходящего к индивидуальным отношениям между двумя или несколькими реалиями. Эта индивидуальность отношений передается содержанию фразеологической единицы, что, несомненно, отрицательно влияет на появление в ее семантической структуре нового значения, которое должно быть отвлечено от индивидуальности этимологического образа. Еще одной причиной такого положения можно считать саму природу фразеологического значения (его образный характер, высокая степень абстракции, ингерентная, то есть внутренне присущая, экспрессив______________ © Брысина Е.В., 2009 213 ность), которая препятствует другому переносу: необходимо, чтобы производное значение было образнее, экспрессивнее, абстрактнее, чем производящее. Многозначные ДФЕ обычно имеют по два или три значения: Пирог ни с чем / с ничем –1) ‘о бедной, скромной пище, голоде’; 2) ‘о глупом, недалеком человеке’; распустить возгри –1) ‘пасть духом, приуныть’; 2) ‘не быть занятым делом’; сидеть, как врытый –1) ‘сидеть неподвижно, замереть и не двигаться’; 2) ‘не трогаться с места, не включаться в какую-либо деятельность’; ворочить дурака –1) ‘потешать глупыми шутками’; 2) ‘бездельничать’; 3) ‘делать глупости, допускать оплошности’ (все примеры взяты из материалов экспедиций по казачьим районам Волгоградской области, а также из: [СДГВО; БТСДК]). Семантическая структура многозначной ДФЕ вполне соответствует аналогичной структуре многозначного слова: все фразеосемантические варианты между собой тесно связаны и взаимомотивированы. Одно из этих значений выступает в качестве первичного, исходного, главного, а остальные являются производными от него или одно от другого. Ср.: беззаботный монастырь – 1) ‘о беспечной, беззаботной жизни’; 2) ‘о беззаботном человеке’; первое – основное – значение данной фраземы возникло на основе переноса по смежности «часть – целое», а второе значение – от первого на основе того же типа переноса, но уже с обратной векторной направленностью – «целое – часть». Фразема не достать рогом употребляется в диалекте в трех значениях: 1) ‘жить в большом достатке (недоступном для многих)’; 2) ‘о чем-либо недоступном’; 3) ‘о человеке высокого роста’. Архисемой, интегрирующей все фразеосемантические варианты в единое целое, является сема ‘недоступность’; вторичные значения данной ДФЕ развились по радиальной схеме от основного значения на основе метафорического переноса по признаку (свойству). Аналогичным образом структурирована семантика и других ДФЕ. В силу меньшей коммуникативной значимости фразем по сравнению со словами и одновременно по причине их большей прагматической значимости, полисемия как семантическое явление менее распространена среди фразем и охватывает не все разряды ДФЕ в равной степени. Наибольшее число многозначных ДФЕ обозначают состояние человека и окружающей среды, пространственные понятия, понятия меры и степени, временные понятия. Незначительное число многозначных ДФЕ связаны с более конкретными понятиями речепроизводства, поведения человека, его взаимоотношениями с другими людьми. Способность данных ДФЕ развивать несколько значений связана со спецификой их семантики. Семантическая структура фразеологизмов, входящих в данные тематические группы, отражает сложную совокупность разных по уровню абстракции семантических компонентов (движения; речепроизводства; пространственного расположения и т.д.). Отсюда способность данных языковых единиц в разных условиях речевого употребления активизировать те или иные семы разных форм и характеристик, а также склонность к частому переосмыслению. ДФЕ, как и слово, в различных своих значениях сочетается со словами разных лексико-семантических групп, может входить в разные синонимические ряды, образовывать свой лексико-тематический ряд. Развитие полисемии фразем проявляется главным образом в расширении их сочетаемости. Семантиче214 ская двуплановость и диалектическое объединение широкого абстрактного понятия с конкретным образным представлением дают фраземам возможность осуществлять перенос своего названия на различные предметы и явления в рамках одного понятия. А это в свою очередь создает возможность в новых контекстных условиях обнаружить новое значение или его оттенок на базе того же образа. Если видоизменение содержания фраземы происходит в рамках одного понятия на том же уровне абстракции, то возникает лишь оттенок значения. Если же расширение семантики оборота выводит окказиональные ситуативные значения из конкретного в другой, более высокий уровень семантической абстракции (отвлечение от конкретного), то целесообразно говорить о разных значениях. В одном из значений ДФЕ может сочетаться с одушевленным существительным, а в другом – с неодушевленным, сравните: голый, как бубен – 1) ‘о чемлибо, лишенном внешнего покрова’: У Свирьки галава голая, как бубин; 2) ‘об очень бедном человеке’: Петька голый, как бубин – асталси биза фсяво: прапилси. Иногда семантическая структура ДФЕ может содержать в себе энантиосемические варианты значения: переворачивать свет – 1) ‘делать большие дела, совершать значительные поступки’; 2) ‘совершать необдуманные поступки’; волна спод угла бьет – 1) ‘об изобилии чего-либо’; 2) ‘о крайней бедности’. Особого внимания в связи с проблемой многозначности диалектного фразеологизма и его прагматической направленностью, на наш взгляд, заслуживает явление речевой многозначности, то есть неоднозначности фразеологизма в пределах одного фразеосемантического варианта. Узуальное значение фраземы в речевом употреблении может быть представлено двумя или более вариантами, выбор между которыми обусловлен экстралингвистическим контекстом, в частности, знаниями о мире, системой культурологических сведений, наличием у говорящего и слушающего определенных фоновых знаний и т.п. Речевая многозначность фраземы всегда несет в себе высокий прагматический заряд, так как содержит ситуативно обусловленную коннотативную информацию. Это легко проследить на следующих примерах. Устойчивое выражение погладить (гладить) дорожку имеет узуальное значение ‘пить спиртное во время проводов на военную службу’: Дарошку гладють служиваму, как праводють. Ритуальная символика обряда, представляемая этим выражением, сводится к «выравниванию дороги», по которой придется пройти служивому человеку. Исторические знания о миссии казачества, тяготах военной службы, традиции проводов в армию позволяют воссоздать тот коннотативный фон, который сопутствует использованию данного выражения в речи: пожелание удачной службы – не быть убитым или даже раненым, с честью выдержать испытания, достойно перенести все трудности военного быта и т.д. Совсем иные коннотации обнаруживаются у этого фразеологизма в другом контексте: Внук у нас учицца паступил, вчарась в горат яво праважали, пагладили яму дарошку. При том, что выражение сохраняет свое узуальное значение ‘выпить за счастливую дорогу’, коннотативная (прагматическая) информация существенно меняется. Пресуппозиционные знания о том, что учеба не столь опасное и тяжелое занятие, как воинская служба, снимает трагический фон в значении данной фраземы, и об215 рядовое действие «выровнять дорогу» будущему студенту уже предполагает иные конкретные пожелания: успехов в учебе, целеустремленности, терпения, настойчивости в постижении наук и пр. Как видно из примеров, речевая многозначность осуществляется только в пределах узуального значения и не ведет к признанию полисемичности фразеологизма как единицы языка. Речевая многозначность ДФЕ может иметь разную структурно-семантическую организацию, в связи с чем представляется возможным выделить несколько ее типов. 1. Расширение узуального значения. Данный вид речевой многозначности предполагает некоторое увеличение объема узуального значения в зависимости от контекста. Так, ДФЕ на (во) все боки в СДГВО представлен как многозначный: 1) ‘на широкую ногу, богато’: Ана ни дабивалася ф хазяйства, жыла на фсе боки, жыла адним днём; 2) ‘очень сильно’: Придёть дамой, я яму чартей дам на фсе боки. Нам же данный фразеологизм представляется однозначным в силу следующих причин: тщательный анализ приведенных примеров позволяет уточнить узуальное значение фразеологизма, которое можно было бы сформулировать следующим образом: ‘в полную силу, мощь; на полную катушку’. Это значение ДФЕ остается неизменным и в первом, и во втором примере, хотя различные прагматические оттенки этого значения отчетливо проступают в разных контекстах: в первом случае это коннотативная информация осуждения говорящим объекта речи за непрактичность, расточительность, отсутствие меры в поступках и т.п. Во втором – прагматическая информация о том, что действие, о котором сообщает говорящий (дам чертей, то есть отругаю, накажу), он намеревается осуществить со всей отдачей, в полной мере. Как видно, прагматическая информация вовсе не меняет узуального значения ДФЕ, а всего лишь расширяет ее границы, не нарушая общей целостности значения фразеологизма. Примеров такого рода в диалектной фраземике немало. 2. Сужение, конкретизация узуального значения. Данный вид речевой многозначности предполагает контекстуальное ограничение узуального значения фразеологизма, сведение его до отдельных (ядерных или периферийных) сем. К примеру, ДФЕ как черный бурьян, согласно данным СДГВО, имеет значение ‘грязный, неопрятный (о человеке)’. В предложении Чилавек в баню ни хочить; ходить, как черный бурьян; запихаица и ходить узуальное значение фраземы ‘грязный’ конкретизируется до понятия «немытый», при этом имеет место гипонимическая корреляция, при которой узуальное значение выступает как родовое понятие, а контекстуальное – как видовое. 3. Изменение векторной направленности узуального значения. Такой тип речевой многозначности по сути своей не затрагивает семантику ДФЕ. Контекстуально меняется лишь направленность действия, состояния, признака, обозначаемого фраземой и в связи с этим – прагматическая оценка. Нетрудно заметить, что большинство оценочных ДФЕ единонаправлены – в них обычно содержится характеристика объекта речи. Это легко объяснимо: фразеологическая оценка в большинстве своем негативна, поэтому использование оценочной ДФЕ для характеристики самого субъекта речи практически исключается, если не имеет место ирония или самобичевание. Однако некоторые ДФЕ, по нашим 216 наблюдениям, способны менять свою оценку с отрицательной на положительную при смене направленности действия, выражаемого фраземой, с объекта на субъект. Такая мена осуществляется опять же на прагматическом уровне. К примеру, в предложении Я поват иму папустила, уступала ва фсём, а он вирхи ва фсём брал фразеологизм брать верхи – ‘главенствовать’ имеет отрицательную оценку, так как в речи субъекта сквозит сожаление о совершенных ранее ошибках (попустила повод), обида на неадекватную реакцию объекта (она уступала, а он этим пользовался). В другом же контексте, когда ДФЕ характеризует действие самого субъекта речи, она передает совсем другие коннотации – одобрительную оценку, некоторое самолюбование, гордость за себя, свою решительность, инициативу и под., ср.: Сам у мине был смирный, я над ним сразу вирхи взяла, фсю жизню што хатела, то и делала. Аналогичные прагматические варианты узуального значения можно наблюдать и в других ДФЕ, таких, к примеру, как брать на повода – ‘заставлять повиноваться, брать в свои руки’; дать (надавать) бубны (бубнов) – ‘побить’; жить на готовом ладу – ‘жить на всем готовом’ и некоторых др. С явлением речевой многозначности связан и так называемый принцип «диффузности» значения. Д.Н. Шмелев считал этот принцип решающим фактором, определяющим семантику слов [Шмелев, 1977, с. 86]. А.А. Уфимцева также характеризует содержательную сторону многозначного слова как непрерывный (то есть недискретный) ряд лексико-семантических единиц [Уфимцева, 1988, с. 32]. Действительно, узуальное значение как слова, так и фразеологизма диффузно, коль скоро оно покрывает ряд очень близких, но не полностью совпадающих означаемых. Иначе говоря, множество употреблений, которому сопоставляется одно узуальное значение, один инвариант, является нечетким, размытым множеством [Кобозева, 2000, с. 159]. Примеры, рассмотренные выше, подтверждают это положение. Решая вопрос о том, представляют ли два употребления ДФЕ одно и то же узуальное значение или два разных значения, следует учитывать такие параметры, как степень различия денотатов и сигнификатов употреблений; семантическую и синтаксическую сочетаемость фраземы в каждом из употреблений; парадигматические связи и отношения; возможные грамматические ограничения на употребления. Библиографический список Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000. Уфимцева А.А. Роль лексики в познании человеком действительности и формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. М., 1988. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1977. Словари Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003. (В тексте – БТСДК.) Словарь донских говоров Волгоградской области. Вып. 1–6. Волгоград, 2004–2009. (В тексте – СДГВО.) 217 Г.В. Быкова Лакуны в региональной картине мира (лингвистический аспект межэтнической коммуникации) Амурская область – один из крупных субъектов Российской Федерации, является ее форпостом на юго-восточных рубежах, занимает пограничное положение на большом протяжении с Китаем. По европейским масштабам это было бы крупное государство, уступающее по размерам только Франции, Испании, Швеции и Украине. На территории Амурской области могли бы разместиться 12 таких стран, как Бельгия или 9 Швейцарий [География ... , 2005, с. 5–6]. Открытия последних лет, сделанные в области археологами и этнографами Благовещенского государственного педагогического университета совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН, серьезно скорректировали схему этнокультурного развития нашего региона за последние два тысячелетия. Появилась возможность реконструировать этногенез народов, которые в XIX– начале XX в. населяли Амурский край и с которыми непосредственно начали контактировать с 1858 г. граждане Российской империи, занявшие юг Дальнего Востока после подписания Айгунского договора. Амурскими археологами установлено, что по хозяйственно-культурному типу автохтоны бассейна Амура делились на две группы: земледельцы, занимавшие пойму Амура и Зеи (дючеры), и охотничьи племена, обитавшие в таежной зоне (эвенки). В начале XX в. дючеры покинули территорию России, эвенки же и поныне живут в нашей области. В условиях длительного сосуществования двух локальных культур – русской и эвенкийской – неизбежными стали контакты их носителей, что ставило проблему межкультурной коммуникации в ряд наиболее актуальных как в прошлом, так и в настоящем. Термин «культура» употребляется нами в значении, принятом в современной культурной антропологии, то есть под культурой, вслед за Г. Малетцке, понимается «система концептов, убеждений, установок, ценностных ориентаций, проявляющихся как в поведении и поступках людей, так и в результатах их духовной и материальной деятельности» [Цит. по: Проблемы этносемантики, 1998, с. 68]. Общеизвестно, что национальная самобытность народа, окружающая его действительность обязательно находят отражение в национальном сознании, избирательно объективируясь в языке. Способ представления, членения и номинирования реальности национально специфичен в силу различных факторов: экологических, социальных, культурно-исторических и этнопсихологических. Между тем этнокультурная среда Приамурья формировалась под знаком этноцентризма значительно преобладающего русскоязычного населения, которое, как и большинство людей, воспринимало родную культуру как точку отсчета, как единственно возможную меру вещей. Этноцентризм, по мнению Г. Малецтке, играет основополагающую роль в межкультурной коммуникации: мы ______________ © Быкова Г.В., 2009 218 помещаем себя, нашу расовую, этническую или национальную группу в центр универсума и соответственно этому оцениваем всех других. Чем более они похожи на нас, тем ближе к себе мы помещаем их в этой модели; чем больше расхождения, тем дальше от себя определяем мы их место. В Приамурье этноцентризм принял более уродливые формы: малочисленному этносу попытались навязать свою культуру, свой – русский – образ жизни и свое мировосприятие. Детей, живущих в самобытной природной и социальноречевой среде, лишали возможности усваивать первородный язык, увозили в школы-интернаты, где требовалось говорить на русском и не одобрялось общение на эвенкийском языке. Мало что изменилось к лучшему и сейчас: доминирование СМИ на русском языке, тактика максимального обучения в школе на русском языке и минимального (2 часа в неделю) на родном эвенкийском, отсутствие в средних специальных и высших учебных заведениях области подготовки специалистов для нужд коренного народа, разрушение традиционной хозяйственной деятельности и экосистем в местах компактного проживания эвенков поставили национальный язык и культуру на грань исчезновения. Дети и молодежь не знают языка, этногенеза, традиций и истории своего народа. В школах компактного проживания аборигенов не хватает учебной и методической литературы на родных говорах. Учебники, написанные на полигусовском говоре эвенков Подкаменной Тунгуски, малопонятны амурским детям и требуют серьезной научной и методической адаптации. Современное состояние традиционной культуры и языка эвенков, проживающих в трех районах Амурской области, однозначно определяется как глубоко кризисное. С 1994 г. наметилась устойчивая тенденция к сокращению численности коренного населения. Уровень владения языком и активность использования письменности катастрофически падают. Уходят из жизни последние носители древних говоров уникального языка. Многие обряды и традиции, веками связанные с оленеводством, охотой, рыболовством и сбором дикоросов, утрачиваются безвозвратно. В результате выходят из употребления целые пласты лексики, в которой отражены и запечатлены национально значимые и передаваемые тысячелетиями смыслы, зафиксировавшие часть исчезающей культуры. При взаимодействии двух неродственных языков, двух непохожих культур нередко возникает непонимание, обусловленное различием в мировоззрении, социальном статусе соседствующих языковых коллективов. Такие национально-специфические расхождения (несовпадения) в лексических системах языков и культурах выявляются на различных уровнях и описываются зарубежными и отечественными исследователями при помощи различных терминов: лакуны, gap (пробел, лакуна), безэквивалентная лексика, нулевая лексема, антислова, значимый нуль и др. Предпочтительным в отечественной лингвистике считается термин лакуна (от лат. lacuna – пустота, брешь). В современной лингвистике лакуны рассматриваются как «национальноспецифические элементы культуры, нашедшие соответствующее отражение в языке носителей этой культуры, либо полностью не понимаемые, либо недопонимаемые носителями иной культуры и языка в процессе коммуникации» [То219 машева, 1995, с. 58], как «виртуальные единицы лексической системы», «семемы без лексем», «больше, чем какое-либо другое явление отражающие национальную специфику того или иного языка» [Быкова 1999а, 1999б]. За последние десятилетия значительно пострадала национальная система концептов (концептосфера) амурских автохтонов, как объективированная в самобытном языке, так и необъективированная, но существующая на уровне универсального предметного кода в сознании носителей языка и выраженная лакунами. В настоящее время в списке «Красной книги языков народов России» эвенкийский язык значится как миноритарный и маргинальный [Эвенкийский язык, 1994, с. 68–70]. На сегодняшний день говоры амурских эвенков (то есть объективированное в языке), до сих пор системно не зафиксированные, снижают свой социальный статус в пределах области, сужается сфера их употребления в качестве основного средства общения в среде носителей языка, количество которых стабильно уменьшается. Положение усугубляется еще и тем, что на смену старшему поколению, хорошо владевшему эвенкийским языком (чьи дети понимают родной язык, но редко пользуются им в речи и на письме), приходят внуки, воспринимающие язык родителей как иностранный. «Концепты, не имеющие средств языкового выражения в национальной языковой системе, тем не менее, существуют в национальной концептосфере и обеспечивают национальную мыслительную деятельность в той же степени, что и концепты, которые названы языковыми знаками национального языка. Эти концепты являются базой мышления личности» [Попова и др., 1998, с. 21]. Возникает вопрос: смогут ли носители эвенкийской культуры, утрачивающие язык, выразить эти национальные мыслительные образы средствами воспринятого языка? Как сохранить уникальный язык для мировой цивилизации? На эти и многие другие вопросы пытаются ответить лингвисты Благовещенского государственного педагогического университета – разработчики и исполнители проекта «Исследование и описание концептосферы эвенков в этнокультурной среде Приамурья» в рамках документирования стремительно исчезающего миноритарного маргинального языка эвенков Амурской области. Защищены диссертационные исследования: «Лакунарность лексико-семантического поля “Природа” в русском и эвенкийском языках» [Пылаева, 2002], «Культурные концепты как ядерная часть языкового сознания малочисленного народа (этнолингвокультурологическое исследование языка эвенков)» [Мерекина, 2008], «Особенности адаптации субстратных топонимов в концептосфере языкаприемника (на материале ойконимов Амурской области» [Калинина, 2009] и др. При участии носителей языка и сектора тунгусоведения Института филологии СО РАН задокументирован словарный состав джелтулакского и зейского говоров, в процессе системного описания – селемджинский говор амурских аборигенов. В проект приглашены специалисты по эвенкийскому языку из Якутска, Новосибирска, Хабаровска и др. городов России. В ходе исследования обнаружено, что потери несет и концептосфера русскоязычных амурчан. Россия всегда складывалась как полиэтническое и многоязычное государство, и это подпитывало и обогащало ее язык и культуру. Свой способ членения, представления, структурирования и описания окружающей 220 среды эвенки зафиксировали в национальной картине мира в виде топонимов, которые и восприняли носители русского языка, пришедшие в Приамурье в 1852 г. Подобные наименования (топонимы и оттопонимические существительные и прилагательные) звучат и сейчас во всех точках обширного Амурского края. Исследователями доказано, что язык как хранитель информации не может в полной мере выполнять свою связующую роль, не располагая собственными именами. «Географические названия (своеязычные или заимствованные), вошедшие в общую речь, образуют тот ее культурно-исторический слой, который является принадлежностью литературного языка» [Левашов, 2000, с. 4]. Как видим, в условиях длительного сосуществования двух локальных культур – русской и эвенкийской – шло взаимное влияние обоих языков: ассимиляция и подавление аборигенного и обогащение элитного русского. При этом носителями последнего не предпринимались попытки теоретически осмыслить и зафиксировать этимологическое значение сотен эвенкийских слов, вошедших в словарный фонд русского языка. Мыслительный образ (концепт), вызываемый любым эвенкийским географическим названием, воспринимается только как термин и является как бы закодированным для подавляющего числа русскоязычных носителей. Например, название реки Селемджи и ее правого притока Селеткан в переводе с эвенкийского означает ‘железистая’. В бассейне именно этой реки обнаружены железорудные месторождения. Онени – приток Якодокита (система верхней Зеи). Название эвенкийское: онен – ‘рисунок’. В долине Онони находятся древние наскальные рисунки – писаницы, а Якодокит – с эвенкийского ‘дорога к якутам’. Тыгукит – левый приток Гилюя от эвенкийского тыгу – ‘ярмарка, обменное место’. На этой реке проходили ярмарки, на которых эвенки обменивались добытой пушниной, продуктами своего труда [Сутурин, 2000]. Однако функционирование амурских топонимов, их значение и происхождение, структура, ареал распространения, развитие и изменение во времени до сих пор не стали предметом внимания местных – амурских и дальневосточных – лингвистов. Таким образом, для русскоязычных коммуникантов многие эвенкийские топонимы являются непонятными, непривычными (экзотичными), незнакомыми и квалифицируются исследователями лакунарности как межъязыковые конфронтативные лакуны, обусловленные дрейфом двух различных культур [Сорокин, 1982, с. 23]. А между тем «в каждом географическом названии закодирована информация, прежде всего, географическая – о месте и характере географического объекта. В языковом сознании при употреблении топонима воспроизводятся когнитивные связи соответственно языковому и социальному опыту современного человека, совпадающие или не совпадающие с мотивацией во время акта номинации. В этой связи носители “предпочитают” названия, которые возможно декодировать, то есть мотивированные» [Васильева, 2001, с. 148]. К сожалению, многолетнее пренебрежительное отношение к самобытному языку соседствующего этноса привело к потере информативности топонимов эвенкийского происхождения, их семантической опустошенности. Это еще раз 221 убеждает, что язык является продуктом творчества многих поколений, общим средством коммуникации на протяжении тысячелетий, общим духовным достоянием, пренебрежительное обращение с которым – преступление против самих себя. Библиографический список Быкова Г.В. Выявление внутриязыковых лакун (на материале русского языка). – Благовещенск, 1999а. Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Воронеж, 1999б. Васильева С.П. Топонимы Красноярского края в семасиологическом аспекте // Ежегодник регионального лингвистического Центра Приенисейской Сибири. Красноярск, 2001. География Амурской области / отв. ред. Н.Г. Павлюк. Благовещенск, 2005. Калинина Е.Л. Особенности адаптации субстратных топонимов в концептосфере языка-приемника (на материале ойконимов Амурской области): дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2009. Левашов Е.А. Географические названия: словарь-справочник. СПб., 2000. Мерекина Е.В. Культурные концепты как ядерная часть языкового сознания малочисленного народа (этнолингвокультурологическое исследование языка эвенков): дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2008. Попова З.Д., Стернин И.А., Чарыкова О.Н. К разработке концепции языкового образа мира // Язык и национальное сознание. Воронеж, 1998. Пылаева О.Б. Лакунарность лексико-семантического поля «Природа»: на материале русского и эвенкийского языков: дис. ... канд. филол. наук. Благовещенск, 2002. Проблемы этносемантики: сб. науч.-аналитических обзоров. М., 1998. Сорокин Ю.С. Лакуны как сигналы специфики лингвокультурной общности // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. М., 1982. Сутурин Е.В. Топонимический словарь Амурской области. Благовещенск, 2000. Томашева И.В. Понятие «лакуна» в современной лингвистике. Эмотивные лакуны // Язык и эмоции. Волгоград, 1995. Эвенкийский язык // Красная книга языков народов России. Энциклопедический словарь-справочник. М., 1994. А.Е. Щербинина Понятие «картина мира» в современных лингвистических исследованиях Одним из фундаментальных понятий лингвистики в последнее время является «картина мира». Оно выражает специфику человека и его бытия, его взаимоотношения с внешним миром и важнейшие условия его существования в последнем. Каждый язык на протяжении своей истории впитывает в себя особенности обычаев и характера народа, сохраняет в себе культурно-исторические сведения традиционного характера. Все больше и больше лингвистов говорят о том, что язык – это некое зеркало окружающего мира, он отражает дей______________ © Щербинина А.Е., 2009 222 ствительность и создает свою картину мира, специфичную и уникальную для каждого конкретного языка и соответственно народа. Картина мира – это некая модель, описывающая до некоторой степени реальность в понимании человека и позволяющая ему действовать согласно неким правилам, которые явно и неявно заложены в эту картину. Она не является полным отражением реальности, и, судя по всему, никогда не будет таковой. Сказывается «водораздел» между Реальностью и Умом. Мы не знаем никого, кто бы смог его преодолеть. Будем условно считать это невозможным, хотя это тоже лишь представление о невозможности. Итак, картина мира – это результат развития Ума в первую очередь. Однако у разных людей участие ума в ее построении будет различным. Восточный человек более настроен на познание через органы непосредственного восприятия, а западный – через ум. Впрочем, это уже притча во языцех. Ум пытается свести мозаичные знания к одной, жесткой, схеме, чтобы пребывать в удовлетворенном состоянии. Человек следует за своим умом, потому что знает: в противном случае – одно беспокойство. Однако в том случае, когда все будет сведено к этой картине, не исключено, что человек решит: «Все есть суета сует и томление духа». Понимание роли собственного сознания, восприятие мира человеком, его осмысление предметной действительности и познавательного опыта привели к определению различных подходов и направлений в изучении картины мира. В современной лингвистике представлены различные концепции картины мира, что позволяет глубже решать вопрос о том, «как сложившаяся картина мира помогает человеку осуществлять разного рода когнитивные процессы, в какой мере она участвует в когнитивной деятельности и какое влияние она оказывает на мыслительную деятельность человека» [Кубрякова, 1999, с. 7]. Мы можем говорить и о том, что отражение цельной картины мира в сознании человека является одной из проблем современного лингвистического исследования. Между языком и реальным миром стоит человек (его мышление). Человек воспринимает и осознает мир посредством органов чувств, создает систему представлений о мире. Пропустив их через свое сознание, осмыслив результаты этого восприятия, он передает их другим членам своего речевого коллектива с помощью языка. Путь от реального мира к понятию и далее к словесному выражению своеобразен у разных народов, что обусловлено различиями истории, географии, особенностями жизни этих народов, спецификой развития их общественного сознания. Таким образом, зеркало оказывается кривым: его перекос обусловлен культурой говорящего коллектива, его менталитета, видением мира. Следовательно, можно говорить о том, что картина мира складывается для человека как сумма его представлений о мире, включая самого себя, и «определяется как результат всей духовной активности человека и всех его контактов с миром» [Постовалова, 1988, с. 19], которые объединяются в целостный образ и включают в себя всю совокупность знаний, формируемую в общественном и индивидуальном сознании человека. Следует упомянуть и о том факте, что картина мира включает различные типы знания, которые в общем виде могут быть представлены как языковые и неязыковые и образующие, соответственно, языковую и концептуальную картины 223 мира. Концептуальная картина мира шире языковой, так как в языке отражается не все концептуальное содержание и не все концепты становятся предметом коммуникативного акта. Поэтому, являясь средством описания и репрезентации концептуальной картины мира в речи, язык считается источником познания мыслительной деятельности. Окружающий человека мир представлен в трех формах: 1) реальная картина мира (объективная внечеловеческая данность, мир, окружающий человека); 2) культурная (понятийная) картина мира (отражение реальности через призму понятий, сформированных на основе представлений человека); 3) языковая картина мира, которая отражает реальность через культурную картину мира. Языковая картина мира различна у разных народов. Это проявляется в принципах категоризации действительности, материализуясь и в лексике, и в грамматике. Языковая личность обязана организовывать содержание высказывания в соответствии с этой картиной. И в этом проявляется специфически человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке. Так, усваивая родной язык, англоязычный ребенок различает hand и arm, а русскоязычный узнает слово рука. Роль языка состоит не только в передаче сообщения, но и, в первую очередь, во внутренней организации того, что подлежит сообщению. Возникает как бы «пространство значений» (в терминологии А.Н. Леонтьева), то есть закрепленные в языке знания о мире. Таким образом, каждый конкретный язык заключает в себе национальную, самобытную систему, которая определяет мировоззрение носителей данного языка и формирует их картину мира. Именно в содержательной стороне языка (в меньшей степени в грамматике) проявлена картина мира данного этноса, которая становится фундаментом всех культурных стереотипов. Ее анализ помогает понять, чем различаются национальные культуры, как они дополняют друг друга на уровне мировой культуры. Итак, понятие языковой картины мира включает две связанные между собой, но различные идеи: 1) картина мира, предлагаемая языком, отличается от «научной» (в этом смысле употребляется также термин «наивная картина мира»); 2) каждый язык «рисует» свою картину, изображающую действительность несколько иначе, чем это делают другие языки. Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач современной лингвистической семантики. Исследование языковой картины мира ведется в двух направлениях, в соответствии с названными двумя составляющими этого понятия. С одной стороны, на основании системного семантического анализа лексики определенного языка производится реконструкция цельной системы представлений, отраженной в данном языке, безотносительно к тому, является она специфичной для данного языка или универсальной, отражающей «наивный» взгляд на мир в противоположность «научному». С другой стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка (лингвоспецифичные) концепты, обладающие двумя свой224 ствами: они являются «ключевыми» для данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и одновременно соответствующие слова плохо переводятся на другие языки. Переводной эквивалент либо вообще отсутствует, либо в принципе имеется, но не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного слова специфичными, как, например, для русских слов тоска, надрыв, авось, удаль, воля, неприкаянный, задушевность, совестно, обидно, неудобно. Одним из распространенных приемов реконструкции языковой картины мира является анализ метафорической сочетаемости слов абстрактной семантики, выявляющий «чувственно воспринимаемый», «конкретный» образ, сопоставляемый в наивной картине мира с данным «абстрактным» понятием и обеспечивающий допустимость в языке определенного класса словосочетаний (будем условно называть их «метафорическими»). Так, например, наличие в русском языке сочетаний гложет тоска, тоска заела, тоска напала позволяет сделать вывод о том, что тоска в русской языковой картине мира предстает как некий хищный зверь [Арутюнова, 1976, с. 76]. Следует отметить, что идеальный целостный образ мира включает в себя объективное знание явлений действительности и эмоциональное к ним отношение человека. Упомянув о концептуальном анализе языковой картины мира, следует обратить внимание на то, что ученые говорят о естественной и о ценностной картинах мира. В основе их формирования лежат разные способы осмысления реальной действительности. Ценностная картина мира – это некая ментальная структура, состоящая из блоков оценочных категорий. Лингвисты в связи с этим делают вывод о том, что понятие ценностной картины мира связано с процессами оценочной категоризации, которые предполагают субъективную оценку предметов и явлений. Под оценочной категоризацией мы будем понимать мыслительное соотношение объекта с определенной аксиологической категорией, или группировку объектов и явлений действительности по характеру их оценки в соответствующие аксиологические классы. Иными словами, оценочная категоризация – это система оценочных категорий. Следовательно, формирование картины мира невозможно без категории оценки. Специфика процесса оценочной категоризации заключается в способе восприятия и осмысления окружающего мира и находит свое выражение в языке в виде оценочных знаний. Они характеризуются отношениями между физическим миром и его идеализированной моделью, которая складывается в сознании индивида. При этом оценочная категоризация представляет собой результат пересечения или наложения двух концептуальных систем, то есть результат переосмысления окружающего мира с позиции ценностных концептов и категорий [Болдырев, 2002, с. 363]. С помощью оценки мы прогнозируем соответствие / несоответствие предмета или события нашим ожиданиям или стандартам, установленным в обществе, и выражаем это с помощью средств языка. Таким образом, оценка проектирует отношение к какому-либо предмету или явлению на фоне стереотипного знания. Например, оценочные категории good и bad в английском языке не обла225 дают собственной информацией о реальном мире. В языке есть лишь шкала, указывающая на смысловое движение в сторону положительного (good) или отрицательного (bad). Но при этом данная шкала оценки требует определенного концептуального наполнения для передачи необходимого смысла. Это наполнение обеспечивается только при взаимодействии с другими концептами естественных объектов. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что понятие картины мира включает в себя не только концепты естественных объектов, но и оценочные концепты, имеющие собственную языковую природу. При этом принципы организации этих категорий, их структура и способы формирования тоже отличаются друг от друга. Естественные категории включают в себя знания о предметах и явлениях, основанные на их физических и функциональных характеристиках. В основе объединения объектов в оценочные категории лежит субъективная оценка каждого из них. Структура данных категорий определяется системой индивидуальных и коллективных ценностей. Библиографический список Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976. Болдырев Н.Н. Языковые механизмы оценочной категоризации // Реальность, язык и сознание: междунар. межвуз. сб. науч. тр. Тамбов, 2002. Кубрякова Е.С. Языковое сознание и языковая картина мира // Филология и культура: материалы междунар. конф. Тамбов, 1999. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / под ред. Б.А. Серебрянникова. М., 1988. Т.М. Шихова Фактор предметной отнесенности как критерий разграничения фразеологической эврисемии и полисемии С постановкой проблемы эврисемичности фразеологического значения в 90-х годах прошлого века возникает необходимость разграничения явлений полисемии и эврисемии во фразеологии [Солодуб, 1997, с. 53]. В работах, посвященных рассмотрению языковых показателей фразеологической полисемии, выделение фразеосемантических вариантов в семантической структуре идиом различных лексико-грамматических классов производится на основе учета понятийной и предметной отнесенности, а также парадигматических свойств фразеологизмов [Сидоренко, 1982, с. 18–21]. В данной статье затрагивается один из наиболее сложных вопросов – о характере предметной отнесенности значений полисемичных и эврисемичных фразеологизмов. Влияние предметной отнесенности на выделение отдельных элементов в семантической структуре фразеологизма или на признание единого, эврисемичного по объему понятия, значения рассматривается на материале единиц, связанных с категорией одушевленности – неодушевленности. Цель обращения к данному аспекту обозначенной проблемы – попытка ответить на вопрос, почему в одних случаях соотнесенность со ______________ © Шихова Т.М., 2009 226 смысловыми пространствами кто и что позволяет трактовать тот или иной фразеологизм как многозначный, а в других – как однозначный. Привлеченный к изучению корпус фразеологических единиц объединен в две группы. Первую группу представляют идиомы, образованные путем метафорического переосмысления сочетания слов, связанного с древнейшей мифологической формой осознания мира – анимистической. Первичным для них является значение, оценочно характеризующее лицо. Изменение значения таких фразеологизмов связано с процессом расширения, в результате которого развивается возможность употребления единицы для обозначения не только лица, но и группы лиц, предметов, явлений и ситуаций (последняя спица в колеснице, путеводная звезда, пуп земли, притча во языцех, кость от кости, плоть от плоти, не от мира сего и др.). Вторую группу образуют фразеологизмы, которые первоначально обозначают какой-то один предмет, а расширение их значения приводит к употреблению по отношению к более широкому кругу предметов и к лицу (гроб повапленный, альфа и омега, запретный плод, камень преткновения, святая святых, страх божий, дамоклов меч, топорная работа, яблоко раздора, корень зла и др.). Обратимся к анализу отдельных примеров первой группы. Очевидно, отнесенность к живым или неживым предметам послужила основанием для выделения двух значений в семантической структуре фразеологизмов последняя спица в колеснице и путеводная звезда. Так, во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А.И. Молоткова идиома последняя спица в колеснице рассматривается как многозначная: 1.‘Человек, играющий самую ничтожную, незначительную роль в жизни, в обществе, в каком-л. деле’. 2. ‘То, что имеет ничтожное значение’ [ФСРЯ, с. 444]. Однако данный фразеологизм в ряде словарей трактуется как однозначный. Причем в этом случае толкования значения отличаются широким объемом денотативной соотнесенности. Например, согласно словарю М.И. Михельсона, опубликованному в начале XX в., и толковому словарю С.И. Ожегова, 23-е издание которого относится к концу этого же века, анализируемый фразеологизм характеризует только человека. Ср.: послhдняя (не велика) спица въ колесницh – ‘ничтожный въ дhлh человhкъ, самый незначительный’ и варианты пятая спица въ колесницh, пятое колесо въ телhгh, в семантике которых актуализируется оттенок значения ‘лишний человек’, см.: [Михельсон, т. 2, с. 98, с. 163]; последняя (пятая) спица в колеснице (‘о том, кто не имеет никакого влияния, значения’) [Ожегов, с. 754]. В связи с отмеченными вариантами заметим, что в [ФСРЯ, с. 199] фразеологизм пятое колесо в телеге [в колеснице] определяется как однозначный – ‘лишний, ненужный в каком-либо деле человек’. Более широкий объем денотативной соотнесенности зафиксирован в [БМС, с. 662] – ‘о ком-, чем-л. лишнем и ненужном’. Здесь же поясняется, что выражение пятая спица в колеснице возникло в результате соединения рифмованной поговорки последняя спица в колеснице – ‘человек или предмет, имеющий очень небольшое, даже ничтожное значение в чем-л.’ и оборота пятое колесо в телеге – ‘о ком-л. или о чем-л. лишнем и ненужном’, представляющего собой, скорее всего, дословный перевод немецкого выражения das fünfte Rad am Wagen. Отмеча227 ется также, что оборот пятое колесо в телеге имеет более раннюю фиксацию в литературном языке (в Вейсмановом «Лексиконе» 1731 г. в форме пятое колесо у телhги; пятое колесо к телеге в сборнике пословиц В.Н. Татищева 1736 г.). Выделение двух значений с учетом категории одушевленность – неодушевленность, на наш взгляд, не поддерживается понятийным компонентом значения, что можно проиллюстрировать следующими примерами употребления фразеологизма. Ср.: – Кажется, пан Плевака, и я не последняя спица в колеснице, и я чего-нибудь да стою (А.А. Бестужев-Марлинский. «Наезды») и – Теперь ты понял, Сыроватко, что газета тоже не последняя спица в колеснице? (В.А. Рудный. «Гангутцы»). Единое значение, эврисемичное по объему понятия, имеют также фразеологизмы [и] в подметки не годится кто кому, что чему – ‘значительно хуже по своим качествам, достоинствам, положению и т.п.’ [ФСРЯ, с. 108; БФСРЯ, с. 247]; запретный плод кто, что [для кого] – ‘недозволенный или недоступный’ [БФСРЯ, с. 229]); дойная корова кто, что [для кого] – ‘обильный и безотказный источник материальных благ, дохода, используемый с личной выгодой, часто в корыстных целях’ [БФСРЯ, с. 189]; яблоко раздора кто, что – ‘то, что порождает конфликт, серьезные противоречия, ссору, спор’ [БФСРЯ, с. 734]; лакомый <жирный> кусок <кусочек> кто, что [для кого] – ‘то, что является заманчивым и соблазнительным и привлекает внимание’ [БФСРЯ, с. 347]; пуп земли – ‘центр, средоточие самого главного, самого важного. О ком-л. или о чем-л.’ [ФСРЯ, с. 365]; первая ласточка что, реже – кто чего, в чем – ‘самый первый в ряду последовавших за ним, первое проявление чего-л.; предвестник’ [БФСРЯ, с. 513]. Иные выводы касаются семантической структуры фразеологизма путеводная звезда. Заметим, что словари отражают все стадии развития семантики данного фразеологизма: однозначный, заполняющий смысловое пространство исхода что; расширение объема значения за счет включения в него смысла кто; отрыв одного из оттенков значения, формирование многозначной семантической структуры. Подтвердим наше наблюдение данными словарей: Путеводная звhзда – ‘руководящее, какъ звhзда, руководящая, указывающая путь – направленіе’ [Михельсон, т. 2, с. 155]; Путеводная звезда (высок.) – ‘о том, кто (что) определяет чей-н. жизненный путь, развитие деятельности <…>’. Ср.: путеводная нить (высок.) – ‘то, что помогает найти правильный путь, ведет к правильному решению’ [Ожегов, с. 632]. Прежде чем привести примеры лексикографического толкования фразеологизма как многозначного, заметим, что в этом случае наблюдаются, во-первых, расхождения в последовательности подачи фразеосемантических вариантов и, во-вторых, в наборе семантических признаков одного из них. Например, фразеологизм путеводная звезда в словарях [ФСРЯ, с. 170; АЗ, с. 136] толкуется следующим образом: 1. ‘Человек, определяющий каким-л. образом чью-л. жизнь, деятельность’. 2. ‘То, что направляет, определяет чью-л. жизнь, деятельность’. В словаре [БМС, с. 242] с первым из приведенных значений совпадает толкование, данное как второе значение: ‘Человек, определяющий каким-л. образом чью-л. жизнь, деятельность’. В качестве первого значения в данном словаре указано следующее: 1. ‘Руководящая, направляющая 228 мысль, идея, указывающая верное направление в какой-л. области жизни (политической, научной и т.д.)’. Представляется, что такое расположения значений более логично и отвечает истории формирования семантической структуры указанного фразеологизма. Первичность значения, отражающего смысл что, доказывают не только определение, данное в словаре М.И. Михельсона, и объяснение его происхождения [БМС, с. 242; БМШ, с. 416; АЗ, с. 137], но и контексты употребления. Ср.: И ныне следом за тобою / Пуститься в путь дерзаю я; / Пусть путеводною звездою / Сияет вера мне твоя (К. Р. «А. А. Фету. 29 марта 1887 г.»); Не без гордости русская пресса, / Именует себя иногда / Путеводной звездою прогресса (Н.А. Некрасов. «Газетная»); Это письмо стало моею святынею, моей путеводною звездой, моим якорем (И.С. Тургенев. «Несчастная»). Интересно, что в одном из контекстов наблюдается диффузность, совмещение смыслов что и кто: Ольга мигом взвесила свою власть <…> и ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и отразится в нем (И.А. Гончаров. «Обломов»). Кроме того, отметим, что формулировка второго значения в том виде, как она дана в [ФСРЯ; АЗ], не позволяет признать рассматриваемый фразеологизм многозначным, так как в ней, по сравнению с первым, не отражены различия в понятийном компоненте значения. Поэтому следует признать более корректной подачу значений в [БМС, с. 242]. Для подтверждения высказанной оценки приведем пример современного употребления фразеологизма: Мы пережили перестройку, кризисные девяностые годы и с достоинством выходим из этой бездны. Желаю, чтобы в вашей душе жила благодать. И у каждого человека была путеводная звезда, которая вела бы его вперед… (Демина. Республика Татарстан. Общественно-политическая газета, 07.01.2007) [АЗ, с. 137]. Аналогичный путь развития прошли многозначные фразеологизмы притча во языцех, кость от кости, плоть от плоти, не от мира сего и др. Особенности семантического развития второй группы рассмотрим на примере фразеологизмов альфа и омега, камень преткновения и святая святых. Семантическую структуру фразеологизма альфа и омега современные лексикографические источники трактуют неодинаково. В словарях С.И. Ожегова, Н.С. и М.Г. Ашукиных и Л.М. Грановской данная единица зафиксирована как однозначная, причем определения ее значения не совпадают. Ср.: ‘самое главное в чем-н., основа, суть’ [Ожегов, с. 30]; ‘начало и конец, все полностью’ [Ашукины, с. 15] и ‘начало и конец, первый и последний; сущность, самое главное, основа’ [Грановская, с. 146]. В других словарях выделяется два значения: 1. ‘Начало и конец’. 2. ‘Сущность, основа, самое главное’ [ФСРЯ, с. 29; ср.: БМС, с. 22]. Чтобы проследить развитие семантики рассматриваемого фразеологизма, обратимся к первоисточнику, к словарям, изданным в XVIII– XIX вв., к историческим словарям и к контекстам употребления данного фразеологизма. В Библии оборот альфа и омега используется для обозначения Господа. В Апокалипсисе говорится: И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец … (Откр. 21: 6–7) [Грановская, с. 147]. Фразеологизм альфа и омега в метафорическом смысле ‘начало и конец чего-л.’ функционирует с XII 229 по XIX в. [С XI–XVII, с. 34; Срезневский, т. 1, с. 18; САР, т. 1, с. 24; Палевская, с. 13; Ильин, с. 26]. Анализ примеров употребления фразеологизма в художественных и публицистических текстах XIX в. позволяет говорить о развитии эврисемичности его значения с последующим формированием многозначности. Причем в результате отрыва от первоисточника и процесса расширения фразеологизм употребляется по отношению как к лицу, так и к явлениям, фактам, ситуациям и т.д. Так, Н.М. Языков употребляет этот фразеологизм в значении ‘начало и конец’ для обожествления своих чувств: О, друг! Ты альфа и омега / Любви возвышенной моей! Другие примеры: У нее в мире никого нет, кроме него, он один для нее – закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега ее бытия, все, все (И.И. Лажечников. «Ледяной дом»); Первым и последним словом, альфой и омегой всей его жизни было, как у всех поэтов, – его собственное я (И.С. Тургенев. «Рецензия на “Фауст” Гете»); Вот вам альфа и омега, начало и конец всех дел, имевших цель удовлетворить те или другие общественные обязанности (Г.И. Успенский. «Бог грехам терпит»). В русской публицистике середины XIX в. развивается оттенок значения ‘начала, выражающие сущность какой-л. теории, учения’, на основе которого формируется второе значение фразеологизма – ‘основное, самое главное, самая суть чего-л.’. Например: Итак, я теперь в новой крайности, – это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и в ней. Она вопрос и решение вопроса (В.Г. Белинский. Письмо В.П. Боткину, 8 сентября 1841 г.); Если я прочел Адама Смита, Мальтуса, Риккардо и Милля, я знаю альфу и омегу этого направления, и мне не нужно читать ни одного из сотен политикоэкономов, как бы ни были они знамениты (Н.Г. Чернышевский. «Что делать?»); Различать мыслящих людей – вот альфа и омега всякого общественного развития (Д.И. Писарев. «Цветы невинного юмора»). Такое употребление данной библейской фразеологической единицы во второй половине XIX в. вполне закономерно: оно связано с развитием философии разумного эгоизма и позитивизма, с формированием атеистического мировоззрения. Как замечает А. Мень, говоря о дивергенции культур и о том, что в XIX в. ряд деятелей искусства, литературы, философии ощущают это и начинают искать путь к тому, чтобы вернуться к исконным христианским духовным ценностям, была и литература другая, которая отвергала эти ценности: Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, выходцы из церковных семей и окончившие духовные семинарии, которые «усвоили там некий моральный пафос, стремление к служению, но не находили в окружающей церковной среде благодатной почвы для того, чтобы действовать во имя истины, и поэтому они пытались найти эту истину на путях безрелигиозного служения» [Мень, 1991, с. 253]. Интересно, что в конце XIX в. данный фразеологизм употребляется уже и с целью создания комического эффекта. Например, А.П. Чехов в повести «Кухарка» пишет: Альфа и омега кухни – Пелагея – возилась около печки. Употребление библейской фразеологической единицы, ассоциирующейся у читателей того времени с именем Бога, со словами кухня, кухарка сводит на нет ее книжный оттенок, создавая ситуацию «стилистического парадокса» [Дубровина, 2001, с. 97]. 230 Перейдем к анализу фразеологизмов камень преткновения и святая святых, имеющих эврисемичное значение, проявляющееся в разнообразных семантических оттенках употребления. Фразеологическая единица камень преткновения в современных словарях фиксируется как однозначная, имеющая значение ‘помеха, затруднение, на которое наталкивается кто-л. в каком-л. деле, занятии и т.п.’ [ФСРЯ, с. 189–190; АЗ, с. 157; БМС, с. 283; Ожегов, с. 264]. Своеобразное описание семантики данного фразеологизма находим в «Большом фразеологическом словаре» под редакцией В.Н. Телия. Здесь автор словарной статьи С.В. Кабакова выделяет два варианта фразеологизма: камень преткновения что [для кого, в чем] и * камень преткновения что, кто [для кого] быть; являться; стать, оказаться; оставаться. Толкования значения указанных вариантов совпадают лишь частично. Так, вариант, соотносимый с исходом что, определяется, как ‘непреодолимое препятствие, нерешенная проблема, серьезное затруднение в деле, в работе’, вариант же с исходами что и кто – как ‘непреодолимое препятствие’. Даются также пояснения относительно типичных ситуаций употребления указанных вариантов. В первом случае «имеется в виду серьезная, трудно разрешимая проблема, вставшая на пути к осуществлению тех или иных жизненных или профессиональных задач лица, группы лиц» [БФСРЯ, с. 320]. Во втором случае «имеется в виду, что лицо, чья-л. деятельность, чье-л. отчаянное сопротивление, сложная профессиональная задача, трудный вопрос и т.п. становятся помехой для другого лица или для других лиц при осуществлении ими своих намерений» [Там же, с. 321]. Закрепление второго варианта в функции именной части сказуемого способствует, на наш взгляд, постепенному формированию многозначной семантической структуры рассматриваемой единицы. Далее проследим историю употребления фразеологизма и изменения его семантики. Восходит указанный фразеологизм к Библии. В 8 главе книги пророка Исайи он означает «камень, положенный богом в Сионе, о который “претыкаются” неверующие или те, которые не покоряются строгим законам» [ФСРЯ, с. 192]. В русских памятниках в форме камень претыкания употребляется с XVI в. Однако в XVIII в. эта форма регистрируется в ином значении – ‘помеха, затруднение, на которое наталкивается кто-л. в каком-л. деле’ [Палевская, с. 137]. Между тем «Словарь Академии Российской» (1789) приводит два варианта этого фразеологизма с толкованием значения, близким к первоисточнику: «Камень претыкания. Камень соблазна. Говорится о всем том, что может подать причину к соблазну, к применению мыслей, поступков на что-нибудь предосудительное» [САР, т. 3, с. 411]. Ср. также цитату из СЦРЯ (1842): «Камень претыкания, соблазна. Повод, случай к заблуждению или разврату. <…> Развратные книги служат камнем претыкания для юношества» [СЦРЯ, т. 2, с. 324]. В словаре В.И. Даля фиксируется камень претыки, преткновения с комментарием – ‘помеха, соблазн, затруднение’ [Даль, т. 2, с. 80]. Без вариантов в форме камень преткновения ‘препятствие, затруднение’ впервые отмечается в [Михельсон, т. 1, с. 411]. В проанализированных контекстах данный фразеологизм используется для характеристики как человека, так и различных реалий. Так, в следующих примерах рассматриваемая единица соотносится с лицом мужского или женского 231 пола: Карл Иванович с неусыпностью Видока предался сентиментальному шпионству, знал, кто с кем чаще гуляет, кто на кого непросто смотрит. Я был страшным камнем преткновения для всей тайной полиции нашего сада, дамы и мужчины удивлялись моей скрытности и при всех стараниях не могли открыть, за кем я ухаживаю (А.И. Герцен. «Былое и думы»); Пусть ей суждено было пасть, но не хорошо, что Вы были камнем преткновения (М.С. Альтман. «Разговоры с Вячеславом Ивановым»); Женщина – это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь (Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»). В других случаях анализируемый фразеологизм соотносится с реалиями, обозначающими продукты интеллектуальной деятельности человека: Басни навсегда остались для меня камнем преткновения (С.Т. Аксаков. «Знакомство с Державиным»); Из общих предметов на младшем курсе камнем преткновения для большинства пажей, но не для бывших кадет, были механика и химия (А.А. Игнатьев. «50 лет в строю»); Монолог «А судьи – кто?» для меня и впоследствии всегда оставался камнем преткновения (Ю.М. Юрьев. «Записки»). В средствах массовой информации XXI в. фразеологизм используется для оценочной характеристики какой-либо ситуации и в этом случае речь идет то о жилье как главном камне преткновения; то о законе об объектах культуры, камнем преткновения для принятия которого является вопрос об их приватизации; то об отсутствии контрактной системы в театральных учреждениях и т.д., см.: [БФСРЯ, с. 321]. Основа переосмысления фразеологических единиц библейского происхождения заложена в самих текстах Библии. Тем не менее это переосмысление с последующим расширением объема значения способствует отрыву их от этих текстов и формированию эврисемичного значения. Заметим, что подобным развитием могут характеризоваться даже специальные церковно-библейские термины типа святая святых. Рассмотрим данную фразеологическую единицу в аспекте поставленной в данной статье проблемы. Фразеологизм святая святых восходит к Библии, где обозначает ‘часть иерусалимского храма, куда мог входить только первосвященник’ [Займовский, с. 319; Овсянников, с. 241; ФСРЯ, с. 416; БМС, с. 629; Грановская, с. 258]. Фразеологизм соотносится, таким образом, с религиозным кодом культуры, то есть с совокупностью представлений о значимых в христианской традиции событиях и о сакральных предметах религиозного обихода. Фразеологическая метафора, создающая образ, уподобляет нечто сокровенное для человека священному для христиан месту в храме [БФСРЯ, с. 627–628]. Значение этого фразеологизма – ‘что-л. самое дорогое, сокровенное, заветное, недоступное для непосвященных’ отмечается уже в литературе XVIII в.: Девственность была для меня святая святых (А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву»). Но оно еще не фиксируется в словарях XIX в. Ср.: ‘Святая святых, святейшее место, тайник святыни; в ветхозаветной скинии и в иерусалимском храме: задний притвор, где был ковчег завета, где ныне у нас алтарь’ [Даль, т. 4, с. 161]. 232 Указанное выше значение (‘что-либо самое дорогое, сокровенное, заветное, недоступное для непосвященных’) представлено в ряде словарей [Ожегов, с. 704; ФСРЯ, с. 411]. В историко-этимологическом словаре толкование, помимо названных выше признаков, включает сему ‘тайное’ [БМС, с. 629]. Развернутая характеристика фразеологизма содержится в «Большом фразеологическом словаре русского языка» – ‘самое сокровенное, заветное, почитаемое, недоступное для посторонних место. Имеется в виду, что какое-л. имеющее особое предназначение или связанное с какими-л. воспоминаниями, надеждами и под. место или мысли, мечты, жизненные ценности, предметы деятельности и под. являются особенно дорогими, заветными для лица или для группы лиц и, в силу этого, запретными для непосвященных’ [БФСРЯ, с. 627]. Помимо отмеченных, выделяются еще несколько значений: 1) особо оберегаемое, недоступное помещение; 2) место, к которому относятся с почтением; 3) нечто важное, серьезное, священное, неприкосновенное; 4) нравственная основа, убеждения; 5) глубоко сокровенное, интимное [Грановская, с. 258]. Анализ употребления данного фразеологизма в литературе XIX в. позволяет говорить о развитии эврисемичности его значения: Гаврилов закончил, как будто не решаясь посвятить Чепурникова во святая святых своих мечтаний (В.Г. Короленко. «Черкес»); Мое святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь и абсолютнейшая свобода (А.П. Чехов. Письмо А.Н. Плещееву, окт. 1889); Он ехал и отдохнуть на две недели, и в самой святая святых народа, в деревенской глуши, насладиться видом поднятия народного духа, в котором он и все столичные и городские жители были вполне убеждены (Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»). Эта фразеологическая единица используется и для обозначения человеческой души: Каких душевных сокровищ не прозревало воображение Завалевского за той заповедною чертой, за которую, словно в святую святых Соломонова храма, никому не дозволялось проникнуть (Б.М. Маркевич. «Марина из Алого Рога»). Писатель сравнивает здесь человеческую душу с внутренним Иерусалимским храмом, где хранились главные святыни христианского мира и куда одному только первосвященнику дозволялось входить один раз в год. Невозможность познания внутреннего мира человека, его таинственность подчеркивает с помощью данного выражения и Н.С. Лесков – Трудно проникнуть в святая святых человека (Н.С. Лесков. «Воительница»), и Г.И. Успенский – Ясно видели, в чем и как, в какой форме и в каком виде эта правда-тайна, святая святых души его (Г.И. Успенский. «Через пень колоду»). Писатели используют данный фразеологизм и для обозначения значимых мест пребывания: Всякого скандала он бегает, как чумы. Особенно в своем доме, в той супружеской «святая святых», куда он никого не пускает (П.Д. Боборыкин. «Перевал»); Комната Дарьи Степановны всецело принадлежала ей. Ее непосредственность оберегал Степан Назарьевич, точно так же, как и Арина. Это была святая святых в квартире (И. Потапенко. «Дочь кучера»); В лабораторию вошел Шатилов, опасливо косясь на Каревекую, которая обычно не выносила вторжения в свое «святая святых» и бесцеремонно выпроваживала любопытствующих (В.Ф. Попов. «Сталь и шлак»); О таком счастье, 233 чтобы проникнуть в это святая святых самолета, мальчик даже не смел и мечтать (В.П. Катаев. «За власть Советов»); – Приходи в перевязочную, я попробую тебя учить. Возьмешь халат у Клавы. И вот Васька вошла в святая святых вагона-аптеки (В.Ф. Панова. «Спутники»); В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых – Красную площадь, он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так (Э.Г. Казакевич. «При свете дня»). Эврисемичность значения фразеологизма проявляется здесь и в изменении коннотативного компонента – от высокого к обыденному, иногда сниженному. Заметим, что впервые рассматриваемое значение фиксируется в словаре М.И. Михельсона: «Святая святых (иноск.) – место, мало или совсем недоступное для непосвященных, вообще, – сокровенное, как напр. кабинет ученого специалиста, помещение редкостей любителя и т.п.» [Михельсон, т. 2, с. 233]. Формирование эврисемичного по объему понятия значения анализируемых фразеологических единиц библейского происхождения идет через отрыв от первоисточника за счет динамики их значения, стабилизации формы и утраты компонентов, актуализирующих связь с исходным текстом. Таким образом, в результате расширения значения фразеологизмы развивают эврисемичность по объему понятия. Она сохраняется до тех пор, пока тот или иной фразеологизм используется для обозначения широкого круга референтов, которые говорящий объединяет по какому-либо их свойству, возможности проявления какого-либо их качества независимо от принадлежности к живой или неживой природе. Выделение же отдельных значений, отличающихся смысловыми исходами кто и что, связано с развитием дифференциальных признаков, указывающих на различия в содержании понятия. Библиографический список Дубровина К.Н. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке // Филологические науки. 2001. № 1. Мень А. Радостная весть: лекции. Вып. 1. М., 1991. Сидоренко М.И. Парадигматические отношения фразеологических единиц в современном русском языке: учебн. пособие. Л., 1982. Солодуб Ю.П. Сопоставительный анализ структуры лексического и фразеологического значений // Филологические науки. 1997. № 5. Словари Алефиренко Н.Ф., Золотых Л.Г. Фразеологический словарь: культурно-познавательное пространство русской идиоматики. М., 2008. (В тексте – АЗ.) Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: литературные цитаты; образные выражения. М., 1988. (В тексте – Ашукины.) Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. М., 2000. (В тексте – БМШ.) Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология: историкоэтимологический словарь. М., 2005. (В тексте – БМС.) Большой фразеологический словарь русского языка: значение, употребление, культурологический комментарий / отв. ред. В.Н. Телия. М., 2006. (В тексте – БФСРЯ.) Грановская Л.М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. М., 2003. (В тексте – Грановская.) 234 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1955. (В тексте – Даль.) Займовский С.Г. Крылатое слово: справочник цитаты и афоризма. М.; Л., 1930. (В тексте – Займовский.) Михельсон М.И. Русская мысль и речь: свое и чужое, опыт русской фразеологии, сборник образных слов и иносказаний: в 2 т. СПб., 1902–1903. (В тексте – Михельсон.) Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1991. (В тексте – Ожегов.) Овсянников В.З. Литературная речь: толковый словарь современной общелитературной фразеологии. М., 1933. (В тексте – Овсянников.) Палевская М.Ф. Материалы для фразеологического словаря русского языка XVIII века. Кишинев, 1980. (В тексте – Палевская.) Словарь Академии Российской: в 6 ч. СПб., 1789–1794. (В тексте – САР.) Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. (В тексте – С XI–XVII.) Словарь церковнославянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии Наук: в 4 т. СПб., 1842–1843. (В тексте – СЦРЯ.) Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка: в 3 т. М., 1958. (В тексте – Срезневский.) Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова. СПб., 1994. (В тексте – ФСРЯ.) Энциклопедический словарь общеполезных сведений по всем отраслям знания с общедоступным объяснением значения иностранных слов и выражений, вошедших в русский язык / сост. по лучшим источникам Ильин. М., 1908–1909. (В тексте – Ильин.) Н.Н. Байбородина Устойчивые сочетания в рамках словарных статей толкового словаря Словарная статья толкового словаря представляет несомненный интерес для специального лингвистического изучения в силу особой роли, которую она играет в осуществлении основной функции этого вида изданий – в толковании слов. В контексте проблемы концептуализации действительности, в частности – в рамках теории денотативного класса [Симашко, 1998], анализ словарных статей национальных словарей в основном преследует цель выявления базового фонда денотативного класса: «Исследование показывает, что из словарного состава возможно извлечь эмпирическим, индуктивным путем корпус единиц, каждая из которых в том или ином виде включает признак, четко ориентированный на определенный объект мира» [Симашко, 2002, с. 53]. Таким образом, словарные статьи кроют в себе значительный объем информации об окружающем мире, систематизировать который можно на основании денотативной связанности единиц. При этом толковый словарь позволяет не только обнаружить единицы, «выделяющие в мире объект и фиксирующие его в разнообразных свойствах, качествах и отношениях» [Симашко, 2000, с. 13], но также помогает раскрыть ______________ © Байбородина Н.Н., 2009 235 эти свойства, признаки, качества, действия и т.д., которые оказались значимыми, а потому зафиксированными в соответствующей словарной статье. Одной из составляющих денотативного класса являются устойчивые сочетания. Их отбор для включения в тот или иной денотативный класс осуществляется с ориентацией на его имя и входящие в этот класс денотативно связанные лексические компоненты. В данной работе рассматриваются лишь те фразеологизмы, которые могут быть отнесены к кумулятивному полю «Водная стихия». Источником материала послужили словарные статьи «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова [Ушаков]. Обращение к фразеологизмам в нашей статье неслучайно. Зона фразеологизмов в словарных статьях обладает той особенностью, которая не только позволяет понять семантику слова, но и открывает новые оттенки значения и сферу его использования. Обратимся к одной из центральных единиц анализируемого кумулятивного поля – к слову вода. В рассматриваемом словаре у этой единице выделяется девять значений: «1. Прозрачная, бесцветная жидкость, которая в чистом виде представляет собою химическое соединение кислорода и водорода. 2. Водная поверхность. 3. Пространство, покрытое водой: реки, озера и болота (книжн., геогр.). 4. Струи, волны моря, реки́ (поэт.). 5. Напиток минеральный, газированный или фруктовый (обычно с определением). 6. Целебные минеральные источники; курорт с минеральными источниками. 7. Многословие при бедности мысли (разг. ирон.). 8. Качество драгоценного камня, определяемое степенью чистоты и игры. 9. То же, что околоплодные воды (разг. мед.)» [Ушаков, т. 1, с. 323]. Первые шесть значений фиксируют основные формы существования и использования воды (вода как жидкость, как поверхность, противопоставленная суше, в своем видовом многообразии рек, озер и т.п., вода как напиток и как целебная среда). Остальные толкования, хоть и не имеют непосредственного отношения к воде как таковой (они являются результатом развития многозначности данного слова), все же позволяют выявить определенные знания об этом объекте окружающего мира потому, что появились вследствие особого осмысления, метафоризации свойств и признаков воды. Так, можно предположить, что осознание обширности водного пространства и зримого его однообразия способствовало формированию такого лексико-семантического варианта слова вода, как ‘многословие при бедности мысли’. Чистота и прозрачность капли воды соотносится с качеством драгоценного камня, а лексико-семантический вариант ‘околоплодные воды’, возможно, явился результатом сравнения этой особой жидкости с водой, общим признаком которых является способность поддерживать жизнь живого организма. Таким образом, из представленных толкований можно извлечь значительный объем информации, и все же нельзя сказать, что она достаточно полная. Увеличить объем информации отчасти помогает зона устойчивых выражений словарной статьи. Так, внутренняя форма русских фразеологизмов передает традиционные представления о воде как о жидкости и особом виде пространства: воду толочь (в ступе) (разг.), как в воду опущенный, концы в воду (разг.), водой не разольешь (разг.), как в воду ка́нуть (разг.), как с гуся вода (разг. неодобрит.), как рыба в воде (чувствовать себя) [Ушаков, т. 1, с. 324] и др. Устойчивые со236 четания со специальными пометами позволяют расширить рамки представления о значимости воды в разнообразных сферах жизни и деятельности человека. Например, в церковных обрядах используется сочетание святая вода (церк.) – ‘освященная церковным обрядом’; в навигации и судоходстве – вольная вода (спец.) – ‘глубокое место, пригодное для стояния судов’ [Там же]. Особый интерес представляет анализ устойчивых выражений, которые используются в разных сферах деятельности человека. В словарных статьях содержатся устойчивые сочетания, значения которых отражают применение воды в различных областях: в строительстве – гасить известь (спец.) – ‘смешивать негашеную известь с водой для получения строительной известки’ [Ушаков, т. 1, с. 544], в медицине – горькие воды (мед.) – ‘слабительные воды’ [Ушаков, т. 1, с. 605], в химии – плавиковая кислота (хим.) – ‘раствор фтористого водорода в воде, ядовитый и разъедающий стекло’ [Ушаков, т. 3, с. 275], в быту – поддать жару – ‘1) плеснуть воды на каменку в бане для поднятия температуры (разг.)’ [Ушаков, т. 1, с. 846] и т.д. Помимо сведений о практической значимости воды семантика устойчивых выражений включает также информацию о признаках, свойствах этой стихии. Например, в сочетании мертвая вода – ‘2) стоячая вода (обл.)’ [Ушаков, т. 2, с. 190] закреплено свойство воды быть статичной, неподвижной, в противовес ее признаку быть динамичной, находиться в движении. Особенность воды менять свой уровень, прибывать или убывать фиксируется в семантике таких устойчивых выражений, как полная вода (спец.) – ‘вода на высшем уровне, возможном в данном водоеме’ [Ушаков, т. 2, с. 532] или мертвая вода – ‘1) уровень воды, не достаточный для приведения в действие мельничных колес и других водяных двигателей (спец.)’ [Ушаков, т. 2, с. 190]. Отметим важность подобных сведений, поскольку «отражение в толковом словаре необходимой экстралингвистической информации только увеличивает информационный потенциал словарной статьи, позволяет более полно показать разные аспекты бытования слова» [Козырев, Черняк, 2000, с. 39]. В семантике некоторых фразеологизмов отражаются противоречивые оценки воды. С одной стороны, в них содержится представление о воде как полезном и значимом для человека объекте окружающего мира. Например, вода – это широко распространенный источник дешевой энергии: белый уголь – ‘движущая сила воды’ [Ушаков, т. 4, с. 884]. Вода – среда, богатая рыбой, которой питается человек: в нахлестку (спец.) – ‘о ловле рыбы удочкой с лесой без грузила на плавающую по воде приманку (напр. муху)’ [Ушаков, т. 3, с. 456]. С другой стороны, вода – источник опасности. Это зафиксировано, например, в таком устойчивом сочетании, как спасательный пояс (спец.) – ‘пробочный круг, надеваемый на туловище и служащий для поддержания тела утопающего на поверхности воды’ [Ушаков, т. 3, с. 689]. В рассматриваемых словарных статьях зафиксированы фольклорные устойчивые выражения, которые отражают мифопоэтические представления о воде. Например: живая вода – ‘в сказках – вода, оживляющая мертвое тело’ [Ушаков, т. 1, с. 865], мертвая вода – ‘3) в сказках – чудодейственная жидкость, сращивающая разрезанное на куски тело (которое оживает потом от опрыски237 вания живой водою)’ [Ушаков, т. 2, с. 190]. Данные примеры свидетельствуют о том, что вода в языковом сознании русского человека прежде всего ассоциируется с животворящим, порождающим началом, ведь «языковое народное сознание – воплощение народного миропонимания в языковой форме, в языковых стереотипах, из которых строятся тексты малых и больших жанров фольклора, участвующих в вербальной коммуникации» [Никитина, 1993, с. 31]. Таким образом, устойчивые сочетания в рамках словарной статьи играют важную роль в раскрытии значения слов, с одной стороны, являясь способом иллюстрации семантики лексических единиц, а с другой – раскрывая значимые для носителей языка свойства и признаки объектов. Поэтому включение таких единиц в состав денотативного класса дает возможность выявить и обобщить разнообразные сведения об определенном объекте действительности. Библиографический список Козырев В.А., Черняк В.Д. Вселенная в алфавитном порядке: очерки о словарях русского языка. СПб., 2000. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993. Симашко Т.В. Денотативный класс как основа описания фрагмента мира: монография. Архангельск, 1998. Симашко Т.В. Некоторые подходы к выявлению способов языкового воплощения знаний о фрагменте мира // Res philologica: ученые записки / отв. ред. Э.Я. Фесенко. Вып. 2. Архангельск, 2000. Симашко Т.В. К вопросу о фрагментации языковой картины мира // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира / отв. ред. Т.В. Симашко. Архангельск, 2002. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2001. (В тексте – Ушаков.) А.И. Попова Компаративные фразеологизмы с компонентом-зоонимом в современном немецком языке Во фразеологическом составе языка, как известно, отражаются культура, история, менталитет, традиции народа. По словам Д.Г. Мальцевой, «язык выступает в качестве зеркала национальной культуры, ее хранителя: фразеологические единицы и отдельные слова фиксируют в себе те или иные смыслы, восходящие, в той или иной мере, к условиям жизни народа – носителя языка» [Мальцева, 2001, с. 3]. Именно этим обусловлен неослабевающий интерес исследователей-лингвистов к фразеологии, которая представляет собой один из важнейших пластов языка, ее изучение будет всегда актуально. При этом у фразеологов до сих пор нет единого мнения о том, что такое фразеологизм, какие языковые единицы относятся к данному пласту лексики. Опираясь на работы И.И. Чернышевой, М.П. Брандес, В. Фляйшера, мы под фразеологическими единицами (ФЕ) будем понимать устойчивые, воспроизводимые, ______________ © Попова А.И., 2009 238 раздельнооформленные сочетания слов разных структурных типов с различными видами сочетаемости компонентов, значение которых частично или полностью переосмыслено и возникает в результате семантического преобразования компонентного состава. Лингвисты по-разному смотрят на проблему классификации ФЕ, основываясь на различных критериях: семантическом (В.В. Виноградов), синтаксическом (В. Фляйшер, М.Д. Городникова, Р. Клаппенбах), комплексном, или структурно-семантическом (Е. Агрикола, И.И. Чернышева). В некоторых работах делается попытка дать тематическую систематизацию фразеологизмов. На материале немецкого языка подобные исследования проводит Д.Г. Мальцева, группируя фразеологизмы различных структурно-семантических типов по тематическому признаку, например: «Языковые единицы, отражающие географические реалии Германии», «Языковые единицы, отражающие растительный и животный мир Германии» и др. [Мальцева]. Данная статья посвящена комплексной характеристике компаративных фразеологизмов (КФЕ) немецкого языка, содержащих компонент-зооним. Под КФЕ, согласно И.И. Чернышевой, понимаются устойчивые и воспроизводимые сочетания слов, фразеологическая специфика которых основывается на традиционном сравнении [Чернышева, 1970, с. 41]. Зоонимами называются лексические единицы, являющиеся прямыми наименованиями животных (см., например: [Располыхина, 1984, с. 7]). Отметим, что в материал работы вошли не только фразеологизмы с зоонимом в качестве отдельного компонента, но и единицы со сложными существительными, имеющими в своем составе компонент-зооним, например: kalt wie eine Hundeschnauze (‘безразличный, равнодушный; холодный как рыба’, букв. ‘холодный как морда собаки’). Как правило, подобные композиты обозначают части тела животного. В ходе исследования нами было выявлено 163 КФЕ с компонентом-зоонимом. Источником материала послужили фразеологические словари немецкого языка (см. список источников). Выбранные языковые единицы могут быть разделены на адъективную, вербальную и субстантивную подгруппы в зависимости от частеречной принадлежности главного компонента в ФЕ. Данное разделение было предложено И.И. Чернышевой в рамках ее классификации фразеологизмов [Степанова, Чернышева, 2003, с. 189]. 1. Группа адъективных ФЕ представлена 57 лексемами. Большинство единиц этой группы строится по модели Adj wie Sub(Tier). На первом месте в данной модели стоит прилагательное, которое представляет собой основу для сравнения, то есть обозначает то качество человека, которое ассоциируется с тем или иным представителем животного мира, и становится основой устойчивого выражения в языке. Модель может быть усложнена с помощью дополнительных компонентов, например, прилагательного при существительном-зоониме, уточняющего характеристики животного, с которым проводится сравнение. Таким образом, модель может иметь вид Adj wie (Adj Sub(Tier)). Ср.: wütend wie ein angeschossener Eber (букв. ‘злой как подстреленный кабан’). Как видим, уточняющий компонент здесь является обязательным, поскольку кабан в спокойном состоянии не отличается агрессивностью. 239 Как пишет И.И. Чернышева, сравнение приобретает ту или иную оценку именно в единстве с прилагательным, которое часто и определяет значение, оценочность и экспрессивность всего фразеологизма [Там же, с. 190]. В нашем материале ярким доказательством этого тезиса является сравнение wie ein Schaf: при присоединении таких прилагательных, как geduldig или sanft мы получаем выражения geduldig wie ein Schaf (‘терпеливый как овечка’) и sanft wie ein Schaf (‘кроткий как агнец’), то есть выражения с положительной оценочностью. Если же в качестве определяющего прилагательного выступит лексема dumm, то сравнительный фразеологизм dumm wie ein Schaf (‘глупый как баран’) будет иметь негативный смысл и пейоративную оценочность. Одной ФЕ представлена модель Adj wie in Sub(Tier). Ср.: finster wie in einer Kuh (‘ни зги не видно’, букв. ‘темно как внутри коровы’). Выражение сопровождается в словаре пометой «разговорное», история этого необычного фразеологизма неизвестна. Семантически данная группа весьма неоднородна. В основном фразеологизмы отражают внутренний мир человека через сравнение его с животным. При этом в основу сравнения ложатся обычно черты характера, например: stolz wie ein Hahn (‘гордый как петух’), flink wie ein Wiesel (‘проворный, как ласка’). С кротостью ассоциируются у немцев в первую очередь голубь и овца: sanft wie ein Schaf (‘кроткий как агнец’), sanft wie eine Taube (‘кроток как голубь, кротка как голубка’). Кроме того, овца ассоциируется еще и с глупостью: dumm wie ein Schaf (‘глупый как баран’). По свидетельству Дж. Трессидера, овца – олицетворение кротости еще с библейских времен: «кротость, смирение – христианский символ паствы, легко заблуждающейся и поэтому нуждающейся в духовном лидерстве. “Паси агнцев Моих” – было одним из последних слов Иисуса Христа (Евангелие от Иоанна, 21: 5)... Хотя овца в основном ассоциируется с тупостью и недалекостью, монголы считают, что грудная кость овцы имеет пророческую силу» [Трессидер, URL]. Таким образом, можно сделать вывод, что данные качества приписываются овце не только немецким народом – это интернациональный стереотип. Помимо черт характера человека, в ФЕ может найти отражение то или иное его состояние, например, влюбленности: verliebt wie ein Kater (букв. ‘влюбленный как кот’), голода: hungrig wie ein Wolf (букв. ‘голодный как волк’), раздражения: wütend wie ein angeschossener Eber (букв. ‘злой как подстреленный кабан’), опьянения: besoffen wie ein Schwein, voll wie ein Schwein (букв. ‘пьяный как свинья’). Фразеологизмы, описывающие внешний вид, также достаточно разнообразны, например: mager wie eine Spinne (‘сухая как щепка’), geputzt wie ein Affe (‘разнаряженный’). ФЕ этой группы могут отражать как врожденные характеристики человека, например: glatt wie ein Aal (‘гладкий как угорь’), так и приобретенные, временные, например: naß wie eine gebadete Maus (‘мокрый как мышь’). Характеризуя степень экспрессивности и оценочности ФЕ этой группы, можно сделать вывод, что большинство адъективных КФЕ несут положительную или отрицательную оценку, однако такие выражения, как schwarz wie ein 240 Rabe (‘черный как вороново крыло, иссиня-черный’), не содержат в себе оценочной коннотации, исключительно нейтрально констатируя цветовую характеристику. Яркую мелиоративную оценку имеют такие ФЕ, как klug wie eine Schlange (‘мудр как змея’). Истоки этого фразеологизма – в Библии. Библейским происхождением, вероятно, и объясняется положительная коннотация выражения, поскольку змея ассоциируется у немцев обычно с коварством и обманом. Ср.: falsch wie eine Schlange, listig wie eine Schlange. Примером положительной оценочности может служить также ФЕ emsig wie eine Ameise (‘трудолюбивый как муравей’). Трудолюбие и усердие муравья нашло отражение во фразеологической системе не только немецкого языка, но и многих других языков мира, например, в итальянском языке, ср.: operoso come una formica, в испанском, ср.: hormiga arriera, в русском, ср.: трудолюбивый как муравей. В геральдике муравей и пчела служат эмблемой трудолюбия и покорности. Кроме трудолюбия, ума и кротости во многих ФЕ этой группы положительно оцениваются такие качества, как быстрота, проворство: flink wie ein Affe, flink wie ein Eichhörnchen, flink wie ein Wiesel. Интересен выбор животных для этих КФЕ: обезьяна, белка и ласка. Объяснение такой избирательности можно найти в этимологическом словаре. Белка, например, еще в древности отождествлялась с быстро передвигающимся огнем [Маковский, с. 105]. Пейоративная оценочность превалирует в данной группе ФЕ, как и во всех остальных классах устойчивых выражений, ср.: gefräßig wie ein Rabe (‘очень прожорливый’) или störrisch wie ein Esel (‘упрямый как осел’). Негативно оцениваются такие человеческие качества, как злость (giftig wie eine Spinne), важничанье, горделивость (stolz [eitel] wie ein Pfau), глупость (dumm wie ein Ochse) и некоторые др. 2. Вербальные КФЕ представлены 101 единицей. Эта группа схожа с предыдущей, но в ней основой для сравнения являются не качества или признаки животного, а образ и манера его поведения, действия. Например: arbeiten wie ein Stier (‘работать как вол’), aufpassen wie ein Luchs (‘быть все время начеку’). Анализируя структуру единиц, входящих в эту группу, можно выделить трехкомпонентные ФЕ (то есть ФЕ с минимальным составом компонентов), образованные по элементарной модели Verb wie Sub(Tier), и многокомпонентные ФЕ с достаточно развернутой структурой, например: von (D) angezogen werden wie die Motten vom Licht (‘лететь, как бабочки на огонь’). При этом каждый компонент является обязательным в составе ФЕ. Семантически эта группа неоднородна. ФЕ может характеризовать манеру поведения человека: sich benehmen, wie ein Elefant im Porzellanladen (‘вести себя крайне неуклюже’; ‘быть неуклюжим как медведь’); особенности движения: steigen wie ein Affe (‘быстро подниматься в воздух’), laufen wie eine gesengte Sau (‘мчаться как угорелый’), wie ein vergifteter Affe (rennen, rasen) (‘нестись как угорелый’); специфику речи: schwatzen wie eine Elster (‘трещать как сорока’), plaudern wie Kantors Star (‘трещать без умолку’). Интересно отметить типичные качества некоторых животных, которые легли в основу фразеологизмов и укрепились в языке и в народном сознании. Напри241 мер, образ медведя сопровождается следующими устойчивыми ассоциациями: храпеть, спать, потеть, ворчливый, неуклюжий, здоровый, сильный. Перечисленные лексемы, участвуя в образовании КФЕ, занимают валентное место в модели etw. wie ein Bär. Однако свойства, обозначаемые данными лексемами, не закреплены за медведем в дефиниции, предлагаемой толковым словарем: ‘großes Raubtier mit dickem braunem Pelz, gedrungenem Körper u. kurzem Schwanz’, букв. ‘большое хищное животное с плотным коричневым мехом, приземистым туловищем и коротким мехом’ [Duden]. 3. Субстантивные КФЕ являются самой малочисленной группой, которая представлена 6 единицами. Структурно эти ФЕ могут соответствовать схеме: [Sub haben / machen] wie Sub(Tier). Например: Augen haben wie ein Luchs (‘глаза как у рыси’). Эта модель может быть усложнена только с помощью определяющего прилагательного при зоониме, ср.: Augen machen wie ein (ab)gestochenes Kalb (‘делать судачьи глаза, таращить глаза’). Здесь, как и в описанном выше примере wütend wie ein angeschossener Eber, прилагательное является важнейшим конституентом, конкретизирующим ситуацию. Итак, КФЕ представляют собой весьма сложное, неоднородное явление. Применив предложенную И.И. Чернышевой классификацию КФЕ, мы пришли к выводу, что вербальные фразеологизмы (62%) в значительной степени превалируют над адъективными (35%) и особенно над субстантивными (3%). Это можно объяснить тем, что во всей системе немецких фразеологизмов, как и в немецком языке в целом, глаголу отведено особое место: известно, что глаголы составляют одну треть всего лексического состава немецкого языка. Рассматривая КФЕ в структурном аспекте, можно утверждать, что наиболее распространенными являются элементарные модели ФЕ, содержащие лишь компонент, выражающий сравниваемое свойство (tertium comparationis), и компонент, выражающий так называемый эталон наличия или отсутствия этого свойства. В нашем материале это зооним или лексема, содержащая в своей структуре зооним (comparantum). Представленные модели могут быть усложнены за счет добавления факультативных или облигаторных компонентов. Как правило, в этой роли выступают прилагательные, определяющие зооним. Семантически группа КФЕ представляет собой совокупность описывающих человека метафорических номинаций, которые могут характеризовать как его внутренние качества, свойства его характера, привычки, временные состояния, так и внешние признаки, особенности внешнего вида, поведения, манеры движения, речи. Анализируемые фразеологизмы четко отражают представления нации о том или ином животном, и основываются эти сравнения на длительном наблюдении людей за животными. Библиографический список Располыхина Н.В. Проблема взаимосвязи разнооформленных знаков прямой и косвенной номинации: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984. Степанова М.Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого языка: учеб. пособие. М., 2003. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. М., 1970. 242 Словари Маковский М.М. Этимологический словарь современного немецкого языка. – М., 2004. Мальцева Д.Г. Германия: страна и язык. Landeskunde durch die Sprache: лингвострановедческий словарь. М., 2001. Трессидер Дж. Словарь символов. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks. Источники Бинович Л.Э. Немецко-русский фразеологический словарь. М., 1956. Бинович Л.Э., Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь / под ред. д-ра Малиге-Клаппенбах и К. Агрикола. М., 1975. Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики. М., 1994. Мальцева Д.Г. Немецко-русский фразеологический словарь с лингвострановедческим комментарием. М., 2002. Семенова О.А. 2000 русских и 2000 немецких идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний: словарь с пояснениями и примерами использования. Мн., 2003. С.С. Асирян Особенности корреляции языковой и фольклорной картин мира Язык отражает результаты всей человеческой мыслительной деятельности, являясь при этом самым ее совершенным орудием и способом вербальной материализации. Насколько широко и глубинно человек познает окружающую его действительность, настолько более совершенной становится его картина мира, или индивидуальная когнитивная система. Понятие «картина мира» рассматривается в современной лингвокультурологической и когнитивной парадигмах знания в различных аспектах. Как известно, картина мира – это образ мира, его модель, которая зависит как от свойств мира, так и от уровня исторического развития, интересов и ценностей человека. Как отмечает Е.Л. Мосунов, картина мира, во-первых, «отражает действительные связи человека с миром, которые объективно выражаются в его общественной практике. В связи с этим картина мира выполняет ориентировочную функцию, являясь фундаментальной опорой человеческого существования. Во-вторых, изменения в общественно-исторической практике порождают изменения и в информационном поле культуры, однако в картине мира закрепляются лишь те трансформации, которые имеют продуктивный характер» [Мосунов, URL]. Поскольку каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации мира, постольку языковая картина мира вырабатывает тип отношения человека к миру, задавая нормы поведения человека в мире, определяя его отношение к нему. Г.А. Брутян пишет, что язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира, «во-первых, в его недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у человека. Вовторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры» [Брутян, 1976, с. 111]. Этим объясняется связь ______________ © Асирян С.С., 2009 243 языка и культуры, отражение в языке национальных особенностей, особого видения мира. В.А. Гречко указывает на образную природу представлений о мире: «Языковая картина мира заключает в себе особое мировосприятие и мировидение народа, закрепленное, прежде всего, в базисном понятийно-категориальном составе языка (в лексике, грамматике, словообразовании), а также и в образном представлении окружающего мира, в семантике различных языковых единиц» [Гречко, 2003, с. 62–63]. В языковом знаке закрепляются и реализуются результаты отражательной и мыслительной деятельности человека. По мнению Б.А. Серебренникова, «в результате отражения окружающая нас действительность преломляется через призму языка. Это означает, что знание имеет языковой характер не только в том смысле, что язык выступает как способ осуществления знания, но и в том, что оставляет свой специфический след на знании» [Серебренников, 1988, с. 57–58]. Человеческая деятельность (в том числе ее символическая / культурная составляющая), одновременно и универсальна, и национально-специфична. Поскольку язык отражает тот опыт, который приобретает народ за многие годы существования и творения, можно утверждать, что язык является орудием передачи этнонационального опыта, накопленного столетиями и по-особому обобщенного, в частности, в фольклорной картине мира. Анализируя разножанровые фольклорные тексты, можно получить информацию об этой картине мира. Картина мира динамична, она меняется с изменением культурных, социально-экономических условий, которые обусловливают модификацию как коллективного, так и индивидуального восприятия мира (ближнего и дальнего). Это влечет за собой изменения в восприятии окружающего мира и, соответственно, в картине мира, что находит отражение и в некоторых модификациях фольклорной картины мира. Многоаспектные исследования в области фольклористики в координатах интегративной парадигмы гуманитарного знания помогают установить некоторые нюансы фольклорной картины мира, изучение которой предполагает рассмотрение вербальных и невербальных явлений и фрагментов культуры относительно избранного объекта. Важно отметить, что фольклорная картина мира и менталитет – феномены когнитивного, то есть не семантического, не чисто языкового, а мыслительного или речемыслительного плана. В связи с этим мы солидарны с Н.И. Толстым, который утверждает, что «язык может быть воспринят как компонент культуры или орудие культуры, в особенности, когда речь идет о литературном языке или языке фольклора. Однако язык в то же время автономен по отношению к культуре в целом, и его можно рассматривать отдельно от культуры (что и делается постоянно) или в сравнении с ней, как с равнозначным и равноправным феноменом» [Толстой, 1995, с. 16]. Именно язык фольклора является основополагающим фактором народного менталитета, позволяющим получить более полное представление как о его материальных, так и о духовных богатствах. Во многом именно фольклорная картина мира помогает выявить специфику национального мышления. Так, например, Е.И. Артеменко рассматривает фольклорную картину мира как «ментальный феномен» [Артеменко, URL]. 244 Фольклорная картина мира как часть национальной картины мира находит отражение в разножанровых текстах устного народного творчества. Поскольку язык фольклора отражает коллективный опыт, то под фольклорной картиной мира мы будем понимать всю информацию о запечатленной в ней действительности, о внешнем и внутреннем мире, эксплицируемом различными средствами, в том числе и языковыми. Как отмечает Е.И. Алещенко, «в устном народном творчестве воплощено в языковой форме народное сознание. Оно же выражается и в языковых стереотипах, лежащих в основе фольклорных жанров» [Алещенко, 2008, с. 20]. Человек отражает в языке все то, с чем он прямо или косвенно сталкивается в жизни, что происходит в реальной действительности с ним, с его окружением, или то, что разыгрывается в его воображении в зависимости от окружающего его социума. Каждый народ по-разному и разными средствами фиксирует свое индивидуальное восприятие действительности, которое связано с историческими факторами, национальными особенностями, культурой данного социума, то есть с картиной мира. Изучение фольклорной картины мира строится на выявлении представлений человека о мире через призму его собственной культуры и традиций. Важно иметь в виду, что фольклорная картина мира отличается структурированной и внутренне организованной системностью, которая характерна только для данного явления. Как уже отмечалось, ее можно рассматривать не только как феномен статический, но и как динамически развивающийся. При этом любая фольклорная картина мира имеет свою особую концептуальную структуру, поэтому при изучении фольклорных текстов и их семантическом анализе требуется обращение к экстралингвистическим сведениям – менталитету представителей исследуемой культуры, этнографическим данным и другим культурным артефактам, исследованию того, как менталитет народа отражен в языковых стереотипах. Таким образом, фольклорная картина мира понимается как репрезентация мира, реализуемая посредством фольклорных текстов и по-разному отражающаяся в произведениях различных жанров фольклора. Мир представлен здесь как результат переработки информации о среде и человеке, при этом «фольклорное сознание выступает как идеальная система, призванная примирить реальный мир, каким он дан извне и независимо от человека, с миром желаний, устремлений человека посредством конструирования неких идеальных образов и в результате гармонизировать отношения человека c действительностью» [Венгранович, 2003, с. 59]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что языковая картина фольклорного мира является ценным источником сведений о духовной составляющей народа, самобытности его культуры и способствует сохранению его уникальных традиций. Библиографический список Алещенко Е.И. Этноязыковая картина мира в текстах русского фольклора (на материале народной сказки): автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2008. Артеменко Е.Б. Язык русского фольклора: опыт интерпретации. URL: http://fixed. ru/prikling/conf/stilsist1. 245 Брутян Г.А. Языковая картина мира и ее роль в познании // Методологические проблемы анализа. Ереван, 1976. Венгранович М.А. Фольклорный текст в аспекте специфики фольклорной коммуникации // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. трудов / отв. ред. М.П. Котюрова. Вып. 6. Пермь, 2003. Гречко В.А. Теория языкознания. М., 2003. Мосунов Е.Л. Язык и картина мира. URL: http://science.masu.ru. Серебренников Б.А. и др. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. М., 1988. Толстой Н.И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. О.С. Ладырда Особенности концептуализации действительности в загадке Произведения устного народного творчества представляют собой средоточие народной мудрости, являются отражением уровня развития как знания человека о мире, так и нравственности, духовной стороны жизни. Не является исключением и малый жанр фольклора, загадка, который относится к одному из наиболее древних пластов устной народной поэзии. Хотя в современной жизни этот жанр в значительной мере функционирует в детской субкультуре, отнесение загадки только к детскому фольклору ни в коей мере не исчерпывает всей значимости и сложности этой уникальной формы народнопоэтического воспроизведения реальности. «Загадка – вид устного творчества: замысловатое иносказательное описание предмета или явления, предлагаемое как вопрос для отгадывания; задается с целью испытать сообразительность, развивает способность к поэтической выдумке» [СЛТ, с. 85] – такое определение дано в словаре литературоведческих терминов. Отметим, что изучение этого жанра привело исследователей к мысли, что в определенные эпохи менялось его назначение. В древности он был тесно связан с трудовой деятельностью охотника, скотовода и земледельца. Загадка становилась частью обряда: в загадывании и отгадывании существовал тайный смысл, связанный с желанием людей воздействовать на силы природы, мир животных и растений. Выделяя наиболее показательный признак предмета, явления, люди тем самым хотели проникнуть в тайный смысл вещей. В загадке «запечатлел народ свои старинные воззрения на мир: смелые вопросы, заданные пытливым умом человека о могучих силах природы, выразились именно в этой форме» [Афанасьев, 1982, с. 27]. По мысли А.Н. Афанасьева, именно загадка донесла до современников «частичку древнего метафорического языка» [Там же, с. 26], и многое в окружающем нас мире получило свое название благодаря метафорическому осмыслению действительности. Произведения устного народного творчества сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Фольклор относится к той части словесно______________ © Ладырда О.С., 2009 246 художественной культуры, которая в каких-либо формах существовала и существует у представителей всех этносов независимо от уровня их развития в области литературы. Традиции устного народного творчества не прерываются и по сей день: фольклорные произведения бытуют и в настоящее время, и, оставаясь неотъемлемой и важной частью жизни народа, являются отражением ментальных представлений, этнической психологии. Универсальность и культурная значимость слова в народной поэзии служат залогом многоаспектного изучения, поскольку сама «гносеология прошлых веков онтологична» [Колесов, 1986, с. 15]. Это в полной мере относится и к загадке, так как слово в загадке призвано не только «испытать сообразительность» и развить в человеке «способность к поэтической выдумке» [СЛТ, с. 85], но и научить выявлять признаки, на основе которых произведено сравнение различных объектов мира, и запоминать их. В этом плане очень показательны этнографические свидетельства об особых вечерах загадок, функция которых была не столько развлекательная, сколько поучительная. Это были своеобразные уроки старшего поколения для младшего, именно таким образом происходила передача опыта, знаний, поэтического взгляда на окружающую действительность молодым [Герд, 1928, с. 124]. Трудность и сущность загадки как раз заключается в том, что через аналогию с чемто похожим следует представить некоторый предмет, явление. Часто бывает, что загадка кажется бессмыслицей на первый взгляд, и лишь при более пристальном рассмотрении удается установить замеченное народом сходство. Загадка стала формой выражения вопросов народа о природе тех или иных явлений, предметов, способом познания и осознания мира. «Стройный эпический склад народных загадок, – пишет А.Н. Афанасьев, – необыкновенная смелость сближений, допускаемых ими, и та наивность представлений, которая составляет их наиболее характеристическое свойство, убедительно свидетельствуют за их глубокую древность» [Афанасьев, 1982, с. 27]. Во все времена развития этноса «словарь русского языка накапливал и продолжает накапливать самобытный и духовно-практический опыт народа, воплощая в себе все перипетии его исторической судьбы» [Савельева, 2000, с. 82]. Русский язык, как и любой другой, должен быть осмыслен в качестве исторической памяти народа, как отражение творческой мысли народа. Именно посредством языка происходит приобщение к нравственным, этическим нормам этноса. Поэтому человек как носитель языка должен осознавать спаянность, тесную взаимосвязь образов, заложенных в языке, и предметов духовной и даже материальной культуры. Л.В. Савельева отмечает, что «в сознании человека, как и в сознании этноса, действительность отражается в виде сложной ментальной картины мира. Все существующее в пространстве воспринимается как предметы, именно они составляют основу ментальной картины мира» [Там же]. Ментальная картина русского этноса открывается прежде всего через лексику: в ней закреплены представления о живой и неживой природе, динамике исторического развития, особенностях животного и растительного мира, социального устройства, быта, связях с другими народностями. Словарь русского языка можно назвать сокро247 вищницей знаний о народе. Эту мысль подтверждают и слова А.Н. Афанасьева: «...богатый и можно сказать – единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями» [Афанасьев, 1982, с. 21]. З.К. Тарланов отмечает, что «изучение фольклорного языка в конечном счете ведет к истокам той культуры, которая, будучи этноисторически детерминированной, нашла свое выражение и закрепление в языке» [Тарланов, 1988, с. 14]. При этом он настаивает на том, что «фольклорный язык сам по себе является призванным удовлетворять запросы соответствующих этносоциальных коллективов в тот или иной период, но не хранилищем архаики, индифферентным по отношению к историческим переменам» [Там же]. Сходные мысли высказывают и другие ученые. Так, С.Е. Никитина, рассматривая вопросы языковой личности в народной культуре, подчеркивает, что языковое самосознание является частью культурного самосознания. В свою очередь, «языковое народное сознание – воплощение народного миропонимания в языковой форме, в языковых стереотипах, из которых строятся тексты малых и больших жанров фольклора, участвующих в вербальной коммуникации. Таким образом, лингвистический анализ фольклорных текстов и их функционирования входит в сферу исследования народного языкового сознания» [Никитина, 1993, с. 9]. И в этом отношении следует сказать, что загадка, отражая крестьянское мировоззрение, реальный мир, преломляется в особые поэтические формы, приобретает поэтическую природу и оказывается направленной на выполнение эстетических задач [Аникин, 1959, с. 17]. Поэтому лингвопоэтическое изучение загадки более всего призвано исследовать конкретные механизмы реализации художественных задач этого жанра, а значит вскрывать прагматику и эстетику последнего, устанавливать особенности символизации. Фольклорная символика уже долгое время привлекает внимание исследователей, которые подчеркивают, что едва ли не наибольшая часть образов-символов функционирует именно в жанре загадки, а сам символический компонент значения выступает как принципиально доминирующий. Заметный вклад в исследование загадки внес В.В. Чернышев. Он впервые квалифицировал загадку как текст, представляющий сложное (двухчастное) синтаксическое целое. Будучи построена на основе законов вопросно-ответного диалогического единства [Чернышев, 1988, с. 64–70], загадка является единицей коммуникативного синтаксиса, поскольку функционирует в речи, следовательно, предполагает как минимум двух собеседников. Части загадки, как и элементы диалогического единства, связаны воедино темой, причем «содержание загадки всегда отдалено от конкретной действительности и ассоциируется с мыслью о ней» [Там же, с. 69]. Кроме того, В.В. Чернышев отмечает, что специфика жанра накладывает отпечаток и на структуру загадки, способствуя созданию особого художественного образа, определенного ритма. Анализ образной части показывает многообразие синтаксических структур с достаточно широко используемыми неполными предложениями [Чернышев, 1996, с. 60]. Обратим внимание на то, что о наличии неполных предложений как характерной особенности диалогической речи писал еще В.В. Виноградов [Виноградов, 2005, с. 422]. 248 В.В. Чернышев связывает структурную неполноту загадочной части с ее эстетической функцией создания некой смысловой недостаточности, своеобразной таинственности, алогизма или даже парадоксальности [Чернышев, 1996, с. 37], которые обеспечивают реализацию прагматической функции этого жанра. Исследователи сходятся во мнении, что «с прагматической точки зрения функцией этого текста (загадки) является побудить адресата назвать объект – денотат (отгадку)» [Левин, 1978, с. 283], ср. также: «Загадка – это тот элементарный поэтический жанр, в котором словесный образ живет особенно четко и самостоятельно» [Рыбникова, 1985, с. 180]. К символике фольклорного слова В.В. Чернышев, вслед за В.В. Виноградовым, подходит с позиции предложения. В составе загадки символ локализуется в предложении образной, «загадочной» части. В отгадке же, по В.В. Чернышеву, логически проявляется тип предложения-символа, разрешая жанровое смысловое противоречие. Если реконструировать предложение в отгадке, то станет явно, что отгадка представляет собой реальную картину, хотя апперцептивно вторая реплика является ничем иным, как ответом на скрытый вопрос. Выявить функцию символа в загадке возможно лишь при сопоставлении двух компонентов предложения в образной части и суждения в отгадке. Таким образом, загадка представляет собой текст, с одной стороны, и диалогическое единство, с другой. Некоторые загадки могут полностью копировать структуру предложения отгадочной части, но отличие в том, что отгадка не идет по пути развития своей синтаксической структуры (в этом ее сходство с ответной репликой в диалогическом единстве). Данный процесс сжатия предложения, происходящий в отгадке, можно пронаблюдать на примере глагольных двусоставных предложений. В таких предложениях происходит «утрата» отдельных членов и постепенно остается лишь название предмета, но отгадка ориентирована не на синтаксическую структуру первой части предложения, а на то, чтобы передать наиболее лаконично и точно смысл. Слово, попадая в текст загадки и начиная функционировать в нем, приобретает специфические парадигматические и синтагматические особенности. Отдельные смысловые аспекты могут затемняться, а наиболее важные для разгадывания выдвигаться на первый план. Как отмечает В.К. Харченко, загадки, целиком построенные на иносказании, кажутся легкими, но «поиск отгадки требует довольно высокого уровня развития образного мышления» [Харченко, 1987, с. 77]. Обратимся к примеру: Белоголовая корова в подворотню смотрит. – Месяц. В загадке есть подлежащее, которое является ядерным словом (корова), сказуемое, обстоятельство и определение. Из всех распространителей в синтагматическом плане наиболее значительную роль при разгадывании играет определение. Эпитет, указывающий на цвет (белоголовая), может быть соотнесен с эпитетами, присущими слову-отгадке, например, безжизненно-белый, белый, бледный, бесцветный, светлорогий [Горбачевич, Хабло, с. 125]. Эпитеты, определяющие размер, форму месяца: безрогий, двурогий, комолый, златорогий, светлорогий, скрыто содержатся в семантике слова корова. 249 В парадигматическом плане кодирующее ядерное слово загадки и словоотгадка чаще всего являются контекстуальными синонимами. Перенос значения происходит по сходству внешнего вида, следовательно, перед нами загадкаметафора. По замечанию А.Н. Афанасьева, «для племен пастушеских, а такими были все племена в отдаленную эпоху своего доисторического существования, богатство заключалось в стадах и ими измерялось. Ночь, обыкновенно отождествляемая в мифе с мрачными тучами, называется черною коровою. Олицетворяя ночь с коровою, фантазия могла перенести это представление и на луну как царицу ночного неба; но более вероятно, что луна названа коровою под влиянием старинного уподобления серпа молодого месяца золотым рогам» [Афанасьев 1982, с. 157–158]. У Э.С. Керлота также находим указание на то, что корова может ассоциироваться с луной, показательно также, что многие лунные богини носят рога на голове. Слово, попадая в текст загадки, часто расширяет свое лексическое значение, приобретает переносное значение или дополнительную коннотацию, тем самым способствуя созданию образа, присущего исключительно поэтике загадки. Следовательно, сама загадка, с одной стороны, зашифровывает определенный объект, создавая образы иносказательные, непривычные; с другой стороны, ассоциации, запечатленные в загадке, не являются субъективными и позволяют увидеть суть загадываемого явления. Таким образом, загадка представляет собой своеобразное закодированное представление о мире. Сам жанр дает себе определение, наиболее полно отражающее особенности поэтики: Когда меня не знают, бываю нечто, а как скоро узнают, перестаю быть тем, чем была. – Загадка. Загадка воздействует на слушателя, читателя образным рядом, неожиданными сравнениями, особого рода иносказательностью. Эта эстетическая функция, воздействие на мысли и чувства отгадывающего в свою очередь способствует достижению целей практических: развитию поэтического, образного мышления, передаче знаний об устройстве мира. Библиографический список Аникин В.П. Д.Н. Садовников и его сборник загадок // Загадки русского народа / сост. Д.Н. Садовников. М., 1959. Афанасьев А.Н. Древо жизни. М., 1982. Виноградов В.В. Развитие учения о художественной речи в советскую эпоху // В.В. Виноградов. О теории художественной речи. М., 2005. Герд К.П. К изучению удмуртских загадок // Труды научного общества по изучению Вотского края. Вып. 5. Ижевск, 1928. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. Левин Ю.И. Семантическая структура загадки // Паремиологический сборник. М., 1978. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993. Рыбникова М.А. Загадка как элементарная поэтическая форма // Рыбникова М.А. Избранные труды. М., 1985. Савельева Л.В. Русское слово: конец XX века. СПб., 2000. Тарланов З.К. Актуальные вопросы изучения языка русского фольклора // Филологические науки. 1988. № 2. 250 Харченко В.К. Метафорический строй русской загадки // Русский язык в школе. 1987. № 4. Чернышев В.В. Текст загадки как сложное синтаксическое целое // Язык русского фольклора. Петрозаводск, 1988. Чернышев В.В. Неполные предложения в русской загадке. Петрозаводск, 1996. Словари Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979. Керлот Э.С. Словарь символов. М., 1994. Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. (В тексте – СЛТ.) Д.Р. Валеева Разграничение терминов «концепт», «понятие» и «лексическое значение» в современных концептологических исследованиях Все современные гуманитарные исследования направлены на рассмотрение человека как центральной фигуры в коммуникативном процессе, поэтому они носят антропоцентрический характер. Данная тенденция затронула и лингвистику, в которой активно разрабатывается направление, определяющее язык как культурный код нации, а не просто как орудие коммуникации, познания и средство хранения информации. Основу концептологических исследований составляют такие базовые категории, как «концепт», «понятие», «лексическое значение», которые зачастую взаимоопределяются. Однако, на наш взгляд, данные термины необходимо разграничивать. О целесообразности дифференциации лексического значения и понятия писал еще А.Ф. Лосев, вкладывая свое понимание в эти термины. В частности ученый указывал на то, что «слово может выражать не только понятие, но и любые образы, представления, любые чувства и эмоции и любую внесубъективную предметность» [Лосев, 1982, с. 182]. Кроме того, если значение приравнивается к понятию, то язык оказывается излишним, то есть он попросту превращается в абстрактное мышление понятиями [Пименов, 2000, с. 155]. В сравнении с понятием лексическое значение слова по своему объему, то есть по своей соотнесенности с объектами реальной действительности, является, как правило, более узким, а по своему содержанию – более широким. Из этого следует, что в значениях нескольких слов может фиксироваться одно и то же понятие, но каждое из этих значений способно иметь дополнительные смысловые и стилистические оттенки [Виноградов, 1994, с. 19]. Под лексическим значением слова понимается семантика знака (наивное понятие) и та часть его прагматики, которая включается в модальную рамку толкования [Апресян, 1995, с. 69]. С содержательной стороны лексическое значение – специфическое отражение действительности, минимум дифференциальных элементов (признаков), ______________ © Валеева Д.Р., 2009 251 взятых из соотносительного понятия, достаточных для отграничения данной единицы от других в процессе коммуникации [Новиков, 2001, с. 443]. В значениях представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной общественной практикой. Следовательно, именно в значениях, которые «производятся обществом», но функционируют в деятельности и сознании конкретного индивида, мы можем искать особенности мироощущения и самооценки представителя той или иной культуры [Уфимцева, 1995, с. 243]. Что касается соотношения таких терминов, как «концепт» и «понятие», то необходимо отметить, что по внутренней форме в русском языке данные слова одинаковы: концепт является калькой лат. сonceptus – ‘понятие’ от глагола concipere – ‘зачинать’, то есть букв. ‘понятие, зачатие’ [Степанов, 2004, с. 40]. Понятие же определяется как мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности посредством фиксации их свойств и отношений; последние (свойства и отношения) выступают в понятии как общие и специфические признаки, соотнесенные с классами предметов и явлений [БЭСЯ, с. 316]. На близость концепта и понятия указывают их словарные значения. Так, в «Словаре итальянского языка» Дзингарелли концепт (concetto) – это мысль (pensiero), идея (idea), мнение (nozione). В английских словарях концепт – идея, лежащая в основе целого класса вещей, общепринятое мнение, точка зрения (general notion). Здесь концепт приближается к стереотипу. В современном французском языке концепт также понимается как абстрактная, обобщенная репрезентация объекта [Зусман, 2003, с. 45]. Отметим, что в современных концептологических исследованиях существует две точки зрения, связанные с соотношением терминов «концепт» и «понятие». Так, Д. Лакофф, В.И. Постовалова, А. Вежбицкая в ранних работах и Ю.С. Степанов фактически отождествляют понятие и концепт. В качестве примера можем привести утверждение Ю.С. Степанова о том, что концепт – явление того же порядка, что и понятие [Степанов, 2004, с. 40]. Исследователи проводят аналогию между концептом и содержанием понятия («концепт – это смысл слова») [Горбачук, 2006, с. 292], концептом и значением знака («концепт как идеальное образование представляет собой значение знака, носящее обусловленный характер: универсальный, региональный, национальный, социальный, индивидуальный») [Чистякова, 2004, с. 282–283]. Тем не менее понятие и концепт одинаковы лишь по своей внутренней форме. В понятиях аккумулируется общественно-историческая практика людей, в них подытоживаются знания, накопленные за известный период. «Понятие представляет собой конъюнкцию признаков, манифестированных словарной дефиницией, которые лежат в основе лексического значения слова» [Чернова, 2004, с. 6]. Понятие рассматривается как односторонняя единица, логическая по своей природе. Оно представлено совокупностью наиболее обобщенных признаков, служащих для дифференциации различного рода предметов или феноменов. В отличие от понятия концепт включает любые признаки. Вследствие этого концепт является единицей сублогической [Чернейко, 1995, с. 75], которая «не только мыслится, но и переживается» [Красавский, 2001, с. 43]. 252 Объем концепта шире, чем объем понятия. Недаром ученые-лингвисты называют концепт «многомерным смысловым образованием», «суммарным явлением» [Карасик, 2004, с. 109]. Концепт включает в себя понятие, наряду с «ценностным (нередко образным) представлением о нем человека» [Красавский, 2001, с. 42]. Концепт выступает многослойным образованием, в котором обязательным ядерным компонентом является само понятие. Кроме того, в культурных концептах выделяются образ и ценность [Карасик, 2004, с. 118]. Л.О. Чернейко подчеркивает, что концепт «охватывает все содержание слова – и денотативное, и коннотативное, отражающее представления носителей данной культуры о характере явления, стоящего за словом, взятым в многообразии его ассоциативных связей» [Чернейко, 1995, с. 75]. При этом если в концепте сфокусировано понятие, то есть представления, знания человека об определенном явлении мира, то вполне закономерна их трансформация во временном континууме. Оязыковленный концепт, базирующийся на представлении, понятии и возникающий благодаря существованию последних в сознании, по мере погружения в культурное пространство конкретного этноса приобретает как когнитивный элемент вторичные признаки – образ и оценку [Красавский, 2001, с. 57]. Итак, в содержание концепта в отличие от понятия включаются не только категориальные признаки обозначаемого, но и вся сопутствующая культурнофоновая информация [Михайлова, 2003, с. 187], вследствие чего концепты можно обозначить как «своего роды культурный слой, посредничающий между человеком и миром» [Арутюнова, 1999, с. 3]. Концепт и лексическое значение также следует разграничивать, так как, несмотря на их взаимооднозначное соответствие, концепт связан с окружающей действительностью более непосредственно, чем значение, являющееся лишь его частью. Библиографический список Апресян Ю.Д. Избранные труды. Лексическая семантика. М., 1995. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. Виноградов В.С. Курс лексикологии испанского языка. М., 1994. Горбачук Ю.П. Несколько вопросов, связанных с определением понятия «концепт» // Концепт и культура. Прокопьевск, 2006. Зусман В.Г. Концепт в системе гуманитарного знания // Вопросы литературы. 2003. № 2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: монография. Волгоград, 2001. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982. Михайлова Ю.Н. Об эволюции лексикографического представления концепта // Известия Уральск. гос. ун-та. 2003. № 28. Новиков Л.А. Избранные труды. Проблемы языкового значения. Т. 1. М., 2001. Пименов Е.А. Лексическое значение и концепт // Менталитет. Концепт. Гендер / отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. Landau, 2000. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М., 2004. Уфимцева Н.В. Русские глазами русских // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность: сб. статей. М., 1995. 253 Чернейко Л.О. Гештальтная структура абстрактного имени // Филологические науки. 1995. № 4. Чернова О.Е. Концепт «труд» как объект идеологизации: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004. Чистякова О.Н. Концепт «жизнь» в повести Л. Улицкой «Сонечка» // Русская и сопоставительная филология: лингвокультурологический аспект. Казань, 2004. Словарь Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М., 1998. (В тексте – БЭСЯ.) А.А. Филиппова, С.Л. Мишланова Терминологизация как источник полисемии языкового знака Явление полисемии всегда находилось в центре исследовательских интересов и до сих пор продолжает интересовать не только лингвистов, но и специалистов смежных наук. В данной статье полисемия рассматривается с когнитивной точки зрения. При этом одним из источников полисемии языкового знака рассматривается терминологизация. Исследование полисемии в когнитивном аспекте является актуальным, поскольку открывает новые перспективы ее изучения за счет обращения к таким категориям, как дискурс и концепт. Рассматривая явление полисемии, следует отметить, что традиционно в русской лингвистической науке выделяется три термина, соотносимых с данным феноменом: полисемия, многозначность и неоднозначность. Под полисемией принято понимать «наличие у слова более двух связанных между собой значений» [БЭС, с. 382]. Иногда полисемия выступает в роли синонима многозначности [Там же]. Однако под полисемией понимается, как правило, лишь лексическая многозначность, в то время как многозначность не содержит этого ограничения. Кроме этого под полисемией понимается парадигматическое отношение, то есть факт наличия у слова более одного значения, в то время как многозначность может быть и синтагматической. Таким образом, многозначность рассматривается шире, чем полисемия. Перечисленные различия относятся также к прилагательным: полисемичным может быть только слово как единица словаря, а многозначным в свою очередь может быть выражение и целое высказывание. Помимо многозначности и полисемии существует еще неоднозначность языкового выражения или речевого произведения, под которой понимают наличие у него одновременно нескольких разных смыслов [Зализняк, 2006, с. 20–21]. Иными словами, если значения слова зафиксированы в статье словаря, следовательно, можно говорить о полисемии слова. Если же в дискурсе контекстуально выявляются несколько значений одной и той же единицы, то есть лексема многозначна, но в словаре этот факт не зафиксирован, то речь идет о многозначности лексемы. Таким образом, многозначность предшествует полисемии, поскольку она возникает в речи. Однако неоднозначность полисемии усугубляется еще тем, что в лингвистической литературе кроме существующих понятий «многозначность», «полисемия», «неоднозначность» ______________ © Филиппова А.А., Мишланова С.Л., 2009 254 вводится другое понятие – «вариативность». При этом под вариативностью понимают «1) представление о разных способах выражения какой-либо языковой сущности как об ее модификации, разновидности или как об отклонении от некоторой нормы; 2) термин, характеризующий способ существования и функционирования единиц языка и системы языковой в целом» [БЭС, с. 80]. Таким образом, очевидно, что многозначность представляет собой сложное явление, характеризующееся вариативностью проявлений. При этом следует отметить, что в большинстве работ нет четкого разграничения между полисемией и многозначностью. По-видимому, отсутствие в лингвистической литературе четкой дифференциации понятий «многозначность» и «полисемия» связано с тем, что данные понятия определялись на основе исследования системы языка (то есть лексикографических источников, словарей). При этом допускалась полисемия общеязыковой лексики, а термину предписывалась однозначность. Обращение к категории дискурса позволяет уточнить, что одним из источников полисемии языкового знака считается терминологизация, когда к общеязыковому значению лексической единицы добавляется специальное, и сама лексическая единица переходит в терминологию. Следует отметить, что из всех лингвистических проблем одной из самых сложных и многоаспектных представляется феномен терминологизации, поскольку терминологизация отражает отношения между термином и словом. Однако данный феномен не получил должного освещения, поскольку термин по свой природе противоречив [Алексеева, 1998, с. 11] и, как следствие, не имеет однозначного толкования. В широком понимании термин представляет собой языковой знак, функционирующий в языке науки и являющийся особым объектом в терминоведении. История терминоведения за свое короткое, но бурное развитие пережила несколько этапов. Важно при этом, что на каждом из них кардинально менялось представление о термине. Вследствие этого понятие терминологизации также понималось по-разному. В рамках традиционного подхода терминологизацию определяли как процесс перехода общеупотребительного слова в термин [БЭС, с. 508]. Таким образом, в поле зрения исследователей оказывался, как правило, только один шаг – специализация значения общеязыкового знака, и при таком понимании терминологизации термин считался однозначным. В развитие терминоведения большой вклад внесли отечественные лингвисты и терминологи – Д.С. Лотте, Г.О. Винокур, А.А. Реформатский, Л.Л. Кутина, Л.А. Морозова, В.Ф. Новодранова, В.М. Лейчик, В.А. Татаринов, А.С. Герд, С.В. Гринев, В.П. Даниленко, А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева, Л.М. Алексеева и др. Были предприняты многочисленные попытки периодизации научных этапов. В одной из обобщающих работ по терминологии В.М. Лейчика предлагается периодизация отечественного терминоведения, в которой описывается новый – четвертый – этап истории данной дисциплины, связанный с развитием когнитивной науки [Лейчик, 2006, с. 225]. Среди общепринятых классификаций по истории терминоведения в рамках настоящего исследования оптимальным представляется рассмотрение классификации, состоящей их трех этапов [Алексеева, Мишланова, 2002, с. 12]. Примечательно, что 255 данная классификация коррелирует с историей лингвистики, в частности, соотносится с ее структурной, функциональной и когнитивной парадигмами. Следует подчеркнуть, что обращение к истории терминоведения в настоящем исследовании предпринимается с целью выявления динамики представления о термине, что в свою очередь позволит уточнить роль терминологизации в развитии полисемии языкового знака. Итак, началом первого этапа развития терминоведения, получившего название классификационного терминоведения, послужили работы Д.С. Лотте, в которых термин рассматривался как особое слово [Лотте, 1961, с. 6]. Специфика данного периода не в последнюю очередь определялась тем обстоятельством, что в качестве терминологов выступали, как правило, не лингвисты, а специалисты в различных областях частнонаучного знания, поскольку считалось, что терминосистема отражает систему понятий и логику конкретной науки, доступную пониманию лишь узкому специалисту. Второй период получил название функционального направления терминоведения. Основное его отличие от предыдущего периода проявилось при характеристике термина в работе Г.О. Винокура «О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии», в которой утверждалось, что «в роли термина может выступать всякое слово, как бы оно ни было тривиально, и что термины – это не особые слова, а только слова в особой функции» [Винокур, 1939, с. 8]. Наиболее значимым достижением данного периода считается признание термина лингвистическим объектом, что позволило снять жесткое разграничение термина и слова как взаимоисключающих сущностей и, напротив, обнаружить лингвистическую сущность термина как частного случая слова [ОТЭС, с. 73]. Следует отметить, что в рамках функционального направления в терминоведении стали проводиться исследования в историческом аспекте, при этом повысилась значимость экстралингвистических факторов в развитии термина [Кутина, 1966; Скороходько, 1974; Герд, 1980]. Важной вехой в рамках функционального направления терминоведения стала статья В.М. Лейчика «О языковом субстрате термина», фундаментальный тезис которой заключался в том, что термин «образуется на основе лексической единицы определенного естественного языка, то есть лексическая единица этого языка является субстратом термина» [Лейчик, 1986, с. 89]. Таким образом, в рамках данного периода сложилось представление, что для термина характерна лингвистическая сущность, поскольку он представляет собой производное слово. Эта идея развивалась далее в работах Л.М. Алексеевой, при этом принципиально новым для теории термина стало положение, что «термин всегда порождается на основе актуализированной и потенциальной дефиниции», то есть термин является производным от дефиниции [Алексеева, 1998, с. 40]. Значимым итогом функционального периода стало признание термина языковым знаком. В отличие от предыдущего периода термин стал изучаться с лингвистических позиций [Даниленко, 1977; Лейчик, 1986; Алексеева, 1998]. При этом следует отметить, что методологическим решением данного периода признается формирование динамического подхода к исследованию термина [Алексеева, 1998, с. 4]. 256 Третий период терминоведения определяется как когнитивное терминоведение. Его появление было связано с утверждением в лингвистике антропоцентрической парадигмы. Суть данного направления заключается в учете человеческого фактора в формировании и функционировании системы языка [Кубрякова, 1995, с. 212]. Поскольку терминоведение является направлением лингвистики, оно принимает все характеристики, присущие лингвистической науке. Именно поэтому усилия терминологов были направлены на выявление когнитивных основ теории, термин при этом стал рассматриваться с когнитивной точки зрения [Лейчик, 2006; Манерко, 2002; Новодранова, 1997; Алексеева, Мишланова, 2002; Ивина, 2003]. Было обнаружено, что когнитивному терминоведению, как и когнитивной лингвистике в целом, присущи такие качества, как интегративность, экспансионизм, антропоцентризм и экспланаторность. Антропоцентризм при этом понимается как направление, при котором язык рассматривается в аспекте сущностных характеристик человека. Кроме этого, в методологический аппарат терминоведения вводятся такие категории, как дискурс, концепт, фрейм, языковая личность [Алексеева, Мишланова, 2002, с. 6]. В русле современного когнитивного терминоведения термин представляет собой «динамическое явление, которое рождается, формулируется, углубляется в процессе познания (когниции), перехода от концепта – мыслительной категории – к вербализованному концепту, связанному с той или иной теорией, концепцией, осмысляющей ту или иную область знания и (или) деятельности» [Лейчик, 2006, с. 21]. Таким образом, в результате эволюции представлений о термине – от статичного, особого слова, через признание его лингвистической сущности и динамической природы в рамках когнитивного подхода – под ним стали понимать языковой знак, значение которого отражает определенные этапы познания. При этом термин развивается в дискурсе за счет постоянного приращения нового знания. В свою очередь, новое знание формируется в процессе развития профессиональной компетенции личности, или концептуализации, в постоянно усложняющихся видах деятельности [Алексеева, Мишланова, 2002, с. 7]. Понимание логики развития терминоведения и, соответственно, эволюции представлений о термине необходимо для осмысления феномена терминологизации. В самом общем смысле понятие терминологизации было определено как переход слова из общеязыковой лексики в специальную; принято считать, что при переходе слова в термин его значение специализируется, и как следствие, словом утрачиваются все его прежние связи с синонимами и антонимами [Реформатский, 1967, с. 112]. По-видимому, данное понимание терминологизации соотносится с образованием термина в момент зарождения науки (создания первой научно обоснованной теории) и, следовательно, позволяет рассматривать термин в соответствии с критериями первого периода терминоведения. Напомним, что термин при этом трактуется как не изменяющийся и не развивающийся знак. Однако, исходя из логики развития эволюции термина, следует предположить, что при современном понимании термина как явления динамического под терминологизацией необходимо понимать нечто иное. 257 Если мы допускаем, что наука развивается, то мы должны признать, что у терминов тоже могут развиваться значения. Таким образом, можно предположить, что терминологизация – это не только процесс перехода слова из общеязыковой лексики в специальную, но и последующее его развитие как термина. А это развитие, то есть появление у термина новых значений, приводит к возникновению полисемии. Допущение полисемии термина является правомерным в силу закона асимметрии языкового знака. В лингвистической литературе утвердилось мнение, что термин однозначен и, по-видимому, это базировалось на понимании терминологизации как одномоментного перехода слова в термин. При этом следует отметить, что представление о терминологизации термина в терминоведении не было сформировано и не подлежало обсуждению. Противоречие между требованием однозначности термина и наличием у термина нескольких значений вследствие терминологизации термина, по-видимому, обусловлено асимметрией знака. Данное явление впервые получило убедительное объяснение в работах С.О. Карцевского [Карцевский, 1965, с. 88–89]. Концепция асимметрии базируется на понимании языкового знака как двусторонней единицы. В современном понимании данный закон трактуется как нарушение взаимооднозначного соотношения означаемого и означающего, что приводит в парадигматическом плане к образованию полисемии [БЭС, с. 47]. Мы считаем, что возможна следующая модель терминологизации. Итак, первоначально языковая единица имеет конкретное значение. Затем в ходе развития языка она может приобрести абстрактное значение. Поскольку известно, что абстрактное значение имеет неопределенно широкую семантику, то существует вероятность переноса абстрактного значения языковой единицы в специальную сферу или несколько специальных сфер, где данная языковая единица может приобрести специальное значение, то есть значение термина. Однако процессы терминологизации могут продолжаться далее, и в ходе развития знака возможна конкретизация специального значения, то есть развитие значения языковой единицы, в результате чего из основного специального значения могут развиться несколько значений. При этом следует отметить, что данные образовавшиеся значения могут быть не просто специальными, но также и специальными переносными и специальными абстрактными, из которых тоже могут развиться новые другие значения. Как известно, наличие нескольких специальных значений приводит к явлению многозначности или полисемии термина. Однако при этом целесообразно уточнить понятия многозначности и полисемии термина. Если значения термина представлены в рамках одной словарной статьи, то речь идет о полисемии термина. Если значения термина выявляются в дискурсе и при этом не зафиксированы в рамках одной словарной статьи, то можно говорить только о многозначности термина. Следует отметить, что традиционно полисемия понималась как разновидность семантических отношений в системе языка (наряду с синонимией, омонимией, антонимией и др.), однако в когнитивных исследованиях появляется возможность рассматривать семантические отношения как экспликацию разных этапов терминологизации (развития языкового знака в дискурсе). В частности, выявлено, что 258 полисемия термина формируется в результате ранее устанавливающихся отношений моносемии лексической единицы, ее полисемии, омонимии, распада омонимии с утратой одного из омонимов, затем моносемии термина и его многозначности в дискурсе. Поскольку в дискурсе (вербально опосредованной деятельности в специальной сфере) происходит формирование концепта и осуществляется его вербализация (в виде совокупности текстов, репрезентирующих данный концепт и, соответственно, внутриотраслевой синонимии), то множество репрезентирующих данный концепт значений можно рассматривать как внутриотраслевую полисемию. Таким образом, если в докогнитивных концепциях понятия «полисемия» и «многозначность» либо отождествлялись, либо противопоставлялись как феномены, свойственные, соответственно, системе языка и речи, то с позиций когнитивного терминоведения дихотомия «язык / речь» снимается обращением к категории дискурса; при этом речь идет о многообразии способов репрезентации всех видов частнонаучного знания / концепта (термин является одним из способов вербальной репрезентации концепта), что приводит к формированию внутриотраслевой полисемии. В заключение необходимо подчеркнуть, что с когнитивных позиций терминологизация понимается как двухэтапный процесс. При этом первый этап, заключающийся в переходе единицы языка из общеязыковой лексики в специальную, является общепринятым, то есть традиционным, а второй этап, предлагаемый нами, является новым и понимается как последующее развитие языкового знака в специальной сфере, за счет чего возможно развитие внутриотраслевой полисемии. Более того, становится возможным исследование полисемии термина в синхронии и диахронии [ОТЭС, с. 141–142]. В синхронии полисемия термина представляет собой одно из языковых средств выражения концептуальной структуры отрасли и ее места в материальной культуре общества. Диахронические исследования полисемантизма терминологии проливают свет на динамику и взаимообусловленность категориального мышления специалиста и наличия некоторого типа терминов-полисемантов в определенной сфере. Библиографический список Алексеева Л.М. Проблемы термина и терминообразования. Пермь, 1998. Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь, 2002. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды МИФЛИ: сб. ст. по языкознанию. Т. 5. М., 1939. Герд С.А. Еще раз о значении термина // Лингвистические аспекты терминологии. Воронеж, 1980. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. М., 1977. Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы ее представления // Studia philologica. М., 2006. Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования). М., 2003. Карцевский С.О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях: в 2 ч. Ч. 2. М., 1965. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. М., 1995. 259 Кутина Л.Л. Формирование терминологии физики в России. М., 1966. Лейчик В.М. О языковом субстрате термина // Вопросы языкознания. 1986. № 5. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2006. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961. Манерко Л.А. Основы концептуального интегрирования ментальных пространств // Текст и Дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования. Рязань, 2002. Новодранова В.Ф. Когнитивный подход к изучению терминологии // Терминоведение. 1997. № 1–3. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967. Скороходько Э.Ф. Семантические связи в лексике и текстах // Вопросы информационной теории и практики. 1974. № 23. Словари Татаринов В.А. Общее терминоведение: энциклопедический словарь. М., 2006. (В тексте – ОТЭС.) Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1998. (В тексте – БЭС.) Н.В. Анисимова Русская метеорологическая терминология в историческом аспекте Современная метеорологическая терминология обнаруживает исключительно своеобразную структурно-семантическую организацию. Она сформирована на основе общеупотребительной лексики. Такое проникновение общеупотребительных слов в научную терминологию свойственно терминосистемам и других наук (геологии, медицины и др.), однако в области метеорологии оно «происходит наиболее интенсивно по причине “общезначимости”, “общеактуальности” ее реалий» [Щербакова, 1983, с. 109]. В содержании ряда метеорологических терминов значим наглядно-чувственный компонент, причем в некоторых случаях он становится основным компонентом понятийного содержания термина (например, термины Международной классификации облаков: перистые облака, слоистые облака, кучевые облака и др.). Кроме того, в рамках метеорологической терминологии выделяются неактуальные для других наук термины категории пространственных сфер, например: антициклон – ‘область повышенного атмосферного давления’ (ЭСГТ, с. 19); фронт атмосферный – ‘переходная зона между двумя воздушными массами с разными физическими свойствами’ (ЭСГТ, с. 406). Термины данной категории отражают понятия, связанные с определением пределов распространения тех или иных атмосферных явлений (о категориях терминов см. [Лотте, 1968; Канделаки, 1977]). Вместе с тем научная метеорологическая терминология как система не становилась объектом специального лингвистического исследования – синхронного или диахронного, хотя общеупотребительная и диалектная метеорологическая лексика изучена достаточно подробно (Т.В. Горячева, В.М. Касьянова, М.А. Лазарева, О.А. Ма______________ © Анисимова Н.В., 2009 260 кушева, Т.С. Нифанова, Т.В. Симашко, Л.Р. Супрун-Белевич, Н.В. Хохлова, Л.Е. Щербакова и др.). Появление научной терминологии неотделимо от появления науки. В истории метеорологии выделяется 2 крупных периода: доинструментальный и инструментальный [Очерки, 1997]. С началом использования измерительных приборов (первая половина XVIII в.) метеорология приобретает статус науки (уже М.В. Ломоносов считал метеорологию самостоятельной наукой [Хромов, Петросянц, 2001, с. 27]), и именно к этому времени относится начало становления научной метеорологической терминологии. Практически все исследователи истории языка науки отмечают XVII–XVIII вв. как время зарождения собственно научных терминологий. В качестве причин этого процесса в основном называется развитие наук, формирование их понятийной системы и, как следствие, соотнесение термина с дефиницией, появление дефиниций аналитического и синтетического типа [Рупосова, 1994], складывание родо-видовых отношений между терминами [Марченкова, 1987]. Специфику эволюционного развития метеорологической терминологии невозможно выявить без учета предшествовавшей ей и ставшей ее источником метеорологической лексики, отразившей «доинструментальные» представления человека о природе. Поэтому в данной статье рассмотрим особенности фиксации сведений о погоде в период до начала XVIII в. Традиция наблюдений за погодой уходит в глубокую древность. Состояние атмосферы имело большое значение в практической деятельности крестьянина. В результате многовековых наблюдений складывается народная «служба погодоведения» [Очерки, 1997, с. 9]. Выявленные народом закономерности оформились как народные приметы – первые эмпирические попытки предвидения погоды. С XI в. началась письменная регистрация состояний погоды. Русские летописи, «Дневальные записки Приказа тайных дел 7165–7183 гг.», «Походные журналы Петра Великого» с документальной точностью отражают природные явления, наблюдавшиеся в разное время на разных территориях. И это делает памятники XI – начала XVIII вв. интересными не только историкам языка, но и метеорологам, которые на основе содержащихся в них сведений восстанавливают климаты прошлого [Борисенков, Пасецкий, 1988]. До XVIII в. еще не сложились особые, отличные от обыденных, представления об атмосферных процессах, следовательно, не было и специальных средств их выражения. Явления природы в документах этого периода фиксируются посредством исконной общеупотребительной лексики: дождь, снег, ветер, мороз, зной, ведро и др. Общеупотребительные номинации имеют обобщенный характер, поэтому обычно они конкретизируются в контексте, причем в памятниках разных лет обнаруживаются некоторые различия в способах формирования описательного контекста, и эти различия фиксируют процесс эволюции как метеорологических знаний, так и средств их выражения. Летописи насыщены описаниями различных явлений природы – от выпадения осадков до затмения солнца и появления комет. Для обозначения природных явлений используются слова дождь, снег, ветер, буря, вихрь, въялица (виалица), гроза, гром, молния, туча, облако, трус (‘буря и волненье, лютованье 261 стихий’ Даль, т. 4, с. 725). Нет прямых номинаций световых явлений. Северные сияния, гало, ложные солнца подаются обычно как знамения, например, о гало: Áûñ çíàìåíü~ â ñîëíöè. wãîðîäèëîñ# á#øå ñëíöå. â òðè äóãû. è áûøà äðóãè# äóãú õðåáòû ê ñîáh (ПСРЛ, т. 1, с. 276); о ложных солнцах: Òîh æå çèìû áûñòü çíàìåíià íà íåáåñè: òðè ñîëíöà íà âîñòîöh, à ÷åòâåðòîå íà çàïàäè, à ïîñðåäè íåáåñè àêè ìhñÿöü âåëié ïîäîáåíú äóçh, è ñòîàøå çíàìåíià òà îòú óòðà äî ïîëóäíiÿ (ПСРЛ, т. 10, с. 36). Особая наглядность описаний световых явлений достигается использованием метафор и сравнений, например, о северном сиянии: …â òî æå ëhò áûñ çíàìåíü~ íà íá7ñè <…> Àêû ïîæàðíà" çàð# ^ âúñòîêà è qãà è çàïàäà è ñhâåðà è áûñ òàêî ñâhòú âñþ íîùü. àêû ^ ëóíû ïîëíû ñâhò#ùüñ#. â òî æå ëhò áûñ çíàìåíüå â ëóíh (ПСРЛ, т. 1, с. 276); Òîãî æå ëhòà áûñòü çíàìåíià íà íåáåñè ñòðàøíû: ñòîÿõó óáî âú íîùè íà âîçäóñh ÿêî ïîëêú âîèíñêûé íà ïîëóäíià, òàêîæå è íà ïîëóíîùiå (ПСРЛ, т. 10, с. 168); …îòú ïîëóíîùià è äî ñâhòà ÿâèøàñÿ ñòîëïè, à êîíåöü èõú âú âåðõó àêè êðîâü è áÿøå ñòðàøíî âèähòè (ПСРЛ, т. 11, с. 186). Для обозначения температуры воздуха и общего состояния атмосферы используются в основном имена существительные: мороз (мраз), стужа, студень, холод, непогода, жара, зной, ведро, тепло. Частотны сочетания с оценочными словами: дни злии, зима зла, зима люта, тепло добре, погода велика и др. В таких сочетаниях оценочность определения обычно нейтрализуется, и они используются как способы прямого обозначения хорошей / плохой, теплой / холодной погоды. Вплоть до XVII в. наблюдения за погодой велись нерегулярно. Интерес к погоде был определен ее влиянием на человека, поэтому внимание летописцев приковано в основном к экстремальным явлениям природы, которые обладают разрушительной силой, вызывают голод, пожары, эпидемии. Соответственно особенно часто в летописях используются слова и словосочетания, называющие стихийные бедствия: наводнения (поводь, вода велика), засуху (засуха, сухмень), ураганы (буря велика). Землетрясения обозначаются предложениями типа земля стукнула, тряслася земля, потресесе земля и др. Описания экстремальных явлений природы обычно эмоциональны, снабжены оценочными определениями: Òîãî æå ëhòà áûñòü ñóõìåíü âåëià ïî âñåé çåìëh è âúçäóõú êóðÿøåñÿ è çåìëÿ ãîðÿøå (ПСРЛ, т. 11, с. 186); Òîãî æå ëhòà ïîâîäü áûñòü ñèëíà (ПСРЛ, т. 10, с. 178); Òîãî æå ëhòà áûøà ãðîìè âåëèöû, è ìëúíià, è âhòðè ñú âèõðîìú ñòðàøíè (ПСРЛ, т. 10, с. 161); È ïðièäå íà íåãî òó÷à ñòðàøíà è ãðîçíà âåëìè, ç ãðîìîìú âåëèêèìú è ñú ìîëíiàìè îïîëÿþùèìè (ПСРЛ, т. 12, с. 7). Оценка, вызванная восхищением, тоже находит отражение в летописях: …è íà òó íîùü äèâíî áûñ çíàìåíüå íà íá7ñè (ПСРЛ, 1, с. 306) – о северном сиянии. В XVII в. начались регулярные наблюдения за погодой. В 1650 г. царь Алексей Михайлович приказал ежедневно заносить сведения о погоде в «Дневальные записки Приказа тайных дел». Эти записи (всего их в опубликованных «Дневальных записках», относящихся к 1657–1675 гг., более 2000) очень краткие, обычно состоят из одного предложения. Они лишены той красочности и эмоциональности, которая была свойственна летописям, достаточно обобщенны, стандартны, например: I в тот день i в ночи был мороз (ДнЗ, с. 1); И тот день был пасморен и теплъ, а в ночи было тепло же (ДнЗ, с.11); I в тот во весь день шол дождь с перемhшкою и вhтрено (ДнЗ, с. 126) и т.п. 262 Явления природы обозначаются общеупотребительными словами снег, ветер (ветр), буря, дождь, туча, гром, молния (молонья), туман и др. Температура воздуха и общее состояние атмосферы фиксируется существительными мороз, оттепель, однако чаще используются краткие прилагательные холоден, морозен, тепл, ведрен, оттепелен, пасморен, красен и слова категории состояния холодно, тепло, ведрено, пасморно, красно, студено, морозно, дождливо. Описание погоды обычно строится по формулам: день (ночь) был холоден / тепл / красен и под.; и в тот день (ночь) было холодно / тепло / красно и под. Таким же способом подаются сведения о ветре: А день был ведрен i вhтрен, а в ночи было тепло (ДнЗ, с. 4); I в тот день было пасмурно i вhтрено, а ночью потому же вhтрено и былъ дожжикъ небольшой (ДнЗ: 113). Безветренная погода обозначается словом тих: И тот ден до обhда был ведрен и тих, а после обеда красен да вhтренъ (ДнЗ, с. 23). Интересно отметить, что наиболее подробно описываются осадки. Фиксируется их тип, обильность, характер, а также время и длительность их выпадения. Тип осадков обозначается словами дождь, снег, град. Иногда дается дополнительная характеристика: и шол снhг во всю ноч мокрой (ДнЗ, с. 3); а въ 11-м i во 12-м часhх шол дождь великъ и градъ в орhх (ДнЗ, с. 140). Для указания на обильность выпадения осадков обычно используются прилагательные велик, силен, большой / не велик, маленькой, небольшой. При характеристике дождя применяется глагол накраповать, который указывает на незначительную силу проявления этого типа осадков. Также небольшие осадки часто обозначаются словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами: дождик (с вариантами дожжик, дозжик, доздик), снежок. Нередко все эти способы применяются в одном контексте: а с полуночи накраповал дозжик не велик (ДнЗ, с. 18); а ночью морозъ и шол снежокъ невеликъ (ДнЗ, с. 235). В отдельных случаях обозначается количество выпавших осадков: i за два дня пошол снhг и шол во всю ночь с перемhшкою; а выпало снhгу в четверть аршина и болши (ДнЗ, с. 7). Характер выпадения осадков фиксируется стандартной формулой с перемешкою / без перемешки, например: а в ночи былъ дождь с перемhшкою (ДнЗ, с. 101). Другие способы обозначения этого признака, например: I в тот день шол дождь беспрестани окладной (ДнЗ, с. 182) – используются редко. Время и длительность выпадения осадков обозначается за счет указания на точное время (промежуток времени) с помощью числительных или за счет указания на время суток (утро, вечер и т.п.): и шол дождь великъ с полчаса, и потом шол не велик (ДнЗ, с. 21); а съ 6-го часу шел дождь великъ зъ 2 часа (ДнЗ, с. 28); и шел снhг с вечера (ДнЗ, с. 118). Описание остальных атмосферных явлений и процессов предельно обобщенно. Указывается обычно только сила их проявления: ветер велик / невелик, мороз велик, непомерно лют / невелик, небольшой, гром велик, буря велика и т.п. Для обозначения явлений небольшой силы используются уменьшительно-ласкательные формы: I в тот день было тепло, а в ночи был морозец не великъ (ДнЗ, с. 7); И тот день был ведренъ и красен, i вhтрецъ небольшой был же (ДнЗ, с. 27). 263 В некоторых контекстах фиксируется облачность. Сплошная облачность обозначается через характеристику дня: Марта въ 7 день в суботу был день серой (ДнЗ, с. 5); I в тот день было пасмурно и холодно, а в ночи дождь (ДнЗ, с. 187). Отдельные облака на небе отмечаются только как предвестники осадков: I в тот ден было ведрено, а за 2 часа до вечера была туча велика, и громъ, и молния, и дождь и шол силен с час (ДнЗ, с. 27); И тот день был ведрен и красен, а в 11-м часу дни находили тучки и был дожжик мал (ДнЗ, с. 97); I в тот день было до полудни ведрено, а с полудни ходилi тучи и шол дождь с перемешкою (ДнЗ, с. 222). «Дневальным запискам» по стилю и содержанию метеорологических записей близки «Походные журналы Петра Великого» (1695–1724 гг.), в которых сведения о погоде сопровождают описание деятельности Петра I, его военных походов и путешествий. Погодные записи здесь лаконичны, однотипны, нередко строятся по тем же формулам, что и в «Дневальных записках», например: въ день былъ дождь, а въ ночь было тихо (ПЖ 1695, с. 3); День былъ красенъ и дождь съ перемhжкою (ПЖ 1698, с. 16); была немалая оттепель и 2 дни былъ великiй снhгъ въ Москвh (ПЖ 1708, с. 33); Въ 4-мъ часу пополудни былъ громъ съ молнiею (ПЖ 1712, с. 44); День съ утра былъ вьюженъ (ПЖ 1723, с. 2) и др. Вместе с тем можно заметить, что со временем увеличивается детальность описания погоды: в журналах последних лет содержатся ее развернутые характеристики. Особенно внимателен к погоде был сам Петр I: Было мрачно и тепло съ дождемъ; о полудни временемъ солнце было видно; ледъ тронулся въ третьемъ часу пополудни. Вhтръ былъ зюйдъ-остъ, и зюйдъ и зюйдъ-вестъ; морозу не было ни ночью, ни въ день, но дождики перепадали съ тепломъ. Съ прihзду нашего морозы когда были только съ утра, а въ полдни всегда таяло, какъ холодно отъ норда и нордъ-веста не было; а въ вечеру никогда морозу не было, также нордъ-вестъ хотя и холоденъ былъ (ПЖ 1721, с. 3). Иногда выражаются эмоциональные оценки: былъ великой громъ съ молнiемъ, отъ чего былъ и страхъ немалой (ПЖ 1705, с. 8); И во всю ночь оной штормъ продолжился и приключалъ великой страхъ (ПЖ 1714, с. 74); Въ 9-мъ часу пополудни былъ страшной знакъ на небh (о северном сиянии) (ПЖ 1716, с. 18). Через эмоциональную характеристику обозначается и общее состояние погоды: Невесело; ветръ былъ зюйдъ-зюйдъ-остъ (ПЖ 1721, с. 1); Съ утра къ полудню было мрачно (ПЖ 1721, с. 1); и перепадали дождики и сумрачно (ПЖ 1721, с. 3). Различные атмосферные процессы (осадки, ветер и проч.) обычно характеризуются по силе проявления: …поутру рано былъ великiй туманъ (ПЖ 1695, с. 35); …вhтръ былъ о полудни среднiй (ПЖ 1715, с. 1); …тогда и нарочитой дождь былъ (ПЖ 1722, с. 120); День былъ посредственной и небольшая метель (ПЖ 1723, с. 5). Особенно часто используется прилагательное великий. Оно актуально при описании снега, дождя, града, тумана, мороза, оттепели, ветра, метели, вьюги, шторма, грома. Активно применяется дополнительное средство определения силы – наречия меры и степени: такожъ былъ негораздо великой громъ (ПЖ 1704, с. 8); вhтръ зhло крhпкой былъ (ПЖ 1722, с. 68). Для обозначения атмосферных явлений и процессов небольшой силы используются уменьшительно-ласкательные формы: Въ ночи былъ небольшой дождикъ (ПЖ 264 1695, с. 36); а пополудни самой малой вhтерокъ (ПЖ 1719, с. 8); и во весь день былъ морозецъ (ПЖ 1724, с. 35) и др. Особенно разнообразны в «Походных журналах» характеристики силы (скорости) ветра: великий, крепкий, крепчайший, жестокий, сильный, сильноватый, средний, небольшой, слабый, тихий, легкий. Этот признак проявлен и в динамике: с 1713 г. регулярно фиксируются изменения силы ветра, для чего используются степени сравнения и глаголы, например: и къ вечеру тотъ вhтръ сталъ легче (ПЖ 1713, с. 21); къ вечеру тотъ вhтръ сталъ тише (ПЖ 1715, с. 17); Вhтръ былъ тотъ же, но с полуночи сильнhе сталъ (ПЖ 1719, с. 15); Съ полуночи и до полдень вhтръ былъ сильной, <…> а къ ночи поотихъ (ПЖ, 1719 с. 14); По утру малой вhтръ, а предъ полуднемъ сталъ крhпче, <…> къ вечеру стихло (ПЖ 1721, с. 8); Вhтръ по утру прибавливался (ПЖ 1723, с. 25) и др. С 1719 г. применяются заимствования из голландского языка лабаркулт – ‘легкий ветер’ (от голл. labberkoelte), брамзейлькулт – ‘слабый попутный ветер’ (от голл. bramzeilkoelte), марсзейлькулт – ‘средний ветер’ (от голл. marszeilkoelte), а также менее распространенные марсарифкулт, марсакулт, штарк марсакулт, штейф-марскулт, гардекулт, например: Ветръ былъ <…> силою марсзейлькултъ (ПЖ 1719, с. 12). Некоторые из этих терминов соотносят силу (скорость) ветра с его способностью надувать те или иные паруса: брамсель (от голл. bramzeil) – ‘прямой парус, ставящийся над марселем на брамстеньге, то есть на третьем колене мачты, считая стеньгу вторым’ [СМЖ, с. 53]; марсель (от голл. marszeil) – ‘второй снизу парус трапециевидной формы на судах с прямым парусным вооружением’ [СМЖ, с. 232]. Определяясь через потребности практической деятельности человека, сила ветра получает четкую градацию. Некоторые из этих терминов Петровской эпохи (правда, в несколько измененном виде) входят в состав современной морской терминологии: брамсельный ветер – ‘ровный попутный ветер, при котором судно может идти под всеми парусами без вреда для рангоута’ [СМЖ, с. 73]; марсельный ветер – ‘ветер, при котором парусное судно может нести марсельные паруса’ [СВ, с. 283]. Помимо силы, в «Походных журналах» фиксируется направление ветра, причем для этого используется исключительно заимствованная лексика: наименования основных румбов: норд (от голл. noord), зюйд (от голл. zuiden), вест (от нем. West), ост (от нем. Ost), промежуточных: норд-ост (от голл. noordoost), норд-вест (от голл. noordwest), зюйд-ост (от голл. zuid-oost), зюйд-вест (от голл. zuid-west), наименования румбов между основными и промежуточными (так называемых межников): норд-норд-ост, ост-норд-ост, ост-зюйд-ост, зюйд-зюйд-ост, зюйд-зюйд-вест, вест-зюйд-вест, вест-норд-вест, норд-нордвест, например: а вhтеръ былъ нордъ (ПЖ 1695, с. 3); погода была: великiй вhтръ, былъ остъ-нордъ-остъ (ПЖ 1698, с. 1); потомъ почалъ быть вhтръ зюйдъ-остенъ-остенъ (ПЖ 1714, с. 26). Журналы отразили некоторую фонетическую неосвоенность термина, обозначающего южный ветер. Наряду с основным зюйд, встречаются варианты сюйт, сюдь, зыдень. Используются сочетания с производными от этих наименований словами: День былъ свhтлой, вhтръ отъ вестной кварты (ПЖ 1714, с. 23); Вhтръ во весь день былъ зюйдной квартиры (ПЖ 1718, с. 1); Вhтръ былъ нордной квартиры (ПЖ 1719, 265 с. 19). С 1715 г. применяется сокращенная запись: ONO; тихо (ПЖ 1715, с. 18) ZW, ZO, NO (ПЖ 1715, с. 21) и под. Такие обозначения активно включаются в контекст: и ветръ былъ WZW (ПЖ 1721, с. 2), но не исключают полных наименований. Сокращения и полные названия используются как равноправные, могут даже выступать в однородной связи: вhтръ къ утру норд и NNW (ПЖ 1721, с. 2–3). Иные обозначения ветра по направлению единичны (понентей, горбин (ПЖ 1718, с. 17–18)) и связаны, очевидно, с характеристикой ветра той или иной местности (ср.: поненд, понендес, понент, поненто (итал. ponente – запад) – ‘теплый и влажный западный ветер, сопровождающийся пасмурной погодой в Южной Европе (от Португалии до Кубани)’ СВ, с. 143). Надо отметить, что использование иностранных слов не связано с заполнением имеющихся в языке лакун. В русском языке имелись точные обозначения направления ветра, однако они были распространены на территориях с развитым мореплаванием. Так, северные памятники письменности: «Расписание мореходства Архангельских поморов» Голубцов, 1910, с. 18–27, записи о погоде 1700 г. в Холмогорах Попов, 1932, с. 237–243 также фиксируют направление ветра, для этого, однако, используются распространенные на Поморье слова полуношник (NO), всток (O), запад (W), глубник, побережник (NW), обедник (SO), лето, летник (S), шолоник, верховской (SW), север (N). «Словарь ветров» указывает на различные по территориальному распространению исконно русские названия ветров: ветры на Онежском озере – продольный и столбище (N), всток (O), галицкие ерши (SO), ребровский ветер (S), шалоник (SW), средний ветер (W) СВ, с. 49; ветры на Псковском озере – северик (N), волкоед (NO, O), сточей или всточей (O), зимний зимняк и летний теплик (O), вахта (SO), полуденик, теплик (S), мокрик, осенник и ветер с Семска (SW), запад, западь, прибывный, прибыльной, поперечник и дыльняк (W) СВ, с. 49 и т.д. Таким образом, использование в «Походных журналах» иностранных слов – это попытка выработать общезначимые, общеупотребительные средства обозначения направления ветра и соотнести их с западноевропейской морской терминологией. Со временем начинают детально фиксироваться все изменения ветра: Въ 1мъ NNW, пасмурно; въ 2-мъ NW, дождь; въ 4-мъ WNW; въ 8-мъ WtZ; въ 9-мъ WZW; пополудни въ 1-мъ WtZ; въ 3-мъ WZW; въ 5-мъ W; въ 9-мъ ZO (ПЖ 1719, с. 34). Меняющийся в течение дня ветер наделяется такими характеристиками, как непостоянный, переменный. В «Походных журналах» направление – важнейший признак ветра. О его актуальности свидетельствует тот факт, что в журналах некоторых лет (1698– 1699 гг.) фиксируется только направление ветра, других сведений о погоде нет. И это закономерно в эпоху развития военного и торгового флота. Важность этого признака в мореплавании обусловливает появление в контекстах слов, определяющих ветер в отношении к практической деятельности человека: И пришли во Псковъ противъ 11-го дня, способнымъ вhтромъ (ПЖ 1706, с. 5); а вhтръ былъ противной вестъ (Пж 1713, с. 21). 266 В «Походных журналах» фиксируются и другие признаки ветра: 1) общий характер действия: Вhтръ сталъ сильнhе быть порывомъ (ПЖ 1714, с. 27); Вhтръ былъ порывной (ПЖ 1722, с. 35); Вhтръ былъ съ зюйдной кварты съ перетишью (ПЖ 1714, с. 27); Вhтръ во весь день былъ зюйдной квартиры съ малыми боями и дождикомъ (ПЖ 1718, с. 1); былъ с боемъ ZO (ПЖ 1721, с. 9); и вhтръ мялся (ПЖ 1719, с. 1); 2) температура и содержание воды: Шелъ снhгъ и вhтръ былъ студеный (ПЖ 1718, с. 19); День былъ ясной и теплой съ небольшимъ холоднымъ вhтромъ (ПЖ 1721, с. 3); понеже вhтръ былъ тихъ и отчасти влаженъ (ПЖ 1721, с. 4); отъ горъ с вестной квартиры пришелъ зhло сильной бой съ такою теплотою, что какъ въ бани поддадутъ, и казался будто палило жаромъ (ПЖ 1722, с. 13); вhтръ былъ нордъ-вестъ немалой передъ обhдомъ и холоденъ съ сырью, а съ полудень теплhе и тише до вечера (ПЖ 1721, с. 4). Таким образом, в «Походных журналах» наиболее подробны описания ветра. Смещение акцента с осадков (в «Дневальных записках») на ветер свидетельствует об эволюции метеорологических представлений (об этом же см.: Очерки, 1997, с. 15–16), вызванной потребностями практической деятельности человека. Необходимость четко обозначить элементы нового знания ведет к выработке адекватных средств их выражения. Для номинации атмосферных явлений и состояний погоды в Петровскую эпоху используется в основном исконная лексика (и именно она становится основой формирующейся научной метеорологической терминологии), однако обнаруживается тенденция терминологизировать важные для профессиональной деятельности (в данном случае для мореплавания) признаки с помощью иноязычных элементов. Активно используются две группы новой метеорологической лексики: слова, обозначающие силу (скорость) ветра, и слова, обозначающие направление ветра. В отдельных случаях заимствования привлекаются для обозначения явлений или состояний природы: кальм (ПЖ 1721, с. 6) – ‘тишь’ (от голл. kalm ‘спокойствие’), штиль – ‘затишье, безветрие’ (от голл. stil ‘тихий’), дотштиль (ПЖ 1719, с. 10) – ‘мертвый штиль’ (от голл. dood ‘мертвый’), шторм – ‘буря, сопровождающаяся сильным волнением на море’ (от голл. storm ‘буря’), нордлихт (ПЖ 1722, с. 18) – ‘северное сияние’ (от голл. noord ‘север’, licht ‘свет’). Тем самым задано направление развития языка метеорологии от описательного контекста к термину. Библиографический список Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М., 1988. Голубцов Н.А. Архангельскiй публичный музей и его рукописи. Архангельск, 1910. Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. М., 1977. Лотте Д.С. Как работать над терминологией: основы и методы. М., 1968. Марченкова Л.А. Формирование терминологии физической географии в русском языке (XVII–XIX вв.): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1987. Очерки по истории гидрометеорологической службы России: монография. Т. 1. СПб., 1997. (В тексте – Очерки.) 267 Попов А. Запись о погоде 1700 года в Холмогорах // Метеорологический вестник. 1932. № 8–9. Рупосова Л.П. Профессиональная лексика и терминология в историческом аспекте // Проблемы исторической терминологии: межвузов. сб. науч. трудов. Красноярск, 1994. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М., 2001. Щербакова Л.Е. Формирование русской метеорологической лексики (наименования осадков, наименования состояний погоды): дис. … канд. филол. наук. Пермь, 1983. Словари Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 2001. (В тексте – Даль.) Каланов Н.А. Словарь морского жаргона. М., 2002. (В тексте – СМЖ.) Прох Л.З. Словарь ветров. Л., 1983. (В тексте – СВ.) Источники Белокуров С.А. Дневальныя записки Приказа тайныхъ дhлъ 7165–7183 гг. М., 1908. (В тексте – ДнЗ.) Полное собрание русских летописей. М., 1962–1965. Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по академическому списку. Т. 2. Ипатьевская летопись. Т. 9– 10. Патриаршая или Никоновская летопись. Т. 11–12. Патриаршая или Никоновская летопись. (В тексте – ПСРЛ.) Походные журналы 1695–1724 гг. СПб., 1911–1913. (В тексте – ПЖ.) Энциклопедический словарь географических терминов / гл. ред. С.В. Калесник. Л., 1968. (В тексте – ЭСГТ.) Н.В. Буторина, Ю.Н. Кочурова Интернациональная лексика в аспекте языковой картины мира Известно, что словарный состав любого языка может обогащаться за счет внешних факторов, предопределяющих появление в том числе и заимствований из фонда интернациональной лексики. По мере возникновения сфер деятельности и видов производства появляются новые предметы и связанные с ними понятия. Этот процесс обусловливает зарождение новых слов, терминов и выражений, обогащающих и развивающих словарный состав языка. При этом новые слова включаются в язык не только в связи с появлением новых предметов, понятий, но и в связи с тем, что в языке возникает необходимость придать новую ориентацию, интернациональный характер определенному разряду лексики. Язык, который заимствует слова из другого языка, обычно не остается пассивным, он «впитывает» только то, что ему нужно в данный исторический период. Сходство форм интернационализмов может распространяться на звучание, написание и мотивировку. По мнению некоторых исследователей, необходимо учитывать три принципиально важных фактора: фонетический, морфологический, семантический. Чем больше параметров сопоставляемых единиц совпадает, тем в большей степени выражено качество интернациональности [Акуленко, 1972, с. 48]. Полное совпадение по способу номинации характерно в большинстве случаев именно для заимствований. Отмечают, что заимствование тем легче, чем ______________ © Буторина Н.В., Кочурова Ю.Н., 2009 268 больше языки похожи. Поэтому, прежде чем подходить к рассмотрению этимологии слов, необходимо установить степень родства языков, задействованных в исследовании. Из рассматриваемых нами языков английский и немецкий принадлежат германской группе, французский, испанский и итальянский языки входят в романскую, а русский – в славянскую группу языков. Все эти языки являются частью индоевропейской языковой семьи, поэтому в каждом из них можно выделить общеиндоевропейское ядро, в которое входят слова, выражающие жизненнонеобходимые для всего общества понятия. Замечено, что их можно отнести к определенным тематическим группам, среди которых, в частности, термины родства (англ. mother, нем. Mutter, фр. mère, исп., ит. madre, рус. мать), предметы и явления природы (англ. sun, нем. Sonne, фр. soleil, исп. sol, ит. sole, рус. солнце), большинство числительных (англ. three, нем. drei, фр. trois, исп. tres, ит. tre, рус. три). Заимствования следует разграничивать по характеру. Иноязычные слова могут различаться по источнику заимствования (например: грецизмы, латинизмы, германизмы) и по способу заимствования (устный и письменный). В образовании интернациональной лексики общепризнанна особая роль исходных источников интернационализмов: греческого и латинского. Передача греческого языкового материала часто происходит через посредничество латыни. Таким образом, греческие элементы международного словаря, играющие огромную роль в современных терминологиях, оказываются с точки зрения путей их распространения очень различными: одни пришли в современные языки через классическую латынь, другие – через средневековую или новую латынь, третьи взяты непосредственно из греческого языка (часто с переосмыслением), четвертые, хоть и представляют по этимологическому материалу и по форме греческие слова, но впервые образованы в одном из новых европейских языков. Многообразны и пути влияния латинского языка на лексику современных языков. Но именно латыни – интернациональному языку не только античности, но и Средневековья и Возрождения в католической Европе – суждено было заложить основы международного фонда европейских языков (Л. Ольшки). Что касается способа заимствования, то слова, заимствованные устным путем, легче усваиваются и осваиваются, но при этом часто подвергаются искажениям, народной этимологии. Так, многие слова тематической группы «Растения и животные» заимствовались устным путем, и лишь слова, обозначающие экзотических животных и растения, пришли книжным путем. Когда слова приходят в язык через посредников, может меняться их звуковой вид и значение. Так, слово фазан вошло в русский язык не непосредственно из греческого, а через латынь и немецкий, в результате чего пишется не фасан (как было бы при непосредственном заимствовании), а фазан (s в интервокальной позиции в немецком языке произносится как [z]) [Калинин, 1971, с. 483]. Слово является интернациональным: англ. pheasant, нем. Fasan, фр., исп. faisan, ит. fagiano. Так же слово фиалка заимствовалось русским языком через посредство польского. Этим объясняется начальный звук [f] в отличие от [v] фр. violette и англ. violet (ср.: нем. Veilchen, исп. violeta, ит. viola). 269 В разные периоды времени обогащение интернациональной лексикой происходило посредством разных языков. В XV в. в связи с расцветом искусства и культуры в Италии многие итальянские слова, связанные с музыкой и архитектурой, вошли в европейские языки: ит. basso (англ. bass, нем. Bass, фр. basse, исп. bajo, рус. бас), ит. balcone (англ. balcony, нем. Balkon, фр. balcon, исп. balcon, рус. балкон). В русский язык эти слова зачастую приходили через языкипосредники в основном в XVIII–XIX вв. Известно, что фонд интернациональной лексики русского языка в данный период интенсивно пополнился за счет заимствований из западноевропейских языков [Суперанская, 1989, с. 169]. Приток слов из испанского языка связан с открытием Нового Света. Испанцы осваивали новые земли и их язык обогащался за счет слов, обозначающих местные реалии: исп. banana (англ. banana, нем. Banane, фр. banane, ит. banana, рус. банан), исп. bambu (англ. bamboo, нем. Bambus, фр. bambou, ит. bambu, рус. бамбук), исп. tabaco (англ. tobacco, нем. Tabak, фр. tabac, ит. tabacco, рус. табак). Восточных заимствований особенно много в русском языке, что связано с русской историей, наличием более тесных контактов с Востоком, чем с Западом. С татаро-монгольским нашествием связано усвоение русскими многих тюркских слов, таких как изюм, арбуз, баклажан. Трудно представить себе лексику европейских языков без учета огромного авторитета (особенно в XVIII в.) французского языка, влияние которого долго ощущалось даже после наполеоновских войн. Ввиду генетической и исторической близости французского языка к латыни, его влияние не было нарушением прежней традиции. Французский язык значительно обогатил другие языки лексикой, связанной с культурой, бытом, нравами. С XIX в. в немецком, русском и французском языках начинается период англомании. Это нашло отражение на уровне интернациональных слов, прежде всего, в тематических группах «Политика», «Экономика», «Техника» и «Спорт». Иногда слово при переходе в другой язык меняет значение. Например, фр. pigeon – ‘голубь’ дало в русском языке пижон (пейоративное значение, характерное только для русского языка), ср.: значение ‘голубь’ сохранилось в других языках: англ. pigeon, нем. Taube, Tauber; исп. paloma, palomo; pichon – ‘птенец’; ит. colombo, piccione; фр. поэт. colombe (например, colombe de la paix – ‘голубь мира’). Представляет интерес русское слово верблюд, восходящее к тому же корню, что и англ. elephant, нем. Elefant, фр. éléphant, исп., ит. elefante. Первичное значение ‘слон’, затем ‘тяжеловоз’ и далее ‘верблюд’. Латинский язык (elephantus) сохранил первичное значение, которое пришло в европейские языки. Русские получили слово верблюд в его последнем значении от готов. Изменения значений заимствованных слов обусловлено и тем, что в заимствующие языки передаются не все значения слова, свойственные ему в родном языке. Если в последнем слово полисемично, то в другой язык оно приносит одно, реже два значения. При переходе слов из одного языка в другой может произойти расширение или сужение значения. Рассмотрим примеры сужения значения с опорой на единицы тематической группы «Животные». Фр. biche в значении ‘лань’ произошло от лат. bestia – ‘животное’; фр. oie в значении ‘гусь’ – от лат. avis – 270 ‘птица’. В средний период развития английского языка из французского языка были заимствованы некоторые названия сортов мяса. Сначала лексемы beef, mutton, pork, veal существовали наряду с исконными cow – ‘корова’, sheep – ‘овца, баран’, pig – ‘свинья, поросенок’, calf – ‘теленок’, различаясь лишь стилистически. Позже исконные слова стали использоваться как названия животных, а заимствованные – как обозначения соответствующих сортов мяса. Ярким примером, свидетельствующим о расширении значения, может служить интернациональное слово кенгуру. В языке аборигенов Австралии кенгуру обозначает самца разновидности крупного кенгуру с рыжей или пятнистой окраской. Английский язык (kangaroo), а через его посредничество и все остальные (нем. Känguruh, фр. kangourou, исп., ит. canguro), заимствовали данное слово как общее название для всех сумчатых животных. Таким образом, при заимствовании интернациональных слов проявляется национальная специфика, что выявляется на графическом, фонетическом, морфологическом и семантическом уровнях. В целом, проникновение интернациональных слов в языки разных народов способствует сближению национальных языковых картин мира. Библиографический список Акуленко В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка. Харьков, 1972. Калинин А.В. Лексика русского языка. М., 1971. Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 1–3. М.; Л., 1933–1934. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. М., 1989. Д.А. Морель Морель Особенности языковой концептуализации алкогольных напитков во французском, английском и русском языках Настоящая работа выполнена в русле проводимого автором исследования особенностей лексико-семантической репрезентации универсального, общечеловеческого макроконцепта «Пища» в различных языках. Объектом нашего исследования выступает концепт «Алкогольные напитки», непосредственным предметом – национальные системы лексико-семантических средств его репрезентации во французском, английском и русском языках. Источниками материала послужили авторитетные зарубежные и отечественные толковые словари французского [NPR; TLFi; EHM; Littré; Esnault; DHLF; ELM], английского [RHUD; ODE; NOAD; Hornby; Collins; Merriam-Webster; EDT] и русского [Ушаков; Даль; ТСРЯ; РСС] языков. Сделанный нами выбор объекта исследования не случаен. С одной стороны, алкогольные напитки являются универсальной, наднациональной реалией, так или иначе представленной в жизни любого народа, любого этноса. С другой стороны, они – неотъемлемый элемент национальной культуры [Арутюнов, ______________ © Морель Морель Д.А., 2009 271 2001]. Алкогольные напитки, будучи продуктом человеческой деятельности (а, следовательно, своего рода артефактом), входят в состав материальной культуры, однако при этом соответствующий концепт широко и ярко репрезентирован в культуре духовной (вспомним стихотворения Омара Хайяма, Роберта Бернса, отечественных классиков). Так, Франция, будучи страной с давними и развитыми винодельческими традициями, отличается высокой культурой в изготовлении и потреблении алкогольных напитков (см., например: [Brillat-Savarin, 1993; Doutrelant, 1984]). Последние воспринимаются представителями языкового коллектива как элемент национальной самоидентификации: «Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre, au même titre que ses trois cent soixante espèces de fromage et sa culture. C'est une boisson-totem (L'Express, 14 nov. 1977, p. 200, col. 3)» [TLFi]. Данное положение вещей находит свое отражение в картине мире и зафиксировано в языковой системе (см., например: [Debuigne; De Rudder, 2006]): «D’approximations parfois brillantes et imagées comme une improvisation poétique, le profane ne retient que le souvenir d’une élégante jonglerie verbale autour d’un verre. Il s’agit en fait d’un encerclement progressif et sincère, pour serrer de près l’insaisissable vérité» [Peynaud, 1996, р. 13]. Цель настоящей работы – выявление национальных особенностей языковой концептуализации алкогольных напитков в рассматриваемых языках, что предполагает определение и сопоставление ряда структурно-содержательных и динамических особенностей рассматриваемой лексики. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1) выявить общее число наименований, образующих системы средств лексикализации концепта «Алкогольные напитки» в выбранных языках; 2) структурировать выявленные национальные системы, определить процентное распределение лексики по выделенным группам, сопоставить полученные результаты; 3) выяснить соотношение исконной и заимствованной лексики в анализируемых национальных системах; 4) выявить и сопоставить основные модели и сферы-источники метафорических и метонимических переносов в анализируемых национальных системах. Начнем с рассмотрения структурно-содержательных особенностей языковой концептуализации алкогольных напитков во французском, английском и русском языках. Во французском языке было выявлено 375 лексических единиц, участвующих в репрезентации исследуемого концепта, что, с учетом явления полисемии, дало 449 номинативных единиц, непосредственно обозначающих конкретные алкогольные напитки. Уточним, что под номинативной единицей мы понимаем как моносемичное слово, так и отдельное значение полисемичного (семему, лексико-семантический вариант). В английском языке выявлено 310 лексических и 350 номинативных единиц, в русском – 214 и 226 соответственно. Далее указанные количества номинативных единиц будут называться выборками. Индекс многозначности (без учета значений с иной концептуальной соотнесенностью) составил 1,197 во французской, 1,129 в английской и 1,056 в русской выборках. Его величина (в сочетании с абсолютным числом выявленных 272 лексических единиц) указывает на глубину дифференциации языковых значений и на степень «проработанности» концепта национальным сознанием. Отметим, что в русском и французском языке для анализа были отобраны преимущественно цельно- и сложнооформленные лексические единицы, тогда как в англоязычном материале заметную часть составляют раздельнооформленные единицы (что отражает специфику как английского языка, так и английской лексикографии, активно выносящей (в отличие от русской и французской) подобные единицы в заголовки словарных статей). Проведенный анализ позволил выявить следующие лексико-семантические группы (далее – ЛСГ) в составе национальных систем средств лексикализации концепта «Алкогольные напитки» (в скобках приведено число номинативных единиц в группе и процент от общего объема выборки). Во французском языке: 1) ЛСГ «Vin» (207 – 46,10%); 2) ЛСГ «Eau-de-vie» (66 – 14,70%); 3) группа наименований «boissons diverses» (64 – 14,25%); 4) ЛСГ «Liqueur» (38 – 8,46%); 5) ЛСГ «Bière» (25 – 5,57%); 6) ЛСГ «Alcool» (18 – 4,01%); 7) ЛСГ «Apéritif» (13 – 2,90%); 8) ЛСГ «Cocktail» (11 – 2,45%); 9) ЛСГ «Vin de liqueur» (7 – 1,56%). В английском языке: 1) ЛСГ «Wine» (102 – 29,14%); 2) ЛСГ «Cocktail» (54 – 15,43%); 3) группа наименований «alcoholic beverage (miscellaneous)» (49 – 14,00%); 4) ЛСГ «Beer (& brewage)» (40 – 11,43%); 5) ЛСГ «Liqueur» (39 – 11,14%); 6) ЛСГ «Liquor» (28 – 8,00%); 7) ЛСГ «Whisk(e)y» (22 – 6,27%); 8) ЛСГ «Brandy» (18 –5,14%). В русском языке: 1) ЛСГ «Вино» (60 – 26,55%); 2) ЛСГ «Водка» (46 – 20,35%); 3) группа наименований «спиртные напитки (разное)» (40 – 17,70%); 4) группа наименований на пересечении ЛСГ «Водка» и «Наливка / настойка» (20 – 8,85%); 5) ЛСГ «Наливка / настойка» (17 – 7,52%); 6) ЛСГ «Пиво» (17 – 7,52%); 7) группа наименований «крепкие алкогольные напитки» (12 – 5,31%); 8) группа наименований «слабые алкогольные напитки» (8 – 3,54%); 9) ЛСГ «Ликер» (6 – 2,65%). Приведем данные по количеству заимствований. Во французской системе средств лексикализации рассматриваемого концепта заимствования составляют 35,73% от общего числа выявленных лексических единиц со следующим распределением по языкам стран-доноров (в порядке убывания): английский – 37, немецкий – 16, итальянский – 15, испанский – 12, голландский – 9, греческий – 6, арабский – 4, индейские языки – 4, креольские языки – 2, полинезийские языки – 2, португальский – 2, русский – 2, японский – 2, валлонский – 1, венгерский – 1, турецкий – 1, фламандский – 1, шведский – 1, провансальский – 6, диалекты Франции – 10. Заимствования из латинского языка по понятным соображениям не учитывались. В английском языке заимствования составляют 49,68%: французский – 63, итальянский – 23, немецкий – 21, испанский – 17, голландский – 4, греческий – 4, латинский – 4, индейские языки – 3, китайский – 3, арабский – 2, турецкий – 2, японский – 2, венгерский – 1, идиш – 1, полинезийские языки – 1, португальский – 1, русский – 1, хинди – 1, шведский – 1, языки банту – 1. Заимствования из валлийского и гойдельских языков не учитывались. 273 В русском заимствования составляют 42,01%: французский – 31, немецкий – 12, английский – 10, испанский – 5, греческий – 4, грузинский – 3, латинский – 3, польский – 3, арабский – 2, итальянский – 2, китайский – 2, тюркские языки – 3, украинский – 2, венгерский – 1, голландский – 1, иврит – 1, малайский – 1, персидский – 1, португальский – 1, чешский – 1, японский – 1. Также выявлено 22 номинативные единицы из говоров России, но, поскольку широкого распространения они так и не получили, то говорить о заимствовании данных единиц в литературный язык не приходится. При рассмотрении динамических особенностей языковой концептуализации алкогольных напитков в выбранных языках остановимся на анализе метафорических и метонимических переносов в данную область. 1. Французская система средств лексикализации исследуемого концепта. 1) ЛСГ «Vin». Метафорические переносы в данную область наименований алкогольных напитков по объекту-источнику (всего 15 номинативных единиц, что составляет 7,25% от общего количества номинативных единиц в данной группе): человек – физиология (3), человек – внешний вид (3), натурфакт – живая природа (2), мир сверхъестественного (2), отходы деятельности (2), социальный мир (1), артефакт (1), химические соединения (1). Метонимические переносы (77 – 37,20%): «местность / сырье → продукция» (66), «ингредиент → конечный продукт (вариант синекдохи)» (6), «определенное количество → субстанция» (4), «субстанция → определенное количество» (1). 2) ЛСГ «Eau-de-vie». Метафорические переносы (6 – 9,09%): натурфакт – живая природа (2), человек – физиология (2), социальный мир (1), артефакт (1). Метонимические переносы (16 – 24,24%): «субстанция → определенное количество» (7), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (4), «место → производимая продукция» (3), «емкость → содержимое» (1), «имя производителя / разработчика → название продукта» (1). 3) Группа наименований «boissons diverses». Метафорические переносы: натурфакт – живая природа (2 – 3,13%). Метонимические переносы (10 – 15,63%): «определенное количество → субстанция» (3), «место → реализуемая продукция» (2), «емкость → содержимое» (2), «действие → объект действия» (1), «действие → результат действия» (1), «субстанция → определенное количество» (1). 4) ЛСГ «Liqueur». Метафорические переносы (2 – 5,26%): натурфакт – живая природа (1), артефакт (1). Метонимические переносы (19 – 50%): «емкость → содержимое» (9), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (8), «субстанция → определенное количество» (1), «место → производимая продукция» (1). 5) ЛСГ «Bière». Метафорические переносы в данную область обозначений не выявлены. Метонимические переносы (5 – 20%): «емкость → содержимое» (3), «определенное количество → субстанция» (2). 6) ЛСГ «Alcool». Метафорические переносы: химические соединения (1 – 5,56%). Метонимические переносы (5 – 27,78%): «ингредиент / сырье → конечный продукт» (2), «место → производимая продукция» (1), «определенное количество → субстанция» (1), «субстанция → определенное количество» (1). 274 7) ЛСГ «Apéritif». Метафорические переносы (2 – 13,38%): политическая жизнь (1), натурфакт – живая природа (1). Метонимические переносы (3 – 23,08%): «имя производителя / разработчика → название продукта» (2), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (1). 8) ЛСГ «Cocktail». Метафорические переносы (2 – 18,18%): историческая персоналия (1), артефакт (1). Метонимические переносы (2 – 18,18%): «потребитель → потребляемый продукт» (1), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (1). 9) ЛСГ «Vin de liqueur». Метафорических переносов не выявлено. Метонимические переносы: «местность / сырье → продукция» (4 – 57,14%). 2. Английская система средств лексикализации исследуемого концепта. 1) ЛСГ «Wine». Метафорические переносы в данную область наименований алкогольных напитков по объекту-источнику (всего 2 номинативные единицы, что составляет 1,96% от общего количества номинативных единиц в данной группе): мир сверхъестественного (2). Метонимические переносы (44 – 43,14%): «местность → производимая продукция» (23), «ингредиент / сырье (его источник) → конечный продукт» (17), «персоналия → связанный с ней объект» (2), «признак → объект (им обладающий)» (1), «компонент процесса → результат процесса» (1). 2) ЛСГ «Cocktail». Метафорические переносы (21 – 38,39%): натурфакт – живая природа (9), артефакт (5), человек – внешний вид (3), мир сверхъестественного (2), натурфакт – погода (1), социальная роль (1). Метонимические переносы (20 – 37,04%): «персоналия → связанный с ней объект» (10), «местность → производимая продукция» (4), «признак → объект (им обладающий)» (2), «сопутствующее действие → объект» (1), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (1), «действие → результат действия» (1), «емкость → содержимое» (1). 3) Группа наименований «alcoholic beverage (miscellaneous)». Метафорические переносы (7 – 14,29%): натурфакт – живая природа (3), социальная роль (2), артефакт (1), человек – внешний вид (1). Метонимические переносы (13 – 26,53%): «персоналия → связанный с ней объект» (4), «емкость → содержимое» (3), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (2), «действие → объект действия» (1), «действие → каузатор действия» (1), «определенное количество → субстанция» (1), «субстанция → определенное количество» (1). 4) ЛСГ «Beer (& brewage)». Метафорические переносы (3 – 7,5%): жидкость (не содержащая алкоголь) (2), артефакт (1). Метонимические переносы (18 – 45%): «емкость → содержимое» (6), «действие → объект действия» (3), «субстанция → определенное количество» (2), «определенное количество → субстанция» (2), «признак → объект (им обладающий)» (2), «время протекания процесса → результат» (1), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (1). 5) ЛСГ «Liqueur». Метафорические переносы: артефакт (1 – 2,56%). Метонимические переносы (6 – 15,38%): «персоналия → связанный с ней объект» (2), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (2), «местность → производимая продукция» (1), «признак → объект (им обладающий)» (1). 6) ЛСГ «Liquor». Метафорические переносы (3 – 10,71%): натурфакт – неживая природа (2), энергия (1). Метонимические переносы (3 – 10,71%): «местность 275 → производимая продукция» (1), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (1), «имя производителя / разработчика → название продукта» (1). 7) ЛСГ «Whisk(e)y». Метафорические переносы (2 – 9,09%): натурфакт – живая природа (1), натурфакт – погода (1). Метонимические переносы (11 – 50%): «ингредиент / сырье → конечный продукт» (4), «признак → объект (им обладающий)» (2), «субстанция → определенное количество» (2), «агент действия → результат действия» (1), «действие → результат действия» (1), «местность → производимая продукция» (1). 8) ЛСГ «Brandy». Метафорические переносы в данную область обозначений не выявлены. Метонимические переносы (8 – 44,44%): «местность → производимая продукция» (4), «ингредиент / сырье → конечный продукт» (4). 3. Русская система средств лексикализации исследуемого концепта. 1) ЛСГ «Вино». Метафорические переносы в область обозначений вин не выявлены. Метонимические переносы (всего 48 номинативных единиц, что составляет 80% от общего количества номинативных единиц в данной группе): «местность → производимая продукция» (18), «ингредиент / сырье → продукт» (13), «признак → объект (им обладающий)» (7), «емкость → содержимое» (6), «персоналия → связанный с ней объект» (2), «имя производителя / разработчика → название продукта» (2). 2) ЛСГ «Водка». Метафорические переносы в данную область наименований алкогольных напитков (по объекту-источнику): человек – физиология (1 – 2,17%). Метонимические переносы (11 – 23,91%): «емкость → содержимое» (4), «признак → объект (им обладающий)» (3), «место → реализуемая продукция» (1), «время совершения действия → объект» (1), «мера / емкость → содержимое» (1), «ингредиент / сырье → продукт» (1). 3) Группа наименований «спиртные напитки (разное)». Метафорические переносы (5 – 12,5%): натурфакт – живая природ (3), артефакт (2). Метонимические переносы (13 – 32,5%): «емкость → содержимое» (4), «признак → объект (им обладающий)» (4), «мера / емкость → содержимое» (2), «ингредиент / сырье → продукт» (2), «действие → объект действия» (1). 4) Группа наименований на пересечении ЛСГ «Водка» и «Наливка / настойка». Метафорические переносы в данную область обозначений не выявлены. Метонимические переносы (9 – 45%): «ингредиент / сырье → продукт» (4), «признак → объект (им обладающий)» (3), «имя производителя / разработчика → название продукта» (1), «объект воздействия → средство воздействия» (1). 5) ЛСГ «Наливка / настойка». Метафорические переносы в данную область обозначений не выявлены. Метонимические переносы: «ингредиент / сырье → продукт» (2 – 11,76%). 6) ЛСГ «Пиво». Метафорические переносы (2 – 11,76%): отходы деятельности (1), социальные отношения (1). Метонимические переносы (2 – 11,76%): «поведение → каузатор» (1), «действие → агент действия» (1). 7) Группа наименований «крепкие алкогольные напитки». Метафорические переносы в данную область обозначений не выявлены. Метонимические переносы (5 – 41,67%): «ингредиент / сырье → продукт» (2), «местность → производимая продукция» (2), «признак → объект (им обладающий)» (1). 276 8) Группа наименований «слабые алкогольные напитки». Метафорические переносы: полужидкое кушанье (1 – 12,5%). Метонимические переносы: «ингредиент/сырье → продукт» (1 – 12,5%). 9) ЛСГ «Ликер». Метафорических переносов не выявлено. Метонимические переносы (3 – 50%): «местность → производимая продукция» (2), «название производителя → название продукта» (1). Итак, подведем итоги нашего исследования. 1. В количественном плане проанализированные национальные системы средств лексикализации концепта «Алкогольные напитки» обнаруживают значительные отличия. Английская и русская системы составляют 78% и 50% соответственно от французской. Очевидно, что подобным образом в языках фиксируются национальные различия в культуре производства и потребления алкогольных напитков. Вряд ли на основании данных цифр можно судить о месте исследуемого концепта в национальных шкалах ценностей, но о степени его релевантности как культурного концепта [Воркачев, 2007] – вполне. 2. В плане структурирования проанализированные национальные системы средств лексикализации концепта «Алкогольные напитки» также обнаруживают некоторые отличия. Если количество выделяемых групп примерно равно (8– 9), то их состав и размеры различаются. Так, если объединить три анализируемые системы в некий виртуальный комплекс, то он будет иметь общенациональное ядро, в которое входит шесть групп обозначений (вин, водок, крепких спиртных напитков, ликеров, пива, «разного»), и национально-специфичную периферию (семь групп). Выделим устойчивое совпадение количественного рейтинга во всех национальных системах групп обозначений вин и «разного»: первое и третье места соответственно. С точки зрения структурно-содержательной динамики особо отметим отсутствие в русском языке ЛСГ «Коктейль» (в дефинициях проанализированных словарей данное наименование практически не встречается). Это легко объяснимо социально-историческими факторами: «закрытостью» нашего общества практически с начала ХХ в., идеологическим противостоянием со странами Запада в целом и с США в особенности, отсутствием соответствующей культурной среды (cocktail parties). В последнее время в российском национальном сознании, по наблюдениям авторов, идет активное формирование соответствующего концепта и системы лексических средств его репрезентации, что, впрочем, фиксируется пока только наиболее динамичными справочными ресурсами (см., например, русскоязычный раздел Интернет-энциклопедии «Wikipedia»). 3. Анализируемый концепт служит ярким примером влияния межкультурных коммуникаций на развитие национальных лексических систем: в проанализированных системах средств его лексикализации доля заимствований колеблется от трети (во французском) до половины (в английском). Также очень широка и география заимствований, охватывающая практически весь мир. Тесное взаимодействие культур и языков Великобритании и Франции обусловило бесспорное преобладание взаимозаимствований в рассматриваемый пласт лексики. В силу специфики геополитической и общей культурно-цивили277 зационной ситуации заимствований из французского и английского в русский на два порядка больше обратных. Безусловное лидирование французского как языка-донора заимствований для русской и английской систем обозначений алкогольных напитков обусловлено объективной развитостью во Франции соответствующей сферы производства и потребления, а также тем, что это страна смогла обеспечить устойчивый экспорт не только своей винодельческой продукции, но и соответствующей культуры, став «законодателем мод» и в этой области. 4. Что касается динамических особенностей языковой концептуализации алкогольных напитков, то здесь необходимо отметить явное сходство французской и английской систем средств репрезентации соответствующего концепта и существенное отличие от них русской. Метафора и метонимия внесли существенный вклад в пополнение национальных систем лексикализации концепта «Алкогольные напитки». Путем метафорического переноса образовано 30 номинативных единиц (6,68% от выборки) во французской системе, 39 (11,14%) в английской и только 10 (4,42%) в русской; тогда как с помощью метонимических переносов образовано 122 номинативные единицы (27,17%) во французской системе, 123 (35,14%) в английской и 94 (41,59%) в русской. Для пополнения рассматриваемых национальных систем с помощью метафорических переносов французское языковое сознание наиболее активно обращается к таким сферам, как «живая природа», «человек», «артефакт» (в порядке убывания), английское – «живая природа», «артефакт», «человек», «неживая природа», «социальный мир», «мир сверхъестественного». В русском языке метафорические переносы используются крайне слабо (при образовании наименований только четырех групп из девяти): «живая природа», «артефакт», «социальный мир». Метонимический перенос наиболее активно (как в процентном отношении, так и в абсолютных показателях) использовался во всех тех рассмотренных языках при формировании национальных групп обозначений вин. Отметим наличие значительного количества сходных моделей метонимического переноса (особенно при образовании наименований вин), а также некоторых – метафорического, и подавляющее количественное преобладание метонимических переносов над метафорическими. Наиболее существенные различия обнаруживаются на уровне количественных показателей по конкретным группам. Их толкование и выявление степени национально-культурной специфичности и релевантности представляется нам следующим необходимым этапом нашего исследования. Библиографический список Арутюнов С.А. Основные пищевые модели и их локальные варианты у народов России // Традиционная пища как выражение этнического самосознания. М., 2001. Воркачев С.Г. Лингвокультурная концептология: становление и перспективы // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2007. Т. 66. № 2. Brillat-Savarin J.-A. Physiologie du goût. P., 1993. 278 De Rudder O. Aux petits oignons! Cuisine et nourriture dans les expressions de la langue française. P., 2006. Doutrelant P.-M. Les Bons vins et les autres: suivi de 500 bonnes adresses. P., 1984. Peynaud E., Blouin J. Le goût du vin. Le grand livre de la dégustation. Montrouge, 1996. Словари Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2004. (В тексте – Даль.) Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / под общ. ред. Н.Ю. Шведовой: в 6 т. Т. 2. М., 2000. (В тексте – РСС.) Толковый словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. М., 2006. (В тексте – ТСРЯ.) Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2004. (В тексте – Ушаков.) Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary 2008 // ABBYY Lingvo x3. М., 2008. (В тексте – Collins.) Debuigne G. Dictionnaire des vins. P., 1991. (В тексте – Debuigne.) Dictionnaire historique de la langue française / sous la dir. de A. Rey. P., 1995. (В тексте – DHLF.) Encarta Dictionary Tools // Microsoft Encarta Premium 2006. СПб., 2005. (В тексте – EDT.) Encyclopédie Hachette Multimédia 2007. P., 2006. (В тексте – EHM.) Encyclopédie Larousse Multimédia 2008. P., 2007. (В тексте – ELM.) Esnault G. Dictionnaire historique des argots français. P., 1965. (В тексте – Esnault.) Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford, 2004. (В тексте – Hornby.) Le Littré: Le dictionnaire de la langue française classique par Émile Littré. P., 1999. (В тексте – Littré.) Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 2003 // Encyclopædia Britannica 2006. СПб., 2005. (В тексте – Merriam-Webster.) New Oxford American Dictionary 2005 // ABBYY Lingvo x3. М., 2008. (В тексте – NOAD.) Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Version électronique. Bruxelles, 1997. (В тексте – NPR.) Oxford Dictionary of English 2005 // ABBYY Lingvo x3. М., 2008. (В тексте – ODE.) The Random House Unabridged Dictionary 1994. M., 2000. (В тексте – RHUD.) Trésor de la langue française informatisé / Sous la réd. de P. Imbs. P., 2004. (В тексте – TLFi.) Р.В. Попов Спортивные профессионализмы как единицы терминологической системы и текста Концептуальная система в профессиональной сфере человеческой деятельности объективируется различными специальными единицами – терминами, профессионализмами, профессиональными жаргонизмами. Все они с разной степе______________ © Попов Р.В., 2009 279 нью точности репрезентируют один и тот же специальный концепт. В статье рассматриваются особенности представления специального спортивного знания посредством профессионализмов. Профессионализмом обычно называют профессионально-разговорный дублет термина [Капанадзе, 1965, с. 28; Бурцева, 1975, с. 96], его просторечный синоним [Толикина, 1971, с. 64]. Таким образом, профессионализмы семантически либо тождественны, либо близки терминам, а внеязыковым отличием этих единиц считают ограничение профессионализмов специальной разговорной речью, что предопределяет их вторичность. Отличаются профессионализмы и наличием у них образности, эмоциональности и экспрессивности. То же понимается и под спортивными профессионализмами: это «неофициальные термины, экспрессивно окрашенные слова, возникшие в результате различных переосмыслений, не обладающие статусом спортивного термина, не покрывающие полностью спортивных понятий (выделено нами. – Р.П.) или же являющиеся имплицитными дублетами специальных терминов и появляющиеся в разговорной речи путем сжатия составного наименования в слово, иногда с параллельной суффиксацией» [Юрковский, 1979, с. 119]. (В скобках заметим, что критерий «нормативности – ненормативности», «официальной узаконенности» для спортивного наименования очень условен, поскольку у нас до сих пор нет кодифицированного словаря спортивных терминов.) Закономерно, что спортивные профессионализмы рождаются раньше соответствующего термина. Происходит это «в момент появления нового приема или положения в спорте, когда нет еще официального специального термина для обозначения нового понятия» [Там же]. Логично и то, что спустя некоторое время профессионализмы могут переходить в разряд терминов – за неимением другого наименования, ср.: «Когда нормативные эквиваленты отсутствуют, сами профессионализмы претендуют на то, чтобы занять “смысловую нишу”, стремятся быть терминами» [Комарова, 1991, с. 19]. Во многих спортивных терминологических системах, в которых еще не сформирован состав элементов и которые не подвергались упорядочению и кодификации в узкоспециальном словаре, этот процесс выражен особенно ярко. Вот почему граница между спортивными профессионализмами и терминами зыбкая и расплывчатая. Как показывает анализ нашего материала, спортивные профессионализмы функционируют во всех стилях и жанрах специального языка спорта (а не только в разговорной речи!), например, в научном стиле они уживаются с «официальной» терминологией. Объясняется это не только тем, что профессионализмы восполняют терминологические лакуны, но и тем, что авторы учебников, методических пособий и т.д. часто являются одновременно и специалистами-практиками, тренерами, бывшими игроками. В силу привычки они привносят в тексты слова и выражения, широко используемые в спортивных коллективах. Таким образом, появление в специальной литературе профессионализмов имеет еще и прагматическое основание. Примеры баскетбольных и футбольных профессионализмов: распасовка, «двойка», «тройка», «усы», «парашют», снайпер, держать игрока, коробочка, навал, проваливаться, подсесть, свеча, «зевок», предсезонка, двухходовка, 280 «угол», «штраф». Обратим внимание на то, что не все профессионализмы заключаются в кавычки, и это вовсе не значит, что они «дотянулись» до статуса термина – просто кавычки не всегда сигнализируют о принадлежности слова к профессиональной лексике. Итак, в спортивной речи профессионализмы используются главным образом для обозначения понятий, не имеющих официальных терминов. Но не только: к ним обращаются и при описании уже названных объектов – для придания тексту выразительности и – иногда – точности. Соответственно, выделяются спортивные профессионализмы, 1) восполняющие терминологические лакуны и 2) служащие синонимами к существующим «официальным» терминам, и потому являющиеся избыточными для системы терминов (она в идеале, по Д.С. Лотте, не должна содержать синонимов), но не для спортивных текстов! В них обилие синонимов позволяет разнообразить речь, а также помогает избежать ненужных повторов. Рассмотрим профессионализмы обоих типов. 1. Профессионализмы – заместители отсутствующих терминов. В баскетболе больше всех мячей, отскочивших от щита (точнее, кольца), подбирает обычно самый высокорослый игрок в команде, действующий непосредственно вблизи кольца. Такого игрока называют центровой и пятый номер (5-й номер). Позиция центрового – одна из ключевых на площадке, именно центровой возглавляет борьбу за отскок мяча, ему принадлежит решающее значение при подборе. Но в современном баскетболе, жестком и скоростном, подбирать мячи после их отскока от кольца могут не только центровые, а также игроки других позиций, прежде всего, мощные нападающие, ср.: Существенное подкрепление перед этим сезоном мадридцы получили в лице мощного форварда сборной страны Альфонсо Рейеса (1972, 202 см)… Левша, умен, прекрасный подборщик и цепкий в защите (СС1, с. 15). Следовательно, потребовалось новое наименование, способное выражать идею «игрок, сильнейший в борьбе за отскочивший от щита мяч». И этим наименованием стало слово подборщик, начавшее употребляться в 90-е гг. ХХ в. как профессионализм в разговорной речи специалистов, спортсменов. Отметим, в чем заключаются преимущества этого обозначения. Во-первых, подборщик прямо не соотносится с наименованием игрока той или иной позиции и, во-вторых, указывает на основную «функцию» игрока, на то, что он лучше всего умеет делать на площадке. Слово подборщик может обозначать и центрового, и форварда, который по своему росту, атлетической подготовке, умению выбрать позицию вполне может конкурировать с центровым. Слово подборщик, по всей видимости, появилось в русском языке как эквивалент американского баскетбольного термина rebounder – ‘тот, кто подбирает мяч’ (от rebound – подбор), который заимствуется в середине 90-х гг. Пример: Сильнейшему вашему «рибаундеру» необходимо занять место у щита с более слабым в отношении борьбы за отскок игроком соперника (Б, с. 395). 2. Профессионализмы – синонимы существующих терминов. В баскетболе для значения ‘один из двух игроков задней линии, специализирующийся на атаке кольца соперника; хорошо владеющий бросками со средних и (особенно) с дальних дистанций; обычно один из самых результативных игро281 ков команды’ используются несколько наименований: атакующий защитник, второй номер (2-й номер), дальнобойщик, снайпер и – реже – «стреляющий» защитник. Без всяких сомнений «официальными» терминами могут быть признаны только атакующий защитник и второй номер (2-й номер) – только они регулярно употребляются в официальных текстах. Слово дальнобойщик появилось в разговорной речи спортсменов и тренеров как профессионализм; в последнее время (90-е гг. ХХ в. – начало ХХI в.) оно стало активно употребляться на страницах спортивной периодики, возможно, вследствие того, что своей «внутренней формой» лексическая единица подчеркивает, указывает на основную функцию атакующих защитников в нападении: «бросать в кольцо с дальних дистанций». Это дает нам основание считать слово дальнобойщик синонимом к существующим «нормативными» терминам атакующий защитник и второй номер (2-й номер). Активизация спортивного профессионализма дальнобойщик объясняется еще и тем, что оно омонимично популярному в современной разговорной речи слову дальнобойщик (‘водитель грузовика, транспортирующего большие грузы на дальние расстояния’), и это может служить причиной порождения комического эффекта – в значении профессионализма дальнобойщик явно есть юмористическая коннотация. Отметим, что терминологизация профессионализма дальнобойщик связана с актуальной в современном баскетболе тенденцией специализации игроков различных амплуа. В стартовой пятерке баскетбольной команды выходят обычно два защитника: один – плеймейкер, разыгрывающий мяч, доставляющий его партнерам для точных бросков. Функции другого защитника иные: он больше специализируется не на розыгрыше комбинаций, а на атаке кольца соперника, и самый главный его атакующий прием – бросок с дальней дистанции, которым он должен владеть в совершенстве, ср.: Еремин позволил себе сделать ряд замен, выпустив на площадку резервного разыгрывающего Петра Самойленко и классического дальнобойщика Игоря Куделина (СС2, с. 11). Таким образом, в отличие от слова дальнобойщик «официальные» термины атакующий защитник и второй номер (2-й номер) не конкретизируют, не проявляют основное назначение игрока этого амплуа. Поэтому слово дальнобойщик с полным правом может быть включено в ряд терминов атакующий защитник, второй номер (2-й номер) в качестве их семантико-стилистического синонима. Интересно, что в футбольной терминологической системе со словом дальнобойщик (омонимом баскетбольного профессионализма) ситуация иная, ср.: «Речевой термин – голеадор (окказионализм), в котором терминосистема не испытывает ни малейшей нужды (ввиду его избыточности). Сложнее “отмахнуться” от слова дальнобойщик, потому что оно вполне могло бы заполнить имеющуюся в терминосистеме лакуну: стать термином, обозначающим футболиста, способного забивать мяч в ворота с дальней дистанции» [Рылов, 1998, с. 47]. Дело в том, что в футболе результативно бить по воротам с дальней дистанции могут игроки разных амплуа, так что специализации футболистов по этой функции нет, и слово дальнобойщик занимает пустующую «смысловую нишу», стремится быть футбольным термином. 282 Подытожим сказанное. Спортивные профессионализмы делятся на два типа: одни восполняют терминологические лакуны, другие являются синонимами «официальных» терминов, и потому для терминологической системы они избыточны; граница между разными типами профессионализмов нечеткая. Терминологизация профессионализмов может иметь длительную историю, но возможность проследить, когда профессиональное слово проходит свой «порог терминологизации», то есть приобретает статус «официального» термина, достаточно высокая. Библиографический список Бурцева В.В. Профессионализмы в словарях // Русская речь. 1975. № 3. Капанадзе Л.А. О понятиях термин и терминология // Развитие лексики современного русского литературного языка. М., 1965. Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание. Свердловск, 1991. Рылов А.С. Терминологическая система «Футбол» в русском языке: дис. ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 1998. Толикина Е.Н. Синонимы или дублеты // Исследования по русской терминологии. М., 1971. Юрковский И.М. Термины, общие для спортивных игр, в русском языке: дис. … канд. филол. наук. Л., 1979. Источники Баскетбол: учебник / под ред. Ю.Д. Железняка. М., 1997. (В тексте – Б.) Советский спорт. 10 февр. 1999 г. (В тексте – СС1.) Советский спорт. 03 сент. 2001 г. (В тексте – СС2.) С.В. Стругова Динамика концепта противостояние в спортивном дискурсе (на материале немецких СМИ) Современная парадигма языкознания, обозначаемая как когнитивно-дискурсивная, характеризуется интеграцией различных подходов к изучению лингвистических явлений. Особенностью данной парадигмы является «учет и синтез идей когнитивного направления, ориентированного на постижение деятельности человеческого разума в его связи с языком, с идеями коммуникативной или функциональной лингвистики (лингвистики прагматически ориентированной и дискурсивной), а также с идеями семиотического порядка» [Лузина, 2006, с. 43]. Когнитивизм служит «интегрирующим фактором для объединения таких концепций, как лингвистика текста, теория речевых актов, дискурсивный анализ» [Кубрякова, 1995, с. 229]. Другой важной чертой современного языкознания является его «очевидная антропоцентричность, предполагающая целостный анализ речемыслительной деятельности человека» [Алексеева, Мишланова, 2002, с. 3]. Анализ лингвистического явления с этих позиций позволяет, таким образом, изучить его максимально комплексно и продуктивно. ______________ © Стругова С.В., 2009 283 В связи с многоаспектностью подходов к исследованию языка усложняется и укрупняется и его объект, интегрирующий их разнообразие. Таким объектом становится дискурс – «вербально опосредованная деятельность человека в специальной сфере» [Мишланова, Уткина, 2008, с. 3], в которой происходит «формирование концептуальной системы, то есть системы переработанного знания о мире и знания опор» [Там же, с. 13]. С одной стороны, исследование дискурса делает возможным изучать язык в его статике, с точки зрения всех его аспектов; с другой стороны, – в непрерывном его изменении и развитии. «Важная роль в формировании дискурса принадлежит процессам концептуализации и категоризации, обусловливающим решение задач переработки “новой” информации с привлечением индивидуальной концептуальной системы, использованием опор и выводного знания в процессе смыслообразования» [Там же]. В связи с этим интересно обратиться к рассмотрению динамики концепта, который формируется в рамках данного дискурса. Как отмечает Ю.С. Степанов, «концепт – это то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека... и посредством чего человек… сам входит в культуру»; а также «основная ячейка культуры в ментальном мире человека», «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний» [Степанов, 2001, с. 43]. Концепт – это ментально организованная совокупность знаний, представлений, опыта, системы убеждений и взглядов той или иной группы или общности людей относительно какого-либо объекта или явления реальной действительности, которая репрезентируется на языковом уровне. Концепт возникает и формируется в рамках определенного дискурса, являясь его своеобразной ментальной единицей. Будучи несколько ограниченным по сравнению с дискурсом, концепт в то же время является его неотъемлемой частью. Сосуществуя вместе, концепт и дискурс постоянно дополняют друг друга и становятся источником развития друг друга. Весьма многогранно специфика дискурса и концепта в их взаимосвязи проявляется в журналистском тексте. По словам В.В. Богуславской, «журналистский текст представляет собой явление уникальное. С одной стороны, это продукт социально направленной деятельности журналиста, результат познания им окружающего мира и самого себя, с другой – это процесс взаимодействия автора текста с аудиторией» [Богуславская, 2008, с. 53]. Этот же лингвист называет журналистику особым родом коммуникативной речевой деятельности и утверждает, что «журналистика, являясь проводником новых социальных и культурных явлений жизни, “внедряет” в язык новые понятия, новые грамматические нормы. Такой процесс представляет собой механизм отражения и закрепления в языке новых явлений» [Там же, с. 39]. Все изложенное позволяет утверждать, что журналистский текст отражает не просто социокультурную ситуацию в совокупности со всеми экстралингвистическими факторами, но и развитие языка в лингвистическом, грамматическом и концептуальном аспектах. Поэтому представляется интересным лингвистический анализ журналистского текста с позиций когнитивно-дискурсивного подхода. В данной статье рассматриваются тексты немецких СМИ, которые посвящены результатам соревнований в парном фигурном катании на Зимних Олимпийских Играх 2002 г. В центре нашего внимания – динамика концепта противостояние и 284 его вербализация. Эмпирической базой исследования послужили тексты немецких печатных изданий: «Spiegel», «Berliner Zeitung», «Stern», «Handelsblatt». Главным спортивным событием, которое освещается рассматриваемыми текстами, служит уникальное за всю спортивную историю явление – вручение второго комплекта золотых наград в парном катании, что противоречит зафиксированным в Олимпийской хартии правилам проведения соревнований по фигурному катанию. Примечательно то, что это событие было вызвано бурной пропагандой американских СМИ (в том числе печатных), выражавших в резкой форме недовольство результатами проведенных соревнований по фигурному катанию и выдвигавших в адрес Международного Олимпийского Комитета требование вручить золотые медали канадской паре, которая первоначально заняла второе место вслед за российской. В ходе анализа текстов мы рассматриваем, таким образом, два события: присуждение канадской паре второго места, что, по мнению североамериканской общественности, не справедливо; и второе событие – сенсационное – принятие решения о вручении второго комплекта золотых медалей канадской паре. Концепт противостояние исследуется через призму теории фреймов. Данная теория «имеет интердисциплинарный характер и, интегрируя различные области лингвистического и нелингвистического знания, дает возможность как универсальный метод научного поиска объяснить многие языковые феномены с позиции когнитивного анализа» [Никонова, 2008, с. 224]. Концепт противостояние является ключевым для спортивного дискурса со времен Древней Греции. Противостояние проявляется на личном, командном, межкультурном и межнациональном уровнях. При рассмотрении взаимодействия концепта противостояние и спортивного дискурса были выделены следующие слоты, релевантные для изучаемого материала: 1. Спортивные идеалы – Glaubwürdigkeit; zu recht mit Gold auszeichnen и антиидеалы – Benachteiligung. 2. Соревнования – Paarlauf. 3. Участники соревнований – die Russen; die Kanadier; das russische Paar; die zweifelhaften Sieger. 4. Критерии оценок и выявления чемпионов – technische Note; künstlerische Präsentation. 5. Интерпретация результатов и их оценок компетентными лицами и общественным мнением – Triumph des kanadischen Duos; sportlich perfekte Darbietung der Kanadier; nicht fehlerfrei; bessere künstlerische Präsentation; die umstrittene Wertung; umstrittener Sieg. Единицей лингвистического анализа при изучении концепта противостояние послужила «языковая ситуация». Вслед за В.Г. Гаком, мы понимаем под ситуацией «совокупность элементов, присутствующих в сознании говорящего в момент “сказывания” и обусловливающих в определенной мере отбор языковых средств при формировании самого высказывания» [Гак, 1973, с. 358]. Как показал анализ материала, основными элементами ситуации спортивного дискурса являются: 1) субъект 1 – первая противоборствующая сторона: das Nationale Olympische Komitee für Kanada; 2) субъект 2 – вторая противоборствующая сторона: das Nationale Olympische Komitee für Russland; 3) субъект 3 – сторона, выявляющая победителя либо разрешающая конфликт и выступающая в роли эксперта: Kampfrichter; Preisrichter; 4) действия субъектов: manipulieren; 285 auf Druck setzen; 5) характеристика ситуации, даваемая либо компетентными в данной области лицами, либо авторами текста: Skandal; Betrug; 6) инструмент: Unterlagen; relevante Dokumente. Согласно результатам анализа, элементы ситуации репрезентируются: 1) лексемами и сочетаниями лексем; 2) фразеологическими единицами; 3) метафорами; 4) предложениями. С учетом специфики исследуемого материала были определены исходные положения для выявления особенностей вербализации концепта. 1. Лексико-грамматические маркеры концепта противостояние в спортивном дискурсе модифицируют свое семантическое содержание и номинацию в зависимости от принадлежности текста к тому или иному временному периоду. Так, при их анализе выяснилось, что в совокупности они являются репрезентантами четырех наиболее важных в развитии рассматриваемых событий временных отрезков. Первый из них – непродолжительный – отсылает к непосредственному свершению главного события, повлекшего за собой споры, – к результатам соревнований в парном катании на Олимпийских Играх 2002 г. Второй значимый временной отрезок характеризуется уникальным явлением в мире фигурного катания и спорта в целом, – вручением второго комплекта золотых наград канадской паре. Это событие сопровождалось повышенной эмоциональной фазой и обусловило новый всплеск эмоций и оценок происходящего. Третий временной отрезок начинается спустя полгода после окончания Олимпиады, когда вскрылись некоторые факты необъективного судейства, и было предпринято расследование по этому делу. Четвертый отрезок был отмечен 2005, предолимпийским, годом следующего олимпийского цикла, когда в Москве происходил чемпионат мира по фигурному катанию, что вновь вызвало некоторые обсуждения ситуации прошлых Олимпийских Игр. 2. Лексико-грамматические маркеры концепта противостояние в спортивном дискурсе модифицируют свое семантическое содержание и номинацию в зависимости от того, с каким типом дискурса взаимодействует спортивный дискурс. В центре нашего внимания, таким образом, категория интердискурсивности, которая «характеризует взаимодействие между различными типами дискурса, то есть интеграцию, перекрещивание различных областей человеческого знания и практики» [Чернявская, 2003, с. 36]. Анализ исследуемого материала выявил, что спортивный дискурс взаимодействует со следующими типами дискурсов: а) политическим; б) правовым; в) рекламным. 3. В зависимости от того, с каким типом дискурса взаимодействует спортивный дискурс, актуализируется тот или иной элемент ситуации. Первая и вторая временные фазы характеризуются взаимодействием спортивного дискурса со всеми тремя выделенными выше типами дискурсов. Однако в этом же временном периоде наблюдается и проявление собственно спортивного дискурса. Главными элементами ситуации в собственно спортивном дискурсе являются все три субъекта, которые приобретают следующие репрезентации: das Nationale Olympische Komitee für Kanada – первая противоборствующая сторона; das 286 Nationale Olympische Komitee für Russland – вторая противоборствующая сторона; Kampfrichter, Preisrichter – третья сторона, разрешающая конфликт и выступающая в роли эксперта. При взаимодействии спортивного дискурса с политическим на первый план выходит характеристика ситуации: Affäre, Skandal, а также характеристика действий субъекта – одной из противоборствующих сторон, которая чаще всего выражена существительными: Bestechung, Absprachen, Mauscheleien. Значительно реже появляется сам субъект ситуации – одна из противоборствующих сторон – Betrüger. В процессе корреспондирования спортивного и правового дискурсов актуализируется третий субъект ситуации – экспертная сторона: Gremium; Sportgericht; oberste Gerichtshof; а также инструмент – relevante Dokumente; schriftliche Stellungnahme; Dringlichkeitsantrag; Anhörung. Спортивный дискурс обнаруживает взаимосвязь с рекламным дискурсом, где одним из субъектов ситуации, в частности, противоборствующей стороной, становится канал, транслирующий передачи по фигурному катанию: der Sender NBC, die gesamte NBC-Berichterstattung, который, по мнению немецкого журналиста, намеренно способствует разжиганию споров вокруг сложившейся ситуации в коммерческих целях. Актуальным здесь становится, кроме того, такой элемент ситуации, как «действия» названного вышесубъекта – Kapital schlagen, и характеристика ситуации – die zu vermarkende Geschichte. В третьей рассматриваемой нами временной фазе спортивный дискурс взаимодействует преимущественно с криминальным подтипом правового дискурса. Здесь наблюдается трансформация семантического и номинативного содержания субъектов ситуации. Так, в качестве одной из противоборствующих сторон выступает замешанный в подтасовке результатов соревнований на Олимпийских Играх российский мошенник. В связи с этим данный субъект находит следующее выражение в языке: Russenmafia; ein bekannter russischer Gangster; der Beschuldigte. Другой же противоборствующей стороной выступают: italienische Polizei; die amerikanische Staatsanwaltschaft; die Untersuchungsbeamten. В процессе взаимодействия спортивного дискурса и криминального подтипа правового дискурса актуализируются также действия субъекта – одной из противоборствующих сторон – Erpressen von Kampfrichtern; Druck; erfolgreiche Manipulation. В четвертой временной фазе спортивный дискурс снова вступает в контакт прежде всего с политическим дискурсом, где вновь трансформируется содержание и номинация субъекта ситуации как противоборствующей стороны: der russische Präsident Putin; Moskaus Bürgermeister Juri Luschkow. Выше были обозначены примеры репрезентации концепта противостояние на уровне лексемы или сочетания лексем. Особый интерес, однако, представляет вербализация данного концепта посредством метафор: die Spur führt zu Russenmafia; Operation Ostgeld; Geldwäscher Operation; das Gesetz des Eislaufs; riesiger Skandal um nichts, а также фразеологических единиц: Finger im Spiel haben; ins gleiche Horn blasen. Что касается репрезентации концепта на синтаксическом уровне, то наиболее ярко он находит свое выражение в сложных предложениях, части которых характеризуются отношениями либо 287 противопоставления (Einer muss gewinnen, einer verlieren), либо причины (Wenn man das nicht akzeptiert, ist man nicht stark genug). Итак, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в процессе развития дискурса трансформируется логико-семантическое содержание и номинация элементов его ситуации. В качестве основных факторов, определяющих эту трансформацию, выступают факторы времени создания текста и взаимодействия данного дискурса с другими типами дискурса. Библиографический список Алексеева Л.М., Мишланова Л.М. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь, 2002. Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция: анализ журналистских текстов. М., 2008. Гак В.Г. Проблемы структурной лингвистики. М., 1973. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX в. (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX в. М., 1995. Лузина Л.Г. О когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистического знания // Парадигмы научного знания в современной лингвистике. М., 2006. Мишланова С.Л., Уткина Т.И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе. Пермь, 2008. Никонова Ж.В. Основные этапы фреймового анализа речевых актов // Вестник Нижегородского университета Н.И. Лобачевского. 2008. № 6. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001. Чернявская В.Е. Интертекстуальность и интердискурсивность // Текст – дискурс – стиль: коммуникация в экономике. СПб., 2003. Источники Alimschan Tochtaschunow soll bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City eine führende Rolle in einem Betrugsskandal gespielt haben // Stern. 04.08.2002. Das Sportgericht greift ein // Spiegel. 15.02.2002. Die hässlichen Kratzer der Manipulation // Berliner Zeitung. 21.01.2003. Die Spur führt zur Russenmafia // Spiegel. 01.08.2002. Diese Wertung ist Betrug // Spiegel. 12.02.2002. Eiskunstlauf: Kanadier ohne Happy-End // Handelsblatt. 12.02.2002. Hiphop und Soldatenchörche // Berliner Zeitung. 15.03.2005. Nachträglich Gold für Kanada // Spiegel. 15.02.2002. Neues von den Betrügern // Berliner Zeitung. 16.02.2002. Russen sehen sich zu Recht vorne // Handelsblatt. 15.02.2002. А.Т. Ашхарава, А.П. Брейкина Метафорические наименования судов в военно-морском жаргоне Изучение когнитивной лингвистикой языка как общего когнитивного механизма связано с определением его роли в репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации [Кубрякова и др., 1996, с. 53]. Описание языковых способов кодирования информации осуществляется на основе когнитив______________ © Ашхарава А.Т., Брейкина А.П., 2009 288 ного анализа языковых единиц разных уровней, в первую очередь лексического, и нацелено, в частности, на установление форм представления знаний в языке, характеристику когнитивных процессов, связанных с образованием и употреблением языковых единиц. Одним из важнейших когнитивных процессов, суть которого заключается в видении одного объекта через другой, а также особым способом репрезентации знания в языковой форме считается метафора. Ее изучение связано с определением когнитивных моделей, лежащих в основе формирования новых понятий, и базируется на анализе метафорических наименований. В результате устанавливаются типы метафор, задающие аналогии и ассоциации между разными системами понятий и порождающие частные метафоры, имеющие различное языковое выражение. В данном исследовании предпринимается анализ частных метафор, ограниченный характеристикой тех мыслительных операций, которые сопровождают видение одного объекта через другой. В сфере нашего внимания оказались лексические единицы военно-морского жаргона, полученные с помощью анкетирования, которое проводилось в 2006 и 2008 гг. среди военных моряков г. Северодвинска. В анкетировании приняли участие служащие военно-морского флота разных должностей и специальностей (всего 31 человек). Обработка анкет позволила получить в качестве материала исследования 86 жаргонизмов, значительная часть которых является метафорами – словами с особым способом существования значения. Данные единицы привлекли наше внимание, с одной стороны, яркой образностью, с другой – принадлежностью к особой сфере человеческой деятельности. Анализ жаргонизмов в когнитивном аспекте интересен, на наш взгляд, тем, что он позволяет установить оценки, актуальные для определенной социальной группы, а также проследить взаимодействие специальных и обыденных знаний. В военно-морском жаргоне с помощью метафорического переноса образованы названия моряков (вратарь – ‘матрос, стоящий на КПП’), воинской формы и ее деталей (чепчик – ‘бескозырка’), предметов быта (весло – ‘ложка’), предметов, используемых в работе (букварь – ‘инструкция’) и др. Метафорами являются наименования различных видов судов. Наш материал содержит названия атомной подводной лодки (далее – АПЛ), гражданских судов (транспортных) и военных кораблей (противолодочных). Рассмотрим данные группы слов. Жаргонными обозначениями АПЛ являются слова коробка, ведро, корыто, старуха. Имя коробка отражает признак закрытости судна: коробка – это ‘вместилище для чего-либо в виде ящика или другой формы’ [СОШ, с. 382]. Признак формы в этом случае является основой для сопоставления метафоризирующего и метафоризируемого элементов. Однако, на наш взгляд, более важным для субъекта номинации является выражение в слове оценки одной из сторон службы на АПЛ: нахождение в замкнутом пространстве в течение долгого времени и связанные с этим сложности. Иные пространственные характеристики имеют метафоризирующие элементы ведро и корыто. Однако для метафоры ведро не только признак формы оказывается актуальным. Метафорический перенос ведро – АПЛ основывается на более сложном пересечении признаков двух предметов: значимым оказывается 289 предназначение предмета, предполагающего контакт с водой, способ осуществления этого контакта – погружение в воду. Имя ведро также передает эмоционально-оценочный опыт, связанный со службой на АПЛ. По крайней мере, интерпретация данного жаргонизма людьми, имеющими опыт погружения на АПЛ, позволяет говорить об этом: состояние в некоторые моменты погружения и пребывания на АПЛ характеризуется выражением как с ведром на голове. Итак, имена коробка и ведро ориентированы, с одной стороны, на признаки АПЛ как особого технического объекта, с другой – отражают оценки, определенный эмоциональный опыт, связанный с несением службы на АПЛ. Имя корыто, в отличие от предыдущих имен, применимо не только по отношению к АПЛ, но и к надводным судам (корытом могут назвать и обычную лодку, и транспортные, и пассажирские суда). Более того, с надводными судами имя корыто соотносится в гораздо большей степени, чем с АПЛ, поскольку передает особенности их внешнего вида. Основанием метафорического переноса при этом является самое общее сходство формы. Данная метафора легко интерпретируется носителями языка, для ее понимания не требуется специальных знаний. Использование имени корыто по отношению к АПЛ объяснимо, на наш взгляд, его «универсальностью», «всеохватностью». Мотивация имени старуха неоднозначна. Оно используется для обозначения лодки, которая готовится на утилизацию в связи с длительным сроком использования. В основе данной метафоры лежит сопоставление по возрастному признаку. Подобный перенос значения понятен носителям русского языка и ориентирован на общие свойства технических объектов, имеющих ограниченный срок службы. Иная ситуация складывается с использованием имени старуха для обозначения АПЛ безотносительно к сроку службы. Такое употребление основывается на разговорном значении слова старуха – ‘шутл., пренебр. жена’ [Химик, с. 584]. Оно отражает особое отношение к техническому объекту, характеристики которого определяют условия и образ жизни служащего. Отметим, что для данного обозначения характерна нарочитая небрежность, фамильярность, возможная в обращениях к особо близким людям. Это служит своего рода свидетельством вхождения номинируемого предмета в личную сферу субъекта номинации. Подобная оценка закреплена и в некоторых названиях транспортных судов, а также противолодочных кораблей. Транспортные суда в военно-морском жаргоне обозначаются именами бандура и калоша. В семантике имени бандура заложена рациональная отрицательная оценка соответствующего предмета: бандура – это ‘громоздкий нескладный предмет’ [СОШ, с. 125]. Представляется, что использование слова в качестве жаргонизма сопряжено с развитием эмоционально-оценочного компонента значения: в слове ощущается пренебрежительное отношение к предмету номинации. Нейтральное в стилистическом и эмоционально-оценочном отношении имя калоша, становясь жаргонизмом, приобретает оценочность, и, как нам кажется, также выражает снисходительное отношение к объекту номинации. Перед нами метафоры, основанные на ассоциации по внешнему сходству предметов. При этом калоша оказывается в ряду таких номинаций, как корыто и ведро, поскольку все они обозначают предметы, пространственно ограничен290 ные с трех сторон. Предметы быта и объекты техники объединяет образ вместилища. Контраст между сопоставляемыми предметами, а также собственно лингвистические признаки обозначающего позволяют выразить эмоциональнооценочное отношение к обозначаемому, интерпретировать которое нужно с учетом профессионального опыта субъектов номинации. Для обозначения противолодочных кораблей в военно-морском жаргоне используются имена молодой – ‘малый противолодочный корабль’ и танк – ‘большой противолодочный корабль’. Как и в случае с жаргонизмом старуха (АПЛ), в качестве метафорического наименования функционирует обозначение человека по возрасту, при этом ощутима та же фамильярность и снисхождение, источником которой также является разговорная речь. Имя молодой используется в разговорной речи для обозначения новичка в той или иной сфере деятельности. В этом случае оно является сниженным, обычно выражает отрицательную оценку: Набрали молодых, ничего не умеют! Используется оно и в качестве пренебрежительного обращения к лицам младшего возраста: Иди сюда, молодой! [Химик, с. 328]. Отрицательная оценка вызвана либо отсутствием необходимых профессиональных качеств у неопытного человека (новичка в каком-либо деле), либо отсутствием социальной зрелости в силу юного возраста. Оценка, заключенная в семантике жаргонизма, также обусловлена отсутствием у объекта номинации определенных качеств: малый противолодочный корабль уступает большому противолодочному кораблю в размерах и возможностях. Данная метафора интерпретируется с учетом не только ассоциативных связей между двумя ее членами, но и с учетом сопоставления предметов одного топологического класса, один из которых подвергается метафоризации. Слова молодой – малый оказались соотнесенными и по сходству звучания, вызванному родственностью корней. Метафора танк основана на сопоставлении размера корабля с размером танка. На первый взгляд, это кажется странным: желая подчеркнуть большой размер корабля, его сравнивают с техникой меньшего размера. Когнитивной основой данной номинации является такое сопоставление: большой противолодочный корабль имеет размер, превосходящий размеры других подобных кораблей, так же, как и размер танка превосходит размеры других единиц боевой техники, используемой на суше. Вероятно, имеет значение не только размер, но и «внушительность» того или иного вида боевой техники. На сегодняшний день существуют не менее грозная боевая техника, используемая на суше, чем танк, однако традиционные представления, возникшие, возможно, под влиянием средств массовой информации, различных видов искусства (документальных и художественных военных фильмов, произведений о войне и др.), о танке как о единице «внушительной» оказываются сильнее. Не случайно именно слово танк используется в разговорной речи для обозначения человека крайне настойчивого в достижении своих целей [Химик, с. 601]. Существование данной метафоры обусловлено не столько профессиональными знаниями, сколько традиционными представлениями о «внушительности» той или иной единицы боевой техники. Однако можно предположить, что для метафорического переноса значимыми оказываются определенные свойства боевых единиц, высокая степень проявления которых значима для боеспособности техники: степень прохо291 димости, устойчивости танка и способность держаться на курсе, непотопляемость, умеренная качка судна. Таким образом, метафора базируется на сложном комплексе ассоциаций, предполагающих сопоставление на основе общепринятых представлений о единицах боевой техники, а также профессиональных знаний. Для семантики жаргонных наименований судов, по всей видимости, важна категория количества, в частности признак размера. Данный признак, а также признак множества значимы для возникновения ассоциаций, обусловливающих появление жаргонных метафорических наименований иных реалий, например: нора – ‘помещение для сна’, БТР – ‘бельевая’, улей – ‘шкафчик для хранения термометров’. При этом названные признаки сочетаются с другими: метафора нора предполагает сопоставление признаков размера и предназначения. Не лучшие с точки зрения комфорта условия обусловливают ассоциативную связь «человек» – «животное», которую «поддерживает» наличие в русском языке широкого круга зоосемизмов. При этом данная номинация не является грубой, а, скорее, иронической. Жаргонизм улей также основан на цельном образном сравнении: сравнивается форма предметов (содержащее), количество и размер предметов (содержимое). Жаргонизм БТР представляет собой аббревиатуру из профессионального языка сухопутных войск, используемую для обозначения бронетранспортера, то есть боевой бронированной колесной или гусеничной машины повышенной проходимости, предназначенной для транспортировки мотострелковых подразделений к полю боя и для огненной поддержки. Ассоциация, по-видимому, возникает на основе признака ‘множество предметов’: людей в БТР и одежды, постельных принадлежностей в бельевой. Возможно, сближению данных явлений способствовало и незначительное созвучие слов: бельевая – БТР. Таким образом, когнитивной основой части жаргонных метафорических наименований является образ вместилища. Метафорический перенос в этом случае возникает на основе сопоставления пространственных характеристик предметов. Однако в большинстве случаев ассоциации основаны на пересечении нескольких признаков предметов. Жаргонные метафорические наименования проясняют ценностные ориентации носителей жаргона. Библиографический список Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1997. Словари Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2002. (В тексте – СОШ.) Химик В.В. Большой словарь разговорной русской речи. М., 2004. (В тексте – Химик.) Е.А. Федорченко О жаргоне наркобизнеса в современном русском языке ______________ © Федорченко Е.А., 2009 292 Реконструкция русской языковой картины мира начала ХХI в. окажется неполной без изучения социолектов, жаргонов «людей темных профессий», среди которых заметное место занимает, к сожалению, активно развивающийся жаргон наркобизнеса. В настоящее время незаконная торговля наркотиками (наркобизнес) – это уже отрасль теневой экономики и вид транснациональной преступности. Колоссальные финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом наркотиков, «привлекают» людей, резко различающихся и социальным статусом, и уровнем интеллектуального развития. Однако необходимо заметить, что в данной социальной среде даже индивиды с примитивным сознанием, далекие от изучения лингвистических вопросов, осознают свою «языковую исключительность». Для того чтобы заниматься незаконным распространением наркотиков, необходимо знать музыку. И человека, знающего жаргон торговцев наркотиков, в данной среде называют музыкантом. Незаконным оборотом наркотиков обусловлено формирование специфической разновидности языка, имеющей ярко выраженные черты жаргона (арго). Вслед за В.Н. Прохоровой, мы пользуемся термином «жаргон», допуская использование термина «арго» как разновидности жаргона [Прохорова, 2000, с. 7]. Как и иные жаргоны преступного мира, жаргон наркобизнеса характеризуется корпоративностью, эзотеричностью и особой ассоциативностью используемой лексики. Причем большинство номинаций предназначены исключительно для данной социальной общности и совершенно непонятны носителю языка, не связанному с незаконным оборотом наркотиков: паук – ‘татуировка на руке, которая обозначает, что ее владелец употребляет наркотики’; католик – ‘марихуана’; гмара – ‘дым при курении гашиша’; пятак – ‘традиционное место встреч у наркоманов’; выставить маяк гонцу – ‘предупредить об опасности перевозчика наркотиков’. Вместе с тем в жаргоне наркобизнеса представлены наименования, значения которых понятны практически любому носителю языка: глюки – ‘видения, бред’; кайф – 1) ‘состояние наркотического опьянения’; 2) ‘наркотик (наркотики)’; быть под кайфом, поймать кайф – ‘находиться в состоянии наркотического опьянения’; кайф ломать – 1) ‘портить настроение’; 2) ‘лишать удовольствия’; кайф сорвать – 1) ‘испортить настроение’; 2) ‘нарушить планы’ и др. Жаргон наркобизнеса в целом характеризуется полиномией, причем чем выше в данной среде использования языка значимость той или иной обозначаемой реалии, тем большее число номинативных единиц задействуется для актуализации такой реалии в речи. Например, для общего обозначения наркотиков употребляются слова: дурь, дрянь, гадость, балда, бешеные, зараза, кислота, кайф, антрацит, дори, кишмиш, кокнар, граммофон, кошки, хумара и некоторые др. Заметим, многие из вышеперечисленных номинаций – это слова из разговорной речи с резко отрицательным оценочным значением. На основе таких однословных наименований образуются словосочетания (вагон дури – ‘большое количество наркотиков’) и наименования аналитического типа: дурь женатая – ‘гашиш, смешанный с табаком’; дурь из мутной воды – ‘фальсификат гашиша’; дурь центровая – ‘гашиш, поставленный из Средней Азии’. Полагаем, асимметрия объектов номинации и языковых средств номинации (использование значительного количества языковых единиц для наименования 293 одной реалии) обусловлена, с одной стороны, спецификой значения арготического слова, с другой – ассоциативностью процессов номинации в жаргоне. Способы толкования в словарях значения жаргонного слова не имеют отличий от толкований общеупотребительных слов, между тем исследователи неоднократно отмечали отличия семантической структуры слова, используемого в арго, от семантической структуры «нормального» слова. Значение арготического слова более текучее, расплывчатое. Многие арготизмы можно охарактеризовать просто как интенсификаторы или экспрессивы [Беликова, 2002, с. 76]. Непосвященному человеку понять жаргон наркоманов и наркоторговцев весьма непросто не только в силу специфической полиномии, но и ассоциативности, определенного рода алогичности «жаргонного мышления». В отличие от многих профессиональных языков, научных терминосистем с четко выраженными гипогиперонимическими отношениями специальных понятий жаргон наркобизнеса характеризуется своеобразной бессистемностью явлений полисемии, омонимии и синонимии. Например: дурь – 1) ‘общее название наркотиков’; 2) ‘опий’; дурь в дабане – ‘гашиш, находящийся в камере хранения’; дом – 1) ‘гашиш’; 2) ‘гроб’ и сравните ряд иных наименований гашиша в жаргоне наркобизнеса: гейфа, дуд, жомба, кенаф, чера / чира, шарас, халва, сары, галька, ямба, римба, ганджа / гянджа, смешной табак, турецкий табак, кизяк, лиамба, малак, моль, мотяк, опилки; клевер – 1) ‘гашиш низкого качества’; 2) ‘сырец гашиша’; мох – 1) ‘сырец гашиша’; 2) ‘табак’; дрянь больная – ‘некачественный гашиш’; давать по мозгам – ‘курить гашиш’; дать толчок мозгам – ‘нанюхаться кокаина и впасть в состояние наркотического опьянения’; дори – 1) ‘общее название наркотиков’; 2) ‘водка’; кислота – 1) ‘наркотическое вещество’; 2) ‘ЛСД-25’; дурдецело – 1) ‘гашиш’; 2) ‘наркоман’. В жаргонизм нередко превращается общеупотребительное слово, если оно ассоциативно может быть интерпретировано как гипероним по отношению к обозначаемой реалии. Носитель социолекта для наименования конкретного предмета или понятия использует слово с более общей семантикой (гипероним) или слово, с которым ассоциативно могут быть установлены гипо-гипонимические отношения. Указанные две разновидности номинативных единиц в отдельных случаях (преимущественно при полисемии) дифференцируются нечетко, что позволяет говорить об определенном синкретизме (одновременном действии) различных способов номинации. Например: агрегат – 1) ‘весы, на которых наркоторговцы взвешивают наркотические вещества’; 2) ‘электроприбор для варки чифиря’; аппарат – ‘шприц для инъекции наркотиков’; машинка (машина) – 1) ‘шприц для инъекции наркотиков’; 2) ‘самодельное устройство для заварки чифиря’. С описываемыми семантическими процессами гиперонимизации, характеризующимися использованием слов с обобщенной семантикой для наименования конкретных реалий, сближаются процессы метафоризации, широко распространенные во многих сферах использования национального языка. Общеупотребительное слово, конкретное или вещественное, в жаргоне наркобизнеса метафоризируется и, таким образом, приобретает способность номинировать различные реалии, имеющие особую актуальность для данной социальной группы носителей языка. Например: гнездо – ‘притон наркоманов’; дырка – ‘канал, через кото294 рый наркотики приобретаются большими партиями’; дырявая нитка – ‘место на границе, через которое контрабандисты переправляют наркотики’; мул – ‘перевозчик наркотиков’; керосин – ‘жидкие наркотики, вводимые в вену’; контора – 1) ‘наркопритон’; 2) ‘тюрьма’; 3) ‘место сбора шулеров, мошенников, наркоторговцев’; черный глаз – ‘работник таможни’; темнота – 1) ‘наркотики’; 2) ‘наркотик, используемый для усыпления жертвы’; обезьяна – ‘начинающий принимать наркотики’; мел – ‘кокаин’. Жаргон наркоторговцев в силу ряда экстралингвистических факторов не может быть обособлен от «тюремного» жаргона, так называемого воровского арго, что проявляется в использовании интержаргонной лексики в специализированном и общем жаргонном значении: хрусты, цифры, знаки, дрожжи – ‘денежные купюры’; тонна, кусок – ‘1000 рублей’; чистоганить – ‘платить за наркотики наличные деньги’; хай – 1) ‘крик, шум’; 2) ‘возмущение, недовольство’; 3) ‘кульминационный момент действия наркотика’; цихнар – 1) ‘чай’; 2) ‘настой из маковых головок’; усыпить – ‘отравить жертву сильнодействующим наркотиком или ядом’; устроить фестиваль – ‘употреблять наркотики или пьянствовать в компании’; осоветь – 1) ‘быть в сильном наркотическом или алкогольном опьянении’; 2) ‘признаться в совершении преступления’; отвертеть угол с дрянью – ‘украсть чемодан с наркотиками’; вара – ‘контрабанда’; варила – ‘контрабандист’; малина – ‘воровской притон’. Приведенные примеры позволяют говорить о том, что семантические процессы, наблюдаемые при образовании жаргонизмов, характерны для лексической системы национального языка в целом. Изучение жаргонов, субстандарной лексики в ее связи с социокультурным контекстом представляет уникальные примеры взаимодействия и взаимовлияния различных пластов лексики национального языка и в определенной мере может влиять на оценку реальных перспектив дальнейшего развития современного русского языка. Библиографический список Беликова Н.Н. Словарь жаргонной лексики: проблемы и опыт // От словаря В.И. Даля к лексикографии ХХI века. Владивосток, 2002. Прохорова В.Н. О «социальных диалектах» и жаргонной лексике в современном русском языке (языке конца ХХ и начала ХХI веков) // Пятые Поливановские чтения: сб. науч. ст. Ч. 1. Общее и сопоставительное языкознание. Социолингвистика. Смоленск, 2000. 295