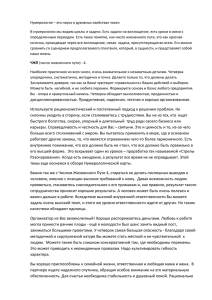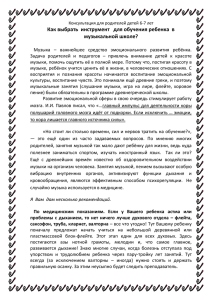курс лекций по психологии творчества
advertisement
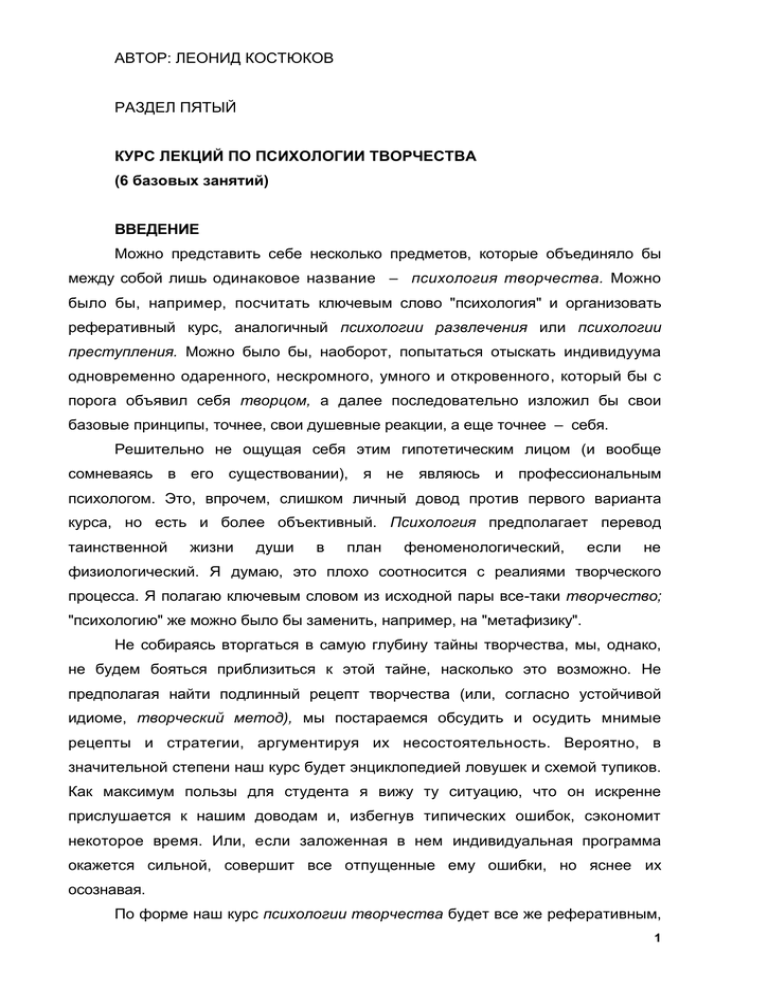
АВТОР: ЛЕОНИД КОСТЮКОВ РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА (6 базовых занятий) ВВЕДЕНИЕ Можно представить себе несколько предметов, которые объединяло бы между собой лишь одинаковое название – психология творчества. Можно было бы, например, посчитать ключевым слово "психология" и организовать реферативный курс, аналогичный психологии развлечения или психологии преступления. Можно было бы, наоборот, попытаться отыскать индивидуума одновременно одаренного, нескромного, умного и откровенного, который бы с порога объявил себя творцом, а далее последовательно изложил бы свои базовые принципы, точнее, свои душевные реакции, а еще точнее – себя. Решительно не ощущая себя этим гипотетическим лицом (и вообще сомневаясь в его существовании), я не являюсь и профессиональным психологом. Это, впрочем, слишком личный довод против первого варианта курса, но есть и более объективный. Психология предполагает перевод таинственной жизни души в план феноменологический, если не физиологический. Я думаю, это плохо соотносится с реалиями творческого процесса. Я полагаю ключевым словом из исходной пары все-таки творчество; "психологию" же можно было бы заменить, например, на "метафизику". Не собираясь вторгаться в самую глубину тайны творчества, мы, однако, не будем бояться приблизиться к этой тайне, насколько это возможно. Не предполагая найти подлинный рецепт творчества (или, согласно устойчивой идиоме, творческий метод), мы постараемся обсудить и осудить мнимые рецепты и стратегии, аргументируя их несостоятельность. Вероятно, в значительной степени наш курс будет энциклопедией ловушек и схемой тупиков. Как максимум пользы для студента я вижу ту ситуацию, что он искренне прислушается к нашим доводам и, избегнув типических ошибок, сэкономит некоторое время. Или, если заложенная в нем индивидуальная программа окажется сильной, совершит все отпущенные ему ошибки, но яснее их осознавая. По форме наш курс психологии творчества будет все же реферативным, 1 но в качестве источников мы будем использовать не учебники и брошюры, а собственно вершины художественной литературы, где гений, зачастую бессознательно, выражает себя. Мы возьмем за правило внимательное чтение и наиболее буквальную трактовку текста, не увлекаясь далекими интерпретациями и не пытаясь навязать автору собственную мысль. Мы постараемся исходить из своеобразной презумпции искренности и точности – автору незачем лукавить, а вернее – заведомо не лжет совершенное художественное произведение; сам феномен его воздействия и бессмертия в культуре есть признак истины, более того – есть сама истина в высшей из доступных человеку форм. Лекция №1. ТАЛАНТ. Начнем с очень естественных, даже банальных наблюдений и утверждений. Первый серьезный вопрос, встающий перед начинающим писать человеком, заключается в том, а стоит ли ему углубляться в это дело. Допустим, ему удавались поздравления одноклассницам с 8 марта и сатиры на учителей. Но есть смутная опасность в выражении более глубоких эмоций и настроений. Страх и стыд, сопровождающий переход от низкого жанра к высокому, вопреки здравому смыслу, не относится к самому чувству, самому факту откровенности. Юноша легко доверит другу, а девушка – подруге все свои секреты и сомнения, но напрямую, вне художественной формы. Трепет, стало быть, сопровождает само воплощение, и боится человек оказаться: топорным, неточным, бездарным. Итак, писать или не писать? Известен и ответ: есть талант – пиши, а нет его – не стоит и связываться. Но это ответ общий, а надобен частный. И человек пускается в долгое, нервное и хлопотное прояснение проклятого вопроса: а талантлив ли я? На первый взгляд, хорошо это или плохо, но иначе и быть не может, и спорить с данным порядком вещей все равно, что с погодой. Допустим (на время). И попытаемся суммировать то, что нам известно о таланте. 1. Талант невозможно "разложить" на составляющие: ум, например, вкус, восприимчивость. Талант есть специальное созидательное свойство человека. 2. Талант не зависит от остальных человеческих качеств и может достаться человеку беспутному, глупому или безнравственному. Синоним 2 таланта – дар. Суждение пушкинского Моцарта о том, что гений и злодейство – две вещи несовместные, ощутимо отделяет гений от таланта. 3. Присутствие таланта полностью и чудесным образом решает основные творческие проблемы. Его счастливый обладатель может лишь долгой и активной злонамеренной деятельностью утратить дар (пропить, прогулять, продать). Тут обычно поминают евангельскую притчу о рабе, зарывшем свой талант в землю. 4. Человек вполне владеет своим талантом. Мы с трудом можем себе представить узкий талант; само это словосочетание иронично. Широта таланта предполагает полную свободу его применения. прикосновению и Мидаса, талант преображает Подобно ничтожные, служебные творения. 5. Талант умножается на труд. 6. Без таланта немыслим подлинный успех в литературе. 7. Открытым остается вопрос о возможности счастливого развития таланта. Но скорее речь противном случае росток таланта, нам пойдет лишь надо о раскрытии его, будет предположить малый талант – а это в потому что начале в некий нарушит всю фатальность картины. Кто возьмется отказать дебютанту в ростке? Кто, с другой стороны, сумеет его распознать? Скорбный дуализм всего происходящего основан на том, что талант (как и любовь, и вдохновение, и верность) может быть только огромен, иначе говоря, лишен градации по размеру, либо он есть, либо его нет. Прочитайте еще раз этот список из семи свойств. Согласитесь с тем, что нарушение любого из них обессмысливает само слово талант, лишает его пафоса. А переходя от слов к делу – выбивает почву из-под наших ног. Опорный вопрос дебюта перестает быть опорным. Слава Богу, у нас есть ряд свидетельств в пользу стандартного взгляда на проблему. "...Ты не глуп: как же у неглупого человека в нескольких пудах сочинений не найти удачной мысли? Так ведь это не талант, а ум. <...> Все испытывают эти вещи, – продолжал Петр Иваныч, обращаясь к племяннику, – - кого не трогают тишина или там темнота ночи, что ли, шум дубравы, сад, пруды, море? Если бы это чувствовали одни художники, то некому было бы понимать их. А отражать все эти ощущения в своих произведениях – это другое дело: для этого нужен талант, а его у тебя, кажется, нет. Его не скроешь: он блестит в каждой строке, в каждом ударе кисти..." (И.А.Гончаров, "Обыкновенная история"). О безнравственной и неумной природе таланта – у Бунина в "Автобиографических заметках" насчет Хлебникова и в "Третьем Толстом", 3 естественно, об А.Н.Толстом: "Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменил его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того, и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием." "Третий Толстой" – так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов "Петр Первый", "Хождение по мукам", многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых – граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен Ивана Грозного "Князь Серебряный", и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого третьего Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ничуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой "советской" России, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще немало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже, и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным "советским" писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф, да еще Толстой. Недаром "сам" Молотов сказал на каком-то "Чрезвычайном восьмом съезде советов": "Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!" Последние слова Молотов сказал тоже недаром: ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого "великим писателем земли русской". В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дурковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь "Алешкой", хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной, настойчивой, – постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, 4 иногда, в каком-нибудь "салоне", сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много, жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник он был первоклассный." Как символ господства человека над своим даром существует Импровизатор из пушкинских "Египетских ночей". Этот рассказ так важен для нас, что непременно перечитайте его. Мы не раз вернемся к "Египетским ночам". Страшно осязаемую метафору таланта дает Марина Цветаева в стихотворении "Леты подводный свет...": Леты подводный свет, Красного сердца риф, Застолбенел ланцет, Певчее горло вскрыв: Не раскаленность жерл, Не распаленность скверн – Нерастворенный перл В горечи певчих горл. Горе горе! Граним, Плавим и мрем – вотще. Ибо не растворим В голосовом луче Жемчуг... Железом в хрип, Тысячей пил и сверл – Неизвлеченный шип В горечи певчих горл. О решающей силе таланта, более того – о нем как о единственно решающей силе в искусстве – роман Сомерсета Моэма "Луна и грош", особенно если обратить внимание на фигуру Дирка Стрёва, наделенного всеми счастливыми качествами кроме таланта, – "негатив" Стрикленда: "Из рук вон плохой художник, он необычайно тонко чувствовал искусство, и ходить с ним по картинным галереям было подлинным наслаждением. Способность к неподдельному восторгу сочетались в нем с критической остротой. Дирк был католик. Он умел не только ценить старых мастеров, но и с живой симпатией относиться к современным художникам. Он быстро открывал новые таланты и великодушно судил о них. Думается, я никогда не встречал человека со столь верным глазом. К тому же он был образован лучше, чем большинство художников, и не был, подобно им, полным невеждою в других искусствах; его музыкальный и литературный вкус сообщал глубину и разнообразие его суждениям о живописи. Для молодого человека, каким я был тогда, советы и объяснения Дирка Стрёва поистине значили очень много." 5 Еще важнее для нас с вами не свидетельства о таланте, а свидетельства таланта. Их легко обнаружить среди ранних шедевров великих мастеров, когда ни духовный опыт, ни душевная зрелость, ни даже интеллект не могли еще вмешаться, и мы можем наблюдать явление чистого дара. Таковы ранние стихи той же Цветаевой, Есенина, Пастернака. Рассказы Чехонте. "Столбцы" Заболоцкого. Пролистайте их. Но не стоило бы тратить столько сил и времени на подтверждение очевидного. Теперь мы повернем на 180 градусов и не то чтобы разрушим наше строение (это было бы невозможно), а поколеблем его. Этого станет достаточно, чтобы разрушить фатальность изначальной постановки вопроса и коренным образом его пересмотреть. Для этого мы должны решить еще один вопрос – о доверии собственному вкусу. Вопрос этот не так прост, как кажется на первый взгляд. Хорошо, если я испытываю искренний восторг при чтении, например, "Я вас любил...". Тут не возникает никакого конфликта. А если я не испытываю этого восторга? Всякое идущее от моей души суждение об этом стихотворении неизбежно окажется хамским. Допустим, я осознаю возникающий дисконтакт как собственный вкусовой пробел и полностью доверяю авторитету Пушкина, да и культуры в целом. Я с легкой душой признаю это стихотворение великим – но что же дальше? Позиция следования культурной иерархии приведет меня в итоге к полному вкусовому тупику, когда любой шутник, сменив этикетки, выставит меня посмешищем. Но и это не самое страшное, подлинно страшно то, что в покорном усвоении чужих оценок нет ни удовольствия, ни восторга, ни любви. И все-таки лучше любить Евтушенко, чем повторять, что Пушкин выше Фета. Тем более, что вкус можно развить, то есть, со временем можно полюбить те или иные признанные образцы. Итак, мы опираемся на собственный вкус хотя бы потому, что иные стратегии бесперспективны. Для начала доверие к себе позволит нам выстроить собственные иерархии, например, внутри корпуса стихотворений Блока или Гумилева. Сличение их выявит неполную субъективность нашего выбора. Более того, мы находим устоявшуюся в культуре градацию произведений одного автора. Мы приходим к выводу о существовании самых разнообразных способах чередования удач и провалов. Между тем, в текстоцентричном мире само понятие таланта автора 6 становится лишь гипотезой. Говоря иначе, большинство реальных творческих судеб не объяснимо одним талантом или даже талантом как основным аргументом. В самом деле, если у поэта есть одно – ну, пусть несколько замечательных стихотворений, стало быть, он талантлив. А если он талантлив, отчего бы не быть замечательными его остальным стихам? Талант обеспечивает известную равномерность творческого ряда. Ну, за вычетом начала (талант еще не раскрылся), иногда финала (талант растрачен), редких отдельных неудач (ошибки). Но жизнь прямо опровергает эту гипотетическую равномерность. Абсолютные вершины Блока рассредоточены среди посредственных стихов. Гений Георгия Иванова проявляется после шести (!) заурядных поэтических книг. Творчество Гумилева, Заболоцкого, Пастернака, Чехова претерпевает такие изменения, что мы затруднимся сформулировать черты их дарований. Талант никак не объясняет периоды молчания (Пастернак – 6 лет, Мандельштам – 5, Иванов – 10, Ходасевич – пожизненно). Не забегая вперед, сейчас мы можем лишь твердо констатировать: как локально (во время создания отдельного текста), так и глобально (в целые периоды творчества) существуют другие факторы, не менее существенные, чем талант. Это в корне изменяет авторскую стратегию. Наблюдая за отдельными удачами, мы будем вынуждены признать: талантом отмечены сотни, если не тысячи молодых писателей. То, что в итоге состоятся из них единицы, заставляет иначе взглянуть на евангельскую притчу о рабе. Ее стандартная трактовка основана, на мой взгляд, на случайной игре слов. Ее вывод (что если талант нормально эксплуатировать, так все будет хорошо) неоправданно оптимистичен. На деле нужны неимоверные творческие и интеллектуальные усилия, чтобы претворить талант во что-то реальное. Пресловутый труд необходим, но ничего не решает. Не стоит переоценивать и возможности раннего распознавания таланта. Как талантливейшие люди своих сред и эпох отмечались: Бальмонт, Белый, Вяч.Иванов, Хлебников, Роальд Мандельштам, Горбовский, Голявкин, Губанов, Красовицкий, Шпаликов. О каждом из них слагались прижизненные легенды. Нельзя сказать, что вклад их в российскую словесность совсем нулевой. Но он несопоставим с эманацией их личностных начал. Итак, выяснение собственной одаренности – гиблое дело. 7 Эгоцентрический пафос этого периода мешает автору сосредоточиться на тексте. Окончательного ответа он не получит ниоткуда. А главное, пусть ты талантлив – что дальше? Талант – это когда легче делать хорошо, чем плохо. Но что делать? Сопряженная с талантом свобода становится для автора испытанием. Талант – средство, но цель ты определяешь сам. В предельной, но достаточно точной метафоре талант – всемогущество, волшебная палочка. Но сказка не кончается обретением волшебной палочки, а начинается с этого. Пусть ты можешь все, что хочешь. Но теперь в полный рост встает вопрос, чего же ты хочешь. Это главная проблема, связанная с талантом. Талант зачастую выражает лишь убожество человеческих идеалов и притязаний. Вообще талант гораздо лучше подходит к проблемам исполнения, чем сочинения. Пианист именно талантлив, но назвать талантливым Баха или Рахманинова не поворачивается язык. А закончить лекцию мне хотелось бы притчей, но не евангельской, а китайской: некий человек отбывает в северную провинцию. "Ты спутал направление и едешь на юг", – говорит ему мудрец. "Зато, – парирует путешественник, – у меня прекрасные кони и отличная повозка". Лекция №2. ПУТЬ. Итак, если посчитать талант конями и повозкой, или, в более современном нам выражении, двигателем, то возникает нужда в руле и карте местности. Так или иначе, появляется образ пути. В нашем текстоцентрическом ракурсе мы будем воспринимать путь как внутреннее движение: от произведения к произведению. Внешние события, биография автора для нас интересны лишь как комментарии к внутреннему пути. То есть, в фокусе нашего внимания не маршрут Пастернака в литературу через живопись, философию и музыку и не перечень профессий Зощенко. Мы определим путь как те устойчивые различия, которые возникают между произведениями одного автора в разные периоды. Так возникает оппозиция между путем и талантом (как тем общим, что пронизывает все творчество одного автора). Для пишущего человека талант, обладает он им или нет, есть понятие праздное. Путь, наоборот, – понятие конструктивное. 8 Чтобы убедиться в реальной важности пути, сопоставим конкретные произведения. Николай Гумилев "до опыта": ПОСЛЕ ПОБЕДЫ Солнце катится, кудри мои золотя, Я срываю цветы, с ветерком говорю. Почему же не счастлив я, словно дитя, Почему не спокоен, подобно царю? На испытанном луке дрожит тетива, И все шепчет, и шепчет сверкающий меч. Он, безумный, еще не забыл острова, Голубые моря нескончаемых сеч. Для кого же теперь вы готовите смерть, Сильный меч и далеко-стреляющий лук? Иль не знаете вы: завоевана твердь, К нам склонилась земля, как союзник и друг; Все моря целовали мои корабли, Мы почтили сраженьями все берега. Неужели за гранью широкой земли И за гранью небес вы узнали врага? Николай Гумилев "после опыта": НАСТУПЛЕНИЕ Та страна, что могла быть раем, Стала логовищем огня, Мы четвертый день наступаем, Мы не ели четыре дня. Но не надо яства земного В этот страшный и светлый час, От того что Господне слово Лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели Ослепительны и легки, Надо мною рвутся шрапнели, Птиц быстрей взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, Это медь ударяет в медь, Я, носитель мысли великой, Не могу, не могу умереть. Словно молоты громовые Или воды гневных морей, Золотое сердце России Мерно бьется в груди моей. 9 И так сладко рядить Победу, Словно девушку, в жемчуга, Проходя по дымному следу Отступающего врага. Стихотворения Гумилева "После победы" и "Наступление" связаны общей темой. Маршрут между ними следующий: первое умозрительно; его пишет вчерашний гимназист на историческом материале. Автор же второго – русский офицер, герой Первой Мировой. Интересно, что реальное переживание не обогащает эмоциональный ряд, а обедняет его. Взамен того вырастает сила стихотворения. И на волне этого чувства Гумилев прорывается к гениальному ощущению судьбы, ощущению неслучайности происходящего: Я, носитель мысли великой, Не могу, не могу умереть. Путь Гумилева, как и Иннокентия Анненского, заключается в уничтожении дистанции между автором и героем. Но в отличие от Анненского, отказавшегося от романтического героя и поставившего в центр лирического мира частное лицо, Гумилев становится романтическим героем. Что важно для нас, накопление Гумилевым опыта может происходить постепенно, но каждое конкретное его стихотворение может быть твердо квалифицировано как раннее (написанное до опыта) или позднее (после опыта). Возникает своеобразная дискретность пути. Одним из ключевых слов для характеристики мандельштамовского "Камня" можно взять легкость. Но уже начиная с "Tristia" возникает устойчивая тема тяжести, стихия земли, смерти. Впрочем, тема тут не совсем точное слово. Сравним стихотворение из "Камня" "Отчего душа так певуча...", касающееся темы смерти, и позднее "Наливаются кровью аорты...", касающееся темы рождения. Ощущение тревоги и тяжести все равно возрастает от раннего к позднему вопреки тематике. Осип Мандельштам эпохи "Камня": Отчего душа – так певуча, И так мало милых имен, И мгновенный ритм – только случай, Неожиданный Аквилон? Он подымет облако пыли, Зашумит бумажной листвой И совсем не вернется – или Он вернется совсем другой.... 10 О широкий ветер Орфея, Ты уйдешь в морские края – И, несозданный мир лелея, Я забыл ненужное "я". Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот... Неужели я настоящий, И действительно смерть придет? 1911 Осип Мандельштам в Воронеже: Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком: Я рожден в девяносто четвертом.... Я рожден в девяносто втором.. И, в кулак зажимая истертый Год рожденья, с гурьбой и гуртом, Я шепчу обескровленным ртом: Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Ненадежном году, и столетья Окружают меня огнем. 1-15 марта 1937 Мандельштам из воспоминаний Ирины Одоевцевой – подросток, мальчишка. Не сразу сообразишь, что к 1921 году ему уже тридцать. По свидетельству Надежды Мандельштам, к сорока годам он был уже стариком. Легкомысленный трус (по шутливому определению Гумилева) становится одним из глубочайших мыслителей своего времени, провидцем, чуть ли не один в империи бросает прямой вызов тирану. Возникает впечатление, что за десятилетие (включая период молчания) Мандельштам догоняет и обгоняет время, – как историческое, так и биологическое. Вместе с тяжестью появляется свойство скорости, напрямую относящееся ко времени. Вместо ажурного узора "Камня" – сжатие смысла, когда каждое новое слово не линейно увеличивает значение сказанного, а вступая сразу во множество связей с уже сказанным, изменяя возникшие на этот момент связи, буквально удваивает глубину смысла. Перечтите медленно знаменитое восьмистишие "И Шуберт на воде..." именно с точки зрения мгновенных преобразований смысла. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гете, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, 11 Считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, И в бездревесности кружилися листы, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта приобрели черты. Ноябрь 1933 – январь 1934 Деление корпуса стихов Заболоцкого на ранние и поздние общепринято. Прочитайте несколько стихотворений из "Столбцов" (например, "Движение", "Футбол", "Игру в снежки", "Птицы") и попробуйте возможно точнее описать сильные стороны поэта. Попробуйте представить себе метафорику Заболоцкого, его образный мир. Представьте себе живописное полотно, стилистически близкое "Столбцам". Теперь прочитайте "Можжевеловый куст" и "Где-то в поле возле Магадана". Превращение Заболоцкого никак не связано с развитием его сильных сторон. Оно больше похоже на эволюцию личинки в бабочку. Удивительно, но в корпусе стихов Заболоцкого есть и неустойчивая середина, где "поздние" метафизические проблемы решаются в "раннем" образном ряду. "Осень", "Засуха"... Вопреки мнению невнимательных людей, поэтическое преображение Заболоцкого никак не связано с его заключением. Достаточно взглянуть на даты первых поздних стихов. Заключение пролегает между "Все, что было в душе..." и "Грозой" – но между этими стихотворениями как раз крепчайшая связь. После восьми лет вынужденного молчания Заболоцкий с олимпийским достоинством продолжает с той же фигуры. История литературы есть все же вселенское избранное, выставка удач. Видимая часть айсберга. Чтобы усвоить запретные ходы, полезно хотя бы мельком взглянуть на подводную его часть. Под запретным путем я подразумеваю позитивную эволюцию, развитие удач, эксплуатацию сильных сторон своего дарования. В подобных случаях из произведения выветривается дух открытия, находка становится приемом, невольный стиль превращается в стилизацию под себя. Тут необходимо великое множество примеров, поскольку удача доказывает возможность, но отдельная неудача не доказывает невозможности. Но изнутри литературного процесса очевидны эти тысячи устойчивых неудач. Сомерсет Моэм, человек весьма трезвый и метафизически деликатный, не склонный к мистике, пытается, подробно излагая биографию Чехова, извне уловить момент его преображения. (Чтобы лишний раз убедиться в 12 масштабе этого преображения, сопоставьте начало любого из ранних рассказов Чехова с началом "Дамы с собачкой"). Моэм фиксирует даже построчные гонорары Чехова, но поступательность их роста обманчива. Мы в этом ракурсе не уловим момент, когда автору платят уже не за точное удовлетворение читательского спроса, а собственно за имя, и он обретает право на резкий поворот. Мотивация этого поворота вне конъюнктуры литературного процесса. Начало рассказа Антоши Чехонте: ВИНТ В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены. "Неужели они до сих пор с отчетом возятся? – подумал Пересолин. – Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покою не даю. Пойду подгоню их... Остановись, Гурий!" Начало рассказа А.П.Чехова: ДАМА С СОБАЧКОЙ Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой. "Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал Гуров, – то было бы не лишнее познакомиться с ней." Именно слово путь ведет нас к слову гений (гений места, гений пути). Невольно оно связалось у нас со словом преображение. Цель пути – преображение путника. Это равно относится к жизни, к творчеству и к буквальному путешествию. Даже новые края ты открываешь для себя: сами по себе они всегда были открыты. С этой точки зрения становится понятен афоризм о. Павла Флоренского: остановка есть усиление пути. Тяжесть может разрешиться преображением. Ровно об этом хрестоматийное стихотворение Пушкина "Пророк". Почти об этом другое стихотворение Пушкина – "Жил на свете рыцарь бедный...". Перечтите их. 13 Бедный рыцарь не обретает дара речи. Впечатление "всего-навсего" выстраивает всю его жизнь в прямую линию. Что-то вроде внутренней присяги. Положение Георгия Иванова в Серебряном веке странно. Его признают как равного и посвященного Блок, Гумилев, Мандельштам, Сологуб. Между тем, его стихи не вызывают восторга. Отзыв о них Блока почти убийствен: они совершенны, и это страшнее всего. Ходасевич идет еще дальше, желая Иванову настоящей жизненной трагедии. Дальнейшее может быть истолковано как доказательство правоты Ходасевича: потеряв отечество, Иванов становится великим русским поэтом. Но два соображения переводят всю историю из внешнего во внутренний план: во-первых, общее горе эмиграции сказалось на всех по-разному, а во-вторых, Георгий Иванов личную трагедию (гибель горячо любимого отца) пережил в детстве. Эмиграция, возможно, обострила духовную жажду Иванова. Но подлинное преображение, обретение дара речи происходит как таинство и относится к жизни души. Находится свидетельство и о первом поэтическом впечатлении в жизни Георгия Иванова, связанном с буквальным "провалом" внутрь лермонтовского стихотворения, – до этого мальчик больше любил химию, чем литературу. Это, пожалуй, классический путь: впечатление превращает человека в бедного рыцаря литературы, а далеко впереди, может быть, его ждет преображение в пророка. Между этими двумя событиями расположено еще одно, менее заметное извне, но важное для самого автора: конец периода невольного эпигонства (когда, согласно закону биологии, развитие особи повторяет развитие вида) и начало своеобразного письма. У Георгия Иванова как раз это событие пришлось на краткий Серебряный век. Так в конце второй лекции мы ненавязчиво обнаружили ответ на вопрос из начала первой: в каком случае стоит посвятить свою жизнь литературе? А в том, когда это воспринимается не как жертва, а как благо; иными словами, когда человек очень любит литературу и опирается не на собственные перспективы (это условно), а на самоценность предмета (это абсолютно). Случай бедного рыцаря. Начало пути. Путь – воплощенная судьба, пропущенная через свободу воли. Главная проблема – профессионализация пути. Лекция №3. МОТИВАЦИЯ. Классическая глупость вопроса а зачем вы это написали по большей части относится к его взаимоотношениям со временем. Уже написали – так что ж теперь стулья ломать? Вопрос же зачем я пишу вовсе не празден и не опорочен 14 фигурой внешнего профана. Он возникает глубоко внутри организма пишущего человека; там же внутри требует ответа. Проблема мотивации письма, хотим мы того или нет, существует на двух ощутимых уровнях: конкретном, локальном (зачем я пишу именно этот текст) и стратегическом, глобальном (зачем я пишу вообще). Нельзя сказать, какой из уровней важнее. Начнем с глобального. Характерно, что в начале пути проблема мотивации не возникает всерьез. Поводом для пробы пера является сама молодость, жадность к жизни, избыток энергии, щедрость, способности. Легче сказать, что нет веских доводов не писать. Дебютант ничем не рискует и ничем не жертвует. Нужда в мотивации возникает в момент выбора, когда надо чем-либо пожертвовать. Этот момент сложно полностью перевести в внешне-событийный ряд. Литератор годы и десятилетия может зарабатывать на жизнь посторонним трудом, например, служить инженером или учителем. Инженер или учитель может всю жизнь в порядке хобби писать стихи и рассказы, публиковать их и даже посещать те или иные студии. Но между этими двумя фигурами пропасть, их самоидентификация абсолютно различна, хотя образ жизни извне может быть и неразличим. Ощущение себя литератором никогда не позволит человеку полностью раскрыться в другой сфере, он будет там лишь числиться с тем или иным успехом. (Верно, разумеется и симметричное заключение.) Выбор состоит во внутреннем переключении стрелки. Итак, человек начинает быть литератором, когда отказывается реализоваться иначе. Тут могут сработать мотивации условно высокие и условно низкие. К "низким" мы отнесем честолюбие, жажду славы. Вряд ли алчность: очевидно, что литература не кратчайший путь к деньгам. К "промежуточным" – все вариации на тему самореализации. "Высокие" мотивации обычно не проговариваются вслух, но связаны так или иначе с надеждой на изменение мира. Собственно, об этом пушкинский "Памятник". Это тривиально. Немного загадочны тут два явления. Во-первых, даже самая романтическая внеположенная к литературе мотивация самим поэтом воспринимается как насилие над свободой творчества и как унижение литературы. Перечитайте пушкинское "Поэт и толпа". У Георгия Иванова в стихотворении "Лунатик в пустоту глядит..." сказано еще резче. Лунатик в пустоту глядит, Сиянье им руководит, Чернеет гибель снизу. 15 И даже угадать нельзя, Куда он движется, скользя, По лунному карнизу. Расстреливают палачи Невинных в мировой ночи – Не обращай вниманья! Гляди в холодное ничто, В сияньи постигая то, Что выше пониманья. Поставьте такой эксперимент. Сперва сформулируйте несколько самых максималистских задач художественной литературы типа улучшения человеческого рода, потом возьмите для объективности 12 классических русских писателей XIX века и попробуйте "примерить" ваши формулировки к их творчеству. Они окажутся малы. Более детальный взгляд различит, что ясные общечеловеческие мотивации в некий момент выбрасывают Гоголя и Л.Толстого за рамки художественности. Во-вторых, удивителен феномен смены мотиваций. Оставаясь внутри литературы, человек многократно и сильно изменяется; меняется и его мотивация, сфера его интересов. Получается, что всякий раз, будоража вопрос зачем и по-новому на него отвечая, литератор меняет местами причину и следствие. Он принимает за мотивацию попытку постфактного объяснения; мотивация же встроена в него органично. Генри Миллер, которого весьма трудно заподозрить в лицемерии или украшательстве, в одном интервью вдумчиво и подробно разъясняет свою мотивацию творчества. Ответ его развернуто физиологичен: он говорит о дискомфорте, возникающем внутри писателя, который (дискомфорт) нельзя снять иначе как творческим актом... (Тут по ходу лекции возник замечательный вопрос: а годится ли здесь творческая неудача или спасают только шедевры? Ответ, между тем, ясен: есть неудачи разного уровня. Бывает халтура замысла или напряжения письма, прекрасно ощутимая самим автором. Такая имитация творчества, конечно же, не сработает. Но никакие условия письма (искренность, взыскательность, вдохновение, пафос) не гарантируют удачи. Такой провал, однако, внутренне неотличим от успеха и, в частности, приносит творческое удовлетворение (по Миллеру – снимает внутренний дискомфорт). То есть решающее значение имеет фактор риска.) ...и если бы Генри Миллер не чуждался патетики, он вышел бы на 16 вполне затертую формулу СП СССР: писатель пишет, потому что не может не писать. Подлинной мотивацией письма является призвание автора. Он ощущает это как безымянный зов; письмо доставляет ему наслаждение или утоляет его страдание. Вербализуемые мотивации равно служебны и низки – спасать человечество так же мало и недостаточно для художника, как решать любой другой социальный заказ. Они – эти внешние мотивации – могут использоваться как повод, и тут полезно вспомнить поводы создания "Энеиды", "Божественной комедии" и "Дон Кихота". Чтобы завершить этот фрагмент лекции, я напомню вам сюжет одной из новелл Борхеса: интеллигент-гуманитарий проживает вполне недолгую и невнятную жизнь в одной из восточноевропейских стран, и вот пришедший к власти людоедский режим ставит его к стенке. И уже глядя в ружейные дула, наш герой, в общем, достаточно академично рассуждает, чего же ему понастоящему жаль. И понимает, что изо всех скомканных и незавершенных дел ему хотелось бы довести до конца одно: дописать пьесу. "Вот, – вырывается у него шальная мысль, – вот бы еще год..." И тут происходит чудо: мир застывает, не может двинуться с места и сам приговоренный. Работает только мозг – и борхесовский персонаж понимает, что Господь дал ему год для доводки пьесы. Он мысленно перелагает пьесу в стихи, чтобы удерживать в памяти. Он шлифует и шлифует ее, изредка флегматично рассуждая, ради кого (чего) он это делает. Так или иначе, шедевр погибнет вместе с ним, когда вновь двинется время. Для Бога? но тому несуществен, наверное, конкретный (чешский? румынский?) язык; Богу внятны и импульсы замысла. Так. Ни ради чего. И когда пьеса окончательно доведена, раздается залп. Итак, на глобальном уровне правильная работа автора заключается в уничтожении ложных мотиваций (а ложные они все). Что же до конкретного текста, тут положение дел строго противоположное. И я позволю себе сформулировать некое правило, которое не смогу связно аргументировать (постараюсь допускать это возможно реже). Оно сложилось в итоге тысячи мелких наблюдений и интуитивных догадок, которые плохо выразимы в словах и не убедительны по отдельности. В основе живого литературного произведения всегда находится невербальный импульс. Это может быть геометрическая фигура сюжета (новелла), своеобразный навязчивый ритм (стихотворение), живая фигура или живой голос (проза), 17 моментальное зрительное впечатление, мощная эмоция и т.п. Это не может быть яркая фраза или хорошо сформулированная идея. (Исключение – непонятно откуда пришедшая первая строка стихотворения.) И в каком-то смысле всякое письмо есть перевод невербального в вербальное, претворение в слове уже существующего иначе. И тут уже пустая мотивация (пустой импульс) так и разрешится пустотой (пусть и хорошо оформленной). Вывод о том, что литературное творчество того или иного индивида (а, стало быть, и всех вместе) не мотивировано и не оправдано его личными жизненными целями внелитературного характера, наводит нас на немного печальную и откровенно мистическую гипотезу, что место литературы в мире определено не человеком и что она мотивирована теоцентрично как элемент мироустройства. Я думаю, не вредно поразмышлять на эту тему. Лекция №4. ИМПУЛЬС И ЖАНР. ОРГАНИКА ТЕКСТА. Хотим мы того или нет, рано или поздно нам придется воспользоваться стандартными категориями литературоведения, в той хотя бы степени, в которой они устоялись в повседневном русском языке. Пару форма – содержание мы посчитаем все-таки слишком профанной и не отвечающей никаким реалиям творчества. Гораздо конструктивнее пара замысел – воплощение, где мы постараемся обособить замысел (категорию интеллектуальную, идею, слова) от невербального первородного импульса. Абсолютно бессмысленны разговоры о стиле, особенно – о способах выработать стиль. Если справедливо то, что стиль это человек, то вырабатывать собственный стиль все равно, что индивидуальный запах или репетировать перед зеркалом естественную походку. Жанр же, напротив, литературоведческая. категория Не явно случайно не праздная интереснейшие и не суждения внутренне Бахтина о Достоевском сводятся к открытию и уточнению жанровой природы его романов. Не углубляясь в перипетии дискуссий хотя бы о границе между прозой и поэзией, мы лишь констатируем, что это явно вопрос не формальный и не сводится к отличию записи в строку от записи в столбик или в лесенку, как и к другим категориям оснастки, будь то метр, рифма или метафорика. Образно написанный репортаж не становится новеллой. Если признать глубокое укоренение жанровых различий, то естественно будет искать их на этапе замысла, а не воплощения. А если вспомнить, что замысел развивает воспринятый автором импульс, то не будет натяжкой рассудить, что 18 многообразие жанров возникло не по человеческой прихоти (как сумма авторских проектов), а восходит к различной порождающих литературное произведение. задачу хотя бы частично природе импульсов, И полагая читательскую реконструктивной, то есть, движущейся от адекватного воплощения к замыслу и далее к ощущению импульса, мы убедимся в том, что правильное распознание жанра есть верный выбор направления этого восстанавливающего движения. Читатель "Гамлета" не должен жалеть Полония – этого требуют законы трагедии. Поэзия есть воплощение в языке неуловимых довербальных импульсов (чаще музыкального, ритмического происхождения, но и – настроений, эмоций, энергий, мгновенных зрительных вспышек). Язык является материей поэзии, он окаймляет и фиксирует поэтическую идею, как почва – след. Чудо прозы заключается в видении автором некоего своеобразного мира, наблюдении и чувствовании его жизни. Материя прозы – этот мир; язык служит лишь средством сообщения. Отсюда – переводимость прозы. Эссе есть укрепленное и выраженное в интонации авторское "я". В статье тематический центр хорошо виден, и вся геометрия связей явна. В эссе центр невидим и бесконечно глубок, связи и переходы идут через этот центр и потому лишены внешней логики. Признаком подлинности эссе служит ощущение читателем присутствия автора. Сущностное отличие эссеистики от прозы можно проиллюстрировать тем случаям, когда они произрастают из одного корня, а именно – дневника. Собственно, эссе есть дневник при условии абсолютной внутренней свободы автора, когда внезапная мысль, воспоминание, наблюдение равно доступны ему. Проза от первого лица также родственна дневнику и даже может существовать в прямо дневниковой форме. Но обязательным условием художественной прозы (а дальше речь пойдет преимущественно о прозе) является чудесное перевоплощение автора в другого человека. Немного неудачно это требование связывается со словом "вымысел": это слово наводит на мысль о фантазировании, но прозаик не фантазер. Он превращается, грезит и представляет. Я хотел бы рассказать вам две актерских легенды. По собственному свидетельству великого Юрия Яковлева, он не считался в студенческую пору ни талантливым, ни даже способным. Его приняли в училище за красивые глаза, 19 за это же пригласили на съемки фильма "Идиот" по Достоевскому на роль князя Мышкина. Роль долго не давалась Яковлеву, и состояние его было близко к депрессии. Однажды, хмурый и подавленный, он шел по улице и заметил, как отец жестоко наказывает ребенка. Вдруг, неожиданно для самого себя, актер подбежал к этим людям и защитил мальчика, обратив к его отцу горячий и бессвязный монолог. А уходя, обнаружил себя уже не Яковлевым, а Львом Мышкиным. Тут съемки фильма покатились, как колесо с горы, но после первой серии их пришлось прекратить, потому что Яковлев начал буквально сходить с ума. Правда это или домыслы, но и впрямь экранизировано лишь начало романа, а Юрий Яковлев – один из самых грандиозных наших актеров XX века. Вторая легенда изложена в замечательном стихотворении Льва Лосева. ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛА Я помню: в попури из старых драм, производя ужасный тарарам, по сцене прыгал Папазян Ваграм, летели брызги, хрип, вставные зубы. Я помню: в тесном зале МВД стоял великий Юрьев в позе де Позы по пояс в смерти, как в воде, и плакали в партере мужелюбы. За выслугою лет, ей-ей, простишь любую пошлость. Превратясь в пастиш, сюжет, глядишь, уже не так бесстыж, и сентимент приобретает цену. ...Для вящей драматичности конца в подсветку подбавлялось зеленца, и в роли разнесчастного отца Амвросий Бучма выходил на сцену. Я тщился в горле проглотить комок, и не один платок вокруг намок. А собственно, что Бучма сделать мог – зал потрясти метаньем оголтелым? исторгнуть вой? Задергать головой? или, напротив, стать, как неживой, нас поражая маской меловой? Нет, ничего он этого не делал. Он обернулся к публике спиной, и зал вдруг поперхнулся тишиной, и было только видно, как одной лопаткой чуть подрагивает Бучма. И на минуту обмирал народ. Ах, принимая душу в оборот, нас силой суггестивности берет 20 минимализм, коль говорить научно. Всем, кто там был, не позабыть никак потертый фрак, зеленоватый мрак и как он вдруг напрягся и обмяк, и серые кудельки вроде пакли. Но бес театра мне сумел шепнуть, что надо расстараться как-нибудь из-за кулис хотя б разок взглянуть на сей трагический момент в спектакле. С меня бутылку взял хохол-помреж, провел меня, шепнув: "Ну, ты помрэшь", – за сцену. Я застал кулис промеж всю труппу – от кассира до гримера. И вот мы слышим – замирает зал – Амвросий залу спину показал, а нам лицо. И губы облизал. Скосил глаза. И тут пошла умора! В то время как, трагически черна, гипнотизировала зал спина и в зале трепетала тишина, он для своих коронный номер выдал: закатывал глаза, пыхтел, вздыхал, и даже ухом, кажется, махал, и быстро в губы языком пихал – я ничего похабнее не видел. И страшно было видеть, и смешно на фоне зала эту рожу, но за этой рожей, вроде Мажино, должна быть линия – меж нею и затылком. Но не видать ни линии, ни шва. И вряд ли в туше есть душа жива. Я разлюбил театр и едва ли не себя в своем усердье пылком. Нет, мне не жаль теперь, что было жаль мне старика, что гений – это шваль. Я не Крылов, мне не нужна мораль. Я думаю, что думать можно всяко о мастерах искусств и в их числе актерах. Их ужасном ремесле. Их тренировке. О добре и зле. О нравственности. О природе знака. Абсолютно актуальный и ежедневный вопрос для прозаика – с кем быть: с Яковлевым или с Бучмой. Ответ, впрочем, достаточно ясен. Внимательный читатель может упрекнуть меня за не слишком четкую систематичность. Наши определения поэзии, прозы и эссеистики плохо укладываются в пару замысел – -воплощение. Пресловутый мир – 21 центральный пункт прозы – что это? импульс, замысел или воплощение? В свое оправдание я могу сказать, что эта плохая сочетаемость присутствует в жизни и лишь отражается в наших рассуждениях. Воплощение замысла – это оптимистичный проект регулярной работы прозаика, проект работы с пустотой. Но реально прозаик работает не с пустотой, а с коварной и щедрой средой. И органика этой среды гораздо интереснее наших с вами задумок и находок. Согласно традиционным представлениям об идеальном и материальном, воплощение должно обеднять и уплощать замысел – это метафизическая пошлина за переход из бесконечно богатого и тонкого внутреннего мира субъекта в общедоступный мир небоскребов и текстов. Наверное, именно на это намекает Фолкнер, говоря о любом состоявшемся произведении искусства как о неудаче великого замысла. Но интересно, когда получается наоборот. Замысел "Дон Кихота" четко изложен в начале романа: поместить престарелого психа из современной Испании в жанровую канву рыцарского романа и, создав злую пародию, похоронить полумертвый жанр. Итог известен: Сервантес написал едва ли не единственный бессмертный рыцарский роман. История с геологическим подтекстом: искали нефть, а нашли золото. Но, стало быть, искали не в пустоте, испещренной замыслами и воплощениями, а в породе, в среде. При внимательном чтении можно обнаружить момент, когда сквозь стройную ткань собственного текста Сервантеса начинает прорастать другой текст или, иначе говоря, возникает возможность реализовать другой проект, другой замысел. Это ощущается как самостоятельная воля персонажей или самого текста. Это можно назвать боковым ветром. И, наверное, грандиозность Сервантеса заключается в том, что он первым в мировой литературе поверил боковому ветру. В фокусе внимания культуры находится преображение Иудушки Головлева в самом конце щедринского романа. Да, конечно. Но скрытое преображение происходит в середине романа. Исследуем его подробнее. Каждый из нас может сказать о знакомом он подумал, что пришел первым или он обиделся, но виду не подал. Если рассуждать въедливо, то эти фразы некорректны, поскольку предполагают наше внедрение в мозг или душу другого человека. Но – они бытуют предположительно или исходя из общего контекста ситуации. Точно так же обстоят дела с автором и персонажем. Так вот, в начале "Господ Головлевых" Щедрин брезгливо наблюдает 22 за Иудушкой; суждения автора о внутренней жизни героя предположительны. характеристика Иудушки в начале: "А Порфиша продолжал сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность – и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: "Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и при том послушливость не токмо за страх, но и за совесть". И как не сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой безответности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго." Но вот случается неожиданное: автор проваливается внутрь своего персонажа. Нет нужды говорить, что тут в корне меняется и жанр – из мрачной сатиры мы попадаем в достаточно традиционный психологический роман. преображение позиции автора: "Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него изпод ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И, по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу. Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Каждый простейший мотив он мог варьировать бесконечно, за каждый мог по нескольку раз приниматься сызнова, разрабатывая всякий раз на новый манер. Это было своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограниченное воображение создает мнимую действительность, которая, вследствие постоянного возбуждения умственных сил, претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это – не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица искажаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения. Порфирий Владимирович был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтоб не слышать, спускал шторы, чтоб не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него, при столкновении с живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное стояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; 23 крестные знамения и воздеяние рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях (за каждый грех – возмездие особенное), по-видимому, покинуло его. А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой и в то же время кося глаза на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь "новую комедию" разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доел кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко. Порфирий Владимирович сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды. - Баринушка! что такое? что случилось? – бросилась она к нему в испуге. Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкой произнес: - Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь... в кабинет ко мне... Убью!" При этом Иудушка нисколько не облагораживается – наоборот! он становится еще мерзее. Но авторская задача меняется в корне. Вроде как разведчик собирался сообщить своим координаты вражеского самолета, чтобы его благополучно разбомбить. Но ситуация изменилась, и теперь разведчик летит в этом самом самолете. И если он не камикадзе (а Щедрин не камикадзе), то приходится изменить план и спастись вместе с самолетом. Именно это и случается к концу романа. преображение героя: «Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и веред по комнате. Наконец подошел к Анниньке и погладил ее по голове. - Бедная ты! бедная ты моя! – произнес он тихо. При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, искажаться, и вдруг целый поток истерических, ужасных рыданий вырвался у нее из груди. - Дядя! вы добрый? скажите, вы добрый? – почти криком кричала она. Прерывающимся голосом, среди слез и рыданий, твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после "странствия" окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ. - Вы добрый? скажите! ответьте! вы добрый? - Слышала ты, что за всенощной сегодня читали? – спросил он, когда она, наконец, затихла, – ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями и можно... И простил! всех навсегда простил! Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота. - Всех простил! – вслух говорил он сам с собой, – не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь и впредь, во веки веков будут 24 подносить к его губам оцет, смешанный с желчью...Ужасно! ах, это ужасно! И вдруг, остановившись перед ней спросил: - А ты... простила? Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла.» Жанровый перелом в середине "Господ Головлевых" не спланирован автором. Он происходит по органической воле самого романа. Абсолютный чемпион по самостоятельности персонажей – Достоевский. Его герои перебивают друг друга и автора, лезут в центр сцены (особенно – второстепенные герои "Идиота": Келлер, Ипполит), хотя не знают, что сказать. Свидригайлов, по свидетельству автора, практически отсутствовал в замысле "Преступления и наказания". Его предполагалось лишь упомянуть, но он с этим не согласился, приехал в Петербург, поселился рядом с Соней, понаблюдал за Раскольниковым, а когда ему надоел этот джаз, так и застрелился. Очевидна расстановка братьев Карамазовых: Митя – душевное, Иван – рациональное, Алеша – духовное начало. Алеша должен, по интенции автора, победить. Но Иван вдруг становится дико эмоционален и уж никак не бездуховен. Он как бы пожирает роли других братьев – и автор вынужден гасить его, насылая болезнь. Органика романов Достоевского так сильна, что он может не пестовать ее, а бороться с ней, отстаивая первоначальный замысел. Так образуется уникальный сквозной конфликт его прозы. Гарсиа Маркес переживал смерть полковника Ауэрелиано Буэндиа в "Ста годах одиночества" как личную потерю, смерть живого человека. Та же история произошла с Борисом Пастернаком и Юрием Живаго. Свидетельства писателей об ощущении самостоятельной жизни их героев щедро рассыпаны в истории литературы. Нам остается заподозрить наших кумиров в шизофрении, трансмировом имиджмейкерском заговоре или просто в кокетстве. Либо взять и поверить им на слово, причем буквально. Если посчитать органическое развитие текста (самостоятельное бытие живого мира) главной целью художественной прозы, то меняется наше отношение к замыслу. Мы все равно откажемся от него при первой возможности, при малейшем боковом ветре. Так пусть он с самого начала будет лишь вводным, провокативным, слабым. Тут уместно сравнить два гениальных фрагмента гоголевской прозы: финал "Страшной мести" и "собачьи письма" из "Записок сумасшедшего". «Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд: "Великий есть 25 грешник сей человек! – сказал Бог. – Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!" Долго думал Иван, вымышляя казнь, и наконец сказал: "Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет – никто не узнает, что кинуто было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку еще горшую; и ел бы землю, и корчился бы под землею! И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, Боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы не жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы через то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить и не мочь отомстить". "Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! – сказал Бог. – Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе Царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!" И то все так сбылось, как было сказано: и до ныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю..." Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.» "Записки сумасшедшего". "...барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась, на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится, Я никак не понимаю, ma chere, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого из куриных крылышек, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с каткою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хороши..." Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено. "Ах милая! как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, 26 дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян, он, верно, не умеет, – то он бы был целою головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно – такой мужик! Но неужели ты думаешь, ma chere, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям, ах нет... Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, ma chere, какая у него мордочка!" Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи – той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вместо того эдакие пустяки... перевернем через страницу, не будет ли лучше: "...Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал: "Теплое!" – "Проси, – закричала Софи и бросилась обнимать меня... – Ах, Меджи, Меджи! Если б ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! черные и светлые, как огонь",- Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье: а я себе, так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж голову наклонила несколько набок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, ma chere о каком вздоре они говорили! Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем, как они зеленые – и тому подобное. "Куда ж, – подумала я сама в себе, – если сравнить камер-юнкера с Трезором!" Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, ma chere, что она нашла в своем Теплове. Отчего она так им восхищается?.." Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер. Посмотрим далее: "Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, ma chere, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке..." Какой же бы это чиновник?.. "Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги." Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?" Софи никак но может удержаться от смеха, когда глядит на него." Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримо ненавистью – и вот вредит да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, 27 однако же, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собою.» Первый отрывок обусловлен архитектурой целого; он объясняет коллизию новеллы и обеспечивает возвратный взгляд, прокручивает ее в памяти читателя еще раз, удваивает. Собачьи же письма не обязательны по сюжету "Записок сумасшедшего", да и о какой обязательности вообще может идти речь в последовательности глюков?! Тем более произвольны для нас чисто собачьи подробности насчет Трезора и прочих кобелей. Реконструируя замысел этого произведения, мы находим очень вялую и заурядную историю: человек сошел с ума и отправлен в сумасшедший дом. Логично. И ясно, что такой "замысел" – лишь повод довериться органике текста. Пытаясь нащупать замыслы чеховских рассказов, например, "Случая из практики", мы увидим лишь придорожные кусты из окна коляски. Нас не ждут интересные совпадения. Нас ждут живые люди, интересные настолько, насколько мы с вами способны интересоваться живыми людьми. Сильный, геометрически оригинальный замысел автора, реализованный на первой странице текста лишь в ничтожной степени, обеспечивает дистанцию между автором и читателем. Ярче всего она проявлена в детективе, где автор с самого начала знает всё, а читатель до самого конца – ничего. Этот информационный перепад обеспечивает читаемость текста, а уничтожение его дает эффект катарсиса. Можно представить себе автора, который ищет самого прочного и подробного эмоционального единения с читателем и стремится уничтожить дистанцию как можно быстрее. Если согласно замыслу его главный герой должен встретить свою бывшую одноклассницу, автору трудно отложить эту встречу на вторую страницу: на протяжении первой он несвободен, держит эту обязательную встречу в уме и как бы за пазухой; она мешает его полной искренности и открытости. Перед читателем – можно сказать и так; точнее – перед будущим временем текста. Честно будет с первой строки начать так: Солнцев не видел Веру восемь лет, и вот встретил на переходе с "Пушкинской" на "Тверскую". Читатель и автор равно не знают, что сейчас произойдет между Солнцевым и Верой и произойдет ли что-нибудь. Это можно представить себе позиционно: автор и читатель находятся по одну сторону от являющегося текста, вот перелистывают страницу... Новелла есть точно проявленный в языке сильный замысел. Вспомним классическую новеллу Мопассана "Ожерелье". 28 Молодая женщина, желая блеснуть на балу, одалживает у подруги ожерелье. Уже под утро, на пути домой, она замечает, что ожерелье пропало. Поиски ни к чему не приводят. Они с мужем берут в долг тридцать тысяч франков, покупают у ювелира такое же ожерелье и без объяснений возвращают его. Теперь они вынуждены изменить всю свою жизнь и отрабатывать долг. Через десять лет героиня новеллы случайно встречает в Париже ту самую свою подругу. Та, холеная молодая дама, с удивлением смотрит на постаревшую и бедно одетую женщину. Наша героиня открывает секрет о подмене ожерелья: долг уже выплачен и конфуза быть не может. "Что же ты наделала?! – - плача говорит ее подруга. – Ведь то ожерелье было фальшивое и стоило всего двадцать франков". No comments. Все соображения о невозвратности жизни ударяют читателю в лоб. Для нас важно другое: Мопассан, конечно же, с самого начала знал, что ожерелье фальшивое. Ему в гениальном озарении явилась вся история как иероглиф судьбы; записать ее осталось делом техники. Она воздействует сама по себе. Рассказ есть пойманная в языке органическая жизнь участка некоего мира. Вспомним рассказ Чехова "О любви". Достаточно заурядная ситуация: молодой мужчина попадает в дом к своему коллеге по какой-то общественной нагрузке (суд присяжных?) и влюбляется в его жену. Чувствует, что и он ей не совсем безразличен... Чтобы еще резче ощутить пропасть между новеллой и рассказом, представим себе что-то вроде перекрестного опыления. Пусть для начала Мопассан читает-пишет чеховский рассказ. Ситуацию он воспринял бы как исходное положение типа руки на поясе, ноги на уровне плеч. Как питательную среду для зарождения драматического конфликта. Отлично. Пусть теперь прислуга отлучится куда-нибудь... ну, например, в церковь (это очень по-русски), а муж как бы уедет в поместье к кузену (но забудет дома кушак). И наш незадачливый герой... Мопассан нетерпеливо листает – так? Не так. Концовка рассказа "О ЛЮБВИ": Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновенье, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, 29 мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не дружно рассуждать вовсе. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино. Поздняя чеховская проза (и драма!) вообще бежит драматического конфликта, встречая трагедию человеческого существования в лоб, без буфера сюжета. Что случается в рассказе "О любви"? Помимо любви – ничего. Нет, в самом конце, как бы потакая Мопассану, герой оказывается на вокзале, в числе других провожая любимую женщину, вскакивает в последний момент в вагон, чтобы ей что-то там отдать (так! хорошо!), они обнимаются, не в силах унять страсть, поезд отходит (так! великолепно!) и наш герой уходит в тамбур, стоит там один до следующей станции, выходит и едет назад. Рассказчик плюет в душу новеллисту. Нет нужды говорить, что концовка рассказа "О любви" трогает душу читателя не слабее, чем концовка "Ожерелья"? Просто иначе. Можно представить себе и как Чехов переписывает новеллу Мопассана. Да, потеряли ожерелье. Долги, новая жизнь. Постепенно в ней прорастают детали: соседи, обиды, радости. Мимо в шикарных каретах кто-то ездит на балы. В газете написано о богатом юнце, застрелившемся от несчастной любви. Возможна и встреча с бывшей подругой. Они поговорят – о прошлом, о детях, о судьбе... Ожерелье, в общем, ни при чем. Его можно свободно выкинуть из окончательного варианта. Не стоило так долго говорить без надежд на какой-никакой вывод. А вот и он: природа новеллы настолько очевидно противоречит природе рассказа, что симбиоз их или "среднее" неминуемо проваливаются. Тут разгадка большинства неудач малой прозаической формы. Новелла стоит немного особняком от иных прозаических жанров. В основе же их всегда некое чудо органической жизни: в рассказе – участка мира, в повести – другого человека, голоса, рассказчика, в романе – многих людей, полноценного обитаемого мира. Последнее соображение заставляет немного нетрадиционно оценить кризис романной формы: не в культуре исчерпались какие-то ходы, а почемуто современным авторам не дается достаточно любви к героям, недостает топлива. Объяснить это исходя из реалий нашего времени чересчур легко, чтобы это было плодотворно. Это так – а как только найдется человек, 30 преодолевший кризис в себе, так и станет все иначе, а мы так же легко объясним, как этот человек закономерно вызрел во времени и в культуре. Последнее на сегодня – вопрос о конце культуры, об исчерпании. Возвращаясь к нашим базовым категориям, мы признаем кризис замысла (исчерпание самоценных и вечных расстановок) и кризис исполнения (шедевров написано столько, что сама безупречность письма девальвирована). Что же до органики, то ее не может быть слишком много, потому что не может быть избытка воздуха, неба или моря. Это вообще не относится к культуре и возникает в ней не по воле людей, а по попущению. Логично было бы завершить эту лекцию соображением о сосредоточении ценности прозы к концу XX века в невольной органике текста. Мы так и сделаем. Но и не удивимся, если поразит нас в будущем, например, году именно величие небывалого доселе замысла. Это будет нелогично – но что с того?.. Лекция № 5. ВДОХНОВЕНИЕ В окололитературных разговорах талант – слово самое частоупотребимое, едва ли не разменное. Вдохновение – слово запретное. Различие как между тузом и джокером. Оперировать вдохновением в текстологических построениях некорректно. Это состояние автора в момент письма, не так сейчас для нас важно, что особое состояние, как то, что интимное. Талант вроде бы тоже присущ автору, но сообщается его творениям. Кроме того, он присущ автору всегда и выражается в его личной пластике. Талантливы его манера разговора и его стихи. Но ведь и вдохновение не вещь в себе; в таком случае оно нас не интересовало бы. Мы говорим о воплощенном вдохновении. Мы хотели бы закрепить за собой возможность сказать: эти стихи вдохновенны. Для нас это будет означать иное, нежели талантливость, и, вероятно, большее. Махнув рукой на табуированность самой темы, определим для начала это иное. Автор – хозяин своего таланта, как Аладдин – хозяин джинна. Талант лишь исполняет авторскую программу. Тем самым, сообщение городу и миру, лежащее в основе талантливого произведения, целиком определяется человеческими качествами автора. Его интеллектом, мировоззрением, судьбой, нравственностью. Оно высоко и гордо у Бунина, ничтожно у Катаева, поразительно по глубине у Мандельштама. Вдохновение, наоборот, владеет автором и навязывает ему свой план и свое высказывание. Произведения Гоголя непохожи на Гоголя. Внутренняя логика вдохновенного текста лишь 31 приоткрывается автору и нам через него. В прошлой лекции мы не цитировали Пушкина, в этой возместим ущерб. "Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных." Прочитаем внимательно пушкинское стихотворение "Поэт" ("Пока не требует поэта..."). Его фактурная связь со стихотворением "Пророк" очевидна. Наблюдение и размышление позволяет нам связать оппозиции таланту в некую систему. Если преображение действительно есть цель пути, гений есть чувство пути, то возвращающееся вдохновение есть признак верного направления. Вдохновение – преображение здесь и сейчас, прообраз того иного преображения, которое может быть ожидает творца в будущем; преображение обратимое, но полное. Как бы образ будущего, но будущего идеального. Посмертного? может быть... Перечтем "Египетские ночи". Болевой конфликт их – между вдохновением и талантом. Чарский не то чтобы лишен таланта. Пушкин роняет про него именно в таком ненавязчивом тоне: одаренный, впрочем, талантом и душою. Но ключевое слово тут, конечно, вдохновение. Его суеверный Чарский именует "такой дрянью" (курсив А.Пушкина). Одержимый вдохновением, Чарский исступленно работает. Между приливами стихописания (пока не требует поэта к священной жертве Аполлон) он вовсе не поэт. В первом и нервном разговоре с Импровизатором, решительно открещиваясь от этой метки, к чему-то его обязывающей, он сознается в авторстве лишь нескольких эпиграмм, то есть, как раз стихов, написанных по случаю и в рамках таланта. Импровизатор не то чтобы вовсе чужд вдохновению. Рассуждая о природе своего таланта (все-таки это слово тут первично и необходимо), он поминает и вдохновение, но какое-то иное, не пушкинской природы, послушное не только авторской, но даже и чужой воле. Осмелимся предположить, что Пушкин намекает на неполную подлинность, актерскую сердцевину этого вдохновения, как немного пародийны и эстрадно-публичный его антураж, и внешность самого Импровизатора, особенно если учесть фальшивый алмаз. И тут мы подходим к его стихотворениям, из которых, вопреки заглавию новеллы, первое важнее второго. Поэт идет – открыты вежды, Но он не видит никого; А между тем за край одежды 32 Прохожий дергает его... Оставим в стороне намеренную смазанность авторства: стихотворение как бы проговорено по-итальянски, Чарский его так или иначе запомнил, а некий его приятель вольно переложил. Будем считать, что Пушкин подарил это свое стихотворение Импровизатору и поместил (безотносительно к реальной истории написания) в пункт заказного письма. Это стихотворение стоит в небывалой логической позиции: оно написано по заказу о том, что поэт не может писать по заказу. Все равно что белилами написать на заборе: НА ЗАБОРЕ БЕЛИЛАМИ НЕ ПИСАТЬ. В данном случае пафос Импровизатора заведомо не может быть искренним: самим образом своей жизни он перечеркивает смысл стихотворения, или, в обратной оптике, стихотворение перечеркивает его. Стихотворение, как отмечено и Чарским, очень хорошо. Решающий вопрос: насколько оно хорошо? Пушкин не мог не подозревать, что каждое его стихотворение медленно отступает в вечность, и ореол его имени возвеличит любое из них. Строк печальных не смываю – сама по себе весьма печальная строка. Вместе с тем, творчество Пушкина (извините за банальность) претерпевает решительное изменение за два десятилетия. Пушкин делает нам отчаянную подсказку, вставляя в текст "Евгения Онегина" пару строф Ленского, странно смахивающих на собственные ранние стихи, предварив их прямой оценкой (так он писал темно и вяло) и обрамив предельно ясными, конкретными и точными образцами своего "позднего" слога. Мне кажется, что стихи Ленского нельзя петь с оперной сцены вперемешку со стихами Пушкина; это вовсе не то, что слова Бориса Годунова или Вальсингама в драматическом произведении, это подложная фактура. Но в "Египетских ночах" я различаю гораздо более тонкий и смелый авторский... как бы сказать? культурный запрос в будущее... "Поэт идет – открыты вежды..." – не пародия и не имитация. Это этюд, написанный на очень привычную для Пушкина тему и в полную силу пушкинского таланта, вполне созвучный ясной пушкинской прозе, но без того легкого вдохновения, которое дышит в его других стихах. И движение этого стихотворения – ломоносовская логическая развертка. Мне кажется, что Пушкин в этом стихотворении бросает вызов... Пушкину, играя честно, но мечтая проиграть. И наш вопрос звучит немного иначе: есть ли у Пушкина стихи качественно выше этого? Могут ли волхвы своими силами повторить те недобрые чудеса, которые Бог творит за спиной Моисея? Может ли талант достичь статуса 33 вдохновения? Мне кажется, все-таки нет. Зазор между обсуждаемым стихотворением и, например, "Пророком" (тоже программным, величественным, логичным и архаичным) не так уж и заметен с высоты человеческого роста, но все же... Физическая осязаемость страшных образов "Пророка", внезапная строка ... Как труп, в пустыне я лежал... странно венчающая преображение, прямое первое лицо, чуть ли не канцелярский глагол водвинул, именно прозябанье дольней лозы – гул поэтических смещений и космос нечаянных деталей образуют то самое пространство поэзии, без которого мы уже не мыслим себя. Оппозиция таланта и вдохновения не надумана. Это две совершенно различные стратегические опоры. Талант предполагает планомерную и регулярную работу, величие замысла, поиск темы, рост мастерства. Вдохновение предполагает... лишь неполную вовлеченность автора в майю жизни, готовность отозваться. Но даже тут не видно прямого противоречия. Укажем на него: талант предполагает усиление авторской воли; вдохновение – ослабление ее. Тут уж действительно катастрофа. Усилить и ослабить одновременно – нельзя или почти нельзя. В слове почти – одна из глухих стенок, невозможностей искусства, не менее невозможная, чем остальные. Сплетение вдохновения и таланта иногда удавалось Пастернаку. Сам поэт не называет вдохновение по имени скорее из соображений сглаза, нежели метафизического стыда. Как о бытовой данности, спокойно говорит о вдохновении после Пушкина лишь Георгий Иванов. Обратимся к пяти его стихотворениям. В глубине, на самом дне сознанья, Как на дне колодца – самом днеОтблеск нестерпимого сиянья Пролетает иногда во мне. - Боже! И глаза я закрываю От невыносимого огня. Падаю в него... и понимаю, Что глядят соседи по трамваю Странными глазами на меня. Холодно бродить по свету, Холодней лежать в гробу. 34 Помни это, помни это, Не кляни свою судьбу. Ты еще читаешь Блока, Ты еще глядишь в окно, Ты еще не знаешь срока – Все неясно, все жестоко, Все навек обречено. И конечно, жизнь прекрасна, И конечно, смерть страшна, Отвратительна, ужасна, Но всему одна цена. Помни это, помни это – Каплю жизни, каплю света... "Донна Анна! Нет ответа. Анна, Анна! Тишина". Даль грустна, ясна, холодна, темна, Холодна, ясна, грустна. Эта грусть, которая звезд полна, Эта грусть и есть весна. Голубеет лес, чернеет мост, Вечер тих и полон звезд. И кому страшна о смерти весть, Та, что в этой нежности есть? И кому нужна та, что так нежна, Что нежнее всего – весна? Остановиться на мгновенье, Взглянуть на Сену и дома, Испытывая вдохновенье, Почти сводящее с ума. Оно никак не воплотится, Но через годы и века Такой же луч зазолотится Сквозь гаснущие облака, Сливая счастье и страданье В неясной прелести земной.. И это будет оправданье Всего, погубленного мной. А что такое вдохновенье? – Так... Неожиданно, слегка Сияющее дуновенье Божественного ветерка. 35 Над кипарисом в сонном парке Взмахнет крылами Азраил – И Тютчев пишет без помарки: "Оратор римский говорил..." Два из них интересны для нас именно той спокойной интонацией, в которой не принято упоминать вдохновение. Общее свойство трех остальных – надчеловеческий смысл сообщения. Это – голос, даже тембр голоса. Разворачивая же смысловой ряд, мы находим мертвую петлю, слова, как.волны, набегают и отбегают, стирая собственные следы. Мы не можем представить себе авторскую интенцию, предшествующую этим стихам, иначе как смутное предчувствие слов. Бегло прочитав "В глубине, на самом дне сознанья...", мы видим более или менее стандартную картину: творец очнулся среди обывателей, ощущающих его как чужого. Читая то же стихотворение внимательно, второй раз, мы не находим в нем выхода лирического героя из особого состояния. Слово понимаю вместо более точных по первому смысловому ряду наблюдаю или замечаю прямо указывает на внутреннее зрение. Соседи поэта по трамваю со странными (а не удивленными) глазами сопровождают его в смещенном мире. Смысл целого противоположен нашему первому впечатлению. В ровном по интонации стихотворению "Холодно бродить по свету..." рефрен призывает читателя помнить противоположные вещи: о различии и о тождестве жизни и смерти. Медленное чтение находит то место, где тусклый свет плавно переходит в мглу. Смысл целого невыразим вне поэзии. То же – о стихотворении "Даль грустна, ясна, холодна, темна..." Сам зеркальный ряд второй строки возвращает нам лишь звучание слов, лишая их значения. Слова растворяются в звуке. И в этом обессмысленном, но не лишенном странной прелести мире нестрашная смерть и ненужная нежность воспринимаются совершенно естественно. Можно сказать, что Иванов ощутил вдохновение как своеобразную ноту, некоторый тембр голоса, говорящего на непонятном языке, и сумел перевести на русский саму эту непонятность и, что более важно, ноту и тембр. С точки зрения чисто текстологической вдохновенное стихотворение может вырываться из близкого контекста по всем, грубо говоря, параметрам. Оно идет на другой, не авторской частоте, в ином ритме, на других образах. Его смысловая основа может быть нехарактерной для данного автора и, более того, странной для человеческой логики вообще. Тем самым, неудивительно, 36 что сразу несколько направлений все-таки регулярной поэзии пытаются умом и талантом воссоздать эту Божественную нелогичность – - футуризм, заумь, Обэриу. Чаще всего такие попытки – все равно что имитировать инфракрасное зрение с помощью слепоты. Разрушить обыденную логику легко; трудно прорваться к иной связи предметов и явлений. В тенденциозной и кощунственной "Смерти пионерки" Багрицкого знаменитый фрагмент, начинающийся со слов "Нас водила молодость...", противоречит здравому смыслу. Нас водила молодость В сабельный поход, Нас бросала молодость На кронштадтский лед. Боевые лошади Уносили нас, На широкой площади Убивали нас. Но в крови горячечной Подымались мы, Но глаза незрячие Открывали мы. Возникай, содружество Ворона с бойцом, Укрепляйся, мужество Сталью и свинцом. Чтоб земля суровая Кровью истекла, Чтобы юность новая Из костей взошла. Чтобы в этом крохотном Теле – навсегда Пела наша молодость, Как весной вода. Во-первых, несчастную умирающую Валю молодость никуда не водила: она до молодости не дожила. Во-вторых, большевики, конечно же, не были атеистами, они были богоборцами и язычниками с разветвленной тотемической системой, но образы Багрицкого отнюдь не из советской мифологии. Но в крови горячечной Поднимались мы, Но глаза незрячие 37 Открывали мы... Это предвосхищенная лет за пятьдесят стилистика голливудского триллера, восходящая, в свою очередь, к готическим страшным сказкам. Но причем тут одесский счастливчик Эдуард Багрицкий?! Возникай, содружество Ворона с бойцом... А это вот (в-третьих) вовсе непонятно: ворон в любой мифологической системе – символ смерти, поедатель падали. Зачем красному бойцу такое сомнительное содружество?.. Хороша или плоха "Смерть пионерки", но это пример чистого вдохновения. Впрочем, хороша, хотя бы потому что мгновенно запоминается. Это один из признаков высокого литературного качества. История литературы в данном случае косвенно подтверждает нашу гипотезу. Багрицкий, ко времени написания "Смерти пионерки" первый советский поэт, не уверен в написанном. С талантливыми стихами дело обстоит иначе. Багрицкий едет в Кунцево, к своей бывшей квартирной хозяйке, чтобы узнать ее мнение. И, получив возмущенную отповедь, уже поздним вечером едет назад в электричке, нахохлившийся, рано погрузневший человек. Это работа вдохновения и его последствия. Михаил Афанасьевич Булгаков в "Театральном романе" описывает вдохновение прозаика (= возникновение органического мира). В "Мастере и Маргарите" каждый фрагмент подчинен замыслу целого, что противоречит абсолютной органической свободе. Но сцена прощания с Москвой идет скорее от имени самого Булгакова, а не того буферного автора, который вместе с чертовней глумился над буфетчиком и управдомом. Прочитаем эти два отрывка. "Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы! С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я 38 слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются сердитые и печальные голоса и поют, поют. О нет, это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист. Вон бежит, задыхаясь, человечек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человечка, выстрел, он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица. А в высоте луна, а вдали цепочкой грустные, красноватые огоньки в селении. Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда? И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют "Фауста". Вдруг "Фауст" смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу – напевает. Пишу – напевает. Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить на вечеринки, ни и театр ходить не нужно. Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу. В апреле месяце, когда исчез снег со двора, первая картинка была разработана. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили." ПРОЩЕНИЕ И ВЕЧНЫЙ ПРИЮТ Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна (успокоит его.) Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своею спиной, притих даже неугомонный Бегемот и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Заболоцкий хотел бы считать себя материалистом. Но мощнейшие накаты вдохновения предполагают обладателя голоса, который слышит поэт. 39 Предполагают внешнюю волю. В "Слепом" Заболоцкий обращается к мифологеме Музы, что чрезвычайно странно в его поэтике. Но позднее стихотворение "Разве ты объяснишь мне, откуда..." уже минует эвфемизмы и обращено к (не названному прямо) Господу. Менее чем через год поэт погибает от разрыва сердца. Разве ты объяснишь мне – откуда Эти странные образы дум? Отвлеки мою волю от чуда, Обреки на бездействие ум. Я боюсь, что наступит мгновенье, И, не зная дороги к словам, Мысль, возникшая в муках творенья, Разорвет мою грудь пополам. Промышляя искусством на свете, Услаждая слепые умы, Словно малые глупые дети, Веселимся над пропастью мы. Но лишь только черед наступает, Обожженные крылья влача, Мотылек у свечи умирает, Чтобы вечно пылала свеча! Вдохновение неподвластно поэту и, следовательно, корпус вдохновенных произведений растет со скоростью, не зависящей от воли людей. Он и есть сердцевина литературы, иначе бы талант, помноженный на труд, захлестнул бы человечество миллионами книг. Вдохновение есть агрессия внешней воли по отношению к писателю и поэту и, тем самым, единственный способ выражения в литературе надчеловеческого плана, а также прямое свидетельство существования этой воли и самой литературы как чего-то большего, чем область человеческой деятельности. Стратегия вдохновения предполагает отказ от невдохновенных текстов в чисто литературных жанрах и, тем самым, отказ от литературы как регулярной деятельности и профессии (Чарский). Тут немедленно возникают три вопроса. Насколько свободен автор в состоянии вдохновения? Что делать ему между этими состояниями? Может ли он как-то провоцировать это состояние? Внимательное чтение многих источников заставляет нас на первый вопрос 40 ответить чем меньше, тем лучше, потому что вдохновение умнее поэта и план в отношении его интереснее его плана. Ответ на второй вопрос – в первой части пушкинского "Поэта", если воспринимать эти строки не как констатацию, а как руководство к действию. Перечтите их медленно и постарайтесь понять возможно буквальнее. Что же до третьего вопроса – нет. Иначе мы будем иметь дело с суррогатами вдохновения (Импровизатор). Если поэт лишь медиатор, проводник Высшего голоса, то наше деление поэтов на великих, крупных, значительных и т.д. лишается опоры. В пределе мы выходим к также не новой формулировке: нет поэтов, а есть ОДИН ПОЭТ, принимающий разные обличья. Многие поэты говорят о странном ощущении: когда ты пишешь действительно настоящее стихотворение, возникает уверенность, что ты в эфире один, и никто больше сейчас настоящих стихов не пишет. Итак, Пушкин просто испытывает приливы вдохновения многократно чаще, чем поэт N. Однако, это многократно чаще становится категорией не чисто количественной. Можно сказать, что вспышки вдохновения Пушкина образуют другую жизнь, прерывистую, но все же длящуюся. Повторим вслед за Парменидом и Миланом Кундерой: то, что случилось однажды, все равно что не случилось. Пушкин имеет уникальную возможность обжить состояние вдохновения. С этой точки зрения, где-то в конце 20-х годов, во время создания сборника "Розы", Георгий Иванов впадает в непрерывное вдохновение, или, точнее сказать, пред-вдохновение. Он вовсе не ощущает это как блаженство, скорее как не-жизнь, смерть при жизни (см. стихотворение "Если бы жить..."). Он пытается вырваться обратно в жизнь. Его десятилетнее неписание стихов, конечно же, означает сознательную попытку выздоровления. Но – Георгий Иванов остается, вероятно, единственным поэтом, пережившим окончательное преображение. Если бы жить... Только бы жить... Хоть на литейном заводе служить. Хоть углекопом с тяжелой киркой, Хоть бурлаком над Великой рекой. "Ухнем, дубинушка!.." Все это сны. Руки твои ни на что не нужны. Этим плечам ничего не поднять. Нечего, значит, на Бога пенять: 41 Трубочка есть. Водочка есть. Всем в кабаке одинакова честь! Ощущая вдохновение как мощный проходящий сквозь них разряд, поэты не могут не обратиться к метафоре молнии, грозы. Давайте вспомним несколько великих "грозовых" стихотворений из русской поэзии XX века. Сквозной образный ряд тут: иной свет, озарение, боль, преображение. "Грозу" Заболоцкого мы уже читали. СКВОЗНАЯ ТЕМА ГРОЗЫ: ПАСТЕРНАК ГРОЗА, МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕК А затем прощалось лето С полустанком. Снявши шапку, Сто слепящих фотографий Ночью снял на память гром. Меркла кисть сирени. В это Время он, нарвав охапку Молний, с поля ими трафил Озарить управский дом. И когда по кровле зданья Разлилась волна злорадства И, как уголь по рисунку, Грянул ливень всем плетнем, Стал мигать обвал сознанья: Вот, казалось, озарятся Даже те углы рассудка, Где теперь светло, как днем! СКВОЗНАЯ ТЕМА ГРОЗЫ: БУНИН *** В гелиотроповом свете молний летучих На небесах раскрывались дымные тучи. На косогоре далеком – призрак дубравы, В мокром лугу перед домом – белые травы. Молнии мраком топило, с грохотом грома Ливень свергался на крышу полночного дома И металлически страшно, в дикой печали, Гуси из мрака кричали. СКВОЗНАЯ ТЕМА ГРОЗЫ: ЗАБОЛОЦКИЙ ГРОЗА ИДЕТ Движется нахмуренная туча, Обложив полнеба вдалеке, Движется, огромна и тягуча, 42 С фонарем в приподнятой руке. Сколько раз она меня ловила, Сколько раз, сверкая серебром, Сломанными молниями била, Каменный выкатывала гром! Сколько раз, ее увидев в поле, Замедлял я робкие шаги И стоял, сливаясь поневоле С белым блеском вольтовой дуги! Вот он – кедр у нашего балкона. Надвое громами расщеплен, Он стоит, и мертвая корона Подпирает темный небосклон. Сквозь живое сердце древесины Пролегает рана от огня, Иглы почерневшие с вершины Осыпают звездами меня. Пой мне песню, дерево печали! Я, как ты, ворвался в высоту, Но меня лишь молнии встречали И огнем сжигали на лету. Почему же, надвое расколот, Я, как ты, не умер у крыльца, И в душе все тот же лютый голод, И любовь, и песни до конца! СКВОЗНАЯ ТЕМА ГРОЗЫ: СЕРГЕЙ САМОЙЛЕНКО КУСТ Куст сирени, сожженный почти дотла молнией, выбравшей эту скупую жертву, стоит один на самом краю села, он пуст и бесплоден, как взмах холостого жеста. Ночью окольный гул мне тревожит слух, как трансформатор, мерцая огнем во мраке. Гулом и странным свеченьем томится дух, и начинают выть по селу собаки. Ближе подходишь: свет холоднее и глубже страх, туман омывает шорох травы белесой. И видишь: остов куста в вытянутых руках держит сферу беспамятства и наркоза. Видно, ангел здесь снес яйцо, и в нем сквозь стеклянную скорлупу различима ветка белой сирени, лежащая вверх лицом, 43 сотрясая дыханием воздух стоячий лета. Пламенем полон этот прозрачный гроб, пчелы бормочут псалмы языком сгоревшим, ищут обугленный мед, и трясет озноб воздух, расколотый молнией, как орешек. Ветка делится надвое, и еще раз, и вот.., свет, нарастая, изнутри разрывает колбу, и куст выходит на волю, одетый в лед, с лицом, искаженным ненавистью и скорбью. Пчелы поют, замыкая щеколдой рот. Воздух пахнет огнем и еще – сиренью. Я пробую горлом лед, подбираю код слухом, перегорающим от напряженья. В этой цепи должна быть прореха, брешь. Нотным ключом откроешь замок стеклянный – вслед за натужным слухом сгорает речь, гулом наполнив отравленную поляну. Куст заслоняет небо, сметает мрак, Я заслоняю глаза, затыкаю уши. Я понял, Господи, ты мне даешь знак, прежде чем светом споим сокрушишь душу. Я этим светом пронизан уже насквозь, – я этим гулом наполнен уже по горло, и я принимаю в ладони горящую гроздь, с лицом, искаженным ненавистью и восторгом. Лекция № 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ Думаю, что данная тема не нуждается в специальной апологии после лекции о пути. Если преображение путника есть внутренняя цель пути, то его внешняя цель всегда – возвращение. Пророк возвращается к людям. Высшей целью поэта является возвращение к исходной ситуации глубокого впечатления, ситуации призвания юноши в поэзию через постижение стиха, но возвращение уже не в теле юноши, а в теле стиха. Так поэт превращается в звено цепи (Ходасевич), имеющее замкнутую, возвращенную форму. Более того, любой путь (физический или метафизический) обретает неповторимость лишь в первой точке самопересечения (возвращения). До этого момента идет линейное приращение нового количества, скучное, как все линейное. Удивление перед новым неминуемо блекнет перед узнаванием измененного. 44 Жест возвращения как никакой другой жестко связывает пространство и время. Возвращаясь в место, мы независимо от нашей сентиментальности или склонности к ностальгии, возвращаемся и в момент времени. Нас раздражает как новое среди старого, так и старое среди нового. Возвращаясь куда бы то ни было, мы наблюдаем работу времени, иначе говоря, время как таковое. Если же место мало изменилось, нам грустно вдвойне, потому что изменились мы сами. Вообще, тут уникальный тупик даже для чистого разума. Печальна смерть, но мы можем представить себе бессмертие души и даже тела. Но' мы не можем вообразить такое возвращение, чтобы оно было не печальным. Полюса (изменилось всё – не изменилось ничего) представляют собой две модификации ада. Место, где молодыми и здоровыми живут наши умершие родные ("Марсианские хроники" Бредбери), есть стопроцентный ад. Год, прожитый вторично, представляет собой ад. из романа МАКСА ФРИША "НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН": Я представляю себе ад: Я Эндерлин, чей портфель я ношу, но бессмертен, так что должен еще раз прожить его жизнь или пусть часть жизни, год, пусть даже счастливый год, например, год, который сейчас начинается, но прожить с полным знанием будущего и без ожидания, которое только и делает жизнь сносной, без той неопределенности, той неизвестности, слагаемые которой надежда и страх. Мне представляется это адом. Еще раз: ваш разговор в баре, жест за жестом, его рука на ее плече, ее взгляд при этом, его рука, которая в первый раз скользит по ее лбу, позднее второй раз, ваш разговор о верности, о Перу, которое он называет страной надежды, всё слово в слово, ваше первое "ты", перед этим болтовня об опере, на которую вы потом не идете, свистки с ночной товарной станции, свистки и эхо свистков, и ни через что нельзя перескочить, ни через один шорох, ни через один поцелуй, ни через какое чувство и ни через какое молчание, ни через один испуг, ни через одну сигарету, ни через один поход в кухню за водой, которая не утолит вашей жажды, ни через стыд и ни через телефонный разговор из постели, все еще раз, минута за минутой, и мы знаем, что будет потом, знаем и должны еще раз это прожить, иначе смерть, прожить без надежды, что будет иначе, историю с ключом в почтовом ящике, вы знаете, что все будет в порядке, затем умывание на улице у водоразборной колонки, рабочий бар, опилки на каменном полу, ни одна минута не пройдет иначе, чем я знаю, ни одной минуты нельзя пропустить и ни одного шага, ни кофе, ни четырех булочек, ни мокрого платка в кармане брюк, Эндерлин машет рукой, это то же самое такси, но я знаю, что потом он выйдет из машины, чтобы кормить голубей, все это еще раз, в том числе испуг из-за записки, заблуждение, грусть, сон под отбойные молотки, которые вспарывают освещенный солнцем асфальт, и затем ожидание на аэродроме, flihgt number seven-o-five, туман в Гамбурге и что будет потом: прощание в надежде, что из этого не выйдет никакой истории, встреча, конец и объятие, прощание, письма и встреча в Страсбурге, трудности повсюду, страсть, очарование без будущего; да, без будущего – но я знаю будущее: счастье в Кольмаре (после осмотра изенгеймского алтаря и 45 по дороге в Роншан) не последнее, как вы боитесь, и не высшее ваше счастье; тем не менее его нужно еще раз пережить, в точности так же, включая прощание в Базеле, прощание навсегда, в точности так же, да, но зная, что будет потом. Все подарки, которые были сделаны друг другу, нужно еще раз подарить, еще раз упаковать и обвязать ленточкой, еще раз распаковать, нужно еще раз восхититься ими, восторженно поблагодарить за них. И через недоразумения, отравляющие половину поездки, нужно пройти еще раз, через ссоры, смеяться над которыми можно лишь позже, все нужно еще раз продумать и прочувствовать, каждый разговор повторить еще раз, хотя я уже знаю, сколько раз он повторится еще, – и еще раз нужно вынуть из ящика те же письма, вскрыть их с сердцебиеньем, и еще раз нужно строить все планы, зная что все выйдет иначе, вы несколько недель ищете земельный участок, ведете переговоры, покупаете, – создаете себе заботы, которые ни к чему, окрыляете себя надеждами, я знаю, что постройка не состоится, обмер участка тем не менее произвести нужно, все насмарку, но в судьбе ничего изменить нельзя, хотя вы это и знаете, и еще раз я подхожу к двери, чтобы сердечно приветствовать мужчину, который вдруг вклинивается, еще раз спрашиваю, что он будет пить, виски или джин; еще раз мои остроты, мое подозрение, мое великодушие, моя наивная победа, еще раз ваша поездка с аварией, моя тревожная ночь, еще раз славные периоды равнодушия, я еще раз посылаю ему открытку с приветом, с тем озорным приветом, который я послал, ничего не зная, в точности так же, но теперь-то я знаю, и еще раз кипит кофе, чтобы остыть после твоего признания, я знаю, я знаю, тем не менее я должен еще раз ругаться и бегать по комнате, и ругаться в точности так же, еще раз стакан, который шваркнули о стенку, осколки, которые я убираю, в точности так же, да, но все это уже зная, как будет дальше: без любопытства; как будет дальше, без слепого ожидания, без неизвестности, которая помогает вынести... Это был бы ад. Эндерлин, листая газету, словно бы не слушает; положение напряженное; он наслаждается тем, что не знает, что будет в газете завтра, не знает наверняка... Это был бы ад. Опыт – это первое ощущение ада, но только первое ощущение: ведь мой опыт не говорит, что будет, он лишь ослабляет ожидание, любопытство... Вернуться и прожить иначе, реваншировать прошлое, как делает Степной Волк у Гессе, – жизнь очевидно превращается в галлюцинацию. Нам как бы сообщается ВЕРНУТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО, и любой мысленный бунт против этой невозможности вызывает Господний гнев. Вчитаемся в стихотворение Иосифа Бродского "Развивая Платона". Поэт не говорит о возвращении. Он искренне рисует некий идеальный город, но не может превзойти фантазией Творца и лишь перебирает приметы и предметы, окружавшие его в юности. И когда его безымянный Город наливается энергией Ленинграда, он восстает (найдите этот момент энергетического толчка) и мстит своему архитектору-поэту точно так же, как Ленинград ему уже отомстил. I Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река 46 высовывалась бы из-под моста, как из рукава – рука, и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы, как Шопен, никому не показывавший кулака. Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран – тенор исправно пел арию Марио по вечерам; чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере бормотал бы, сжав зубы от ненависти: "баран". В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб. По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб я узнавал бы о наступлении воскресенья и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб. Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой там, где нога продолжает начатое головой. Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные – пенальти и угловой. II Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых я листал бы тома с таким же количеством запятых, как количество скверных слов в ежедневной речи, не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих. Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне, с фасадом куда занятней, чем мир вовне. Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне. И когда зима, Фортунатус, облекает квартал в рядно, я б скучал в Галерее, где каждое полотно – особливо Энгра или Давида – как родимое выглядело бы пятно. В сумерках я следил бы в окне стада мычащих автомобилей, снующих туда-сюда мимо стройных нагих колонн с дорическою прической, безмятежно белеющих на фронтоне Суда. III Там была бы эта кофейня с недурным бланманже, где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги надолго сосредотачивается на вилке или ноже. Там должна быть та улица с деревьями в два ряда, подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда; и портрет висел бы в гостиной, давая вам представленье о том, как выглядела хозяйка, будучи молода. Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах, не имеющих отношенья к ужину при свечах, и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы багровый отблеск 47 на зеленое платье. Но под конец зачах. Время, текущее, в отличие от воды, горизонтально от вторника до среды, в темноте там разглаживало бы морщины и стирало собственные следы. IV И там были бы памятники. Я бы знал имена не только бронзовых всадников, всунувших в стремена истории свою ногу, но и ихних четвероногих, учитывая отпечаток, оставленный ими на населении города. И с присохшей к губе сигаретою сильно заполночь возвращаясь пешком к себе, как цыган по ладони, по трещинам на асфальте я гадал бы, икая, вслух о его судьбе. И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, подрывную активность, бродяжничество, менажа-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала, тыча в меня натруженными указательными: "Не наш!" я бы втайне был счастлив, шепча про себя: "Смотри это твой шанс узнать, как выглядит изнутри то, на что ты так долго глядел снаружи; запоминай же подробности, восклицая "Vive la Patrie!" * * Да здравствует Отчизна! (франц.) В самой невозможности вернуться здесь, в рамках нашей жизни, нашего мира и нашего разума, есть ощущение жизни вечной и того, что вся наша жизнь – попытка вернуться, точнее, видимый фрагмент этой попытки. Человек пытается вернуться в Эдем. Его душа пытается вернуться в Элизиум. Тем самым, нас не должно удивлять, что возвращение есть самый глубинный и самый мощный литературный сюжет. Посмотрите, как стихотворение "Белый день" Арсения Тарковского сводит воедино сад детства и райский сад, умершего отца и Создателя. БЕЛЫЙ ДЕНЬ Камень лежит у жасмина. Под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке. Белый-белый день. В цвету серебристый тополь, Центифолия, а за ней – Вьющиеся розы, 48 Молочная трава. Никогда я не был Счастливей, чем тогда. Никогда я не был Счастливей, чем тогда. Вернуться туда невозможно И рассказать нельзя, Как был переполнен блаженством Этот райский сад. (Мы сознательно не касаемся таких тем, как: возвращение в христианстве и вообще в религии, возвращение как ритмическая основа музыки и т.п. Нам хватит жизни и литературы.) "Одиссея" – книга о возвращении Одиссея на Итаку. Менее очевидно, что "Илиада" тоже книга о возвращении Одиссея на Итаку, только первый ее том. Одиссей – единственный греческий герой, который наотрез не хочет идти на Троянскую войну, а попав туда, страстно хочет покончить с ней и вернуться. Ради этого он по сути в одиночку выигрывает эту войну. Раз за разом сюжет "Илиады" застывает в эпической неподвижности, и Одиссей яростно двигает его вперед. Вспомним. Первый сошедший на троянскую землю должен погибнуть, и Одиссей спрыгивает с корабля первым (правда, не на землю, а на собственный щит). Выяснив, что для победы необходимы Филоктет и Неоптолем, он доставляет в Трою Филоктета и Неоптолема. Потом на пару с Диомедом отправляется на разведку в Трою и, наконец, придумывает Троянского коня и всю эту историю с ложным отъездом. Потому что хочет вернуться. История Гамлета повторяет историю сына Агамемнона. Возвращение к сюжету важнее для нас, чем сюжет о возвращении. Конечно, возвращение не предполагает прямого повтора. У Гамлета и Ореста совпадают обстоятельства, канва, но сами они различны. Орест есть элемент мифа, человек-глагол. Нам неизвестны его мысли и чувства вне истории мщения. Их, можно сказать, нет. Гамлет же идеально не подходит на роль человека действия, и не потому что не способен на действие (сомневается, боится), а потому что избыточен для простой логики драматического действия. Он отказывается играть роль Ореста, и весь "Гамлет" есть трагедия отказа человека от глупой и плоской фигуры судьбы. Посмотрите, как безжалостно и горько в стихах Ленского пародирует Пушкин свою раннюю поэтику. Тут очевиден жест возвращения. 49 ПУШКИН ПИШЕТ СТИХИ ЛЕНСКОГО XXI Стихи на случай сохранились, Я их имею; вот они: "Куда, куда вы удалились, Весны моей златые дни Что день грядущий мне готовит Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он. Нет нужды; прав судьбы закон. Паду ли я, стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она, Все благо: бдения и сна Приходит час определенный; Благословен и день забот, Благословен и тьмы приход! XXII "Блеснет заутра луч денницы И заиграет яркий день; А я, быть может, я гробницы Сойду в таинственную сень, И память юного поэта Поглотит медленная Лета, Забудет мир меня; но ты Придешь ли, дева красоты, Слезу пролить над ранней урной И думать: он меня любил, Он мне единой посвятил Рассвет печальный жизни бурной!. Сердечный друг, желанный друг, Приди, приди: я твой супруг!.." XXIII Так он писал темно и вяло (Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут нимало Не вижу я; да что нам в том?) И наконец перед зарею, Склонясь усталой головою, На модном слове идеал Тихонько Ленский задремал; Но только сонным обаяньем Он позабылся, уж сосед В безмолвный входит кабинет И будит Ленского воззваньем: "Пора вставать: седьмой уж час. Онегин верно ждет уж нас". Сравните ритм, образы, да и лексику "Бесов" с "Зимней дорогой". Тут возвращение с усилением: новоявленные бесы заселяют уже знакомую зимнюю дорогу. 50 Если поверить в то, что за преображением следует возвращение, то следует у поэтов с ярко выраженными ранним и поздним периодами творчества ожидать в позднем проращение раннего. Как бы наложение, удвоение поэтик. Не всегда, конечно, но такое происходит. Мы говорили уже, что Гумилев предпочел физический опыт визионерскому. Но, может быть, гениальнейшее его позднее стихотворение – "Заблудившийся трамвай" – опять визионерское. В нем осуществляется прорыв сквозь время, физически недоступный человеку. НАЛОЖЕНИЕ ПОЭТИК: НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ Шел я по улице незнакомой И вдруг услышал вороний грай, И звоны лютни и дальние громы, Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, Было загадкою для меня, В воздухе огненную дорожку Он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой, Он заблудился в бездне времен,.. Остановите, вагоновожатый, Остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, Мы проскочили сквозь рощу пальм, Через Неву, через Нил и Сену Мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, Бросил нам вслед пытливый взгляд Нищий старик, – конечно, тот самый, Что умер в Бейруте год назад. . Где я? Так томно и так тревожно Сердце мое стучит в ответ: Видишь вокзал, на котором можно В Индию Духа купить билет? Вывеска . .. кровью налитые буквы Гласят – зеленая, – знаю, тут Вместо капусты и вместо брюквы Мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, Голову срезал палач и мне, 51 Она лежала вместе с другими Здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, Остановите сейчас вагон! Машенька, ты здесь жила и пела, Мне, жениху, ковер ткала, Где же теперь твой голос и тело, Может ли быть, что ты умерла! Как ты стонала в своей светлице, Я же с напудренною косой Шел представляться Императрице И не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я: наша свобода Только оттуда бьющий свет, Люди и тени стоят у входа В зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, И за мостом летит на меня Всадника длань в железной перчатке И два копыта его коня. Верной твердынею православья Врезан Исакий в вышине, Там отслужу молебен о здравьи Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, И трудно дышать, и больно жить... Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить. У Заболоцкого в страшном "Прощании с друзьями", посвященном памяти Введенского, Олейникова и Хармса, опять на миг оживает обэриутский мир "разъятых форм", заселенный разумными насекомыми и мертво-живыми людьми. НАЛОЖЕНИЕ ПОЭТИК: НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ В широких шляпах, длинных пиджаках, С тетрадями своих стихотворений, Давным-давно рассыпались вы в прах, Как ветки облетевшие сирени. 52 Вы в той стране, где нет готовых форм, Где все разъято, смешано, разбито, Где вместо неба – лишь могильный холм И неподвижна лунная орбита. Там на ином, невнятном языке Поет синклит беззвучных насекомых, Там с маленьким фонариком в руке Жук-человек приветствует знакомых. Спокойно ль вам, товарищи мои? Легко ли вам? И все ли вы забыли? Теперь вам братья – корни, муравьи, Травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам сестры цветики гвоздик, Соски сирени, щепочки, цыплята... И уж не в силах вспомнить вам язык Там наверху оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, Где вы исчезли, легкие, как тени, В широких шляпах, длинных пиджаках, С тетрадями своих стихотворений. У Мандельштама в классическом стихотворении "Я вернулся в мой юрод..." ленинградские фонари, но поэт сквозь мертвое настоящее взывает к живому прошлому и называет другое имя: Петербург. Сравним два стихотворения Георгия Иванова. Все розы, которые в мире цвели, И все соловьи, и все журавли, И в черном гробу восковая рука, И все паруса, и все облака, И все корабли, и все имена, И эта, забытая Богом, страна! Так черные ангелы медленно падали в мрак. Так черною тенью Титаник клонился ко дну. Так сердце твое оборвется когда-нибудь – так, Сквозь розы и ночь, снега и весну. Торжественно кончается весна, И розы, как в эдеме, расцвели. Над океаном блеск и тишина, И в блеске – паруса и корабли... ...Узнает ли когда-нибудь она, 53 Моя невероятная страна, Что было солью каторжной земли? А впрочем, соли всюду грош цена: Просыпали – метелкой подмели. Можно сказать, что это одно и то же стихотворение (если хотите, одна и та же идея стиха), воплощенное разными словами. Между ними 24 года. Серьезным уточнением является один эпитет: вместо забытая Богом страна во втором стихотворении стоит моя невероятная страна. Послушайте, как сильно звучит более нейтральное слово. Возмущение выгорает, остается лишь удивление, легкое как пепел. Кольридж определяет поэзию как лучшие слова в лучшем порядке. Пусть так, но слово не подбирается, а настаивается, как вино, на четверти века изгнания. Эмиграция, то есть невозможность вернуться. Память преображает жизнь и возвращает ее нам преображенной. Мы удержимся от искушения свести к этому всю литературу, но тут ее рабочая мышца. Так и конкретный рассказ начинается с первого возвращения к уже представленным нам героям, с фигуры узнавания, как узор с петли. Любой средне опытный литератор знает, что для правки есть некая мертвая зона. Можно внести счастливые изменения в текст на скорую руку, немедленно после написания. Потом он как бы застывает, а автор как бы теряет с ним связь. И лишь через полмесяца-месяц (сроки индивидуальны) автор может вернуться к своему произведению уже иначе, извне, как читатель, описав петлю. На выходе из другой петли – в десятилетия – автор может вернуться к своим ранним текстам. Но это отдельная история, и пример одного Борхеса может занять целую лекцию. Нашей целью не было исчерпать тему возвращения, мы лишь хотели очертить ее. АВТОР: ЛЕОНИД КОСТЮКОВ 54