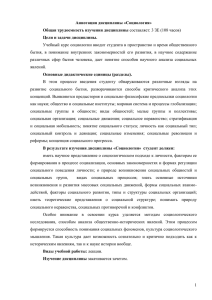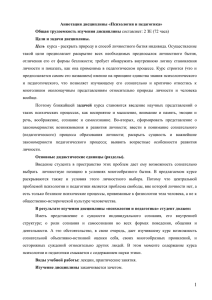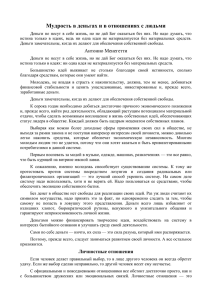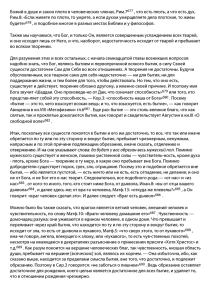Проблемные аспекты языкового символизма
advertisement
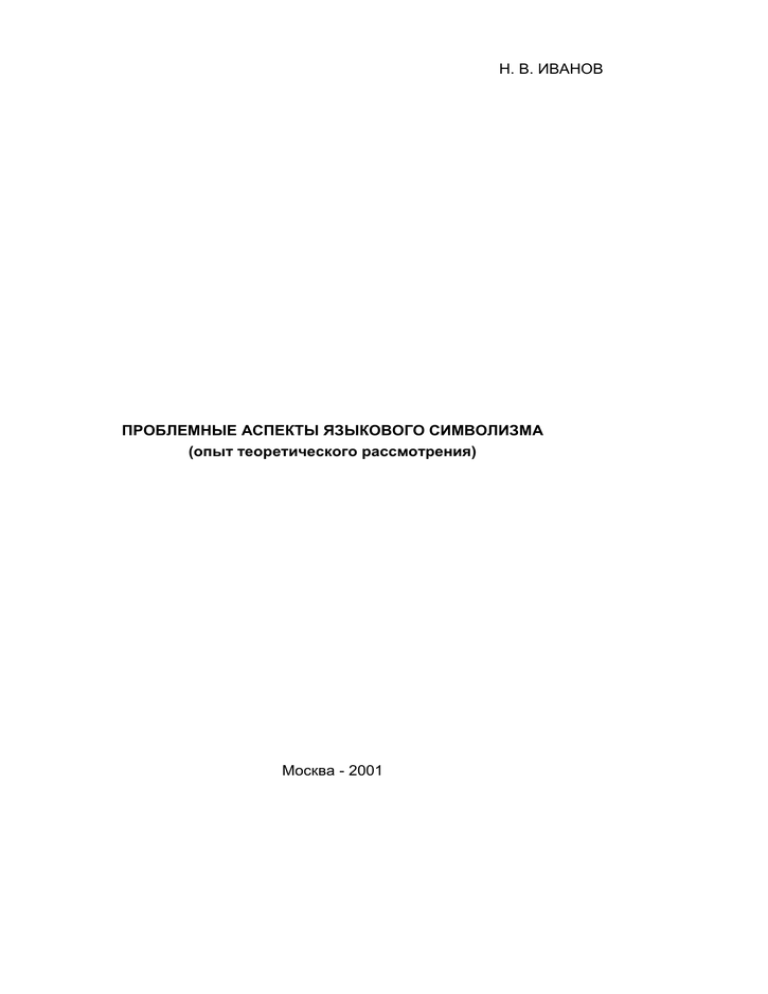
Н. В. ИВАНОВ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОГО СИМВОЛИЗМА (опыт теоретического рассмотрения) Москва - 2001 Исследуется одна из наиболее актуальных тем современной лингвистики – проблема символических свойств языка и языкового знака. До сих пор проблема символа разрабатывалась главным образом в рамках литературоведения, культурологии, философской гносеологии и эстетики. Между тем эта проблема имеет важное значение и в русле исследований языка. Она позволяет по-новому взглянуть на природу знаковости, открывает перспективу более глубокого осмысления взаимосвязи языка и культуры. Автор раскрывает место данной проблемы в предмете языкознания: ее влияние на изменение подходов этой науки к своему объекту, ее ключевую роль в разработке новой исторической парадигмы лингвистики. Книга может представлять интерес для специалистов в области общего языкознания, семиотики, культурологии и философии. Рецензенты: доктор филологических наук, профессор Сидоров Е.В., доктор филологических наук Курдюмов В.А., кандидат философских наук Мануйлов В.Т. СОДЕРЖАНИЕ I. ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ОБЪЕКТА В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 1.1. Общие принципы выделения объекта науки. 1.2. Предыстория вопроса: эволюция принципов теоретического выделения языка как научного объекта. 1.3. Новые принципы выделения объекта языкознания на теоретическом уровне. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. 1.4. Проблема эмпирического объекта в теории Соссюра. Проблема символа. 1.5. Философия узкого и широкого понимания эмпирического объекта в языкознании. 1.6. Различение природы и сущности языка в научном опыте языкознания. 2 2 3 8 14 17 23 II. ЕДИНСТВО И ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЯЗЫКА КАК НАУЧНОГО ОБЪЕКТА. 2.1. Общее материальное различие знака и символа в языке. 37 38 2.2. Содержательное различие знака и символа в языке. 2.3. Различие принципов системного определения знака и символа. Проблема внутренней формы. 2.4. Различие принципов контекстного определения знака и символа. 2.5. Отношение формы и содержания в знаке и в символе с точки зрения системного и контекстного критериев. 2.6. Двойственность знакового отношения в языке. От диалектики к телеологии 39 40 48 54 56 языка. III. ТЕЛЕОЛОГИЯ ЗНАКОВОГО ОТНОШЕНИЯ В ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМА МОДЕЛИ И МЕТОДА 3.1. Общие принципы разработки телеологии научного объекта в контексте исторического опыта языкознания 3.2. Категория метода в научном анализе телеологии знакового отношения 3.3. Категория модели в научном анализе телеологии знакового отношения 3.4. Объективная сторона модели и значение метода 59 IV. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ НАТУРАЛЬНОГО СИМВОЛИЗМА 4.1. Символ как категория в истории философии, философской эстетики и 93 93 60 65 72 86 культурологии. Общее понятие символа 4.2. Структура символического восприятия 97 4.3. Формы символического понимания 4.3.1. Миф и аллегория 4.3.2. Олицетворение и художественный тип 4.3.3. Художественный образ и схематическое художественное изображение 4.3.4. Метафора и понятие как символические формы 4.4. Символическое значение художественной формы 4.5. Общие принципы развития: переход от натуральных символических форм к абстрактной знаковости 101 101 102 103 105 107 109 V. ЭВОЛЮЦИЯ СИМВОЛА В ЯЗЫКЕ 114 5.1. Субъект-объектное отношение в символической и в знаковой моделях понимания 5.2. Функция субъекта в символической и в знаковой моделях понимания 114 5.3. Эволюция функции субъекта в диалектике символического понимания 5.4. Преемственность содержательного развития от символа к языку 5.5. Прагматика понимания и стиль 5.6. Сущность и значение языкового символизма ЛИТЕРАТУРА 119 125 132 138 150 117 Предисловие «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра, составленный его учениками Ш. Балли и А. Сеше на основе конспектных записей слушателей этого курса, завершается выводом о том, что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя»1. В лингвистическом мире заключительные слова соссюровского «Курса» были восприняты неоднозначно, отношение к ним варьировалось от попыток буквально руководствоваться ими в предметном построении науки о языке до полного методологического неприятия. В конечном счете, лингвистика отвергла эти слова, как можно полагать, за их чрезмерный научный радикализм. В самом деле, буквальное и полное применение содержащегося в них научного принципа в опыте изучения языка потребовало бы от лингвистики решительного разрыва с исконной для нее филологической, а также опирающейся на Гумбольдта антропологической традициями и перехода на более абстрактные, но бедные в содержательном отношении семиотические основания. Science de lettres должна была бы превратиться в science de signe, причем без какой-либо возможности вернуться назад. Такая перспектива, понимаемая однозначно, не устраивала лингвистику, поскольку уводила науку от живой практики языка. В последующем, в процессе повторных изысканий, выяснилось, что эти «злополучные» слова не принадлежали Соссюру2. Скорее всего, они являются «изобретением» составителей «Курса», которые, конечно из лучших побуждений, излишне радикализовали мысль своего учителя. Впрочем, уместно спросить, заслуживают ли эти, безусловно, радикальные слова столь же радикального к себе отношения? Может ли невозможность полного и буквального применения этих принципов в предмете языкознания быть причиной их столь же полного и однозначного неприятия? Чтобы ответить на эти вопросы, надо попытаться понять, что стоит за этими словами, тем более что по Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 269. 2 См.: Холодович А. А. О «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 18. 1 замыслу составителей именно в них заключается основная идея всего «Курса» Соссюра. Концепция Ф. де Соссюра поставила лингвистику перед проблемой о соотношении искусственного и естественного в языке. Эта проблема имеет непосредственное отношение к вопросу о сущности языка. Наука не может нормально и устойчиво развиваться, если в самих своих основаниях не сознает, в чем состоит или должна состоять сущность изучаемого ею объекта. Конечно, концепцию Ф. де Соссюра нельзя понимать как окончательное решение этого вопроса. Ее ценность – в самой постановке этого важнейшего для языкознания вопроса, позволившей перенести его решение в иную плоскость, на качественно новый уровень. В языке, абсолютно проникая друг в друга на всю глубину языка, действуют как естественные, так и искусственные факторы. К первым относятся естественные выразительные возможности языка, в которых, при соответствующем их целостном рассмотрении, открывается символическая функция языка – весь его культурно-выразительный смысловой опыт. Ко вторым относятся все свойства языковой знаковости, основывающиеся на принципе условной искусственной связи означающего и означаемого. Наука уже давно, наверное, со времен первых философов-филологов древности осознает это, последовательно, на протяжении многовековой истории, идя по пути взаимной дифференциации одних факторов от других. На стороне каких факторов – естественных или искусственных – следует искать сущность языка? До Соссюра наука неизменно решала этот вопрос в пользу естественных факторов, пытаясь во внешнем познавательном, культурном, общественном, антропологическом предназначении языка найти разгадку его сущности. Соссюр был первым, кто однозначно решил этот вопрос в пользу искусственных факторов, увидев в знаковых свойствах языка его сущностное ядро. Тем самым Соссюр с предельной ясностью указал, какая сторона изучаемой лингвистикой реальности должна рассматриваться в качестве ее подлинного научного объекта. Поиск языковой сущности, таким образом, лежит не в плоскости вопросов «что есть язык» или «чему служит язык», а в плоскости вопросов «как есть язык» или «в чем заключается собственная языковость языка». Соссюр, как бы отвечая на этот вопрос, дает свое рабочее определение языка: «язык – это система знаков, в которой единственно существенным является соединение (напомним: соединение в себе произвольное и условное – Н.И.) смысла и акустического образа»3. По Соссюру, «быть языком» – значит в той или иной степени обладать свойствами языковой знаковости. Именно такая постановка вопроса произвела переворот в современной Соссюру лингвистике, заставила эту науку по-новому взглянуть на свой объект. Учитывая сказанное, мы не видим необходимости в том, чтобы как-то подправлять или модернизировать теорию Соссюра и дезавуировать приведенное выше изречение, приписанное ему, как считается, его учениками. Даже если Соссюр не произносил этих слов, он вполне мог и имел право их произнести, учитывая ту задачу, которую решала в целом его теория на том историческом отрезке развития языкознания, когда науке о языке требовалось определиться в выборе предметной формы, в принципах действительно научного отношения к своему объекту. Соссюровский «Курс», можно сказать, завершил переход лингвистики от филологической к онтологической парадигме развития, в основу которой легло общее представление об онтологическом приоритете в языке принципов искусственной языковой знаковости. Тем не менее и после Соссюра, во многом до сих пор, проблема искусственного в языке не получила должной научной оценки. Длительное время искусственная сторона языка разрабатывалась абстрактно как некая в-себе данность – прежде всего, в структурной лингвистике. Отчасти предпосылки для такого методологического пути развития лингвистики создал и сам Соссюр, который, признавая, что единственным реальным объектом лингвистики является «нормальная и регулярная жизнь уже сложившегося языка»4, вместе с тем не видел необходимости для лингвистики в полной мере обращаться к символической стороне языка, считая понятие «символ» «не вполне 3 4 Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 53. Там же. С. 105. удобным» для решения фундаментальных вопросов онтологии языка5. В лингвистике уже давно раздаются призывы отказаться от такого пути: не замыкаться на искусственной стороне языка, обратиться к культуре, антропологизировать лингвистику, вернуться назад к Гумбольдту. Думается, что за этими гумбольдтианскими призывами, отрицающими онтологический приоритет языковой знаковости, стоит все то же узкое понимание роли искусственного фактора в языке, на котором до этого основывалось одностороннее структурное изучение языка. Если мы действительно хотим понять природу искусственного в языке, то, прежде всего, мы должны исследовать эту сторону языка в самих ее основаниях в ее генетической и функциональной взаимосвязи с естественной стороной языка. Антиномия искусственного и естественного, знака и символа, которая выражается в понимании знака как символа и символа как знака, должна быть признана наиболее фундаментальной в научной онтологии языка. Ее решение требует, с одной стороны, описания знака во всем объеме его символических смысловых свойств и самого символического происхождения знака, а с другой – описания символа (различных типов символических форм) с точки зрения принципов его (их) знаковой организации и в целом – описания знаковой эволюции символа6. Современный этап развития лингвистики с общетеоретической точки зрения можно оценить как этап рождения новой парадигмы. Предыдущая, открытая еще Ф. де Соссюром, онтологическая парадигма, в основе которой, как мы сказали, лежало общее представление об онтологическом приоритете в языке принципов абстрактной языковой знаковости, все больше уступает место новой, характеризуюшейся обращением к культуре, человеческим ценностям, к смысловой стороне языка. В целом это отражает общую «гуманизацию» языкознания (в силу чего и саму эту парадигму можно определить как «гуманистическую»). В Там же. С. 101. Имеется в виду рассмотрение и описание символических форм как семиотических концептов в едином эволюционном ряду, в конечном счете приводящем к абстрактной знаковости. Логику такого описания мы видим в работе Н. Д. Арутюновой “Язык и мир человека”. (М.: Языки русской культуры, 1998. С. 313–346). 5 6 семиотическом выражении это означает обращение к символической стороне языка, переход от знака к символу. За этим открывается поле новых широких исследований выразительных возможностей языка, поиска новых оснований естественной выразительной связи планов означающего и означаемого в языке, определения функциональных условий такой связи, предполагающее выход в широкий коммуникативный и культурный контекст. Однако рождение новой парадигмы на этот раз не должно привести к смене онтологических оснований лингвистики, т. е. замене онтологии языковой знаковости принципами какой-то другой внешней языку онтологии. Весь теоретический потенциал предыдущей парадигмы развития должен быть использован в опыте новой парадигмы. Переход к символу не должен строиться на «забвении» знака. Новая парадигма должна быть не возвратом к старому филологическому опыту, а усилением семиотических оснований лингвистики. Антиномия абстрактной языковой и естественной символической знаковости должна быть поставлена в центр современного теоретического поиска языкознания. Антиномия знака и символа может стать основой действительно широкого семиотического и культурологического изучения языка. Эта антиномия может иметь не только специально-лингвистическое, но и более широкое научное применение – использоваться при изучении целого ряда других семиотических и культурных объектов. В настоящей работе мы стремились показать, насколько глубоко проникают друг в друга и взаимодействуют знаковая и символическая стороны языка; определить генетическую связь этих двух аспектов языковой природы, которая подготавливает и их широчайшую функциональную взаимосвязь. Знак и символ стремятся друг к другу. Этим взаимным стремлением обусловлена вся внутренняя телеология языка. Появление знака генетически подготавливается эволюцией символа: знак (абстрактная знаковость) стоит на вершине символической эволюции. Символ, символическая способность языкового знака, открывается на вершине семиозиса как высший пункт его смысловой интерпретации7 в опыте культурного смыслового коммуникативного функционирования знака. развития и Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто помог ему в работе над монографией или оказал поддержку при подготовке к печати: рецензентам – доктору филологических наук, профессору Е. В. Сидорову и кандидату философских наук, доценту В. Т. Мануйлову, внимательно прочитавшим монографию и давшим, наряду с ценными научными рекомендациями, положительные отзывы о ней; научному консультанту профессору кафедры романских языков Военного университета И. Ф. Мельцеву, который во многом способствовал успешному завершению исследования 1. Проблема научного объекта в теоретическом опыте языкознания 1.1. Общие принципы выделения объекта науки Исторический опыт науки показывает, что выделение научного объекта может осуществляться на двух уровнях: эмпирическом и теоретическом. Каждый из них, взятый в отдельности, имеет свои преимущества и свои недостатки. Эмпирическое выделение, при всей осязаемости объекта в нем, содержит много не связанных с объектом внешних примесей, часто бывает соединено с различными субъективными целесообразностями, с пользой, которую мы непременно хотим видеть в объекте, и как таковое не дает уверенности в том, что здесь мы действительно соприкасаемся с сущностью объекта, как и не дает окончательной уверенности в полноте его охвата. Теоретическое выделение, наоборот, заведомо полагается как всеобщее. Оно, прежде всего, апеллирует к сущности объекта, стремится представить эту сущность в ее чистоте. Но в этой своей абстрактности теория не производит ощущения реальности объекта и может даже кому-то показаться эфемерной. Два уровня выделения объекта в науке, помимо их взаимной противопоставленности и Смысловая интерпретация и семиозис – взаимосвязанные категории. Семиозис всецело опирается на опыт смысловой интерпретации знака, его качество или уровень раскрываются через смысловую интерпретацию. Данная точка зрения глубоко обосновывается А. Р. Усмановой “Умберто Эко: парадоксы интерпретации” (Мн.: изд. ЕГУ «Пропилеи», 2000. С. 173–184). 7 разнонаправленности, конечно же, дополняют друг друга, образуя полноту научного метода. Но между ними нет и не может быть научного равноправия: теоретическое выделение, безусловно, является главным, ведущим. И это естественно, ведь теория – показатель совершенства науки. Именно в теории устанавливается форма тождества науки своему объекту, высшим выражением которого является понятие об объекте как таковом, считающееся онтологическим основанием науки. Именно в теории наука может сказать, что она знает свой объект – знает, какая реальность ей противостоит и что в действительности познается ею. Поэтому всякая наука стремится к максимально теоретическому, не засоренному внешними эмпирическими целесообразностями, пониманию своего объекта, видя в этом свой принцип и основание своего предмета8. Прежде чем выделить свой объект в теории, в его смысловой чистоте, наука проходит долгий путь его эмпирического изучения – этап, на котором наука выбирает имя своему объекту, учится его распознавать в хаосе внешних событий, но еще не понимает и не способна сколькоПротивопоставленность эмпирического и теоретического в науке, и в частности переход от одного к другому обычно понимают как восхождение от конкретного к абстрактному и, на новом уровне, – от абстрактного опять к конкретному. Здесь выстраивается некоторая количественная модель роста науки, в плане последовательной смены ее точек зрения на объект. Данная модель пропитана внешней науке целесообразностью и в целом эмпирична. В ней недостаточно учитывается природа научного метода. Она иллюстрирует то, что в данный момент нужно науке для эксплуатации своего объекта, или, точнее: что от нее требуется для такой эксплуатации. Как бы то ни было, это – точка зрения практика науки, или практика в науке. Позиция объекта здесь превалирует, но субъект при этом не становится на точку зрения объекта, не отождествляет себя с ним: его нет в изучаемом космосе. Теория имеет свою точку зрения и собственный смысл. Здесь доминирует субъект, отражающий и познающий сущность объекта. Абстракция сущности стоит на первом месте и является основой субъект-объектного тождества – первой гипотезой и предпосылкой всякой мыслительной деятельности. Все смысловое наполнение и конкретизация сущности в процессе мыслительной деятельности от начала и до конца находится под теоретическим знаком ее предметного смыслового развития. Смысловое развитие сущности может исполнять практическую миссию, которая, однако, не является ее собственной смысловой задачей. Таким образом, точка зрения теории может быть представлена как главное качество и сущность науки. Качество науки вообще находится на стороне теории. 8 нибудь законченно определить его сущность. Сущность – абсолютное качество каждой вещи, каждого объекта. Знание сущности необходимо для того, чтобы оторваться от чувственной видимости объекта. Вещь должна быть представляема в-себе, безотносительно к чему-либо. Это дает науке ряд преимуществ по сравнению с иными формами отношения к объекту. Прежде всего, отношение к объекту перестает быть искусственным и становится естественным – более естественным, чем где бы то ни было. Вообще, эмпирия – удел искусств и ремесел. Здесь властвует интуиция: объект послушен воле человека, но человек не понимает причин и смысла своей власти над ним. В науке человек не удовлетворяется этой мнимой, “житейской” властью над объектом. Человек догадывается, что в эмпирии он имеет лишь свое отношение к объекту. Но по мере накопления практического опыта (experientia artificiale) человек все больше понимает, что единственной основой систематизации и категоризации такого опыта (опыта, ограниченного его отношением к объекту) может быть лишь отношение объекта к нему. За всем его опытом стоит то, что его (этот опыт) отрицает, но вместе с тем, в своей неизменности, внутреннем покое и единстве, его обосновывает и объясняет. Человек понимает, что перед ним – сущность, требующая к себе абстрактного, внеопытного, или теоретического отношения. В сущности объект открывается человеку во всей полноте своих функций. Это еще одно преимущество, которое дает человеку теория. Человек утрачивает интуицию, но обретает научное, системное видение объекта. С этих позиций человек овладевает своим собственным опытом, который здесь опирается на новые, действительно объективные основания. Итак, из сказанного становится понятным, насколько важно науке знать и уметь определить свой объект. Укажем лишь еще одну черту того отношения к объекту, которое человек обретает в науке. Научное отношение к объекту, которое в отличие от точки зрения ремесла или искусства апеллирует не к внешней данности, а к сущности объективного, является абсолютным отношением, лишенным всего привходящего, случайного. Это – предел, вершина отношения человека к объекту. Что бы новое ни появлялось в области эмпирического отношения человека к объекту, это отношение всегда стоит вне его или над ним, всегда остается одним и тем же. Это отношение неизменно, постоянно, в в-себе оно еще и бесконечно – бесконечно в плане числа своих конечных смысловых реализаций. Наука стремится выйти на сущностный, внеопытный уровень отношения к своему объекту и представить данную точку зрения в понятии об объекте, видя в этом момент внутренней стабильности, подлинной объективности и смысловой независимости. 1.2. Предыстория вопроса: эволюция принципов теоретического выделения языка как научного объекта Сложный путь движения к абстрактному теоретическому объекту, на разных этапах которого открывались последовательно новые возможности его все более полного научного осмысления, мы можем видеть в языкознании. Прошло более 2000 лет, прежде чем языкознание прикоснулось к сущности своего объекта – языка. Первоначально неразличенность эмпирического и теоретического в отношении к объекту выражалась в общей филологической направленности всех дисциплин, связанных с языком, включая ту часть первоначальной филологии, которая может быть соотнесена с нынешним языкознанием и сопоставима с ним по комплексу разрабатываемой проблематики. Это – древняя грамматика в ее отличии от древней риторики и поэтики. Она, как и две последние, именовалась искусством и была ориентирована на текст – с тем лишь отличием, что в тексте объектом ее рассмотрения были не смысловые и стилистические принципы организации текста, а исключительно, выражаясь современным языком, знаковый уровень организации, знаковая форма текста9. Трудно сказать, видели древние греки в этой низшей форме филологии причину или следствие двух других форм. Во всяком случае, вероятно, именно в то время феномен выражения стали называть языком. Имя объекту было найдено и сохранилось за Греки называли грамматикой “... отдельное учение, которое опосредует связь алфавита и его фонетической интерпретации со словарем” (Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М.: Гл. редакция вост. лит. 1975. С. 58). 9 ним до сих пор. Важно отметить, что для древних греков объект должен был быть непременно чем-то осязаемым, а следовательно, с высоты нашего современного понимания, это было исключительно эмпирическое выделение объекта. Неразграниченность объективной и субъективной сущностей вообще характерна для древнегреческой философии. Существовала наивная вера в объект10. Вопрос о сущности языкового выражения как такового, помимо его внешнего речевого предназначения, здесь не ставился. Задача состояла в различении встречающихся в речи классов слов (частей речи) и анализе принципов их соединения. Преследуя задачу знакового различения, греки, с одной стороны, могли доходить до отдельных звуков, а с другой – задумываться об интерпретации отдельных слов на основе смысловых принципов риторики и поэтики. Но и здесь, при общем главенстве эмпирии, также просматривается теоретическая сторона объекта. Она усматривалась в интерпретации грамматических форм с позиций вышестоящих речевых принципов. Итак, для древних греков язык был лишь речевой формой. Собственную сущность языка они не видели и не выделяли. Язык был материалом для реализации функции речевого выражения11. Новая историческая парадигма выделения языка в качестве научного объекта открывается тем направлением европейской филологии, основу которого составляет рациональная грамматика А. Арно и К. Лансло. Касаясь лишь самых общих научных оснований этого направления, можно сказать, что в нем происходит окончательное осознание того факта, что язык является самостоятельной “Для античного сознания конечным типом бытия являлся непременно материальный чувственно воспринимаемый и видимый физическими глазами космос” (Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. С. 92). Данное положение в полной мере относимо и к языку. 11 Надо сказать, что в античной филологии поднимался вопрос о природе именования. Здесь сталкивались точки зрения сторонников естественного, безусловного происхождения имен и сторонников условности, искусственности всякого именования. Однако и те, и другие не проводили различия между словом в языке и именем в речи: и там и там это было одно и то же слово. Вопрос о языковой компетенции, о том, что язык как форма может быть предзадан в речи, не ставился. 10 выразительной формой в иерархии форм речевого выражения, а значит: он обладает самостоятельной сущностью, которая подлежит абстрактному, не связанному с какими бы то ни было речевыми принципами, выделению. Здесь впервые ставится вопрос о сущности языка как такового и, следовательно, о необходимости выделения и определения его как объекта на теоретическом уровне. Сущность языка усматривается в логике, под которой, в первую очередь, понимается формальная логика. Язык, его формы оказываются выражением известных логических принципов. Связь языка и логики понимается слишком непосредственно12. Язык совершенно подчинен своей сущности – логике. Между языком и логикой усматривается отношение полного параллелизма. Происходит подмена понятий: в теории место объекта занимает непосредственно сама логика. В чем заключается языковая специфика, т. е. собственное качество, собственная задача языковой формы, при выражении логических принципов остается невыясненным. Таким образом, налицо очевидный онтологический разрыв между эмпирией и теорией в филологическом языкознании того времени. Эмпирия и теория исследуют разные объекты, связь между которыми постулируется, но не раскрывается. В качестве теоретического объекта выступает логика (достаточно широкая категория – при всей узости ее понимания в то время). Эмпирическим объектом продолжает оставаться собственно язык – форма языкового выражения. Методологически, отношение к объекту на теоретическом уровне и отношение к нему на эмпирическом уровне во многом не согласуются друг с другом. На эмпирическом уровне оно остается практически без изменений и не ставит каких-либо новых научных задач. Впрочем, не следует слишком пессимистически оценивать опыт рационалистической научной парадигмы для понимания онтологии языка. Важнейшим результатом этого периода Язык в наиболее общем его понимании был для рационалистов “формой и проявлением разума” (Бокадорова Н. Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII – нач. XIX века. М.: Наука, 1987. С. 23). Грамматика Пор-Рояля в целом – это попытка рационалистического логического истолкования практически всех форм языка. Большое внимание в ней уделяется логическому обоснованию синтаксиса, функций частей речи. 12 было уяснение самой необходимости выделения языка как научного объекта на теоретическом уровне. Традиция теоретического определения сущности языка в последующем закрепилась в языкознании, которое стало с большей четкостью формулировать свои теоретические цели, хотя поиск онтологических оснований языка получил иное направление. Следующим этапом разработки теории лингвистического объекта в научной филологии стало сравнительно-историческое языкознание. Сразу надо сказать, что проблема объекта ставилась здесь несколько парадоксальным образом: к теории объекта предполагалось “пробиться” чисто эмпирическим путем, на основе эмпирических изысканий. Функцию теоретического объекта теперь должен был играть праязык, в котором лингвисты предполагали увидеть не только источник происхождения, но и сущность если не всех, то, по крайней мере, большого числа языков, связываемых в праязыке (в какой-то праязыковой форме) по принципу родства. Эмпирическим объектом были современные и известные древние исторические языковые факты. Теоретическим объектом должен был стать (при условии полной его реконструкции) праязык. Не рассматривая детально ни истории, ни содержания, ни методов сравнительно-исторического языкознания, отметим лишь в самых общих чертах, какой поворот в эволюции теории объекта обозначился на данном этапе развития языкознания. Итак, теоретическая задача языкознания теперь заключалась в поиске праязыка. Обращение к праязыку означало в целом обращение к языковой форме как таковой, помимо логики. Такой поворот теории лингвистического объекта в научной филологии был во многом закономерен. Логика как теоретическая сторона лингвистического объекта (постулируемая в качестве таковой на предыдущем этапе развития научной филологии) более не могла удовлетворить науку в ее попытках найти и объяснить сущность языка. Практически в любом языке без особого труда можно обнаружить логическую основу, и в этом смысле рационалисты в своем стремлении обосновать сущность языка через логику не открыли ничего нового. Любой язык выражает логические принципы и является самой лучшей и наиболее близкой в своей логической изоморфности иллюстрацией действия логических законов. Сущность языка, безусловно, включает в себя логику в качестве основного и, может быть, наиболее общего компонента. Но, с одной стороны, логика по формам своего проявления шире языка, а с другой – в языке мы можем видеть многое из того, что не принадлежит логике. В рациональной же грамматике, в ее отождествлении логического и языкового логика подменяла собою язык. Однако в своей неизменной и незыблемой всеобщности логика не объясняет, да и не может объяснить специфику языковой формы, вообще необходимость ее появления: зачем в принципе понадобилось чистой идеальной мысли “отягощать” себя языковой формой? Данное “недоразумение” языка требовалось как-то понять и раскрыть. В контексте онтологической проблематики языка, смысл сравнительноисторической научной парадигмы можно видеть в следующем. Если предположить, что центральным пунктом и собственно воплощением сущности языка является его внутренняя форма13, то нельзя не заметить, что внутренняя языковая форма, с одной стороны, неразрывно связана с идеальной логической формой и во всем ей изоморфна, а с другой, она совершенно органично соединена с внешней языковой формой. Отношение внутренней формы языка к внешней столь же абсолютно, как и ее отношение к логической форме. С одной стороны, внутренняя форма языка подчинена логическим законам, логику можно считать сущностью внутренней формы языка. Внутренняя форма языка тождественна логике, образует с ней неразрывное единство. Однако, с другой стороны, внутренняя форма столь же неразрывно связана с внешней, материальной формой языка. Здесь также, чтобы не “уничтожить” окончательно научный объект как онтологическую основу предмета языкознания, мы обязаны постулировать абсолютное тождество и единство внутренней и Сюда мы относим структурные и функциональные принципы языковой грамматики, а также лексико-семантические и смысловые содержательные принципы языка – то, что в дальнейшем получило наименование языковой структуры в самом широком понимании этого термина. 13 внешней языковых форм. Далее, постулируя тождество в каждом из аспектов языковой формы, мы должны были бы постулировать некое абсолютное единство языковой формы в целом. Однако нельзя не видеть, что как раз тождества между идеальным и материальным принципами языковой формы не наблюдается. В этом и заключалась тогда дилемма языкознания (впрочем, онтологическая важность этой дилеммы в полной мере сохраняется и сейчас). Рациональная филология односторонне отмечала и исследовала в языке связь внутренней формы с логикой, практически не замечая внешней формы. Эмпирическое языкознание в лице сравнительно-исторического и, позднее, типологического направлений, не отрицая логического в языке, специально обратилось к форме языка в целом, в органическом единстве ее внутреннего (содержательного) и внешнего (материального) аспектов, стремясь именно во взаимосвязи внутреннего с внешним обнаружить собственную специфику формы языка. Все это означало радикальный поворот от логической формы к собственной форме языка, что и стало началом языкознания как самостоятельной научной дисциплины. Теперь, можно сказать, научная филология действительно приступила к исследованию языка как такового, а не логики в языке. Толчок к изучению языковой формы как таковой дал санскрит. С открытием исторической связи этого языка с современными индоевропейскими языками наука почувствовала, что имеет перед собой исконную форму языка, в которой можно найти общую основу, объясняющую принципы формальной организации многих языков. Это, как можно было подумать, была осязаемая и зримо представляемая историческая сущность многих конкретных языков. Санскрит в этой роли продержался относительно недолго. Расширяя базу эмпирического поиска, языкознание приступило к реконструкции все более древних праязыковых форм, к поиску “самой первой” исконной формы праязыка. Задача праязыковой реконструкции стала пониматься как главная задача языкознания. Праязык стал его действительным теоретическим объектом, необходимым в качестве теоретического обоснования всей бесконечной языковой эмпирии. Праязык стал идеальным воплощением языковой формы как таковой. Однако методы ее реконструкции были совершенно эмпирическими. Таким образом, главной целью и смыслом научного поиска в сравнительно-историческом языкознании был также теоретический объект, однако понимался он совершенно эмпирически и подлежал эмпирическому выведению. В этом и состоял методологический парадокс сравнительно-исторического языкознания. Впрочем, не следует спешить с обвинением сравнительно-исторического языкознания в ирреальности научных целей, в противоречивости исследовательского метода, в формальной односторонности. Историческую важность генетического подхода к анализу языковой формы при всей неясности перспектив научного поиска невозможно отрицать. Именно здесь произошло выделение языка как самостоятельного объекта и научное самоопределение языкознания. Вслед за сравнительно-исторической типологическая парадигма не внесла чего-либо принципиально нового в методологию поиска онтологических оснований предмета языкознания. Место праязыка здесь заняла категория языкового типа. Это означало, что теоретический объект, т. е. его идеальный образ объекта, выражающий его сущностные черты, должен был выводиться на основе эмпирического обобщения. Более того, эмпирическая база как критерий выведения и дальнейшей разработки объекта на теоретическом уровне оказалась здесь заметно суженной. Этой базой теперь служила морфология конкретных языков. На основе характерных для языка принципов грамматического оформления слова предполагалось исследовать природу и особенности языковой формы, из чего видно, что категория языкового типа рассматривалась именно как сущностная сторона формы языка в целом. В сравнительно-историческом языкознании форма языка не отрывается от его содержания. Родственные языковые факты сопоставляются и в некотором смысле отождествляются как результат дивергентной эволюции в формальном и содержательном аспектах некогда единого праязыкового факта. Форма довлеет, как бы подчиняет себе содержание (историческая эволюция есть, главным образом, история языковой формы), но она ни в коем случае не представлена изолированно от него. В типологии внешняя сторона, материальные принципы языковой формы уже берутся как таковые. Все это означало усиление эмпирической составляющей в методологии выведения объекта языкознания на теоретическом уровне. В предметной части языкознания в целом это означало усиление позиций языкового формализма. Попытку соединить рационалистические и эмпирические принципы в рамках некоторой единой методологии выведения научного объекта на теоретическом уровне предприняли младограмматики. Однако их теоретические усилия в области языковой онтологии были во многом противоречивы и представляли собой методологическую эклектику предшестсвующих рационалистической и эмпирической традиций в языкознании (что проявилось, в частности, в очевидной неспособности последовательно связать в общей теории психологию пользующегося языком индивида и принципы исторического развития языка). При этом надо отметить, что именно младограмматики переориентировали языкознание на поиск новых принципов онтологии языка и этим создали предпосылку для новой парадигмы языкознания, исходящей из иной, действительно абстрактной и всеобщей теории объекта. 1.3. Новые принципы выделения объекта языкознания на теоретическом уровне. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра Начало новому этапу языкознания положил Ф. де Соссюр, теоретическая деятельность которого стала известной с момента издания его учениками “Курса общей лингвистики” – цикла лекций по вопросам общего языкознания, читавшегося этим ученым с 1906 по 1912 г. в Женевском университете. По-видимому, не будет преувеличением сказать, что “Курс” Соссюра был первой эксплицитной постановкой проблемы объекта в языкознании14. Никогда и никем до него проблема объекта не ставилась с такой настойчивостью и остротой. Язык как объект, как реальность считался чем-то совершенно очевидным, не требующим специального научного определения (по крайней мере не вызывавшим принципиальных научных споров в плане своего определения; как мы говорили, эмпирия и теория в вопросе о том, какая реальность предстоит языкознанию, практически не различались: язык включался в любую внешнюю ему реальность – культурно-историческую, психологическую, эстетическую – и рассматривался как ее часть, аспект или функция). Языкознание интенсивно развивалось, осваивая все новые и новые пространства своей объектной области (понимаемой, как мы уже указали, весьма недифференцированно). В общем, это было экстенсивное развитие. В этих условиях трудно было и подумать о насущной необходимости для языкознания вернуться к назад к своим основаниям, задуматься о форме предмета, заняться поиском объекта в понятии. Научная заслуга Ф. де Соссюра и состоит в том, что он первый поставил вопрос о такой необходимости, понимая, что от решения этого вопроса зависит дальнейшая судьба языкознания как науки. Вопрос о том, какая сущность скрывается за бесконечным разнообразием эмпирического материала, который изучает языкознание, волновал Соссюра в течение всей его жизни. Об этом Возьмем, к примеру, мнение такого характерного младограмматика, исторически наиболее близкого к Ф. де Соссюру, как Г. Пауль. Для него язык – продукт человеческой культуры и объект исторического рассмотрения (Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Ин. лит-ра, 1960. С. 25). С этим трудно не согласиться, но нельзя не сказать, что язык как научный объект языкознания представлен здесь достаточно тумано, неспециально. Подлинным же объектом языкового исследования, по Г. Паулю, “является совокупность проявлений речевой деятельности всех относящихся к данной языковой общности индивидов в их взаимодействии (там же, с. 46). Это также представляется справедливым, но и здесь нельзя не отметить, что научный объект языкознания понимается сугубо эмпирически. Теоретическое осмысление объекта – прерогатива филологии, истории, культуры, наконец, философии, но не самого языкознания. 14 свидетельствуют изданные недавно оригинальные научные записи этого ученого.15 История науки есть история понимания ею своего объекта. Высшее научное понимание объекта формируется в теории, принимая относительно законченную форму в понятии об объекте. В понятии об объекте устанавливается тождество науки своему объекту, от него зависит обретение наукой своей теоретической предметной формы16. Необходимо определить те категориальные функции, которые это понятие должно выполнять в предмете науки. В общем, можно выделить три таких функции: 1) номинативная – понятие об объекте должно как-то именовать объект (это совершенно необходимо, если мы в дальнейшем хотим как-то устанавливать тождество предмета науки своему объекту); 2) онтологическая – здесь устанавливается специальная точка зрения науки на ее объект путем указания существенной или важнейшей его черты как направления и основания его дальнейших смысловых содержательных определений и объективных различений (хотя, надо сказать, в онтологической части точка зрения науки на объект представлена отрицательно и выражается через отсылку к роду17); 3) аналитическая – понятие об объекте должно служить основой для строительства и бесконечного развития внутренней предметной логики науки, быть основой всех дальнейших внутренних смысловых категориальных различений в предмете науки (здесь, в собственном См.: Слюсарева Н. А. О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию// Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990. С. 13–14. 16 “Рациональная форма науки”, как это называл сам Ф. де Соссюр, прообразом которой должен быть сам объект науки, представленный в ее теории понятием об объекте (см. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Под ред. А. А. Холодовича // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 131). 17 Способом указания родовой принадлежности объекта следует считать определение того, к какому классу объектов данный объект, по мнению науки, принадлежит: например, язык как дух народа (В. фон Гумбольдт); язык как природное этологическое явление (А. Шлейхер, натуралистическое направление в языкознании XIX в.); язык как психофизическая деятельность человека, выражение индивидуальной или национальной психологии (В. Вундт); язык как продукт истории народа (Г. Пауль); язык как культурно-эстетическое явление (К. Фосслер, эстетическое направление, неолингвистика). 15 предмете, точка зрения науки на объект обретает положительную силу и создает основу диалектики науки). Все три функции неразрывно связаны между собой, переходят друг в друга, образуя диалектическое единство (каждая последующая является смысловым развитием предыдущей). Итак, понятие об объекте – это первое, наиболее общее понятие науки, функция которого заключается в том, что оно дает имя изучаемому объекту и тем выражает объектную отнесенность науки, служит онтологическим основанием науки, отражая в своем содержательном определении сущность, объективно представляемые границы и природу изучаемого объекта, а также устанавливает первичное различение (путем указания на сущностное диалектическое противоречие в самом объекте) и, тем самым, создает начало анализа в предмете науки. Труд Ф. де Соссюра в полной мере можно считать классическим вариантом теоретического решения проблемы объекта в науке. Попытаемся последовательно представить предложенное Соссюром теоретическое понимание объекта лингвистики. Прежде всего, в номинативной части своего определения Соссюр именует объект лингвистики: язык. Собственно, в этом для лингвистики не было ничего нового. С незапамятных времен это имя было известно как обыденному, так и научному пониманию. Но Соссюр сомневается в правильности научного адреса, по которому до него отправлялось это имя. Он подозревает как предшествующее, так и современное ему языкознание в излишней эмпиричности и в недифференцированном употреблении этого имени. “В лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно сказать, что здесь точка зрения создает самый объект”18. До Соссюра языкознание некритически называло языком “речевую деятельность” (“langage” в терминологии Соссюра), точнее – то, что можно было бы назвать 18 Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 46. “совокупностью языковых явлений”19, часто понимаемых несистемно, усматривая при этом основания объекта во внешних языку сферах или условиях: в мышлении, культуре, в человеческой психике, истории и т. д., уходя таким образом прочь от сущности самого языка. В дососсюровском языкознании всякие проявления языка в человеческой или общественной жизни занимали то место, которое по всем законам научной онтологии должна была занимать сущность лингвистического объекта. Соссюр призывает современное ему языкознание в вопросе о научном объекте избрать точку зрения сущности, а не явления: “...надо с самого начала стать на почву языка и считать его основанием (norme) для всех Термин “langage” – один из наиболее трудно понимаемых и переводимых в “Курсе” Соссюра. От интерпретации этого термина зависит понимание его онтологии языка, всей его лингвистической теории. На русский язык этот термин обычно переводится как “речевая деятельность”. Такой вариант был предложен первым переводчиком “Курса” на русский язык А. М. Сухотиным. В последующем интерпретация данного термина в русском переводе, как и весь русский перевод, был подвергнут критическому анализу редактором отечественного переиздания “Курса” А. А. Холодовичем (Холодович А. А. О “Курсе общей лингвистики” Ф. де Соссюра // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977 С. 9–29). Холодович отмечает, что перевод термина “langage”, предложенный Сухотиным, не отражает существа дела, не несет в себе того важного значения, которое придавал данному пункту своей теории Ф. де Соссюр. Холодович предлагает более точный перевод – “совокупность языковых явлений”, однако в итоге отказывается от него ввиду его нетерминологичности и сохраняет вариант, предложенный Сухотиным. Сложности перевода термина “langage” на другие языки учитывал уже сам Соссюр (Соссюр Ф. де. “Курс...”. С.52). То же отмечается и в русском издании подлинных научных записей Соссюра по общей лингвистике Н. А. Слюсарева (О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию// Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990. С. 25–26). Русский переводчик соссюровских “Заметок” Б. П. Нарумов и их редактор Н. А. Слюсарева предлагают иной, возможно наиболее удачный, вариант перевода термина “langage” – “языковая деятельность”. Главное преимущество такого перевода русские авторы усматривают в том, что “в нем передается более широкое значение, ориентирующее не на индивидуальную (речь), а на коллективную (язык) принадлежность этого феномена...” (Слюсарева Н. А. О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию// Соссюр Ф. де. Заметки... С. 26–27). Впрочем, в своих тезисах к докладу о “Курсе общей лингвистики” Ф. де Соссюра (1930 г.) Сухотин также употреблял термин “языковая деятельность” (Сухотин А. М. Тезисы к докладу-реферату о “Курсе общей лингвистики” Ф. де Соссюра // ВЯ. 1994. № 6. С. 142–143). 19 прочих явлений речевой деятельности”20, – утверждает он, совершая, таким образом, онтологический “переворот” в языкознании, ставя с головы на ноги проблему объекта. Итак, Соссюр впервые употребил имя объекта языкознания по его точному научному адресу. Далее, в онтологической части своего определения, Соссюр определяет сущность научного объекта языкознания, т. е. сущность языка. Язык – это система знаков, знаковая система21. Впрочем, данное определение еще нужно должным образом понять. Мало открыть истину, нужно еще указать ее подходящее место, как говорил Ф. де Соссюр22. Таким определением Соссюр вырвал язык внешних условий существования (общество, мышление, культура и т. д.), что позволило представить его в-себе данности, вне какихлибо условий или функций, которые еще только предстояло с точностью определить и дифференцировать. Собственная жизнь языка разворачивается в знаке. Язык есть некоторое раз и навсегда созданное знаковое установление, которое как самостоятельная сущность навязывает принятый в нем знаковый императив (принцип знакового тождества между означающим и означаемым) любому опыту его применения, а также развития или изменения. Язык как знак, как условное знаковое установление в себе произволен. Но как только данная произвольность установлена, она начинает действовать как консервативный фактор, заставляет считаться с собой как с самостоятельной сущностью, отрицая любой последующий произвол23. Принцип произвольности знака подчиняет себе всю лингвистику языка24. Часто в связи со столь жестко постулируемым принципом произвольности возможно, не без оснований, Соссюра обвиняют в том, что он положил начало узкому структурализму в языкознании. Но, как представляется, Соссюр менее всего повинен в Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 47. Там же. С. 49, 53. 22 Там же. С. 101. 23 См. Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 106–107. 24 Там же. С. 101. 20 21 теоретических ошибках структурализма. Определяя знаковую сущность языка, он ни в коей мере не мыслил себе какое-либо вытекающее из этого определения сужение задач языкознания25. Он лишь стремился показать, какая сущность скрыта за любым внешним проявлением языка, что управляет всем его изучением. За любой эмпирической мотивированностью языкового знака стоит его покоящаяся на чистой условности в-себе немотивированность26. Без этого принципа теоретическое отделение сущности от явления в языке невозможно, и разграничение представленности объекта на теоретическом и эмпирическом уровнях в предмете языкознания выглядит несовершенным. Своим онтологическим определением Соссюр не закрепостил, а освободил лингвистику, строго отделив сущность от явления. Языкознание должно “служить” своему объекту, не замыкаясь при этом на его в-себе данности. Наконец, в аналитической части своего онтологического определения Соссюр устанавливает первичное теоретическое различение, раскрывающее на сущностном уровне внутреннюю диалектику объекта: “... Язык... это система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла (в ряде других мест Соссюр говорит “понятия”) и акустического образа”27. Точно обозначенная в предмете диалектика объекта служит основой построения всей дальнейшей диалектики предмета языкознания. Знаменитая приписываемая Соссюру фраза, в течение долгих лет влиявшая на методологию и постановку целей языкознания, что “...единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя”, как выяснилось, не принадлежит Соссюру (Слюсарева Н. А. О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию // Заметки... – С. 16–17). 26 Условную произвольность знака вообще можно понять как некоторый принцип знаковой достаточности, когда условно устанавливается в качестве конечного взаимодетерминирующее отношение между означаемым и означающим. Вообще, даже отношение объективной детерминации под определенным углом зрения можно рассматривать как некоторого рода условность. Отношение причины и следствия принимается как достаточное для определенного ряда конечных условий. Знак можно рассматривать как свернутую условно принимаемую модель отношения детерминации как “подражание” внешней детерминации. 27 Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 53. 25 Какой же представлялась Ф. де Соссюру логическая форма предмета языкознания? Прежде чем перейти к этому вопросу, необходимо сделать одно важное предварительное замечание. Вообще, аналитическая часть теоретического определения объекта науки является наиболее существенной его частью, в которой объект раскрывается во всем комплексе противоречий, определяющих принципы его бытия. Руководящим методологическим правилом выделения научного объекта в понятии должна быть проблемность, а значит, и преодоление любой односторонности в определении сущности объекта. Положительное решение проблемы объекта здесь не требуется, оно совершенно бесполезно и методологически опасно: науке следует избегать таких решений. Проблема объекта важна для науки именно проблемностью, а не решенностью. Понятие об объекте должно раскрывать объект в предмете науки как диалектическую, внутренне противоречивую проблему и этим предлагать бесконечную перспективу погружения в тайну объекта, где любое положительное решение может считаться лишь относительным. Поэтому методологически правильной следует считать лишь отрицательную постановку проблемы объекта в предмете науки – в форме противоречивого взаимодействия каких-либо образующих объект моментов, сторон. Думается, что все эти принципы теории объекта прекрасно представлял себе Ф. де Соссюр. Он выстраивает целую лестницу языковых антиномий. 1) Главной, сущностной для языка следует считать антиномию означаемого и означающего, характеризующую связь понятия и акустического образа в языковом знаке. Однако сама эта антиномия еще мало о чем говорит. Здесь важно видеть и понимать собственную природу каждой из сторон знака, а также то, в какой мере следует ограничить природу каждой из сторон при рассмотрении знака как языковой категории. Означаемое и означающее в знаке имеют разную, несопоставимую, несоизмеримую природу. Означаемое – это идеальный пространственно представляемый образ. Означающее изначально имеет линейную природу28. Говоря современным языком, в знаке соединяются две формы: форма предметного отражения и форма линейного выражения; одна принципиально пространственна, другая – темпоральна. Высшая, предельная задача языкознания в изучении знака – это понять знак как выражение, т. е. представить знак во всей полноте конкретного опыта его внешнего осуществления, в абсолютном единстве двух его противоположных начал – содержательного и формального, образного и линейного, в котором каждое из начал абсолютно подчинено противоположному, составляет с ним неразрывное единство. Но языкознание не может приступить к выполнению этой задачи непосредственно. Такой знак, в котором обнаруживает себя до конца, в каком-то предельном слиянии вся природа каждой из образующих его сторон, – есть знак преходящий, окказиональный, случайный, или речевой. Чтобы взять знак как категорию языка, мы должны отбросить какую бы то ни было выразительность. Только в этом случае можно говорить, что перед нами языковой знак. Оба компонента знака как категории языка для Соссюра одинаково психичны29. Внутреннее же отношение между ними должно рассматриваться как некоторое языковое знаковое установление, в себе немотивированное, условное и произвольное. Оставить за бортом специального, собственно лингвистического, рассмотрения языкового знака любую мотивированность, выразительность, внешнюю смысловую обусловленность – вот что предлагает Соссюр. Это и есть сущность теоретического объекта лингвистики, основа ее собственного научного метода, решающий критерий ее научной идентичности. За выразительностью открывается необъятная область знакового символизма (рационального и иррационального). Выражение всегда символично, содержит в себе определенную внешнюю мотивированность, связывающую знак с тем или иным порядком его употребления или его происхождения. Соссюр выступает 28 29 Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 103. Там же. С. 53. категорически против символического подхода к языковому знаку30. Только тогда мы можем говорить, что раскрыли таким своим подходом сущность самого языка. Выражение в лингвистическом подходе должно ставиться за знаком, после знака, раскрывая знак как деятельность. В языке же содержится лишь предпосылка выражения, предпосылка знаковой деятельности. 2) Следующей антиномией, которую, по Соссюру, языкознание должно выделять в своем теоретическом объекте, является антиномия языковой парадигматики и синтагматики. Наличие в языке не одного, а хотя бы некоторого числа знаков открывает возможность их внутреннего сравнения и, таким образом, внутриязыкового парадигматического различения. Это, в свою очередь, стимулирует возможности языковой синтагматики, внешнего соположения различных знаков и, следовательно, диверсификации содержащейся в языке предпосылки выражения. Здесь одно в снятом виде содержит в себе другое31. 3) Далее, по Соссюру, языкознание уходит с почвы теоретического объекта и входит в область эмпирического изучения языка, в область эмпирического объекта. С этой точки зрения Соссюр постулирует еще одну антиномию – предметную, методологическую антиномию языкознания, которая выражается в противопоставлении лингвистики внутренней и внешней. Данная антиномия – не плод научной изощренности Соссюра, а следствие объективной необходимости. Она отражает специфическую данность языкознанию ее объекта, требующую строгого различения теоретической и эмпирической его сторон. Внутренняя лингвистика опирается на теоретический объект, им определяется в целом ее предметная форма. Внешняя лингвистика имеет своим объектом Там же. С. 101. “Осмелимся утверждать, что самым фундаментальным законом языка является положение о том, что один член никогда сам по себе ничего не значит... следовательно, <a не в состоянии что-либо обозначать без помощи b (и оно может что-либо обозначать, только если b’ придает ему ценность...>, a b ничего не может обозначать без помощи а.” (Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990 г. С. 101). 30 31 всю совокупность языковой эмпирии, что, собственно, мы и называем эмпирическим объектом. В основе внешней лингвистики лежит онтологизированный или исторический подход к языку со стороны внешних факторов, которыми обусловлено его существование и объясняется его внутреннее состояние, смысловое предназначение или его подобие определенным неязыковым знаковым и деятельностным формам. В общем, внешняя лингвистика призвана объяснять феноменологию языка в целом или в любой его части, которая может быть следствием тех или иных условий употребления языка языковым коллективом. Таким образом, теоретический объект помещается Соссюром как бы в скобки, отделяется от всей окружающей его языковой эмпирии. 4) На стыке внутренней и внешней лингвистики противопоставляются друг другу возможности синхронического и диахронического изучения языка. Причем как в синхронии, так и в диахронии может обнаруживаться связь языка с внешними условиями его существования или с имманентными языку знаковыми функциями. 5) Наконец, еще одной важной антиномией на стыке внутренней и внешней лингвистики является связь языка и речи (“langue” и “parole”). В настоящее время данная антиномия признается многими исследователями основополагающей в теории Соссюра32. На второй план отодвигается диалектика категорий “langue” и “langage”. Эта часть теории Соссюра до сих пор остается наименее ясной. Речь – это внешнее проявление языка. Однако нередко связь языка и речи понимают непосредственно, напрямую переходя от langue к parole и минуя закрепленные в языке Признание верховенства диалектики языка и речи в подходе лингвистики к своему объекту и во всем построении предметной части науки о языке уже стало положением учебных программ по общему языкознанию (Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М.: Гл. ред. вост. лит-ры, 1975 г. С. 541; Кодухов В. И. Общее языкознание. М.: ВШ, 1974. С. 72–73). Кстати, сам Соссюр дал все основания для подобного понимания оснований диалектики языка в его теории, противопоставив лингвистику языка и лингвистику речи (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики ... С. 56–58). 32 эмпирические предпосылки речи. К тому же остается неясным: можно ли понимать не только отношение между langue и parole (как это принято), но и между langage и parole как антиномию? Между тем данный вопрос требует специального рассмотрения, потому что без его решения задача различения теоретического и эмпирического объекта языкознания представляется трудновыполнимой. Итак, общая логика отрицательного определения Соссюром теоретического объекта лингвистики, представленная в антиномиях, состоит во всестороннем противопоставлении его эмпирическому объекту. Поэтому знаковое обозначение противопоставляется знаковому выражению, значение – значимости, языковая синхрония – языковой диахронии, язык – речи, лингвистика внутренняя – лингвистике внешней и т. д. Задача выделения теоретического объекта лингвистики была выполнена Соссюром блестяще. Но всетаки возникает чувство некоторой неудовлетворенности, возможно, даже некоторого сомнения в правильности выбранного Соссюром пути – сомнения, связанного с научной судьбой эмпирического объекта языкознания в контексте его теории. 1.4. Проблема эмпирического объекта в теории Соссюра. Проблема символа В любой теории важна не только ее эксплицитная, но и имплицитная часть. В теории Соссюра последняя важна не менее, а может быть более, чем первая. На вершине выделения теоретического объекта Соссюр с совершенно неожиданной стороны открывает нам проблему эмпирического объекта языкознания (хотя, как мы знаем, специально такую задачу перед собой он не ставил). Если основываться исключительно на явной стороне теории Соссюра, все вроде бы говорит за то, что он очистил науку о языке от всего эмпирического, что хоть как-то препятствовало ее теоретическому восхождению. Образно выражаясь, Соссюр видел сущность языка и шел к ней “напролом”, осознавая важность и актуальность вопроса для современного ему языкознания. Но позволим себе спросить: не переусердствовал ли Соссюр в теоретической кристаллизации языка? Не потерял ли навсегда в найденной им теоретической наготе эмпирическую осязаемость своего объекта? Впрочем, может, так и должно быть? И введя строгую системность в область самого объекта, Соссюр тем самым лишь подчеркнул абсолютную неупорядоченность, невозможность систематизации языковой эмпирии, отвергнув попытки ее упорядочения, предпринимавшиеся до него, показал всю бесплодность прямолинейного эмпирического поиска? И есть ли вообще эмпирический объект у лингвистики – в том же строгом и определенном понимании, которое мы (вместе с Соссюром) обнаружили при выделении теоретического объекта? Внешне, действительно, может показаться, что Соссюр очистил теорию языка до такой степени, что эмпирический объект в лингвистике стало невозможным даже назвать. То, что раньше называлось “языком”, по Соссюра оказалось совсем не языком, а туманной неупорядоченной языковой эмпирией. Чистый язык получил строгое определение, но этим он был как бы вырван из языковой эмпирии. Эмпирия, таким образом, оказалась как бы за бортом научного понимания и даже потеряла свое имя. Как следует нам поступить в свете теоретических указаний Соссюра? Назвать языковой эмпирией речь, речевую деятельность, текст? Все это, безусловно, эмпирические объекты. В каждом из них представлена языковая эмпирия. Однако Соссюр по каким-то причинам не останавливается ни на одном из этих объектов и уходит от того, чтобы замыкать на каком-либо из них проблему эмпирического объекта лингвистики. Почему? Может быть, каждый из них в отдельности представлялся Соссюру слишком узким, чтобы его именем, функциями, его реальностью ограничивать эмпирический объект языкознания в целом? Для обозначения всей совокупности языковой эмпирии, или, в нашем понимании, эмпирического объекта лингвистики, Соссюр выбирает несколько необычное, до сих пор четко не переведенное на многие языки французское слово “langage”. Langage – это не речь, не текст, не речевая деятельность, взятые в комплексе или по отдельности, хотя в основе каждого из этих объектов лежит именно langage и каждый из них непосредственным образом представляет собой его реализацию. Соссюр называл такие доступные наблюдению факты (текст, речь, речевую деятельность) явлениями langage33. Последние данные о научных исканиях Соссюра34 позволяют по-новому понять то место, которое он отводил в своей теории для этого понятия. Подлинное теоретическое определение языка возможно лишь относительно langage или в контексте langage. Освобождая теорию лингвистики от эмпирического объекта и тем самым преодолевая смешение теоретического и эмпирического в онтологии языка, Соссюр видел перед собой исключительно чистоту базового понятия лингвистики, которое должно было дать этой науке ее предметную форму. При этом Соссюр ни в коем случае не допускал, чтобы лингвистика в содержании своего предмета избавилась от эмпирического объекта. Связь теоретического и эмпирического объектов языкознания Соссюр понимал не только антиномически, но и вполне диалектически. Никакое исследование языка невозможно без определенного совмещения в нем эмпирического и теоретического объектов. В специальном лингвистическом исследовании важно, в какой мере исследователь обращен к языку как теоретическому объекту, насколько сам теоретический объект, а не какая-то иная внешняя сущности языка необходимость, определяет ход лингвистического исследования. Опора на собственную сущность объекта исключает подмену понятий в предмете научной онтологии, спасает науку от бесполезного экстенсивного роста. Таким образом, теоретический объект для Соссюра был критерием, ориентиром, теоретической позицией, но не самоцелью в исследовании языка. Тем не менее, многие воспринявшие идеологию структурализма лингвисты именно так поняли мысль Соссюра, они настаивали на антиномическом понимании соотношения См.: Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 49. Мы имеем в виду опубликованные в 1990 г. и уже цитированные нами “Заметки по общей лингвистике”. 33 34 теоретического и эмпирического в языкознании и длительное время убеждали в этом как самих себя, так и других. Для этих ученых эмпирическим объектом языкознания должен был считаться не langage, а речевой факт или речь вообще (parole). Впрочем, сам Соссюр призывал оставить речь (parole) за бортом лингвистики35. Так что в своем абсолютном отрицании эмпирического объекта (в узком его понимании) последователи Соссюра нисколько не искажали мысли учителя. Последующий опыт развития лингвистики показал невозможность в научном исследовании языка полностью ограничивать себя почвой теоретического объекта, минуя живой опыт языка. Пожалуй, единственной законченной попыткой чистого лингвистического структурализма можно назвать теорию Л. Ельмслева36. Итак, две традиции унаследовала лингвистика понимания эмпирического от Соссюра – узкое, в объекта котором эмпирический объект приравнивался к речи, и широкое, в котором эмпирический объект обозначался таинственным и неопределенным термином langage. К сожалению, лингвистика в теории вопроса пошла по пути узкого понимания эмпирического объекта. Понятие langage (видимо, ввиду его нечеткости, неопределенности, а точнее, просто непереводимости37) осталось, по сути, незамеченным и в теоретическом плане почти не разрабатывалось. Мы считаем, что одного лишь знания сущности своего объекта для науки недостаточно. Наука, как в практическом, так и в теоретическом развитии, обязана опираться (причем, вполне сознательно) на максимально широкое понимание своего эмпирического объекта. См.: Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 57–58. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд. ин. лит-ры, 1960. С. 264–389. 37 Соссюр резко критикует позиции некоторых современных ему ученых, пытавшихся избегать метафор и ни на шаг не отходить от установленной терминологии: “... самое важное состоит в том, чтобы понимать, о чем идет речь. Есть метафоры, избежать которых нельзя. Требование пользоваться лишь терминами, отвечающими реальным явлениям языка, равносильно претензии, будто в этих явлениях для нас уже ничего неизвестного нет” (Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 43). 35 36 Такое понимание, во-первых, дает науке необходимые предпосылки для того, чтобы не замкнуться в теории, чтобы та или иная открытая истина не превращалась в препятствие для той же науки на этапе ее внешнего применения, и, во-вторых, делает более осознанным развитие науки в практическом аспекте. Узкое же понимание губительно для науки: оно отрезает теорию от перспективы ее практического применения и, обедняя практическую сторону науки, лишает ее богатства теории. Опыт лингвистики показывает, что широкая трактовка эмпирического объекта всегда была для нее более перспективной. Разнообразнейшие словари и грамматики конкретных языков, разностороннее исследование языковой семантики, разработка функциональной стороны языка и многие другие очевидные научные достижения показывают, что к своим практическим целям наука о языке зачастую двигалась, невзирая на стоящую в ее основании теорию, а иногда и вопреки ей. Теорию здесь составляли сформулированные Соссюром постулаты лингвистического структурализма. Но мы глубоко убеждены в том, что сам Соссюр изначально был сторонником самого широкого и целостного понимания эмпирического объекта лингвистики. Имея в виду все это, попытаемся представить исчерпывающее обоснование абсолютной неприемлемости узкого и, наоборот, полной необходимости и неизбежности широкого взгляда на эмпирический объект в научном подходе к языку. 1.5. Философия узкого и широкого понимания эмпирического объекта в языкознании Главным недостатком узкого понимания эмпирического объекта лингвистики является неизбежное при таком подходе узкое понимание природы объекта и в целом гипертрофированное, абстрактное, безжизненное понимание его сущности. Сколь бы совершенной ни была достигнутая теория, узкий эмпиризм относится к ней как к игре ума. Начальная чистота, чувственная незамутненность эмпирического объекта являются незыблемыми принципами такого эмпиризма. Понятие эмпирического объекта здесь обычно подменяется способом его эмпирической представленности. Причем этот способ принимается как нечто раз и навсегда заданное и неизменное, что уже само по себе является очевидной философской ошибкой, поскольку момент неизменности и покоя постулируется на стороне внешней данности, а не на стороне сущности (т. е. а priori полагается, что объект должен являться всегда одним и тем же способом, и в целом отношение объекта к нам ограничено уровнем его чувственной явленности). В подобном эмпиризме не делается различия между собственно эмпирическим объектом и его эмпирической представленностью. Внешняя представленность является высшим показателем и критерием его эмпиричности. Между тем нельзя не видеть, что первое и второе – не одно и то же. Вообще, задача эмпирического объекта в предмете науки состоит в том, что он должен служить целостной альтернативой теории объекта и в этом смысле быть диалектическим отрицанием теоретического объекта. Как при узком, так и при широком взгляде на эмпирический объект он не может не иметь этой предметной научной функции. Здесь важна не просто фактическая сторона вопроса: присутствует или нет отрицание эмпирическим теоретического в деятельности ученого, поскольку оно имеет место при любых условиях. Важно само качество этого отрицания. Эмпирическое отрицание в конечном счете должно обеспечить при последовательной смене категорий, при переходе от эмпирической стороны объекта к теоретической и обратно все более широкое раскрытие природы объекта. Именно в этом отношении узкое понимание эмпирического объекта обнаруживает целый ряд существенных недостатков. Прежде всего, при узком понимании эмпирического объекта мы крайне ограниченно, односторонне представляем себе его реальность. Единственной реальностью объекта признается его явленность нам. Реальность же объекта в себе если и признается, то чисто умозрительно. Между тем сущность объекта (его данность самому себе до какой-либо данности нам) – такая же реальность, как и его наглядно-чувственная представленность38. Если взять за основу то общепринятое положение, что мысль ученого движется по пути отрицания от явления к сущности и обратно, то на конечном этапе научного понимания объекта (чтобы признание сущности реальностью было не пустой научной декларацией) явление должно раскрываться как его бытие, которое может быть лишь бытием сущности объекта. Сущность объекта оживает в своем бытии, получает в нем смысловое движение и развитие. Таким образом, эмпирия на новом уровне научного понимания становится усилением теории объекта. Смешение категорий явления и бытия характерно для узкой трактовки эмпирического объекта. В нашу задачу не входит рассмотрение всех вытекающих из этого смешения философских следствий. Укажем лишь на то, что узкое эмпирическое понимание ведет науку не вперед, а назад; оно не поднимает нас к пониманию объекта на новом смысловом уровне, а возвращает нас к уровню непосредственного его восприятия. Даже если явление осмыслено через сущность, оно все равно есть не более чем явление39. В бытии Кажется очевидным: что не существует для себя, не может существовать и для меня. И напротив: то, что я полагаю существующим для меня, необходимо мыслю как существующее в-себе. В-себе заданность объекта – необходимая предпосылка его обращенности ко мне, каким бы путем – эмпирическим или рационалистическим – ни достигалось это понимание. Мы не будем здесь останавливаться на критике узкого эмпиризма, при любых условиях возвращающего с таким трудом добытую в предмете науки сущность на уровень явления, а не бытия, и видящего, таким образом, в явлении смысл бытия сущности. Эта критика в свое время была дана во многих философских работах (см., напр., Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Избранное. М.: Правда, 1991. С. 11–334; этой работе, опубликованной в 1905 г., во многом созвучна работа В. И. Ленина “Материализм и эмпириокритицизм”, увидевшая свет в 1908 г.) 39 Явление с этой точки зрения можно понять как субъективный опыт бытия объекта. Это – опыт, умение исследователя видеть и понимать данный объект (что не противоречит известной гегелевской позиции: Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики // Энциклопедия философских наук. Т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 89). Развивая стратегию познания, Гегель ставит явление выше бытия, поскольку в нем – “истина бытия” (Там же. С. 296). Поэтому же в явлении мы имеем также тождество бытия, поскольку явление при любых условиях бытия есть некоторый порядок обнаружения сущности (сущность же стоит выше бытия, и бытие есть ее воплощение). Но в явлении как таковом нет и не может быть 38 в отличие от явления присутствует живой опыт объекта, который может быть не чем иным, как смысловым продолжением и развитием сущности объекта. В явлении же опыт объекта никакого реального значения в себе не несет: увидеть в явлении развитие сущности невозможно. В бытии мы можем взять объект исторически, феноменологически (что особенно важно для такого объекта, как язык), чего мы совершенно лишены, если предел нашего эмпирического понимания объекта составляет лишь его явление нам. Итак, диалектика узкого понимания – это диалектика явленной сущности. Диалектика широкого понимания эмпирического объекта – это диалектика сущности, взятой, выражаясь лингвистическим языком, контекстуально, со стороны ее бытия, где в бытии раскрывается живой смысловой опыт и смысловое развитие объекта. Сущность языка, понятая в аспекте бытия, и есть широкий эмпирический объект языкознания. Только таким путем и раскрывается природа языка как научного объекта40. Типичным случаем узкого понимания эмпирического объекта науки является категория речи (parole) в предмете языкознания. Речь есть явление языка в условиях коммуникации. Увидеть в речи нечто большее – бытие языка со всеми необходимыми атрибутами опыта становления сущности, опыта ее движения по пути к ничто, к небытию – так, что нет ничего кроме сущности и все есть опыт ее движений, переходов и перевоплощений. В бытии должен появляться момент отношения к инобытию (Там же: С. 262–263). В этом-то отношении и обнаруживает себя метод бытия сущности (или сама сущность как метод (метод отношения) в своем бытии). Ценность категории явления в таком объекте, как язык, равна нулю (или, по крайней мере, близка нулю). Но особую ценность здесь приобретают категории бытия, отношения, инобытия, метода и все, что далее может следовать за этими категориями. Исторический опыт языкознания ясно показывает такую стратегическую направленность категориального познания своего объекта: не зная сущности, не можем понять бытия; зная сущность, не можем ограничивать себя рамками явления и вынуждены рассматривать отношение, инобытие, метод и пр. 40 Гегель определял природу как связь идеи, или сущности, и бытия: “Идея, обладающая бытием, есть природа” (Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики. С. 424) живого смыслового опыта и смыслового развития – задача непосильная41. Речь – явление сугубо индивидуальное42. Самые различные психологические подходы к явлениям языка, а также всевозможные психолингвистические методики построения и научной алгоритмизации процесса семиозиса обычно игнорируют языковой опыт знака: знак оказывается непосредственным продуктом речи. В психолингвистике нередко ставится знак равенства между категориями знака и речи, т. е. знак рассматривается исключительно как речевое явление43. Как следствие не делается различия между знаковостью как таковой и символической функцией знака44. В этом специфика подхода психолингвистики. Ее интересует знак в условиях его употребления. Предметный характер речевой деятельности складывается непосредственно в речи, язык собственной предметности в себе не несет, не определяет речевую предметность. “Язык является одним “Каковы основания, которые позволяют выделить язык и речь как противочлены?” – такой вопрос с достаточной остротой поднимался в свое время в отечественной лингвистике (Ломтев Т. П. Язык и речь // Общее и русское языкознание. М.: Наука, 1976. С. 54). Вопрос этот не пустой, поскольку в его основе лежит то понимание, что “...язык и речь – не разные явления, а разные стороны одного явления. Все лингвистические единицы являются единицами языка и речи: одной стороной они обращены к языку, другой – к речи” (Там же. С. 60). Различие между языком и речью релевантно лишь в том случае, если мы выделяем некоторую категорию, которая опосредует их связь. Констатация прямой связи одного и другого никакого научного значения иметь не может. “Наличие в языке нормы (Курсив мой. – Н. И.) делает возможным определить различие между языком и речью как различие между нормой и отклонением от нормы.” (Там же. С. 54). 42 По Соссюру, речь – индивидуальная сторона “речевой деятельности” (“langage”) (Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 57). 43 См.: Исследования речевого мышления в психолингвистике. М.: Наука, 1985. С. 34. 44 Там же. С. 35. Вместе с тем надо указать, что весьма важную существенную разницу между просто знаком и знаком-символом с психологических позиций усматривал Л. С. Выготский (Выготский Л. С. Орудие и знак в развитии ребенка // Собр. соч. Т. 6. М.: Педагогика, 1984. С. 5–90). Моторное, реактивное усвоение знака может осуществить и животное. Лишь человек усваивает знак опосредованно, в его символической функции. Лишь для человека знак становится символом – формой абстрагирующей деятельности сознания. Выготский ссылается здесь на исследования В. Келера (С. 19). 41 из средств фиксации идеального знания: он поставляет тела языковых знаков и таким образом вовлечен в познавательную деятельность”45. По сути, психолингвистика ограничивает семиозис масштабами речевой деятельности. С этих эмпирических в своей основе позиций труднее всего объяснить факт языка в явлениях речевой деятельности. Мало взять знак: надо при этом объяснить, в чем языковость этого знака. Эмпирическое объяснение здесь может удовлетворить психологию, но не лингвистику. Таким образом, с позиций психологии и психолингвистики язык является функцией речи, а не наоборот, как того требует лингвистика. Язык с этой точки зрения есть форма знакового поведения, знаковой деятельности. Язык всякий раз как бы возрождается или репродуцируется в речи, конечным образом определяет порядок речевого поведения. Такой подход правомерен и продуктивен, но это не лингвистический, а, скорее, психологический подход46. Здесь совершенно невозможна историческая точка зрения на язык, а также объяснение языка как события человеческой культуры. Категория языка тут становится бесполезной и излишней как чисто внешний атрибут, предел внутренней формализации процесса знаковой деятельности. С другой стороны, также и с позиций языка (langue) категория речи оказывается во многом бесполезной и даже излишней. В речи мы лишь встречаемся с языком. Но дальнейшее понимание языка должно вести нас к какому-то определению языка в аспекте бытия с необходимо присутствующими в этом понимании сторонами исторического смыслового опыта и смыслового развития. Именно этим условиям и удовлетворяет широкое эмпирическое понимание языка, впервые представленное Соссюром в его теории и обозначенное термином “langage”. Тарасов Е. Ф. Тенденции развития психолигвистики. М.: Наука, 1987. С. 130. Признается, что объектом психолингвистики непосредственно является речь, речевая деятельность, а не язык (Лингвистический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 404). Категория “речевая деятельность” имеет здесь самостоятельное онтологическое значение. 45 46 Категория langage чрезвычайно важна и продуктивна для лингвистики. Langage – это язык (langue), обогащенный всем смысловым опытом его исторического развития, при этом понятый как некоторая кульминация заданного исторического становления. Если брать langage с точки зрения составляющих его частей, то, по Соссюру, чтобы “получился” langage, необходимо к системно понятому и абстрактно представленному языку, т. е. языку как теоретическому объекту (langue), взятому в пределах его сущности, “прибавить” весь исторический смысловой опыт, который язык развивает, накапливает или обнаруживает в себе. Иными словами, langage = сущность языка + бытие языка, включая каждую данную его речевую реализацию. Таким образом, сущность языка + тотальность языкового опыта (включая данное последнее его воплощение) – это и есть langage, подлинный эмпирический объект языкознания в широком понимании. Ф. де Соссюр не оперирует категориями бытия и явления применительно к языку как научному объекту. Он использует более привычную лингвистическую термнологию. Однако какой бы терминологией мы ни пользовались, какими бы словами ни обозначали известные и понятные нам стороны изучаемой реальности, выделение данных категорий в таком сложном научном объекте, каким является язык, представляется совершенно необходимым. Без этого ни сущность языка, ни речь, как явление языка, ни диалектика их связи не могут быть до конца поняты и раскрыты. Для действительно полного (комплексного, а не прямолинейного) понимания связи языка и речи, сущности языка и его явления, в научном рассмотрении между данными категориями в обязательном порядке должна ставится категория бытия – бытия сущности, какими бы специальными лингвистическими терминами мы эту категорию ни обозначали. Категория бытия обозначает всю совокупность смыслового языкового опыта – как исторического, социального, коллективного, индивидуального и личностного психологического, так и данного, актуального, конкретно-речевого. Бытие – это вся феноменология языка вплоть до феноменологии отдельного языкового факта в его конкретном речевом употреблении. Речь (parole) непосредственно является фактом и реализацией langage, a не языка-langue. Связывать напрямую языкlangue и речь в смысловом отношении тавталогично, а с научной точки зрения малоэффективно. Это и есть то, что мы называем узким пониманием эмпирического объекта языкознания. Относительную научную ценность это может иметь, как кажется, лишь применительно к фонологическому уровню языка47. Но уже на уровне слова и способов его грамматического и дальнейшего коммуникативного речевого осмысления (концептуализации) данное различение явно недостаточно. Слово в речи при таком понимании является прямым повторением слова языка, ничего к нему не добавляя и ничего в нем не развивая. В чем же тогда собственный смысл научного различения языка и речи? Однако если мы прибавляем к сущности категорию бытия, то и категория речи становится для нас также необходимой. Тогда в речи мы видим уже не просто повторение сущностной стороны языка48, а также не просто ассоциацию и прямое воплощение накопленного смыслового опыта, опыта языкового бытия (всего или в какой-то его части). Ко всему этому в речи мы имеем также прямое развитие, пополнение Выделение какой-то промежуточной нормативности, помимо той, которую являет собой сам язык, применительно к его фонологическому уровню вряд ли оправданно. Труды Н. С. Трубецкого в составе той функциональной школы языкознания, которую представляла пражская лингвистика, ясно показали это. На уровне звука более целесообразно рассматривать связь языка и речи как непосредственную без различения промежуточной стадии функционального опыта (см.: Амирова Т. А. Из истории лингвистики ХХ в. М.: ЧеРо, 1999. С. 35, 38–39). В фонеме категории значения (что в данном случае можно понять как чистую языковую функцию) и значимости, различение которых столь существенно для языка, совпадают. Фонетическая стилистика или диалектология возможны в составе более широких функциональных и диалектологических исследований языка, но не как самостоятельные направления. 48 Такое повторение совершенно очевидно и необходимо. Иначе мы не могли бы рассчитывать ни на какое выделение объекта на теоретическом уровне, на тождество языка самому себе и вообще не имели бы права говорить о языке в строгом научном смысле слова. Язык (langue) – занимает центральное место во всем составе речевой деятельности. Это основополагающий принцип всей лингвистики (См.: Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 47). 47 наличного смыслового опыта языка и во всем этом – актуальное отрицание наличного смыслового опыта, наличного бытия. В современной лингвистике, в современных исторических трактовках этого принципиального пункта теории Соссюра нередко можно встретить механическое понимание взаимосвязи категорий langage, langue и parole. Отчасти, основания для такого понимания заложил сам Соссюр. Имеется в виду схематическое изображение Соссюром структуры предмета лингвистики – того, что он называл “рациональной формой науки о языке”49. Синхрония Язык (langue) Речевая деятельность (langage) Диахрония Речь (parole) Так, в частности, он пишет: “Язык для нас есть речевая деятельность минус речь”50. Данную трактовку вполне можно принять, не видя в ней прямого противоречия со всей остальной теорией Соссюра, понимая, что здесь он существенно расширяет категорию языковой нормативности и включает в область языка факты языкового опыта, прибавляя к сущности ее бытие. Однако едва ли представляется возможным на основании приведенной выше формулы производить ее арифметическое преобразование по принципу: “Речь – это речевая деятельность минус язык”51. Речь и язык – не арифметические слагаемые речевой деятельности (langage). В смысловом опыте языка мы видим продолжение, развитие и диалектическое отрицание сущности языка. Сущность языка сама развивает и преобразует себя в своем смысловом опыте – живет в нем. Аналогичным образом в речи, как уже отмечалось, См. Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 131. Там же. С. 109. 51 Алпатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки Русской Культуры, 1999. С. 132. 49 50 мы видим продолжение, развитие и диалектическое отрицание langage. Две диалектики следует видеть здесь: диалектику исторического языкового опыта в его отношении к абстрактно взятой языковой сущности (к сущностной стороне языка) и диалектику актуального отрицания этого опыта в речи. Все категории здесь необходимы и дополняют друг друга. Опыт бытия отрицает сущность, а явление отрицает опыт бытия. Итак, в целом можно сказать, что langage опосредует связь языка (langue) и речи (parole) и сам является целостным воплощением смыслового опыта языка (бытия сущности) и непосредственной предпосылкой речи. Речь является продолжением и отрицанием langage. Но с научной точки зрения было бы неоправданно видеть в ней прямое продолжение и отрицание языка (т. е. непосредственно языковой сущности – langue)52. Вообще, научное значение категории речи в предмете лингвистики открывается нам, только если мы учитываем стоящее за речью первичное отрицание сущности языка в аспекте наличного смыслового опыта, понимая при этом саму речь как продолжение и последующее отрицание достигнутого наличного смыслового опыта языка. В основе широкого подхода к эмпирической стороне объекта находится его живое и динамическое понимание. Сущность оживает в своем бытии, исторически обнаруживает в нем свое присутствие. Главное преимущество здесь – комплексный охват всей динамики становления объекта, широкое и целостное понимание всей феноменологии объекта, в которой органично совмещены и историческая (в самом широком смысле), и актуальная речевая стороны его бытия. В принципе, невозможно понять речь, если не видеть ее исторических смысловых предпосылок, имеющих опытное закрепление в языке. И невозможно понять смысловую и вообще нормативную специфику языка, если не видеть в ней историческое Приблизительно такое понимание предлагается и в известных учебниках по общему языкознанию (см.: Кодухов В. И. Общее языкознание. М.: Высшая школа, 1974. С. 73). 52 претворение лежащей в ее основе языковой сущности. Категории системы, нормы и узуса, если их рассматривать как категории эмпирического смыслового приближения к языку, думается, в целом способны отразить диалектику сущности и бытия, бытия и явления в языке. Хотя, как представляется, категория нормы должна быть при этом определенным образом расширена, охватывать смысловую сторону фактов языка, а также пониматься как отрицание языковой сущности, выделяемой и определяемой в границах системы53. В отличие от широкого подхода узкая трактовка эмпирического объекта языкознания (точнее, того, что в данном случае понимается как эмпирический объект) в целом статична, безжизненна. Это совершенно ясно следует из одностороннего, узкого понимания реальности научного объекта лингвистики, которое ограничивается лишь аспектом явления, т. е. аспектом актуальной речевой представленности языка. В явлении сущность лишена смыслового определения. Во всяком случае оно предстает здесь как цепь привходящих случайностей, связываемых с внешними факторами и никак не соотносимых с самой сущностью языка. Причем как-то систематически оценить данные внешние факторы с позиций языка при таком подходе в принципе не представляется возможным 54. Сущность – основа системного понимания объекта. Однако в целом системное понимание возникает лишь в том случае, если мы Нередко языковую норму понимают чисто выразительно – как проблему социально значимого выбора, как механическое ограничение выразительных возможностей системы. Смысловая составляющая нормы (при том что норма в целом признается социально значимой) обычно не рассматривается, не анализируется. Норма берется в целом как факт языка, соотносится в основном с грамматикой, но не с семантикой. Лингвистика тяготеет к типическому рассмотрению нормы. Она еще далека от методологического (и символического) понимания языковой нормы, от признания того, что в норме обнаруживается или раскрывается метод знаковой организации языка. В норме важен не только выразительный, фактический, но и аксиологический аспект. О важности изучения языковой нормативности в аксиологическом аспекте говорил академик Г. В. Степанов в своей работе “О двух аспектах понятия языковой нормы” (Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика. М.: Наука, 1988. С. 82–91). 54 На наш взгляд, опыт лингвостилистики убедительно подтверждает это. Все созданные до сих пор определения стиля являются выразительными определениями. 53 смысловое определение сущности воспринимаем как бытие объекта. Научная ценность категории бытия для лингвистики заключается в том, что при принципиальном неразличении актуального и исторического смыслового опыта системы она позволяет провести строгое разграничение между ее сущностью и совокупным смысловым опытом, чтобы понять этот опыт как опыт становления и развития системы и таким образом создать предпосылку для всех дальнейших научных различений. В этом и заключается важность соссюровской категории langage (каким бы именем мы теперь ее ни называли) для научного понимания языка. В langage Соссюр ясно видел бытие языка. Langage есть целостнофеноменологическое понимание языка. Что касается речи, то, понятая узко как явление, она бесполезна для науки, поскольку в таком своем понимании не заключает в себе никакого смыслового определения объекта (которое, мы знаем, должно быть не чем иным, как определением сущности объекта). Напротив, речь, понятая в контексте langage, как последнее определение языкового опыта и как смысловая кульминация бытия объекта с присущими такому пониманию моментами отрицания и продолжения наличного бытия объекта, может быть важной категорией языкознания как завершение целостного системного описания языка во всей полноте его функций. 1.6. Проблема различения природы и сущности языка в научном опыте языкознания Узкая трактовка эмпирической стороны объекта имеет своим следствием узкий поход к его феноменологии. В конечном счете, такая трактовка приводит науку к неразличению аспектов сущности и природы в изучаемом объекте, которые полагаются как равные, однопорядковые категории. Между тем широкая трактовка эмпирической стороны объекта требует строгого различения этих категорий. Сущность объекта должна полагаться и рассматриваться до какого бы то ни было подхода к рассмотрению его природы. Природа же должна рассматриваться как дальнейшее осуществление, претворение его сущности в контексте необходимых внешних условий, т. е. в контексте его отрицательного внешнего определения. Смешение категорий природы и сущности недопустимо или, во всяком случае, нежелательно. Оно связано с неразличением или, лучше сказать, игнорированием бытия объекта. Вообще категория бытия в этом случае теряет свои очертания и какую бы то ни было релевантность. В лучшем случае в нем (в понимаемом таким образом бытии) можно было бы видеть не более чем опыт существования объекта. Существование есть непосредственность бытия, мыслимого безотносительно к сущности, благодаря чему любой опыт объекта является лишь внешним55, лишается внутренней необходимости, единого смысла и превращается в бесконечную цепь событий: бытие перестает пониматься как становление чего-либо. Категория сущности также теряет всякий смысл, потому что перестает быть сущностью бытия: “нечему быть” – так можно оценить данную ситуацию в науке. Наука при таком способе организации утрачивает понятие об объекте, перестает видеть форму своего предмета. С другой стороны, природа объекта предстает либо недифференцированно обобщенной, смазанной, либо разорванной, односторонней, разнородной. Две опасности подстерегают лингвистику на пути недифференцированного понимания природы и сущности ее объекта. В одном случае сущность языка может подаваться и раскрываться как его природа, а действительная природа при этом в В существовании мы прежде всего видим факт, лишенное цели бесконечное различие или чередование внешних форм; здесь превалирует не тождество, а различие: мы, может быть, уже знаем сущность, но вполне сознательно отвлекаемся от нее, поскольку воспринимаем объект не в плане его собственной необходимости, а с позиции нашей субъективной потребности. В существовании вообще мы имеем собственное, эмпирическое отношение к объекту и как бы возвращаемся к неразличенному бытию, на уровне которого находились в начале нашего движения к сущности: сущность не имеет никакого практического влияния, бесполезна – в том смысле, что не приносит пользы субъекту, является фактом, событием, но не основанием бытия. (Ср.: Гегель Г.В.-Ф. Наука Логики. С. 287, 295, 313). 55 какой-то части будет затушевываться или игнорироваться. В другом случае, наоборот, природа языка, тот или иной частный аспект его бытия могут ошибочно преподноситься как его сущность. И в первом и во втором случае возникает в принципе одинаковое по знаку онтологическое смещение, которое до известных пределов допустимо и во многом может быть даже продуктивным, но в конечном счете чревато онтологической односторонностью. Второй путь можно в целом определить как путь экстенсивного эмпирического поиска сущности объекта. Первый путь – это абстрактная теоретическая интерпретация природы объекта. Наука о языке на своем богатом предметном опыте уже применяла и первый, и второй варианты решения основного вопроса лингвистической онтологии – вопроса о соотношении природы и сущности языка – в самых различных исторических формах. При всех внешних различиях между двумя направлениями много общего. В теоретическом аспекте – это то, что и в первом и во втором случае сущность языка в конечном счете усматривается в его функциональных, а не в материальных факторах. Сам язык является воплощением, способом материальной реализации некой сущности, которая либо: а) полагается как нечто неизвестное и явным образом нам не дана – так, что мы как бы неосознанно реализуем эту сущность в языковой форме; задача науки найти данную сущность, для чего требуется выйти за рамки языка, обратиться к внешней относительно языка реальности (эмпирический путь); либо: б) полагается как нечто очевидное и известное – так, что нам необходимо лишь интерпретировать эту сущность через какой-то более глубокий внутренний языковой принцип, понимая этот последний как подлинную сущность, как некий последний и главный “секрет” сущности языка (теоретический путь). В практическом аспекте также одна общая черта всегда методологически связывала оба исторических варианта лингвистической онтологии. В каждом из них решающим смысловым определением сущности служила речь, т. е. в любом случае сущность как реальность раскрывалась на основе узко понимаемого эмпирического объекта, на основе явления. Хотя ничто, кроме явления, не может выразить сущность, засвидетельствовать ее присутствие в изучаемом объекте56, в таком научном объекте, как язык, понимать и видеть сущность на уровне явления совершенно недостаточно. Лишь бытие может быть действительным смысловым определением сущности, вскрывающим исторический смысл ее становления и, значит, смысл самой сущности. Одну лишь разницу можно увидеть между двумя вариантами лингвистической онтологии, смешивающими природу и сущность научного объекта лингвистики – языка. Первый вариант (эмпирический) можно назвать синтетическим смешением: сущность, которая усматривается во внешних языку факторах, здесь как бы “растворяется” в необъятной природе научного объекта. Второй вариант (рационалистический) можно определить как аналитический: здесь некоторая ограниченно взятая природа объекта интерпретируется в категориях сущности, сводится к какому-то отдельному элементарному принципу внутри языка. Опасность онтологической односторонности, которая грозит науке в каждом из рассмотренных вариантов, заключается в том, что ученый незаметно для себя переходит на почву междисциплинарного изучения предстоящей ему реальности (фактов языка) и в конечном счете рискует изменить своему объекту. Это понятно. Взятая в ее функциональной интерпретации сущность (которую ученый принимает как некий теоретический абсолют, высший пункт своего теоретического движения и отношения к объекту) в действительности не является собственной сущностью языка, но определяется более широким кругом явлений (явлений совершенно не языковых или не специально языковых). Собственная же сущность объекта лишается какого бы то ни было определения, вытесняется из поля рассмотрения. Явление языка Мы уже отмечали, что это совершенно ясно вытекает из известных положений философской диалектики: и говорить о сущности вообще не имеет смысла, если перед нами нет ее явления. 56 здесь уже есть не его явление, а явление чего-то большего, высшего, в чем язык выступает лишь частным случаем, моментом. Итак, один путь – это экстенсивный, эмпирический поиск сущности языка. Этот путь широко представлен в различных теоретических направлениях до-соссюровского языкознания. Недифференцированная трактовка природы и сущности языка приводила многих выдающихся исследователей (каждый из которых по праву мог составить самостоятельную, отличную от Соссюра теоретическую традицию в языкознании) к попыткам определить сущность языка через внешние неязыковые категории. Сущность объекта пытались определить, на основе языкового факта. И нельзя не отдать должное таким попыткам. В принципе невозможно спорить с известными способами эмпирического объяснения языка: “как духа народа” (В. фон Гумбольдт), “как выражения национальной и индивидуальной психологии” (В. Вундт), “как продукта культуры и истории народа” (Г. Пауль), “как эстетического явления” (К. Фосслер) и т. д. Но все эти попытки все же далеки от действительной (знаковой) сущности языка или вообще не имеют к ней никакого отношения. Косвенным доказательством тому может служить то, что все эти трактовки в принципиальных моментах контрастировали друг с другом и исторически конкурировали между собой, выражая то или иное радикальное изменение точки зрения языкознания на свой объект. Хотя каждый исследователь до Соссюра стремился найти сущность языка и представить ее как конечную инстанцию всего теоретического научного поиска, единого общепризнанного понимания языковой сущности в науке не возникало. Отдельная сторона бытия языка (логическая, эмоциональная, эстетическая, психологическая, коммуникативная, социальная, культурноисторическая и т. д.) подводилась под какой-либо свой, особенный (с точки зрения языка) принцип, экстраполяция которого на весь состав и опыт языка не всегда могла быть оправдана и, естественно, подвергалась критике со стороны других ученых, исходивших из иных эмпирических предпосылок. В общем же целостная природа языка разрывалась между различными сторонами его фактического существования. Соссюр резко восстает против всех известных ему попыток эмпирического определения сущности языка: “Хватит заниматься исследованиями и измерениями внешнего характера в стремлении постичь суть явлений”57. Другое направление – рационалистическая теоретическая интерпретация природы объекта – сформировалось в основном уже после Соссюра. Это направление, стремящееся построить структурно-знаковое объяснение всей языковой природы, всего языкового опыта, пытающееся понять природу языка через его сущность или представить саму эту сущность как предельное выражение его природы. Здесь мы также видим смешение онтологических категорий природы и сущности, но исходящее из других методологических предпосылок. В данном случае сама материя языка, представленная языковым знаком, и вся структура языка в целом или в той или иной своей части рассматриваются как явление какого-то высшего неязыкового функционального начала. Между языком и высшим функциональным началом усматривается имманентная связь. В языке обнаруживается первоэлемент – простейший структурный принцип, некое абсолютное воплощение этого высшего начала. В этом своем качестве материя языка должна быть конечным определением его сущности. Исторически по этому пути идут различные логические трактовки языка, а также те подходы, в которых предельным функциональным условием, конечной инстанцией функционального подчинения языка считается мышление. В понимании представителей данного онтологического направления язык служит предельным материальным воплощением своей сущности – человеческого мышления. Углубление в материю языка путем ее разложения на некоторые элементарные составляющие – рассматривается как дальнейшее погружение в сущность языка и должно служить объективным аналитическим доказательством необходимости высшего функционального начала. Устанавливается некая постоянная зависимость от первоэлемента к 57 Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике... С. 89. функции или, наоборот, от функции к предельно малому, простому, далее не разложимому ее носителю. Как ни странно, именно на этом пути чаще всего можно встретить попытки отрицания или намеренного игнорирования языковой знаковости как сущности языка. В своих попытках связать сущность языка с каким-то первоэлементом в самом языке (т. е. с простейшим принципом выражения сущности) ученые, следующие рационалистическому принципу лингвистической онтологии, ориентируются чаще всего на языковую грамматику. Грамматика понимается если не как весь язык, то, по крайней мере, как главный фактор языка. Одни ученые больше ориентируются на материальный аспект грамматики, т. е. морфологию. К “морфологистам” можно отнести, например, Л. Блумфилда, А. Мартине. Другие больше ориентируются на функциональный аспект грамматики, синтаксис и, прежде всего, на его центральную часть – предикацию как непосредственное воплощение в языковой форме деятельностной диалектики человеческого мышления. Это направление представлено, главным образом, Н. Хомским и его многочисленными последователями 58. Как одни, так и другие свою главную задачу видят в том, чтобы раскрыть (путем жесткого прямого соотнесения) закономерные способы воплощения внешнего функционального языкового принципа (в котором они видят языковую сущность) в структурных механизмах языка. Сущностью языка, как мы сказали, по общему согласию выступает мышление – его содержание и форма. Следует заметить, что в теоретическом аспекте и первым, и вторым труднее Здесь мы хотели бы отделить от Н. Хомского и даже противопоставить ему таких представителей функционального изучения языкового синтаксиса, какими на отечественной почве были И. И. Мещанинов, Г. А. Климов и др., а в зарубежной лингвистике – Л. Теньер и его многочисленные последователи (мы включаем сюда и отечественных функционалистов, А. А. Бондарко и др.). Синтаксис, синтаксические категории в понимании этих ученых являются не некой самостоятельной языковой субстанцией, вещью-в-себе, а характерным для языка способом категориального осмысления предметной семантики слова в условиях предложения. Эти ученые тесно связывают синтаксические категории (какое бы морфологическое выражение в языке эти категории ни получали) с лексической семантикой, понимают эти категории как некое формальное продолжение предметной языковой семантики. 58 всего объяснить факт слова: его функцию и саму необходимость пребывания в языке. По всему видно, что задача слова в речи и языке не сводится лишь к непосредственым функциям мышления. И этим объясняется трудность его включения в любые структурные, упрощающие процесс и смысловую сторону мышления, научные схемы. Упрощая задачу слова, мы по сути избавляемся от него. Итак, можно сказать, что, как бы ни смешивались категории природы и сущности научного объекта в представлении ученого (с позиций эмпирических или рационалистических методологических философских оснований), реальная перспектива его поиска в этом случае всегда будет ограничена: с практической стороны – узким пониманием феноменологии объекта, смысловых импликаций его явленности и отношения к нам; с теоретической стороны – неспециальным и, как следствие, односторонним пониманием его сущности (когда та или иная сторона бытия объекта преподносится как его сущность; собственная же сущность объекта при этом игнорируется или вытесняется на периферию). Таким образом, в случае смешения базовых онтологических категорий объекта недостаточность, предметная неоформленность ощущается с обеих сторон: узость эмпирии порождает теоретическую односторонность и, наоборот, теоретическая односторонность имеет следствием несовершенство эмпирического понимания объекта. Одно неизбежно предполагает другое. В противоположность этому не ограниченное узкими рамками явления, всестороннее и комплексное понимание феноменологии объекта требует, чтобы эта феноменология в любых ее проявлениях трактовалась как бытие объекта – как данный, или исторический (в самом широком смысле этого слова), способ становления сущности объекта, отвечающий всем аспектам его природы. Такая трактовка неизбежно приводит науку к строгой дифференциации природы и сущности в изучаемом объекте. Дифференциация данных категорий должна проходить красной нитью через все предметное построение науки, быть методологическим руководством в научном поиске ученого – неважно, стоит она в начале или является конечной целью, результатом научного рассуждения. Здесь одно помогает другому. Знание сущности дает возможность единого и всестороннего объяснения и описания природы объекта. В свою очередь, комплексный и детальный учет всех сторон природы объекта способствует более точному определению его сущности. Диалектика двух главных позиций научной онтологии очевидна. В предмете науки каждая из них важна, прежде всего, как ракурс понимания своей противоположности. Тождество, единство и категориальное взаимодействие двух онтологических позиций раскрываются при условии их строгого научного различения. Недопустимо лишь смешение двух позиций, которое, как мы пытались показать, чревато тем, что единая природа объекта (языка) разрывается между различными сторонами его фактического существования, каждая из которых может быть ошибочно преподнесена как его сущность. Общий научный смысл базового онтологического различения в предмете науки можно видеть в том, что в нем предельным образом открываются две стороны научного метода, следуя которому наука познает свой объект. Без различения природы и сущности объекта невозможно полноценное осознание наукой своего метода – специального отношения к изучаемому объекту. Сущность как категория – предельное выражение теории объекта. В теории нет и не может быть ничего выше сущности. Сущность – основа целостного отношения к объекту, условие постоянного тождества объекта самому себе при любом его фактическом рассмотрении. Найденная сущность в предметном понимании ученого должна становиться основой бытия объекта, точкой отсчета в изучении его природы в предмете науки. Первостепенное значение здесь имеет условие тождества, неизменности. При невыполнении этого условия теряется целостный взгляд на объект, возникает опасность подмены понятий, перехода с почвы одного объекта на почву другого: титульный объект науки (язык) становится частным случаем какой-либо иной реальности (дух, история, культура, мышление, психика человека и т. д.). Наука увлекается неспециальным взглядом на свой объект, исследует внешнюю необходимость – вместо того чтобы понять эту необходимость как частный случай бытия своего объекта или как сторону этого бытия. В природе объекта как категории заключен практический смысл научного подхода к нему. Главным фактором здесь является его бытие. В бытии обнаруживает себя взаимодействие объекта с внешней реальностью. Причем, поскольку данному видению бытия уже логически предшествует категория сущности (т. е. согласно научной логике оно уже является различенным видением бытия59), любое обнаружение бытия в аспекте определения сущности должно рассматриваться как необходимое. Природа объекта (особенно это справедливо для языка) обычно разнопланова, неоднородна. В природе объекта в принципе можно видеть проявление его внешней включенности в систему высшего порядка (в коммуникацию, формы мышления, психические или общественные процессы) и в этом смысле рассматривать объект как продолжение высшей системы или, во всяком случае, видеть в нем момент, точку приложения каких-то высших системных сил, понимать его как частный случай высшей системы. В природе объекта можно видеть его генетическое родство с какими-то сущностями иного или высшего уровня. Сам объект в своей природе обнаруживает особенную сторону высшего рода, к которому он принадлежит. Русское слово “природа” уже самой своей морфологией показывает естественность такой трактовки: “при + рода”, значит, быть при каком-то роде, объединяться или искать единства с чем-то в роде по общей телеологии и по общему методу бытия. В своей природе объект уже как бы не совсем принадлежит самому себе, хотя это всецело его природа. Несобственный характер бытия в природе объекта обнаруживается в том, что оно Неразличенное бытие дано нам до того, как мы выделяем в нем сущность. Раз появившись в предметном понимании ученого, сущность берет логическую власть над бытием. Она с логической точки зрения первична. Пока нет сущности, нет понимания реальности. 59 есть столь же его бытие, сколь и бытие содержащегося в нем высшего родового принципа. Сущность порождается высшими условиями родового принципа, чтобы быть, обнаруживать себя во внешних условиях своего существования, относиться к чему-то. Отсюда следует, что необходимость сущности – в ее тотальной обусловленности бытием, а необходимость бытия проявляется лишь в тех его моментах, где оно – бытие сущности60. Так, мы знаем, что язык всеобщим образом определен индивидуальным человеческим сознанием. Но все-таки это – лишь частный случай определения языка. Столь же абсолютно язык определяется коллективным, общественным сознанием, а также порядком коммуникации; это также стороны его бытия. Общественное сознание, коммуникация, индивидуальное сознание – всеми этими факторами всеобщим образом определен язык, все они в комплексе требуют его появления, являясь всеобщими и необходимыми условиями его объективного существования. В комплексе всех перечисленных условий и раскрывается во всей полноте природа лингвистического объекта, необходимость его бытия. В свою очередь, осуществление данных всеобщих условий невозможно без языка. Взятый в своей собственной сущности язык является формой бытия каждого из перечисленных видов реальности, хотя и не единственной, так как человеческое сознание, общественное сознание и коммуникация могут реализовывать себя и в иной, неязыковой форме, причем столь же всеобщим образом: это могут быть, например, трудовые орудия или иные формы выражения – для индивидуального сознания; политика, экономика, искусство или иные формы реализации – для общественного сознания; невербальные формы общения – для межличностной коммуникации. Вновь вернемся к Ф. де Соссюру, предложившему новую методологию различения категорий природы и сущности языка в Хотя надо сказать, что важнейшая задача науки состоит в том, чтобы представить сущность объекта в-себе, имеющего абсолютно “свое” бытие, “принадлежащего” самому себе и ни к чему не относящегося. 60 предмете языкознания. Специфика его метода состояла в том, что в нем ясно содержалось требование отделить теоретическую сторону объекта от эмпирической. Таким образом, то, что в обычном порядке научного рассмотрения должно приниматься как простое различение природы и сущности объекта, в языкознании, по Соссюру, должно иметь форму жесткого предметного разграничения двух сторон объекта61. Единая реальность объекта, по сути, разрывается между различными аспектами его научного рассмотрения, которые, как показывает опыт науки, не всегда согласуются между собой. Имеется немало подтверждений тому, что Соссюр глубоко разграничивал теоретическую и эмпирическую стороны научного объекта, считая такое разграничение основополагающим для научного метода лингвистики. В своих оригинальных записках Соссюр неоднократно говорит о “двойственности объекта лингвистики” и “о фундаментальной двойственности” самой лингвистики62. На протяжении более 20 лет Соссюр постоянно возвращался к этой мысли. Дважды (в 1908 и 1910 г.) именно с этой мысли он планировал начинать чтение своего знаменитого курса по общей лингвистике. К сожалению, более или менее систематическое обоснование данной идеи известно нам лишь по изданному его учениками “Курсу общей лингвистики”. Как можно видеть, Соссюр настойчиво старался донести до своих учеников мысль о том, что определение языка как научного объекта возможно лишь в контексте О том, насколько жестко противопоставлял Соссюр две стороны объекта, можно судить по следующей цитате: “...Мы смотрим на нее [лингвистику] как на науку, которая пытается объединить в одно целое два принципиально разных объекта, убеждая себя, что они образуют один-единственный объект. Самое неприятное – это то, что нашу науку устраивает это объединение, ее вовсе не тревожит смутное ощущение ложности основания (Курсив мой – Н. И.) этого объединения. Она не испытывает никакой неловкости перед самыми превратными концепциями, которые возникают в ней каждый день, она мнит себя настолько владеющей своим предметом, что без всякого труда извлекает время от времени из этого всеобщего беспорядка какие-то идеи, какие-то теории языковой деятельности и предъявляет их с полнейшим простодушием” (Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике... С. 116–117). 62 Там же. С. 89–91, 92–93, 170, 189–192. 61 langage: “...Какой бы способ мы ни приняли для рассмотрения того или иного явления речевой деятельности, в ней всегда обнаруживаются две стороны, каждая из которых коррелирует с другой и значима лишь благодаря ей63”. Следует отличать методологию онтологического противопоставления, которую предложил Соссюр, от существовавшей до него. Дело в том, что метод онтологических антиномий, или дихотомий (как их называл Соссюр), стал известен в языкознании задолго до него. Например, В. фон Гумбольдт выделял ряд существенных антиномий, которыми определяется существование языка: язык и мышление, язык-деятельность (energeia) и язык-произведение или язык-продукт деятельности (ergon), язык и речь, речь и понимание, антиномии объективного и субъективного, коллективного и индивидуального, необходимости и свободы, устойчивости и движения, произвольности и мотивированности знака64. Практически все эти антиномии, кроме двух (язык–мышление65 и речь–понимание), повторяет в своей теории Соссюр. Уместно задать вопрос: в чем же тогда состоит столь поразившее лингвистику в начале ХХ в. своеобразие Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 46. Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М.: Наука, 1975. С. 339–342. 65 Мышление, как можно предполагать, не было для Соссюра предельным и тем более единственным определением языка. Он понимал мышление как сторону языка (внутреннюю, содержательную), не противопоставлял язык и мышление как две реальности. Язык – форма организации мысли. “Язык можно сравнить с листом бумаги. Мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли...” (Соссюр Ф де. Курс... С. 145). “Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в создании материальных звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить посредствующим звеном между мыслью и звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц” (Соссюр Ф де. Курс... С. 144). Опыт деятельности сознания постоянно и непосредственно присутствует в языке, в его материальных единицах, аккумулируется и видоизменяется в них. В мышлении важна, может быть, не столько данная актуальная сторона деятельности сознания, сколько ассоциация всего предыдущего опыта, который и оживает, и вместе с тем отрицается в языковом воплощении. 63 64 предложенного им метода онтологического противопоставления? Прежде всего, конечно, это глубина противопоставления. Любая языковая антиномия, в понимании Соссюра, так или иначе, должна приводить к противопоставлению теоретического и эмпирического в языке – вечного, сущностного, собственно языкового и преходящего, привносимого в язык внешними условиями существования. Соссюр говорит не просто о двойственности объекта. Он говорит о двух объектах, которые лингвистика до него “ошибочно”, изучала как один66. Впрочем, как мы теперь понимаем, “ошибка” лингвистики до Соссюра состояла не в том, что она не разделилась по признаку различия объектов, а в том, что она не нашла подлинного онтологического различения сущности и природы в изучаемом ею объекте, в языке. Эту задачу и выполнил Ф. де Соссюр. Трудно заподозрить, что он желал какого-то решительного разделения лингвистики по объектам исследования67. Целью лингвистики как науки была и будет природа языка, т. е. язык в реальном опыте его существования. Но получить ключ к раскрытию природы языка лингвистика сможет, только обнаружив и определив его сущность68. Заслуга Соссюра в том и состоит, что он предложил новое качество выделения сущности научного объекта и тем определил принципиально новую основу подхода к языковой природе. Наука прежде, чем исследовать языковую природу, должна ответить на вопрос: “что” обладает бытием в бесконечном разнообразии языковой природы. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике... С. 116–117. Хотя, с другой стороны, имеются некоторые предварительные указания Соссюра о построении предмета языкознания, которые позволяют именно так понимать его позицию в этом вопросе: “Такова первая дихотомия, с которой сталкиваешься, как только приступаешь к построению теории речевой деятельности (имеется в виду дихотомия langue и langage как научных объектов, изучаемых наукой о языке – Н. И.). Надо избрать либо один, либо другой из двух путей и следовать по избранному пути независимо от другого; следовать двумя путями одновременно нельзя” (Соссюр Ф. де. Курс... С. 58). 68 Ни сущность, ни бытие сами по себе не дают истины: “...Фиксированные в их изолированной самостоятельности [они] должны... раскрываться как неистинные”. Истину в представлении ученого дает единство бытия и сущности. Сущность оживает в бытии (Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики. С. 213). 66 67 Итак, принципиально новым в определении сущности языка Соссюром было то, что он предложил искать и определять эту сущность не в функциональных факторах, а в составе высшей материальной единицы языка как системы. Собственно, этот методологический принцип, в первую очередь, и отличает Соссюра от тех лингвистов, которые по тем или иным основаниям смешивают категории природы и сущности языка. Соссюр определил сущность языка через знак. “Язык есть система знаков...”, – это хорошо известное, но до сих пор часто недооцениваемое положение Соссюра представляет собой высшее определение сущности языка69. Знаком в языке является слово. Слово – высшая форма существования языка, высший материальный “представитель” языка. Центральный характер слова70 объясняется тем, что оно как никакая другая единица языка является носителем всех его функций. В слове мы имеем оптимальное сочетание необходимой устойчивости в аспекте внутренней организации и, в то же время, необходимой, практически неограниченной свободы функционального осмысления, смыслового развития в аспекте его употребления. Если учитывать весь потенциал осмысления слова (конечно, такое можно представить лишь гипотетически), то между словом и языком можно ставить знак равенства. Слово – это весь язык, свернутая форма всего языкового опыта и средоточие всей его структуры, структурных законов языка. Никакая другая единица языка (фонема, морфема, предложение) не обладает таким потенциалом постоянства и смысловой свободы. Так, например, морфема тоже в каком-то смысле может считаться знаком, поскольку она выполняет определенную значащую функцию. Но морфема не способна получать дальнейшее осмысление в условиях ее употребления, ей недоступна функция смыслового развития, переноса смысла и значения, символизации. Предложение – высшая функциональная Соссюр Ф де. Курс... С. 53. “... Слово... есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка” (Соссюр Ф. де. Курс... С. 143). 69 70 единица системы, в составе которой слово получает смысловое оформление и смысловое развитие. Но в самом предложении постоянством обладает лишь форма. Любое содержательное наполнение предложения, если предложение брать абстрактно и формально, нельзя рассматривать как его осмысление 71. Семантический состав предложения не имманентен форме, которая, как таковая, нематериальна. Она показывает порядок осмысления, но сама не подлежит осмыслению. Осмысливаться может содержание, но не форма. Вообще, что касается предложения, правильнее говорить не об осмыслении, а о домысливании, имеющем причины во внешних факторах, но не в самом предложении. Любое последующее осмысление, переосмысление предложения определены его контекстной функцией. Предложение содержательно не свободно от контекста. Смысловое развитие предложения (если говорить о таковом) обнаруживается не в нем самом, а в контексте72. Если же рассматривать предложение чисто эмпирически как центральную знаковую единицу языка73 и понимать состав языка в целом как определенное множество конкретных предложений74, то опять же такое множество не может мыслиться Осмысление мы понимаем двояко: как смысловую специализацию, ограничение и как смысловое развитие некоторого знакового содержания. 72 Особую оговорку следует сделать в отношении всевозможных форм языковой идиоматики и фразеологии, которые могут быть представлены как словами, так и сложными синтаксическими формами и предложениями. Фразеологизмы в аспекте их содержательного единства могут и должны рассматриваться как единицы языка. В них мы видим закрепление некоторого единого смысла за неким сложным знаковым комплексом. Данный смысл, как и в слове, представляет собой ассоциацию опыта употребления фразеологизма. Опыт этот входит в контекст языковых значимостей и получает языковой статус. Предложение здесь приобретает свойства слова и, прежде всего, кумулятивные смысловые свойства. Данный смысловой опыт может развиваться, накапливаться, видоизменяться и т. д. 73 В лингвистике эта точка зрения последовательно проводится В. А. Курдюмовым (См.: Военный университет: сборник научных трудов. № 3. Ч. 1. М., 1999. С. 93). 74 Такое понимание широко распространено в современной логике, в которой под языком понимают некоторое множество предложений, определяя язык совокупностью референций. Такое, чисто количественное, понимание языка, как мы указывали, не приводит к четкому разграничению сущности и природы 71 иначе как открытое, в котором каждое предложение получает строго определенное заданное качество, поскольку создается для конкретного единичного случая и нового качества, какого-либо смыслового развития иметь не может, поскольку такое развитие необходимо должно было бы опираться на некоторое абстрагирование предложения от контекста (что мы всегда имеем в слове) и имплицировать некоторую потенциально бесконечную множественность употреблений, что по исходным предпосылкам в данном логическом подходе невозможно. Таким образом, мы видим, что в слове заложены, совершенно неограниченные функциональные преимущества в сравнении с вышестоящей и нижестоящими единицами. Мы видим в нем смысловую устойчивость, неизменность, с одной стороны, и смысловую свободу, неограниченную способность смыслового развития, – с другой. Включенность в синтаксическую структуру, смысловая подчиненность контексту сочетается в нем с таким качеством, как сохранение своего семантического “я” и независимость от контекста в аспекте смысловых ассоциаций. Причем все эти противоположные качества абсолютно представлены в слове. Слово, действительно, находится на пересечении всех смысловых влияний в языке, готово свободно и неограниченно реализовывать эти влияния в себе. Слово – “открытый” знак, оно способно бесконечно развиваться, открывает нам бесконечную гамму своих смысловых вариаций, всегда оставаясь самим собой. Конечно, Соссюр не был первым, кто поставил слово впереди всего в языке. Испокон веков слово считалось главной единицей языка и, насколько можно судить, никто до Соссюра не подвергал сомнению это общепринятое представление. Однако Соссюр был первым, кто в знаковых свойствах слова (а не в выражении и не в выразительности, как это часто было до него) увидел сущность языка. Тем самым он поднял научный статус слова на небывалую теоретическую высоту. изучаемого объекта. Трудно перейти от сущности (как бы ее при этом ни понимали) к бытию объекта, увидеть объект в контексте внешних условий. Второе принципиально новое, что постановил Соссюр в качестве составляющей метода выведения сущности языка, было условие представить эту сущность вне какого бы то ни было родового принципа, абстрактно, в-себе. Это – функциональное условие определения сущности языка, которое тесно связано с первым, “материальным”, знаковым. Оба методологических условия дополняют друг друга. Мы не можем не обращаться к изолированному рассмотрению сущности, если решили искать эту сущность в составе высшей материальной единицы системы. И наоборот, мы не можем не стать “материалистами” с позиций языкового знака, если приняли условие (сколь угодно предварительное) представить сущность языка в-себе, в отрыве от внешних условий. Такой подход можно определить как теоретический изоляционизм – весьма редкое и вынужденное явление в науке. Результатом такого теоретического изоляционизма является отрыв сущности научного объекта от его природы и разработка каждой из сторон единого объекта, прежде всего, его сущности как самостоятельного научного объекта. Сущность при таком понимании получает статус теоретического объекта науки. Природа объекта постигается эмпирически, поэтому объект, представленный в совокупности его природных качеств, понимается как эмпирический объект науки. Последнее, функциональное, условие на первый взгляд может показаться парадоксальным, даже абсурдным, поскольку с древних времен сущность не определяется иначе, как через ближайший род и видовое отличие. Категории общего и особенного обязательно должны присутствовать в определении сущности, это – незыблемое положение любой научной теории. Предельно “свое” (специфическое, принадлежащее только данному объекту качество, которым объект не может “поделиться” ни с чем иначе, как в способе своего бытия) и предельно “чужое” (то, что объект ни в коем случае не может “считать” только своим и где он “делит” свои права с правами других однопорядковых сущностей, образуя категорию рода) должны объединяться. Другого способа понимания сущности и не может быть: только род и вид, бесконечно общее и бесконечно специфическое, взятые вместе, и дают нам знание сущности. Поэтому требование представить сущность объекта отдельно от рода, освободиться от рода (к чему нас подводит теория Соссюра) в известной мере условно. В языкознании оно обусловлено исключительной системной сложностью языка, как научного объекта, и означает необходимость представить сущность до какого бы то ни было определения, т. е. представить, как говорилось выше, внеопытно, не раскрывая способа ее дальнейшего определения в аспекте бытия. Соссюр радикально переосмыслил всю методологию отношения лингвистики к своему объекту – в аспекте выведения сущности и в аспекте специального лингвистического подхода к изучению природных качеств языка. Основу предложенного Соссюром метода, ориентированного на выведение сущности научного объекта лингвистики, составили знаковый “материализм” и теоретический изоляционизм. Выражением новой методологии стало разделение единого объекта лингвистики на теоретический и эмпирический, соответственно обозначенные на тот момент терминами langue и langage. Мог ли Соссюр выбрать другой метод, пойти по обычному функциональному пути определения сущности языка через внешние условия? Что побудило его перевернуть с ног на голову весь вопрос о выведении сущности научного объекта? Какими объективными причинами был подготовлен тот коренной методологический переворот в лингвистике, который осуществил Соссюр? Надо сказать, что на тот исторический момент лингвистика приблизилась к такому рубежу, когда она относительно исчерпала ресурс эмпирического развития. Итогом разностороннего эмпирического изучения языка стало признание того факта, что язык есть явление необыкновенно многоаспектное и неоднородное75. В Оправдывая проводимое им жесткое разграничение теоретического и эмпирического объектов лингвистики, Соссюр писал: “Речевая деятельность (langage, то, что предшествовавшая ему лингвистика недифференцированно 75 самом деле, как можно заметить, язык одновременно содержит и реализует в себе не один, а несколько родовых принципов. Причем каждый из них представляет собой некоторое всеобщее определение языка и может пониматься как особенный лишь в сравнении с другими, такими же всеобщими. Но каждый из них, взятый в-себе, вполне самодостаточен, функционально необходим и может разрабатываться отдельно. Таким образом, языкознание пришло к признанию принципиальной невозможности подведения языка (в научном его рассмотрении) под какой-то один общий род. Каждое направление ограничивалось собственным, отличным от других, набором онтологических оснований научного поиска, разрабатывало как бы “свой” язык, считая свои выводы его конечным определением. При всех различиях общим для всех направлений оставался функциональный метод определения сущности научного объекта через внешние условия. В этих условиях, нам представляется, Соссюру не оставалось иного пути, кроме обращения к знаку, к материальной стороне языка. Соссюр не искал, как или чем определяется язык, но сразу и однозначно указал, что определяется в языке. Следует заметить также, что у него отсутствует эксплицитная постановка вопроса о выделении и дальнейшей разработке эмпирического объекта в науке о языке. Более того, как может показаться, Соссюр всячески вытесняет эмпирию из предмета языкознания. Но, выделив с совершенной ясностью теорию объекта, Соссюр тем самым усилил научную актуальность тезиса о едином понимании всей языковой эмпирии или, по крайней мере, о началах такого понимания. Такое единство понимания всей языковой эмпирии, сколь бы разнообразной ни представлялась при этом природа языка, по Соссюру, могла обеспечить лишь категория знака. Выделенный таким образом теоретический объект мог и должен был служить точкой отсчета в подходе к языковой эмпирии. называла “язык”, смешивая природу и сущность объекта – Н. И.), взятая в целом, непознаваема, так как она неоднородна” (Соссюр Ф. де. Курс... С. 57–58). Представим схематически методологию базового онтологического различения в теории Соссюра (см. схему 1). Схема 1. Принцип различения природы и сущности языка в соответствии с теорией Ф. де Соссюра [необходимые всеобщие условия существования языка] Общественное сознание Индивидуальное сознание [общественный культурный языковой опыт] [индивидуальный языковой опыт] Коммуникация [естественные законы коммуникации, речевая ситуация] [опыт смыслового определения сущности в контексте необходимых БЫТИЕ всеобщих условий бытия] (сущности) ЗНАК, ЗНАКОВОЕ НАЧАЛО ЯЗЫКА (принцип условной и произвольной связи означающего и означаемого) сущность (БЫТИЯ) П Р И Р L ОA ДN АG A ЯG З E Ы К А C УЯ L ЩЗA НЫN ОКG САU Т E Ь Итак, смысл онтологического различения, которое отражает объективную двойственность научного объекта лингвистики, по мысли Соссюра, заключается в противопоставлении друг другу языковой природы (langage) и формально-знакового начала в языке (langue), т. е. в противопоставлении, с одной стороны, языковой текучести, изменчивости, исторической производности, тотальной внешней функциональной смысловой обусловленности (социальной, коммуникативной, психологической) и, с другой стороны, языковой устойчивости, внутренней неизменности, покоя. Причем, и это принципиально важно, устойчивость языка – его тождественность самому себе, его способность всегда пребывать в своей сущности и оставаться самим собой – заключается в его условности, т. е. чисто искусственной знаковости, а детерминированности, внешней мотивированности. не в функциональной производности или “Действительное положение языка таково, что крайне затруднительно решить, является ли он, скорее, историческим объектом или можно настаивать, прежде всего, на неисторическом аспекте языка... Сила знаков обусловлена их условной, произвольной природой, их независимостью от реальности, которую они обозначают... в багаже человечества это такой предмет, который нельзя сравнить ни с чем иным...”76 В этом пункте как раз и обнаруживает себя главный, возможно, самый парадоксальный итог всех теоретических исканий Соссюра. Обратившись к языковой материи, он поставил науку перед дилеммой о соотношении искусственного и естественного в языке. В то время как вся современная ему лингвистика пыталась обнаружить сущность языка в естественных факторах, в тех необходимых условиях, причинах, объективных человеческих потребностях, функциях, которыми вызывается появление языка (в самом деле, что может быть естественнее в научном объекте, чем его сущность?), Соссюр увидел сущность языка в искусственности, неестественности. 76 Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике... С. 92. Думается, было бы глубокой ошибкой проводить прямую аналогию между данным теоретическим выбором Соссюра и предметом древнего спора о происхождении слов (имен): по установлению (демокритовская версия) или по природе (гераклитовская версия), хотя отголоски древнего спора в его теории, безусловно, слышны77. При такой интерпретации эта теория предстает как рядовой выбор ученым своих теоретических оснований, подготовленный не более чем внешним практическим интересом. На самом деле выбор Соссюра представлял собой окончательное и бесповоротное решение вопроса о сущности языка, в этом и состояло высшее предназначение его теории. Соссюр никогда не подвергал сомнению ни одну из разрабатывавшихся в науке языковых тем, которые были обращены к истокам языковой природы: об исторической производности языковой формы, об общей смысловой мотивированности и выразительной природе языкового знака, о личностном психологическом характере осмысления, об отражении в языковой структуре функциональной динамики языка, о его логических принципах и т. д. Но к пониманию сущности языка, как и показал Соссюр, это не имело никакого отношения78. Признавая Следует иметь в виду, что древние понимали слово исключительно выразительно. Для них слово было не знаковой единицей языка, как в нашем современной понимании, а именем: язык непосредственно состоял из имен (см. Троцкий И. М. Проблемы языка в античной науке// Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб: Алетейа, 1996. С. 12). Языковой абстракции для древних не существовало. История лингвистического словоцентризма в основных его формах освещается В. А. Курдюмовым в работе “Идея и форма: Основы предикационной концепции языка”. М.: Военный университет, 1999. С. 29–37. 78 “...Вопрос о происхождении языка не так важен, как это обычно думают, такой вопрос не к чему даже ставить” (Соссюр Ф. де. Курс... С. 104). Соссюр также требует исключить из формального научного рассмотрения лингвистики любые аспекты знаковой выразительности, символизации – именно вследствие того, что в знаке, рассмотренном в выразительном аспекте, присутствует “рудимент естественной связи между означаемым и означающим” (Соссюр Ф. де. Курс... С. 101). В своих “Заметках”, противопоставляя понятия состояния и события в языке, Соссюр пишет: “...В большинстве наук... все дело ограничивается объяснением происхождения состояния, само же состояние не вызывает интереса, не играет той роли, которая отличает его как состояние. Однако в 77 естественность происхождения языка, Соссюр впервые поставил вопрос о том, в чем заключается собственная языковость языка как системы выражения. Применительно к любому способу выражения мы говорим, что в нем появляется нечто языковое лишь тогда, когда в нем образуется некоторый фиксированный формализованный порядок репрезентации некоего содержания, т. е. когда в нем в аспекте формы образуется, выкристаллизовывается что-то искусственное, условное, принимаемое по общественному договору. С большим количеством оговорок можно рассуждать о “языке” балета, “языке” искусства, живописи, кино. При всей метафорической образности использования слова “язык” в данных сочетаниях, языковость и здесь означает рождение некоторой устойчивой, условной искусственной формы, которая в своей искусственности противостоит любой естественной выразительности. Эти системы как бы делают шаг навстречу знаковости, и в этом заключается элемент “языковости” в них. Конечно, “языковость” никогда не станет сущностью в этих системах, и выразительность, преодоление любой устойчивой формы, штампа останется смыслом их существования. В языке же знаковость, искусственная сторона выражения, составляет самое существенное его начало и смысл. На эту сущность языка и обратил внимание Ф. де Соссюр. Но сделал это, как мы теперь понимаем, лишь для того, чтобы ярче высветить все аспекты языковой природы. 2. Единство и двойственность языка как научного объекта Принимая в целом онтологическое различение между теоретическим и эмпирическим объектами лингвистики, 79 проведенное Соссюром , мы должны теперь не в общих философских категориях бытия, природы, сущности, а непосредственно в языковых категориях указать, в чем выражается языке именно состояния, и только они, обладают способностью к означиванию; к тому же язык без этой способности неизбежно перестал бы существовать как таковой” (Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике... С. 116). 79 Хотя мы здесь отказываемся от терминологии Соссюра и называем “теоретическим объектом” и “эмпирическим объектом” те сущности, которые он называл соответственно langue и langage. различие этих объектов, определив необходимое количество аспектов их противостояния друг другу в самом составе языка. Прежде чем приступить к специальной дифференциации теоретического и эмпирического в языке, необходимо сделать одно общее замечание. Различие теоретического и эмпирического объектов лингвистики нельзя понимать буквально. Оно обусловлено не каким-то объективным размежеванием в самой языковой реальности, а коренным различием подходов науки к этой реальности, требующим проведения соответствующего различения и в самой объектной области. То, что мы начинаем с фундаментального различения, практически раскалывающего науку в ее отношении к объекту на две части, показывает специфику лингвистики, ее отличие от других, “нормальных”, более гармонично изучающих свои объекты научных дисциплин. Специфика эта подготовлена удивительной разнородностью, природной вездесущностью объекта лингвистики – настолько разительной, что при первом приближении мы и не знаем, в ряду каких природных явлений нам следовало бы, в первую очередь, помещать свой объект: рассматривать его как общественное явление или исследовать его в ряду коммуникативных процессов и полагать потребность коммуникации как абсолютное начало языка, или связывать язык исключительно с деятельностью человеческого сознания, полагая логику, психические процессы как основу всего языкового. Общественные отношения и ценности, коммуникация (межличностное общение), естественные психологические принципы работы сознания – каждое из этих явлений формально, безусловно, шире языка, требующего дальнейшего функционального системного определения. Сам язык абсолютно принадлежит каждой из этих сфер. Но ни одна из них не имеет над ним полной власти. Ни одной из них язык не отдает себя больше, чем другой – при том, что каждой из них он отдает себя всего, без остатка. Так в чем же собственная сущность языка? Во всех этих сферах, в каждой из них и ни в одной в частности. В этом и кроется причина парадоксальности лингвистического метода. В этом своем методе лингвистика не мыслит для себя никакой другой задачи, кроме той, чтобы определить и утвердить себя в своих подлинных научных правах, в праве на свой объект. Единство объекта на всех этапах его научного рассмотрения – непреложное правило науки. И идеалом лингвистики также должно быть представление языка в его универсальном совокупном и целостном отношении ко всем всеобщим условиям, которыми определяется его бытие. Но, преследуя столь высокую цель, лингвистика нередко, и часто в самый решающий момент, не может однозначно определить, что она наблюдает и что анализирует в своем объекте: своеобразная “аберрация” непосредственного и глубинного в изучаемом объекте способна окончательно спутать представления о координатах научного поиска. Объект лингвистики слишком неуловим. “В любой другой науке объекты хотя бы на короткое время предстают во всей своей очевидности, что дает возможность анализировать их и постоянно сохранять над ними власть... Мы абсолютно не в состоянии определить, какой объект в языке нам дан непосредственно для наблюдения (это фатальная неизбежность нашей науки)”, – сетует Ф. де Соссюр80. Таким образом, проблема единства объекта в лингвистике далеко не простая задача. Лингвистика полагает это единство скорее a priori, по общему правилу науки, потому что так в принципе должно быть. В реальном же методе лингвистики – в том, как она полагает и раскрывает свой объект, – единство объекта еще требует доказательства. Поэтому в качестве начала научного подхода к языку мы выбираем не единство, а различие его онтологических моментов. Это различие необходимо установить для того, чтобы обозримо представить себе ту огромную дистанцию, которая существует между эмпирическим и теоретическим в языке, и, таким образом, понять всю глубину, масштаб взаимопроникновения двух онтологических начал языка. 80 Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике... С. 118. 2.1. Общее материальное различие знака и символа в языке Итак, теоретический и эмпирический объекты языкознания отличаются друг от друга, прежде всего, по составляющему основу каждого из них материальному знаковому принципу. Это – главное различие между ними. Материальной основой теоретического объекта является формальный знак. Материальной основой эмпирического объекта является знак-символ. Думается, было бы верхом научной наивности для автора настоящих строк на данном этапе изложения своей концепции языка предлагать какое-то, пусть самое предварительное, определение категорий знака и символа. Столетний опыт многих гуманитарных дисциплин в этом направлении не вывел пока науку на вершину понимания ни того, ни другого. И мы также не расчитываем, что в процессе развития темы нам удастся в достаточной мере осветить весь комплекс сходств, различий, взаимодействий и столкновений, существующих между знаком и символом. Наука пока лишь нащупывает контуры этой проблемы. Даже ее масштаб пока не поддается отчетливому пониманию. В настоящий момент несомненным научным фактом является то, что единая проблема знаковости разрывается между символическим и формальным способами ее рассмотрения, и два способа интерпретации знака практически не находят “общего языка” и с большим трудом “понимают” друг друга. Для начала укажем, что знак и символ – это одно и то же, это одна и та же материя языка. Выражением этой единой знаковой или, лучше сказать, знаково-символической материи языка является слово. Слово едино в двух лицах, живет, образно выражаясь, “двойной жизнью”, служит двум “богам”. Двойная жизнь слова весьма обманчива. Каждую из сторон жизни слова можно исследовать сколь угодно глубоко, так и не увидев другой его стороны, даже не обратив внимание на ее действенное присутствие в слове. Единую реальность слова необыкновенно трудно представить. Наука обычно вырывает из слова какую-то часть и думает, что это единственное или, по меньшей мере, главное, что может быть представлено в слове. Воздерживаясь пока от диалектики, мы также будем говорить как бы о раздельном существовании знака и символа в языке и соответственно, если посмотреть на всю проблему в общем, отдельно о знаковом и о символическом81 существовании языка. Итак, язык как теоретический объект открывает и развивает в себе формально-знаковое материальное начало. Языковой знак, или просто знак, – это абстрактный знак, представленный внеопытно, т. е. совершенно искусственно. Материальной основой и высшим выражением эмпирического объекта языкознания является символ. Символ – это знак, представленный во всей совокупности его выразительного смыслового опыта, откуда бы этот опыт ни исходил. Символ – это всегда знак, представленный конкретно, феноменологически, т. е. знак, в котором учтены и отражены все аспекты его бытия (включая данное речевое). Понимая недостаточность такого определения, тем не менее, пока остановимся на нем и воздержимся от выделения в символе высшего образующего начала. Здесь достаточно понять, что фактором, подготавливающим рождение символа, является смысл. Смысловой опыт знака в каждой части и собранный воедино открывает в знаке символическую сторону, символическую “способность” и является необходимой ступенью внутреннего содержательного становления знака, которое не может не завершиться некоторым порядком знаковой символизации. Таким образом, смысл и подчиненная смыслу знаковая выразительность, Правильнее было бы говорить не о символическом (этот термин по понятным причинам может вызвать двусмысленное толкование), а о символистическом существовании языка. Последнее кажется более естественным, например, в английском языке: ср. “symbolic” и “symbolistic”. В русскоязычном изложении мы все-таки уйдем от термина “символистический” (с фонетической и морфологической точек зрения он представляется инородным) и будем использовать термин “символический” ввиду его большей благозвучности. 81 понятые исторически и феноменологически, предварительные характеристики символа. – важнейшие 2.2. Содержательное различие знака и символа в языке Все дальнейшие различия между теоретическим и эмпирическим объектами языкознания выстраиваются как последовательные ступени взаимного противопоставления в языке знака и символа. Знак – простейшее начало символа. Символ – сложнейший итог смыслового становления знака. Для знака характерна предельная простота функционального содержательного определения, которая выражается в значении. В самом деле, что может быть проще, чем связь означаемого и означающего, существующий порядок означивания в языковом знаке? Принципиальный знаковый “позитивизм” языка – явление совершенно объективное. В символе, наоборот, главное – смысл. Бесконечная сложность внутреннего смыслового определения – важнейшая черта символа, противостоящая его исходной знаковой простоте. Учитывая то, что смысл есть сторона значения, справедливо будет сказать, что в языке нет ничего проще и ничего сложнее, чем значение. Смысловой аспект значения следует понимать не только как-то специально, т. е. как некоторое частное смысловое определение представленного в слове содержания, но и синтетически, комплексно. С точки зрения его смысловых качеств (рассмотренных в целом) значение раскрывается как образ. Желая терминологически облегчить дальнейшее изложение проблемы взаимодействия формально-знакового и символического начал в языке, мы будем считать, что содержательной основой знака в языке является значение, а содержательной основой символа (слова как символа) – образ82. Но при этом будем иметь в виду, что Глубокий логический анализ путей перехода категории образа в категорию символа предлагается в книге Н. Д. Арутюновой “Язык и мир человека” (М.: Языки русской культуры, 1998. С. 313–314, 337–341). Н. Д. Арутюнова полагает знак как результат эволюции символа, и сам символ рассматривает как промежуточное звено движения от образа к знаку (С. 337, 345). Мы понимаем отношение знака и символа диалектически как взаимное соотношение: символ 82 онтологически первое и второе – одно и то же. Это одно и то же значение, которое, с одной стороны, имеет логическую природу (поскольку в нем открываются некоторые логические принципы содержательного определения и здесь оно, собственно, и предстает как значение), а с другой – природу образно-выразительную (где то же самое смысловое определение уже предстает как смысловое становление значения, которое может рассматриваться и оцениваться социально, коммуникативно, психологически, исторически, эстетически и т. д. практически в любом экстралингвистическом контексте, с точки зрения любого внешнего предназначения или окружения). 2.3. Различие принципов системного определения знака и символа. Проблема внутренней формы Еще более важным основанием для взаимного противопоставления в языке знака и символа (которое способствует их полной изоляции друг от друга в научном рассмотрении) является различие принципов системного определения, представленных в каждом из них как высших материальных формах языка. Для знака это будет категориально-грамматическое определение, для символа – образное смысловое. Первое показывает категориальный статус слова в языке и формальные принципы его употребления. Второе – выразительные и изобразительные возможности слова, относительную границу развития образа. Первое мыслится как положительное определение значения слова. Второе является отрицательным определением. Последнее означает, что содержание определяется относительно чего-то иного, чужого, чему оно себя по тем или иным признакам противопоставляет и от чего оно себя таким образом отличает. Образ всегда экспрессивен. Он не может двигаться и развиваться по смыслу иначе, как через отрицание чего-то внешнего себе. Разумеется, данное отрицание не стремится к знаковости, к тому, чтобы развить в себе черты внутренней формализации в аспекте содержания и в аспекте выражения, и в этом можно видеть выразительный опыт символа; знак стремится к тому, чтобы стать символом, обнаружить в себе черты символизации, и это можно понимать как содержательный опыт знака, опыт его внутреннего содержательного развития. обязательно должно быть направленным и конкретным. Чаще всего оно представлено в слове сколь угодно общо, вероятностно, имплицитно. В положительном определении знак себя ничему не противопоставляет, но вырабатывает данную форму своего определения в-себе, как бы “из себя”, как нечто врожденное, как свой постоянный атрибут. Положительное определение (в знаке) и отрицательное определение (в символе)83 можно понять или представить как определение некоторого содержания по роду и виду, как внутреннее родовидовое смысловое отношение в слове. В аспекте грамматического смыслового определения слово как знак реализует в себе некоторый родовой принцип. Это могут быть различные частеречные категории – предметности, признаковости, глагольности и др.; более специальные категории – рода, единственности/множественности, лица, времени, аспекта и др. Это как бы языковые координаты понимания, содержащиеся в самой семантике слова. Слово открывает в себе эту родовую способность изначально, в самой основе. Реализуя ее, оно принимает форму грамматического значения. Грамматика, вообще, есть способ фиксации объекта в предмете мысли. Она показывает не только то, как строится отношение объекта к нам, но и то, как выстраиваится наше отношение к объекту. И то и другое составляют единый бимодальный (в единстве объективного и субъективного модусов) порядок грамматического осмысления слова: видение объекта относительно себя и видение себя, своего положения относительно объекта. Вопрос о взаимодействии предметной семантики слова и его категориально-грамматических родовых определений – это сложная философская проблема. На наш взгляд, было бы ошибкой считать эти родовые принципы формально-грамматического осмысления (сколь угодно общие) выше значения в слове, выше Еще раз напомним, что никакая форма смыслового определения не исчерпывает содержания символа. О собственной специфике и функциях символа мы будем говорить позже. Здесь же мы говорим о том, чем подготавливается в знаке символ. 83 представленного в нем образного отношения. В этом случае наука оказалась бы во власти рационалистических философских трактовок принципов работы языка и мышления84, отрывающих механизмы работы языка от его телеологии. Системно-языковое определение есть знаковое определение, или определение слова как знака в системе. С одной стороны, важнейшим результатом здесь является формализация понимания в составе самого слова. Слово как знак семантически самодостаточно, ему не нужны другие слова: в нем понято и определено (по смыслу, в сетке родовых координат) все, что может быть понято и определено. Слово ищет тождества, подобия в системе. Выстраивается отношение по принципу модели (прототипа) – парадигматическое (или прототипическое) отношение. С другой стороны, формализуется и синтагматика слова, его отношение к другим словам в контексте. Оно строится через те же категории, которыми в нем уже был определен порядок внутреннего понимания. Это отношение становится чисто внешним, функциональным, не затрагивающим сам предмет понимания в содержании слова. Парадигматика внутризнакового понимания в снятом виде содержит синтагматику внешнего функционального Такая точка зрения в 60–70 гг. была представлена многочисленными работами Н. Хомского и его последователей. Исторический парадокс лингвистического рационализма Хомского состоит в том, что он исходил из крайнего эмпиризма предшествующего ему американского языкознания. Его теория – своеобразный гибрид рационализма и эмпиризма в исследовании языка, последовательное применение методов эмпиризма на почве рационализма. Лейтмотивом всей его теории можно считать утверждение, что “...грамматика автономна и независима от значения...” (Хомский Н. Синтаксические структуры. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, 1998. С. 32). В принципе, можно согласиться с этим положением, если понимать его как один из вариантов решения вопроса о внеопытном начале языка. Но при этом надо помнить, что в языке “абстрактные сущности в конечном счете всегда основываются на конкретных. Никакая грамматическая абстракция немыслима без целого ряда материальных элементов... к которым в конечном счете необходимо всегда возвращаться” (Соссюр Ф. де. Курс... С. 171). Для тех, кто ставит в центр языка предложение, труднее всего объяснить факт слова в речи и языке: зачем вообще усложнять общение лексическими ассоциациями, если мы говорим предложениями? 84 отношения и в реальном синтаксическом выражении переходит в данное синтагматическое отношение. В известном смысле синтагматика “предсказуема”, предопределена в формальных чертах внутризнаковым грамматическим родовым определением. Грамматическое определение слова имеет закрытый характер, исчисляется конечным числом смысловых реализаций слова. В другом своем аспекте, в аспекте образного смыслового определения, слово, как символ, развивает отрицательное отношение в системе, которое, представляя собой некоторую совокупность вариантов смысловой реализации слова, может быть понято как его видовое определение. С этой стороны слово определяется понятийными и экспрессивными коннотациями и категориями (хотя любая из грамматических категорий, о которых шла речь выше, в данном случае может использоваться в качестве понятийной и быть одновременно и грамматическим смысловым, и понятийным и даже экспрессивным смысловым определением слова). Данное определение имеет исключительно опытный характер. Если в аспекте грамматического осмысления слову “никто” не нужен, оно “не видит” иного себе, то в аспекте отрицательного определения, наоборот, слову крайне необходимы другие слова: оно живет, постоянно определяя себя отношением к иному, “питается” этим отношением. Этот аспект смыслового определения слова совершенно открыт и потенциально бесконечен. В аспекте опытного смыслового определения слово не просто определяется, фиксируя какие-то смыслы, но “живет” в языке. Смысловой опыт слова всецело историчен, культурен. С этих позиций можно говорить о “судьбе” слова: оно рождается, развивается, преобразуется, “умирает”. В языке слово конкурирует по смыслу с другими словами, которые в отношении к нему обнаруживают такое же отрицательное опытное определение 85. В Соссюр писал: “И понятие, и звуковой материал, заключенные в знаке, имеют меньше значения, нежели то, что есть вокруг него в других знаках. Доказывается это тем, что значимость члена системы может изменяться без изменения как его смысла, так и его звуков исключительно вследствие того обстоятельства, что 85 составе самого слова данное определение имеет не отрицательное, а положительное значение: слово наполняется новым смысловым содержанием, смысловыми оттенками, коннотациямя, ассоциациями86. Причем эта положительная функция смысла – вещь гораздо более очевидная, чем его отрицательная сторона. Обычно на нее и обращают внимание, когда исследуют лексическую семантику. Но следует помнить, что никакая коннотация, никакое смысловое определение, понимаемое положительно как содержательное наполнение и обогащение слова, не было бы возможно, если бы в нем отсутствовала импликация (сколь угодно абстрактная) отрицательного отношения к иному в самом составе языка (пусть общего или потенциального). Поэтому мы подчас мучительно выбираем слово, подыскивая нужную смысловую коннотацию или ассоциацию. Иногда в погоне за смыслом мы рискуем ошибиться: в аспекте сочетаемости слова или вдруг всплывающей нежелательной ассоциации. Все это действительно живой опыт слова, открывающийся в его символическом аспекте. Развивая отрицательное отношение к остальному составу языка, слово обнаруживает свою значимость. Категория значимости была впервые предложена Соссюром, который понимал ее, прежде всего, отрицательно87, как отрицательное отношение элемента в системе. Мы в целом придерживаемся такого же понимания. Однако мы несколько уже понимаем возможности ее научного применения в лингвистике. В частности, применение этой категории в области какой-либо другой, смежный член системы претерпел изменение” (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики... С. 153). 86 О необходимости учитывать в исследовании этимологии слова ее историческую сторону говорил А. А. Потебня. “Жизнь слова с психологической, внутренней стороны состоит в применении его к новым признакам, и каждое такое применение увеличивает его содержание” (Курсив мой. – Н. И.). В результате растет несоответствие между значением слова и возможностями его смыслового представления. Всем этим подготавливаются семантические сдвиги в языке (Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления // Потебня А. А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 222). 87 См.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики... С. 144–154. языковой парадигматики не вполне оправдано88. Ее назначение, как системного критерия, заключается в том, чтобы характеризовать живой опыт смысловых противопоставлений в лексическом составе языка. В аспекте значимости разворачивается своеобразная система смысловых взаимодействий слова с окружающим составом языка. Это качественно иная системность, чем та, которую мы представляли себе в языковом знаке. В целом она может быть определена как отрицательная системность. Слово не всегда до конца эксплицитно реализует в своем смысловом опыте все возможности своей отрицательной системности. Поэтому явление значимости слова в языке следует понимать скорее потенциально, чем реально. В реальном смысловом опыте слова данный потенциальный фактор превращается в непрерывный процесс смыслового самоопределения слова в языке. Слово может утрачивать те или иные смысловые определения или, наоборот, бесконечно приобретать новый, сколь угодно разнообразный смысловой опыт. Вся конкретика смыслового определения слова в составе языка не поддается описанию. Мы видим четыре магистральных вектора развития значимости в смысловом определении слова, по которым разворачивается его “соперничество” или, наоборот, “сотрудничество” с другими словами в языке. В одном отношении слово “борется” с другими словами за пространство смыслового обозначения, в другом отношении – выбирает себе “союзников”, помогающих ему укрепиться в собственных смысловых правах. Первый вектор – омонимия. Здесь разворачивается соперничество слова с другими словами в аспекте формы. Омонимия основывается на явлении смысловой антиассоциации. Появление знаковых “двойников” до известных пределов не влияет на смысловые позиции слова как средства обозначения в языке. “Двойники” не угрожают существованию слова, и оно вполне См.: Ельмслев В. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 16. 88 сохраняет свою узнаваемость и смысловую идентичность в своей форме и в своем значении. Тем не менее омонимия в различных ее видах может отпугивать говорящего при выборе формы выражения, если возникает обратный ассоциативный эффект и слово своей формой напоминает о другом слове, усиливая это последнее в его выразительных правах89. Омонимия свидетельствует о слабости выразительной способности слова. Второй вектор – паронимия. Здесь, скорее, работает принцип смысловой ассоциации: слову “нужно”, чтобы его “узнали” во всей его смысловой полноте или в каком-то смысловом отношении в другом слове или через другое слово. Эффект “узнавания”, формальная апелляция к другому слову, используется в поэтическом созвучии слов. Эффект поэтического узнавания происходит от народной поэзии, от народного слова, где он используется с большей прямотой и наивностью (народные образы по способу выражения часто бывают паронимичны, приобретая иногда весьма сложные формы). Отсюда следует, что языковая паронимия “нужна” слову: в этом аспекте слово выбирает себе “союзников”, способных своей формой подчеркнуть его выразительность, его смысловую значимость. Паронимия, таким образом, свидетельствует о выразительной силе слова, она помогает выявлению смысловых возможностей слова. На омонимические свойства слов, на возможность формальной “подмены”, в результате которой слово не будет “узнано” в контексте (т. е. словоформа вызовет “неправильные” системные ассоциации), обычно мало обращают внимания в одноязычной коммуникации. Но эта проблема весьма остро встает в переводе. Здесь также (и гораздо чаще, чем в одноязычной коммуникации) возникает эффект системного “неузнавания” слова. Это эффект так называемых “ложных друзей переводчика”: когда схожее по форме слово неродного языка отождествляется по семантической функции со словом родного языка. Например, “compasso” – “циркуль” в португальском языке; “компас” – обозначение магнитного прибора для определения сторон света в русском; “volunteerism” – добровольность, самоотдача в английском языке; “волюнтаризм” – безоглядный, узкий субъективизм при принятии решений в русском и т. д. Чаще всего “ложные друзья переводчика” – это “интернациональные” слова. Неопытный, невнимательный или плохо знающий язык переводчик бездумно переносит смысловой опыт слова родного языка на слово другого языка, в результате чего и возникает переводческая ошибка. 89 Третий вектор – синонимия. Синонимия в целом характеризует пределы смысловой самостоятельности слова в языке. Смысловое развитие некоторого слова иногда по тем или иным причинам может совпадать со смысловым развитием других слов. Слово вынуждено “соглашаться”, чтобы его смысловое развитие было продублировано в каком-то объеме смысловым развитием в другом слове. Ясно, что синонимия свидетельствует о смысловой слабости, недостаточной смысловой самостоятельности слова в языке. Синоним скорее не “союзник”, а “соперник” слова в языке, особенно когда четкую дифференциацию смысла не удается вполне провести. Четвертый вектор – антонимия. Антонимы лишь по видимости “враждебны” друг другу. В действительности, своим смысловым противостоянием они помогают друг другу. В аспекте антонимического отношения слово обнаруживает наивысшую силу смыслового определения, а значит, смысловую устойчивость и самостоятельность. Границы смыслового пространства обозначения здесь определены отрицательно, через отношение к другому слову (или другим словам). Антонимия – всегда двоякое явление. Выявив в себе антонимическую способность, слово тем самым подчеркивает такую же способность и такую же силу смыслового определения в каком-то другом слове: антониму “нужен” его антипод. Антонимическая смысловая ассоциация также – сильнейшая выразительная ассоциация в языке. Итак, слово с точки зрения своей выразительной и смысловой значимости в языке может определяться через внешнюю форму (явления омонимии и паронимии) и со стороны внутренней смысловой формы, с точки зрения выразительной силы отдельного смысла в содержании слова (явления синонимии и антонимии). Указанные четыре вектора системного смыслового определения следует вести скорее не от формы слова, как таковой, а от лексикосемантического варианта – семантического варианта слова в его словарном закреплении. При этом надо сказать, что практически невозможно представить себе такое слово в языке, в котором его смысловое определение ясно и отчетливо развивалось бы по всем четырем направлениям. Но, с другой стороны, важно понимать также то, что любое слово языка потенциально сохраняет в себе способность смыслового развития во всех указанных смысловых отношениях. Потенциально и гипотетически любое слово мыслится во всех планах его смысловой противопоставленности всему окружению. Смысловая многогранность слова всегда скорее потенциальна, чем реальна. Смысловое противопоставление, ассоциация может возникнуть самым неожиданным образом в любом слове языка. Кроме того, по-видимому, ни в одном слове в языке, ни по одному из направлений смысловое развитие не достигает “конечного” пункта – сколь бы ни было оно фиксированным и определенным. Невозможность дальнейшего смыслового развития представить труднее, чем бесконечную возможность дальнейших смысловых определений. Итак, системное определение можно считать основным критерием различения знака и символа в языке. Обе стороны смыслового определения представлены и раскрываются в слове. Слово одновременно содержит и развивает и символический, и знаковый принципы системного определения. Слово как знак развивает положительное отношение к системе. Здесь оно закрепляется в родовом грамматическом категориальном определении. Слово как символ развивает отрицательное отношение к системе и также отрицательно определяется по смыслу в аспекте смысловой значимости в системе. В этом пункте мы вновь с неожиданной для себя стороны открываем парадоксы внутренней формы в слове и языке. Выше мы уже затрагивали этот вопрос. Категория внутренней формы была впервые предложена В. фон Гумбольдтом. Изначально вопрос ставился о внутренней форме в контексте знакового отношения, о генезисе внутренней формы в знаке. Что это не надуманная проблема, что внутренняя форма концентрированно представляет реальное знаковое противоречие языка, противоречие формы и содержания, об этом свидетельствует вся история развития языкознания, в которой этот вопрос неизменно сохранял свою актуальность. Внутренняя форма занимает промежуточное положение между выразительным и содержательным аспектами в языковом знаке и языке и, как таковая, отражает и фиксирует в себе некоторый принцип внутреннего единства выразительного и содержательного начал в языке. Принцип искусственности языкового знака, поставленный во главу угла Ф. де Соссюром, на какое-то время снял остроту гумбольдтовой трактовки проблемы внутренней формы. Но тогда эта проблема потребовала переноса в иную плоскость – в плоскость диалектики смыслового состава внутренней формы. Как мы только что увидели, эта диалектика достаточно полно раскрывается в противопоставленности друг другу двух принципов системного смыслового определения слова в языке: с одной стороны, это положительное системное (грамматические категории), а также внеопытное и формальное определение; с другой стороны, это отрицательно определяемая относительно остального знакового состава языка смысловая значимость слова; это всецело опытное и образное определение: здесь в слове появляются и закрепляются самые различные смысловые коннотации. Два принципа системного смыслового определения тесно связаны друг с другом. Вместе они образуют внутренний положительный (структурно-языковой парадигматический) и внешний отрицательный (образно-смысловой) аспекты внутренней формы содержания слова в языке. В науке необходимо видеть и понимать ряд важных следствий, которые вытекают из такого соотношения двух аспектов внутренней формы. Вопрос здесь заключается в том, нужны ли два аспекта внутренней формы друг другу? Здесь, как и во многом другом, в языке парадоксальным образом сочетаются неразрывная взаимосвязь двух аспектов внутренней формы и столь же полная их свобода и независимость друг от друга. Во-первых, одно здесь не может быть без другого и существует лишь благодаря этому другому. Фиксируемая в отдельном слове языковая форма обозначения есть предпосылка бесконечной множественности других обозначений и как таковая требует их формального подобия друг другу в парадигме языка. Множественность обозначений, далее, предполагает бесконечный процесс их взаимного отрицательного смыслового определения. Таким образом, одно в высшей точке своего системного определения переходит в свою противоположность. Единство и подобие заканчивается множественностью и разнообразием. Отрицательность и отличительность подготавливаются условиями положительного отношения и подобия. Во-вторых, абсолютная взаимообусловленность двух начал языка не устраняет их независимости, их отрыва друг от друга. Интересно, с какой легкостью избавляются от любых грамматических категорий, вообще от любого порядка внутренней смысловой формы, носители языка в условиях пиджинизации языка, когда от них требуется обратиться к чистому знаку. Один исследователь креольских языков и языков-пиджинов пишет, что для возникновения языка-пиджина достаточно одного-двух часов случайного спонтанного общения между носителями различных языков. Причем, насилие над исконной языковой формой языкаосновы может быть просто поразительным. Возникает явление так называемой редукции языка: отбрасываются за ненадобностью многие грамматические категории (например, времени, числа), утрачивается всякое словоизменение, форма слова более не отражает его внутреннего смыслового движения. В языке остаются одни знаки-обозначения. Поразительно также то, что и сам носитель пиджинизируемого языка с легкостью соглашается с подобной редукцией своего языка. С другой стороны, известно, с каким трудом иногда язык адаптирует иноязычные заимствования-варваризмы, которые по фонетическим или морфологическим причинам не могут выражать существующий в языке порядок смысловой формализации значения, самой своей внешней формой игнорируя, не принимая ту или иную категорию (рода, числа, аспекта, времени и т. д.). Необходимость упрощения (в первом случае) или, наоборот, невозможность упрощения (во втором случае) некоторого порядка именования лежит в основе каждого из явлений. Грамматическая формализация в своем кульминационном пункте завершается определенным порядком именования. В свою очередь, имя (т. е. абсолютная неповторимость, уникальность каждого представленного в слове речевого обозначения) может считаться началом, отправным пунктом образа. Весьма ценной в этой связи представляется следующая мысль Н. Д. Арутюновой: “Из двух возможных синтаксических партнеров – имени предмета (Курсив мой. – Н. И.) и обозначения содержательной категории – “образ” отдает предпочтение первому.”90 Следуя за мыслью Н. Д. Арутюновой, мы можем выстроить следующий ряд семиотических концептов: знак (языковое обозначение) – имя (знак, конкретизированный по смыслу в условиях речевого употребления) – образ (имя, представленное синтетически во всей целостности его смыслового оформления). От образа же мы движемся далее к символу, который требует нового объяснения – в каком-то дальнейшем способе смыслового становления знака. Но здесь важно видеть не только движение от знака к символу (т. е. то, как знак в смысловом развитии дорастает до положения символа), но и движение от символа к знаку (т. е. то, как символ вырабатывает в себе некоторые черты смысловой формализации, нормативности). Перевод также со своей стороны открывает нам парадоксы внутренней формы языка. Первое, что бросается в глаза в переводе, – это обычная семантическая бесполезность перевода грамматики. Считается, что переводчик переводит мысль. Грамматика служит смысловому оформлению мысли. Но переводить грамматику, грамматическую форму – занятие совершенно бессмысленное. Вообще, переводить можно только некоторый смысловой опыт в его актуальной значимости. Внутреннее внеопытное начало языка (грамматические категории) по своей природе не подлежат формальному воспроизведению при переводе. В этом случае проблема эквивалентности при переводе доводилась бы до абсурда. Лишь в тех случаях, когда грамматическая категория 90 Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 315. используется в качестве опытного смыслового определения (например, в таком качестве особенно часто используются категории времени, вида, числа и т. д.) и в другом языке имеется аналог данной категории, она может становиться предметом перевода. Все сказанное, на наш взгляд, свидетельствует о том, что грамматическая смысловая форма (которая является не чем иным, как постоянно присутствующим в языке порядком абстрактного внеопытного осмысления представленного в слове содержания) отрывается от образных свойств значения. В этом можно видеть принципиальную направленность ее развития и необходимость ее присутствия в языке. Формализованному языковому порядку осмысления “враждебна” какая-либо образность. Но в этом нет ничего фатального. Наоборот, устойчивая смысловая форма языка освобождает образ, отрицательно как бы показывая внутреннюю границу образа, по-своему управляя внешним случайным опытом осмысления и видоизменяясь под его воздействием. Образ оживает на фоне незыблемой устойчивости формализованного языкового смысла91. Таким образом, во внутренней форме каждая ее сторона служит формальному высвобождению и самостоятельности другой. Вместе они образуют смысловую полноту внутренней формы в слове и в языке. Структурное начало языка, представленное некоторым порядком формального категориального осмысления значения, служит высвобождению образа. В свою очередь, образ в опыте феноменологического коммуникативно-познавательного осмысления значения подчеркивает противоположный, искусственный момент внутренней формы. 2.4. Различие принципов контекстного определения знака и символа Применительно к произведениям искусства, особенно эпическим, В. Гумбольдт писал, что в них “внутренняя форма (т. е. их образный аспект. – Н. И.) выступает с тем большей чистотой, чем проще форма внешняя” (Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. С. 255). Думается, что в какой-то мере это положение может помочь при интерпретации внутренней реальности языка – того, что составляет связь его формализованного и смыслового образного аспектов. 91 Различие принципов системного определения знака и символа требует строгого различения контекстов, в которые мы помещаем каждый из них, когда перед нами стоит сложная и разноплановая задача понимания слова. Помещение слова в контекст означает позиционное, функционально обусловленное размещение его в некоторой синтагматической линейной структуре, иначе говоря, в линейной последовательности или цепи. Прежде чем показать абсолютную разницу контекстов, в каждом из которых всецело заключено слово, определим, в чем мы видим вообще различие системы и контекста. Контекстное отношение – это в каком-то смысле оборотная сторона системного. Система виртуальна. Контекст реален. Поэтому помещение слова в тот или иной контекст можно рассматривать как его помещение в план реального временного отношения. При этом в слове обнаруживаются и активизируются заложенные в нем смысловые ресурсы. Контекст выразителен. Система принципиально невыразительна. Выразительность вообще – коррелят временного отношения, временной зависимости92. В выразительности в снятом виде присутствует необходимость смыслового становления, и слово в контексте выражает такое становление. Выразительность – функция временного, или линейного контекстного становления. Система как таковая предстает в абстракции от реального временного становления. Система атемпоральна. В ней как таковой нет и не может быть отношения к иному, другому. Последнее может быть представлено лишь в бытии. А бытие (отрицательно) – это уже контекст, или отношение к контексту и т. д. Анализируя музыку как явление искусства, А. Ф. Лосев называет ее подлинно выразительным искусством (Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 285). Выражение же (в частности в музыке) понимается как воплощение образа в форме и, следовательно, как перевод образа в план реального временного конструирования: “...музыка живет длительностью, напряжением во времени, она – искусство времени” (Там же. С. 276). Сложный смысл, эстетический образ нельзя выразить сразу, одним звуком. При воплощении в форме он требует развития во времени, некоторого последовательного выразительного размещения, оставаясь при этом единым целым, самим собой – тем, чем был изначально. 92 Не будем увлекаться рассмотрением “заколдованного круга” отношений системы и контекста, тем более, что в целом ряде научных концепций (главным образом ориентированных на логику) не принято проводить различения между ними. Контекст системен, является как бы продолжением системы, а система рассматривается эмпирически – в контексте или как некоторая совокупность контекстов93. Наша задача скромнее: увидеть, как системное отношение в слове-знаке и слове-символе преобразуется в качественно иной принцип контекстного отношения. Для знака, приоритетом которого в его формальном структурно-языковом качестве было тождество системе, на первый план выходит задача смыслового отличия от контекста. Для символа, у которого в системе на первом плане стоял аспект значимости, смысловой отличительности, существенным становится его тождество контексту. Символ в своей смысловой уникальности, феноменологичности всегда понимается как некоторое смысловое продолжение контекста. Знак, напротив, выражает некоторое смысловое ограничение контекста и своей смысловой определенностью как бы отделяет себя от него. Разумеется, здесь нужно понимать, что у каждого из них свой контекст: у знака – это “ближайший” контекст, его непосредственное логическое окружение; у символа – это бесконечно дальний, общий контекст. Таким образом, в слове оказываются соединенными некоторый абсолютный принцип смысловой континуальности (в аспекте символа) и смысловой дискретности (в аспекте знака). С одной стороны, представлена некоторая положительная задача смысла (задача содержательного развития, смыслового Система действительно получает определение лишь в контексте. Но при этом в системе все-таки существенно важен элемент ее внеконтекстовости, внебытийности, ее самости в себе: иначе ее позиция как системы оказывается размытой. Да и категория контекста в данном случае теряет свое значение. Это сложнейшая проблема, которая заслуживает большого специального исследования. Для нас достаточно того, что мы различаем одно и другое. К тому, как было сказано, референция контекста невозможна без системы, а система невыразительна без контекста. 93 продолжения). С другой стороны – некоторая отрицательная задача смысла (задача ограничения содержания, его смыслового определения). Причем ту и другую задачу может решать один и тот же смысл (хотя смысловая задача и в первом, и во втором аспекте, как правило, является комплексной; реальный смысл всегда многоаспектен, синкретичен). В частности, это может быть и грамматический категориальный смысл, который, являясь функциональной категориальной специализацией значения в условиях синтаксического контекста (категории падежного отношения, рода, числа, глагольного вида, времени и др.), одновременно будет раскрывать образные свойства, смысловую феноменологию все того же значения в конкретном опыте его употребления. Следовательно, знаковость слова создается не только определенным принципом системы, но и определенным принципом контекста. Символизм слова также всецело системен и контекстуален. Различие контекстов коррелятивно различию систем. Если поставить в центр всех связей слово, то можно сказать, что оно само “создает” себе различные контексты, которые образуются благодаря различию системных смысловых качеств, представленных в слове в аспекте его знаковых и в аспекте его символических смысловых определений. В контексте представлен опыт системы. Системе – знаковой или смысловой, символической, – “нужен” опыт, контекст. Разве можно представить себе хоть что-либо в системе, что не предполагает для себя никакого опытного воплощения и не имеет отношения к опыту системы? Сказать такое было бы равносильно признанию, что нечто существует, но при этом оно не существует, что явно абсурдно. Мы уже говорили, что там, где нет бытия, не может быть выделено и явление, и сущность при таких условиях также теряет всякий смысл (экзистенциальную релевантность). Контекстное отношение в снятом виде выражает структурацию системы. Но оно же, как факт и представитель системы, является и отрицанием системы в тотальности ее определений, поскольку реализует лишь какую-то одну узкую часть системы, отрицая тем самым возможность иных реализаций. Бытие – опытная сторона сущности. В нем нам является вся сущность. Но это же бытие является конечным отрицанием сущности в тотальности ее свойств. Иначе говоря, в бытии нам дана не вся сущность – при том, что является она нам вся целиком. Избирательность бытия не противоречит тотальности явления: является вся сущность. Отсюда следует еще одно важное свойство контекста по отношению к системе. В контексте открываются ее феноменологические свойства. И в этом – самое разительное (и парадоксальное вследствие материального единства) различие контекстов, в которых присутствует слово как знак и как символ. Предельным контекстом, в котором может быть задано и определяется слово как знак, является предложение. Символические свойства слова раскрываются в культурном контексте. Предложение – это простейший, элементарный контекст, в котором может быть представлено слово. Форма и смысловой состав этого контекста жестко определены самой системой таким образом, что предложение считается единицей языка. Мы считаем, что предложение является высшей функциональной единицей системы. Грамматика системы призвана выражать отношение высшей материальной единицы к высшей функциональной единице системы и отсюда, трактуется как некоторая совокупность принципов функционального смыслового определения высшей материальной единицы системы в составе высшей функциональной. Грамматическая парадигма функциональна – в том отношении, что она в снятом виде отражает синтагматику системы. Представленная в слове грамматическая парадигма отражает всю совокупность функциональных контекстов, в которых может быть представлено слово как знак. Контекстное отношение в предложении является дискретным: слово отличает себя от контекста, отделяет себя от других слов предложения. В составе предложения слово приобретает феноменологические свойства. Эти свойства первичные касаются особенностей референции слова, его свойств, как средства внешнего обозначения. Мы называем данные феноменологические свойства первичными, потому что они дают слову способность именования. Именование – первый шаг на пути развития феноменологических свойств слова. Слово становится именем в составе предложения. Предложение, воплощенное в слове, решает задачу именования. Но предложение, как таковое, в отличие от слова не способно пойти дальше: оно исключительно рационально, оно не может стать символом. Предложение запечатлевает образ. Но заслуга быть образом, представлять образ принадлежит слову. В некотором смысле имя – вершина предложения94. В этом можно видеть высшее предназначение взаимной связи одного и другого. В этой взаимосвязи обнаруживаются поистине бесконечные свойства языка как знаковой системы: соединенные вместе слово и предложение открывают безграничные возможности эмпирического языкового именования. Но язык не может состоять из имен. В имени мы видим функцию и в то же время материальный опыт системы. Опыт именования должен одновременно сниматься и сохраняться в системе. В аспекте парадигматических свойств, которыми обладает слово в системе, в нем снимается смысловая нагрузка именования. В аспекте образных смысловых качеств, наоборот, мы видим постоянное накопление контекстного смыслового опыта слова. Слово снимает эмпирическую нагрузку контекстного именования, освобождает “оперативную память” языка, само при этом являясь Глубокое исследование образа показывает, что образ синкретичен. “В образе три составляющие (значение, форма, связь) создают нерасчлененное единство” (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 314). Данное положение, на наш взгляд, доказывает, что образ специально может быть представлен словом, но не предложением. Предложение расчленяет содержание образа, “морфологизирует” то, что должно быть единым. Предложение – “путь” к образу, предпосылка образа, но не образ. Чтобы увидеть и понять образ, мы должны как раз отвлечься от предложения, выйти в культурный контекст. 94 непревзойденным материальным представителем и носителем “постоянной памяти”. Предложение – это всегда временный, окказиональный контекст для слова, который “стирается” из системной памяти языка, оставляя в нем лишь чистый искусственный внеопытный знак и системную парадигму его грамматического осмысления. Этим обеспечивается внутреннее постоянство, устойчивость, принципиально конечный характер языковой системы и в то же время – неисчислимые разнообразие и подвижность ее контекстного опыта. В отличие от предложения (“оперативного” контекста) культурный контекст – постоянный, он содержит в себе ассоциацию всего опыта употребления слова. Это благоприобретенный контекст и, следовательно, он (при своем принципиальном постоянстве) также подвижен, изменчив, неоднозначен. Он всегда социален и психологичен по своей значимости. Любая пресуппозиция или коннотация в слове мыслится как общепонятная, но в то же время конкретный человек может не знать, не понимать или просто не помнить те или иные аспекты культурного опыта слова. Пользуясь терминологией Ф. де Соссюра, можно сказать, что культурный контекст – это весь langage отдельного слова. Далее, культурный контекст – это неактуальный контекст. Его речевая актуальность релевантна лишь в моменте его отрицания: как таковой он не нужен. Данный контекст всплывает как целое ассоциативно и вместе с тем отрицается в акте употребления слова. К сказанному нужно добавить, что это открытый, развивающийся контекст. В нем значение слова, внутренне структурированное некоторым порядком смыслового наполнения или развития, раскрывается вовне как образ. В образе релевантно тождество контексту. Отсюда, понятие контекста тут как бы нивелируется, сливается с понятием смыслового опыта слова. Как можно вообще представить образ вне контекста, в котором он единственно возникает и обнаруживает свои свойства? Вообще, образ, рассмотренный отрицательно, есть функция контекста95. Богатство контекста и есть богатство смыслового опыта слова. Граница между образом и контекстом теряет логический смысл. Возникает эффект непосредственности образа, эффект смыслового слияния: “алогическое становление логического” или “логическое становление алогического”96. Мы бы назвали это иррациональным становлением рационального или рациональным становлением иррационального. Представленный в своей смысловой конкретике этот контекст мифичен, т. е. как таковой он есть миф, исторический предрассудок (впрочем, понимаемый в исторической синхронии как безусловная истина в последней инстанции97). Образ, в своем отношении к мифу, Причем необходимо заметить: отрицательная сторона в образе важна не меньше, и даже, может быть, больше, чем положительная. “Сущее и не-сущее взаимоопределены в образе” (Лосев А. Ф. Философия Имени. М.: МГУ, 1990. С. 62). Эта взаимоопределенность сущего и иного – главное в образе. 96 Данная формула принадлежит А. Ф. Лосеву, который, анализируя природу всякого выражения и выразительности, выстраивает триаду по принципу “отрицание отрицания”: единое (тезис) отрицается некоторым принципом логической организации, или структурой (антитезис); структура в свою очередь, когда встает вопрос о ее соотнесении с внешним иным и о проявлении ее функциональных свойств, вновь соединяется с единым (синтез), подчиняется единому в методе и здесь переживает новое отрицание в некотором алогическом становлении, в бесконечной целостной модификации. Любое нечто, по Лосеву, представленное как выражение, переживает двойственное становление: внутреннее структурное и внешнее целостное (соотнесенное с иным). Каждый из аспектов – оборотная сторона противоположного: становление в логосе и становление в методе обусловливают и подготавливают друг друга. Эту двойственность важно учитывать при анализе таких явлений, как образ или художественная форма. Именно здесь мы встречаем “...логос эйдоса (образа – Н. И.), данный как алогическое становление” (Лосев А. Ф. Философия имени. С. 135), или “...алогическое становление логически раздельного единства.” (Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Форма. Стиль. Выражение. С. 12). Поэтому действительно полное рассмотрение выразительности должно приводить нас к пониманию того, что “выражение есть тождество логического и алогического. Выражение, или форма, есть... данность логического средствами алогического. В выражении нет ничего, кроме смысла, но этот смысл дан алогически... Отсюда – символическая природа всякого выражения” (Лосев А. Ф. Дилектика художественной формы... С. 21). 97 Если посмотреть на миф не высокомерными глазами потомков, а глазами самого мифа, то он есть “не выдумка, но наиболее яркая и самая подлинная действительность.” (Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. М.: Полит. лит-ра, 1991. С. 24). В этом своем качестве миф есть “необходимая категория сознания и бытия вообще” (Там же. С. 25). Мы с 95 предрассудку, исторической смысловой традиции98 обнаруживает интеллигентно-выразительное99 движение, развитие, имея в мифе точку опоры и постоянства. Это есть интеллигентно-выразительное отношение к культуре смысла, которое в филологической традиции получило название “стиль”. Здесь важно видеть элемент социальной оценки: отношение говорящего к культуре смысла оценивается и в целом воспринимается окружающими как его стиль. Далее, в культурном контексте мы обнаруживаем качественно иную темпоральность, чем та, которую можно было представлять себе в примитивно-линейной устроенности предложения/высказывания. Мы бы назвали ее темпоральностью постоянства, или темпоральным постоянством100: абсолютный легкостью называем мифом представления о действительности у древних, считая истиной в конечной инстанции самих себя. Может быть, когда-нибудь ктото посмотрит как на миф и на наши представления о действительности?. В мифе “классификация встроена в язык, что обычно для всех языков мира... различные народы мира классифицируют реалии так, что это поражает своей неожиданностью европейцев и ставит в тупик западных лингвистов и антропологов” (Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов//Новое в зарубежной лингвистике XXII. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. С. 12). В мифе не различаются объективная и субъективная сущности, внешняя и внутренняя формы выражения. 98 Попытку вскрыть логическими средствами наиболее постоянные, общие смысловые ориентиры русского языка предпринимает А. Вежбицка, выделяя в качестве смысловых констант русского языка “три уникальные понятия русской культуры: душа, судьба, тоска” (Вежбицка А. Русский язык // Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1997. С. 33). Можно усомниться в эффективности логического анализа данных “культурных тем” русского языка точки зрения отражения в них сути русской культуры. Но здесь важно именно то, что Вежбицка анализирует реальный культурный смысловой опыт языка, в котором представлено его определенное смысловое постоянство. Язык не находится в стороне от культуры, культура развивается в самом языке. 99 “Интеллигентное выражение”, “интеллигентность смыслового развития” – это термины русской философии для обозначения в высшей степени тонкого и консервативного отношения к культуре смысла, к социальной значимости выражения. 100 В гегелевской триаде содержались три момента: момент единства, момент тождества и момент различия некоторых абсолютных противоположностей, категорий (форма – содержание, сущность – явление, необходимость – случайность и др.). Квинтэссенция гегелевского диалектического метода выражалась в следующей формуле: тождество абсолютно различающихся смысловой покой, представленный исторически, отрицается в моменте данного смыслового движения. Причем последнее в принципе не может быть понято без первого, а первое (как мы уже указывали) абсолютно нерелевантно и бесполезно без второго. Смысловая конечность, взятая как часть и продолжение смысловой бесконечности, и есть сущностное начало образа – сторона культурного контекста в содержании слова. Для лингвистов важно понимать еще одно качество культурного контекста, который есть контекст непосредственно слова, а не предложения. И в этом заключается еще один парадокс удивительной (столь поразившей в свое время Ф. де Соссюра) двойственности языка как научного объекта в единстве его формально-знаковых и символических свойств. Культурный контекст открывается непосредственно в слове и как таковой независим от контекста предложения или любого другого контекста, имеющего логическую природу, служащего для направленного, интенционального осмысления слова. Культура языка есть культура слова (читатель, наверное, согласится с тем, что само сочетание моментов или различие абсолютно тождественных моментов, которые в таком своем сочетании и благодаря ему составляли некоторое абсолютное единство. С помощью данной формулы можно объяснить логику, структурирование вещи, но не ее целостное движение. А. Ф. Лосев, развивая диалектику, дополняет гегелевскую формулу еще двумя моментами: покоя и движения. Невозможно понять движение, не имплицируя противостоящего ему покоя, неизменности. Лосевская формула звучит: единичность подвижного покоя самотождественного различия (Лосев А. Ф. Философия имени. С. 160) или единичность саморазличающегося тождества покоящегося движения и т. д. (в принципе любой из моментов может быть поставлен во главу диалектической формулы; Лосев иллюстрирует это в ряде других своих работ). Лосевская формула более совершенна в том отношении, что она приспособлена для анализа феноменов культуры, словесного выражения, деятельности, стиля. “В настоящее время триадическое изложение кажется мне наивным,” – с полным основанием утверждает он (Лосев А. Ф. История эстетических учений // Форма. Стиль. Выражение. С. 332). В термине “темпоральное постоянство”, прежде всего, хотелось бы показать связь смыслового развития со смысловой неизменностью в языке, в языковой деятельности. Любой смысл может быть понят и оценен лишь при его соотнесении со всей культурой смысла, со всем опытом смыслового движения, представленным в слове (с langage, как сказал бы Соссюр). “культура предложения” или “культура предикации” звучит неестественно)101. Слово, помимо того, что его функциональносмысловые качества всецело определены окружающим контекстом (в рамках предложения, высказывания, группы высказываний), вопринимается нами совершенно внеконтекстно – в своем постоянном культурно-смысловом статусе – как часть исторического культурно-смыслового опыта языка. Слово – не “этикетка” для внешнего обозначения (хотя, как знак, оно всецело является именно таковым). Слово – факт культуры народа, и ощущение его историчности, интеллигентной культурно-смысловой определимости дано нам непосредственно. На это качество слова, подчас мастерски используемое писателями, публицистами, людьми, обладающими чувством стиля, обращал в свое время внимание известный португальский лингвостилист Родригеш Лапа: “Писатели... склонны видеть слово, как оно есть, вне синтаксических оков, которые подчиняют его какому-то одному смыслу и ограничивают свободу смыслового восприятия”102. Полная и подлинная экспрессия слова оживает в нашем представлении только тогда, когда мы “как бы произносим или воспринимаем слово изолированно”103. Как ни парадоксально Хотя существует и другая позиция. Некоторые ученые предлагают “трактовку лингвокультурного содержания языка увязывать с лингвокультурным содержанием предложения” (Шаклеин В. М. Лингво-культурное содержание слова и предложения // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. Братислава. 1999 г. М.: ИПО Лев Толстой, 1999. С. 514). Для них “...предложение является не только формой языка, но и формой лингвокультурной, этнически обусловленной деятельности человека” (Там же. С. 512). “Говоря же о лингвокультурном содержании слова, следует помнить об относительной правильности данного выражения” (Там же. С. 514). Очевидно, что эти лингвисты пытаются решить проблему “лингвокультурного содержания языка” через его объективное и прагматическое содержание. (Там же. С. 504, 507–508), минуя символические свойства языка и языкового знака. В конце концов, какая единица языка является носителем и хранителем смыслового опыта языка, имеет “кумулятивную” функцию? Сам термин “лингвокультурное содержание языка” также представляется неопределенным. Каково его отношение к категории “культура языка”, специализирует он ее или расширяет? 102 Lapa R. Estilística da Língua Portuguesa. Coimbra Editora Ltd., 1977. Р. 16. 103 Ibid. P. 16. 101 это звучит, но культурный контекст совершенно внеконтекстуален. Или, может быть, здесь уместно будет говорить о культуре в целом как тексте или контексте, в пределах которого любой знак, высказывание или текст будут восприниматься как его частица, его реальное историческое продолжение? По крайней мере, в любом знаке, как кажется, дан модус апелляции к культуре как тексту, или культурному контексту104. Проблема контекста – это проблема вхождения в контекст. Любое употребление знака или сложной знаковой структуры можно рассматривать с точки зрения его/ее вхождения в контекст. Вхождение в контекст (какую бы форму мы ни брали) имеет два аспекта: а) в одном случае сам элемент (слово, предложение, высказывание) мыслится отрицательно, а контекст – положительно; контекст содержательно определяется элементом и поэтому здесь релевантно тождество элемента контексту; б) в другом случае сам элемент мыслится положительно, а контекст – отрицательно; элемент содержательно определен контекстом; здесь релевантно отличие элемента от контекста. В первом случае речь идет об общетекстовой интеграции, о целостном отношении к контексту. Во втором случае речь идет о логическом отношении элемента к ближайшему (логическому) контексту. Различие в контекстном определении слова и предложения заключается в том, что ближайший, минимальный (т. е. отрицательный, логический) контекст у слова уже, чем у предложения: у слова – это структура предложения и его грамматическое отношение к другим словам в предложении; у предложения – это логическое отношение к другим предложениям в рамках сверхфразового единства. Но максимальный контекст у слова шире, чем у предложения. У слова – это культура языка, которой определен исторический культурносмысловой опыт слова. У предложения – это данный текст, Идея рассмотрения культуры как текста была впервые предложена и интенсивно разрабатывалась Ю. М. Лотманом (Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Избранные статьи. Т. 1. – Таллинн: Александра, 1992. С. 129–132, а также ряд других статей в том же томе). 104 определенный конкретными коммуникативными условиями его порождения. Собственно, в этом – еще один парадокс языка. Меньший в структурно-уровневом отношении элемент имеет более широкое контекстное определение. Его выразительная реальность (когда мы рассматриваем элемент как деятельность, как реальный разворачивающийся во времени процесс), в которой мы понимаем его, – это вся история смысла, вся представленная в слове смысловая культура языка. У предложения реальность – это условия коммуникации, оно является реализацией данного коммуникативно-познавательного намерения – и не более того. Мы говорим предложениями/высказываниями, но знаем и помним язык в словах. 2.5. Отношение формы и содержания в знаке и символе в аспекте системного и контекстного критериев О различиях знака и символа, можно говорить бесконечно. Мы здесь выделили лишь те, которые представляются наиболее существенными: а) статус знака и символа как двух материальных принципов в языке; б) содержательные различия между первым и вторым; в) отношение к системе (принцип системного определения знака и символа); г) отношение к контексту (принцип контекстного определения знака и символа). Представляется существенным провести еще одно важное различение, без которого, по нашему мнению, общая картина материального онтологического “раскола”, снизу доверху расчленившего язык, не может быть завершена. Это различение вновь касается собственных свойств знака и символа. Базовыми свойствами знака, по Соссюру, являются его произвольность и немотиворованность. Символ, напротив, принципиально естествен и как таковой мотивирован105. Впрочем, на наш взгляд, нельзя столь жестко отделять знак от символа, говоря о немотивированности первого и мотивированности второго. Здесь важно видеть одну особенность. 105 См.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики... С. 101. Знак не мотивирован, прежде всего, со стороны системы. В рамках внутрисистемных отношений не имеет никакого значения то, какое количество знаков используется в языке, равно как и что ими обозначается. С точки зрения контекста, наоборот, можно говорить об известной мотивированности знака – это функциональная мотивированность слова в контексте предложения: категориальнограмматическая обусловленность знака говорит о необходимости появления его в той или иной позиции в предложении, т. е. о его функциональной дистрибуции. Система частеречного распределения в языке говорит о принципиальной синтагматической мотивированности, о функциональной различенности знаков. В символе выявляется совершенно иное отношение. Символ мотивирован прежде всего со стороны системы, он имеет в ней отрицательную мотивацию. Необходимость знакового обозначения по смыслу (т. е. в аспекте символических свойств) мотивирована отсутствием или невозможностью соответствующего смыслового развития других языковых средств обозначения. Каждое обозначение в языке в плане смысловых и выразительных свойств, уникально. В своем развитии слово, как символ, отделяет себя от системы в аспекте своих омонимических, паронимических, антонимических и синонимических свойств (т. е. по всем параметрам, определяющим его внутреннюю смысловую форму), подчеркивая свою уникальность как материальной формы языка и потенциальную множественность других таких же форм (других знаков – также символичных в объеме своих смысловых выразительных качеств). Вопрос о контекстной мотивированности символа – один из сложнейших и наиболее запутанных в литературной эстетике, стилистике, семиотике. Проблема здесь заключается в том, что символ абсолютно контекстуален: производен от контекста и связан им. Но высшее его значение состоит в том, что он всегда открывает в себе нечто совершенно новое, неконтекстное или внеконтекстное: символ всегда разрывает смысловую обусловленность контекстом и порождает некоторый новый, неожиданный смысл, который, непосредственно не вытекая из смысловых условий контекста, представляется как бы не нужным, бесполезным с позиций его ретроспективного контекстного понимания, но который при этом возвышается над контекстом, обретая над ним абсолютную власть, венчая все его смысловое становление. Смысловое тождество символа и контекста загадочно в том отношении, что символ – порождение контекста (без контекста категория символа просто пропадает), но при этом не контекст эксплицирует символ, а наоборот, символ – контекст. Символ всегда есть смысловое продолжение контекста, и всегда – выход за его рамки. Смысловое сравнение символа с контекстом невозможно (иначе речь пойдет не о символе, а о семиотическом концепте какого-то другого уровня: о метафоре, типе, копии, олицетворении и т. д.). И в этом – главная, высшая способность символа, которую мы называем символическим переносом значения. Символический перенос значения (выход за рамки культурного контекста и его развитие) понятен и очевиден в художественном образе, представленном в сложной изобразительной или выразительной форме. Но его трудно выделить в слове. Между тем, весь литературный художественный символизм проистекает от простого слова. И эта его способность требует специального анализа. Отрицательная мотивированность символа – показатель принципиально выразительной связи в нем внешней формы и содержания. Две стороны символа выразительная и содержательная, абсолютно подчинены друг другу. Впрочем, данное положение следует понимать не буквально, а скорее функционально. Форма во всех аспектах ее внешней представленности несет деятельностную нагрузку относительно стоящего за нею содержания. Содержание как таковое изобразительно, целостно, но в аспекте своего сообразования с формой оно ищет формального определения, чтобы быть представленным во времени как процесс выражения. Внутренняя смысловая временной конечность конечности, воплощается в некоторой внешней внутреннее смысловое определение предстает как выразительное становление, что и составляет сущность знаково-символической выразительности. Само внутреннее определение при этом появляется “по требованию” внешней формы. “Требование” внешней формы императивно106. Не становиться нельзя: внешняя форма требует становления. Поэтому образу нужно внутренне определиться по смыслу – “подготовить” себя к соединению с внешней формой. В отличие от символа знак принципиально невыразителен. У знака как такового нет никаких предпосылок к тому, чтобы быть выразительным. У него иная системная и контекстная направленность. Представленное в знаке отрицание формально и служит позиционному различению слова в контексте предложения. Хотя грамматика достаточно жестко “управляет” внешней формой знака, однако и здесь эта форма всецело обозначает, но не выражает: ее темпоральная природа в знаке игнорируется, язык, в принципе, может пользоваться любой внешней формой. В результате в знаке и возникает эффект произвольности, случайности обозначения. В символе форму нельзя назвать случайной. Символ “переводит” схему смыслового изображения в некоторый порядок последовательного деятельностного 107 воплощения – в высшем понимании последнего как процесса реального исторического осуществления знака: слово становится фактом нашей жизни, фактом культуры. Момент “перевода” К символу в этой связи, может быть, еще более, чем к формальному языковому знаку, применимо известное положение о том, что “на духе с самого начала лежит проклятие быть отягощенным материей” (Маркс К. Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собр. соч. Т. 3. С. 29). 107 Р. Якобсон говорил о подобном отношении применительно к “поэтической функции языка”, называя это “проекцией принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинаторики” (Jakobson R. Linguistics and poetics // Style in Language Sebeok T. A. Cambridge, Massachusetts, 1960. Р. 358). Здесь действительно много общего и родственного. Мы, по сути, берем то же самое явление, но рассматриваем его шире – не с точки зрения выразительной комбинаторики, но как явление некоторой знаковой символизации, тесно связанной с культурой смысла. Интересно замечание Р. Якобсона о том, что “занимаясь поэтической функцией [языка], лингвистика не может ограничиваться областью одной лишь поэзии” (Ibid. P. 356). 106 образного во временное-выразительное и временноговыразительного в образное – существенное начало символа. Поэтому для него момент естественности формы принципиально важен. Для знака, наоборот, существенно важна неестественность формы (ее условность, антиисторичность и т. д.), представление некоего отрыва, отвлечения от какой бы то ни было выразительной естественности. 2.6. Двойственность знакового отношения в языке. От диалектики к телеологии языка Таким образом, последовав за знаковым материализмом Ф. де Соссюра, поставив в центр всего в языке знак и определив сущность языка знаком, мы смогли увидеть (пусть в самых общих чертах), насколько противоречивым, раздвоенным является язык в самой его основе. Самым существенным, проходящим через весь язык, является различение его искусственного формально-знакового и естественно-выразительного символического начал. Исследователю языка приходится иметь дело со сплошными загадками и парадоксами этого базового онтологического различения. Язык постоянно “обманывает” ученого, пряча за знаковостью необъятный символизм, а за символизмом – стройную морфологию его знакового воплощения. На это “коварное” свойство языка, на “раскольнический” характер самого объекта лингвистики, оказывающий огромное влияние на ее научный метод, на развитие ее предмета, обращает внимание В. Г. Гак. Говоря о невозможности однозначной интерпретации языковых фактов, В.Г. Гак выбирает емкий термин “преобразование”108. Один и тот же языковой факт, формально до конца понятый и изученный исследователем, в результате оказывается чем-то еще совершенно не познанным. Причем выбранный исследователем научный метод оказывается малоэффективным или бесполезным при изучении другой стороны языкового факта. Объективное оказывается субъективным, Гак В. Г. Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 9– 10. 108 формально-знаковое семантическое – смысловым, внутреннее – внешним, логическое и рациональное – алогичным и иррациональным и т. д. “Факты языка формируют некоторый континуум – цепь постепенных переходов; крайние звенья этой цепи четко различаются между собой, но они связаны зоной постепенных переходов, где невозможно раз и навсегда провести 109 разграничительные линии” . Из причин, вызывающих плюрализм лингвистических интерпретаций, Гак выделяет в первую очередь неоднозначный характер самого объекта лингвистики, языка: “1) недискретность многих языковых явлений; 2) асимметрию, свойственную языковым знакам; 3) многоаспектность языковых явлений”110. Следствием неоднозначности объекта является “нежесткий, расплывчатый характер понятий, которыми оперирует лингвистика”, теоретический плюрализм, множественность подходов, между которыми не возникает отношения приоритета111. На наш взгляд, смысл двойственности объекта лингвистики, выражающейся в параллельном существовании в языке двух диаметрально противоположных материально-знаковых принципов – так, что высший материальный представитель языка, слово, может быть рассмотрено одновременно и как знак, и как символ, – заключается во взаимном различении и относительном отделении друг от друга сущности языка и смыслового языкового опыта. Данное разделение имеет не только методологическое, но и реальное онтологическое значение. Оно выражает заключенное в объекте его главное объективное диалектическое противоречие. Органон и канон представлены в материи языка одновременно. Труднее всего поверить в искусственность знакового обозначения в языке, искусственность языкового знака. Этот фактор до сих пор еще не оценен наукой вполне. Мы исходим из того, что знаковая искусственность есть объективная необходимость языка, и именно она составляет его сущность. Сознание человека должно Там же. С. 16. Там же. С. 16. 111 Там же. С. 27. 109 110 породить нечто совершенно внеопытное, чтобы оно служило сущностью языкового опыта. Данное внеопытное лишь условно является таковым. Фактически внеопытное имеет исключительно опытное происхождение и его выведение за рамки выразительного опыта – акт совершенно произвольный и условный. Нет ничего естественного в том, что сознание выделяет в языке как устойчивые способы внешнего обозначения существительные, глаголы, наречия и пр. В этом нет никакой естественной необходимости. Но именно эта условность, произвольность, искусственность и нужна сознанию. Именно она знаменует начало языка. Искусственное и естественное в языке значимы благодаря друг другу. Формальный знак в языке (исторически вышедший из недр естественного выразительного опыта) – точка отсчета всего дальнейшего культурновыразительного смыслового опыта. Парадокс языка в том и состоит, что постоянный фактор в нем совершенно условен и искусственен, в то время как все естественновыразительное, обусловленное функциональными, контекстными, культурными факторами языка (психологией человека, общественным опытом, коммуникацией), обнаруживает себя как внешнее, смысловое, переменное. В языке обычное отношение сущности и бытия поставлено с ног на голову: условное выполняет роль безусловного, а то, что по всем законам философской онтологии должно считаться абсолютным и безусловным, в реальном опыте языка является производным и вторичным. Этот вопрос требует особой разработки, и мы еще коснемся его в дальнейшем изложении. Важно до конца раскрыть природу взаимодействия символического и формально-знакового в языке. Это взаимодействие является диалектическим в силу несопоставимого характера первого и второго в языке. Однако исходя из того, как это взаимодействие представлял Соссюр и как мы вслед за ним только что пытались представить его, можно заключить, что эти два начала языка соотносятся друг с другом чисто оппозитивно, как две внешние друг другу сущности. Такое понимание не во всем может нас устроить. Онтология нередко констатирует внутреннее противоречие объекта, но не до конца раскрывает его. Она ограничивает ученого в его подходе к объекту рамками диалектики сходств и различий, закрывая при этом от него всю дальнейшую диалектику объекта. Символическое и формально-знаковое начала “нужны” друг другу не только объективно-онтологически, как два совмещенных в слове способа материального существования языка. Такое их соотношение совершенно понятно и уже достаточно раскрыто современной наукой. В языке два его материальных принципа – символический и формально-знаковый – не просто “встречаются” и противостоят друг другу в слове. Они абсолютно без остатка проникают друг в друга в едином смысловом пространстве слова. Чтобы вполне оценить все это, нам понадобится представить не только онтологию, но и телеологию связи двух начал. 3. Телеология знакового отношения в языке: проблема модели и метода Вступая в область телеологии, мы преодолеваем границы научной парадигмы языка, унаследованной от Ф. де Соссюра. Объективно оценивая историческое значение соссюровской парадигмы, мы можем охарактеризовать ее в целом как онтологическую и структурно-знаковую. В основу понимания объекта в этой парадигме положена его сущность, в качестве которой берется структурно-знаковая организация языка. Точка зрения сущности в данном подходе превалирует, представлена как некий абсолют. Это означает, что языковая сущность считается высшим и единственным объяснением языкового факта и представленного в нем языкового опыта. Любая относительность, акциденция, бытие теряют актуальное значение и рассматриваются лишь как проявление сущности. Эмпирический объект в его отношении к теоретическому, по Соссюру, выполняет вторичную, вспомогательную функцию. Вообще, в данном подходе к языку много от естественнонаучного восприятия объекта. В этом – его необходимость, и в этом же можно видеть его недостаточность и своеобразную наивность. Вскрывая внутреннюю логику объекта, постоянно совершенствуя свое отношение к сущности объекта, наука на каком-то уровне развития неоправданно пренебрегает аспектом его бытия, не замечает этого бытия или оказывается неспособной перейти к адекватной его трактовке. Сущность рассматривается как главный и всеобщий смысл бытия, как подлинная и единственная реальность объекта. Абстракция от бытия руководит деятельностью науки. В этом – полнота и истина науки на этапе восхождения от конкретного к абстрактному. Но в этом же и ее несовершенство, если на этапе движения от абстрактного вновь к конкретному наука не изменяет своего метода, не становится на точку зрения бытия, продолжая рассматривать конкретное узко как явление – с позиций “узнавания” в этом явлении уже познанной сущности. Это есть не что иное, как наивное отношение к эмпирическому объекту, т. е. логическое, схематическое, онтологизирующее, – в то время как именно отход от онтологизации должен составлять основу развития науки на этапе перехода от сущности объекта к его бытию. Содержание бытия не открывается автоматически вслед за познанной сущностью. Новой задачей, которую должна решать наука на очередном этапе своего предметного развития, должна быть гуманизация объекта. Субъект как бы “подключает” себя к объекту (или “приобщает” объект к себе). Объект в совокупности всех его качеств должен стать содержанием опыта субъекта. При этом субъект не отбрасывает и не отменяет ни одно из онтологических свойств объекта, открытых им на предыдущем этапе познания. Таким образом, новый этап, который мы условно называем “гуманистический”, должен следовать за онтологическим этапом развития науки. Именно на этом этапе предметного развития науке требуется опираться на понимание телеологии объекта. 3.1. Общие принципы разработки телеологии научного объекта в контексте исторического опыта языкознания Телеологическая трактовка объекта с научной точки зрения может быть эффективной лишь при условии, что исследователь исключает какую-либо мистику из определения бытия объекта. Мистификация объекта предполагает его подчинение каким-то дополнительным внешним силам. Как таковая, мистификация враждебна подлинной телеологии объекта и представляет большую методологическую опасность для науки. С точки зрения логики науки она означает попытку экстенсивного развития науки там, где требуется, прежде всего, интенсивное развитие. Обычно такое экстенсивное развитие выражается либо в дальнейшем космическом определении объекта, либо в метатеоретическом переосмыслении его сущности. Потенциально, конечно, можно представить себе биологическое, химическое, физическое, электрическое и даже экологическое, как и любое другое изучение языка или провести любые метафизические, металогические параллели с его структурой. Однако будет ли такое изучение иметь хоть какое-то отношение к объекту языкознания, сущностью которого является языковой знак? При переходе от сущности к эмпирии мнимая возможность дальнейшей космической экспансии или метатеоретической рационализации объекта способна дезориентировать исследователя, направить его по ложному онтологическому следу. Исследователю нужно уметь вовремя остановиться, остаться в установленных рамках своего объекта, обратиться к внутренним ресурсам развития предмета науки. На деле подобная экспансия приводит либо к реонтологизации объекта (эмпирический путь), т. е. к его “переодеванию” в новые, чуждые его собственной сущности онтологические “одежды”, что ничего, кроме “измены” науки своему объекту, с собою не несет (хотя и в этом можно видеть своего рода развитие и совершенствование науки), либо к деонтологиизации объекта (рационалистический путь), когда исследователь обращается к различным метатеоретическим объяснениям смысла бытия объекта, используя в этих целях категории метаязыка, метасознания, метатеории, метаописания и т. п. И в первом, и во втором случае имеет место своеобразная “борьба” с истинной сущностью объекта. Причем все противоречие данной “борьбы” в том и состоит, что она “ведется” во имя объяснения этой самой сущности – ее истоков, ее объективного значения112. В обоих случаях происходит гипостазирование сущности: либо в иную эмпирическую реальность, либо в иную рационализированную метареальность. Важно понимать философскую методологическую подоплеку такого пути развития науки. Методологическим принципом онтологического этапа предметного развития науки, т. е. этапа восхождения от конкретного к абстрактному, является диалектика тождества и различия. Общей предметной задачей, которую ставит перед собой наука на этом этапе, является выделение сущности объекта – его высшей и подлинной реальности. Эта задача решается путем отличения сущности от бытия (при том, что между ними изначально устанавливается абсолютное тождество) таким образом, чтобы увидеть в бытии явление сущности. Сложность этого этапа состоит в том, что в качестве непосредственно познаваемой реальности науке предстоит как раз такая реальность, в которой еще не отличены друг относительно друга сущность и бытие объекта, и в которой бытие еще не понимается или не вполне понимается как явление сущности. Такое бытие можно понимать как неразличенное бытие113. В подобных условиях наука приступает к решению задачи определения сущности объекта и принципов ее явления, внешнего обнаружения. В истории науки указанное понимание языка как научного объекта можно в целом соотнести с филологическим, до- Проблема и парадокс любого метаописания, как это признается и самими авторами, которые прибегают к этому методу, в том и состоит, что “...сам способ описания уничтожает условия, в которых мыслится предмет”, который необходимо описать (Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. М.: Языки русской культуры, 1999 г. С. 32). Для метаобъекта – метатеории, метасущности, метаязыка – невозможно помыслить никакое происхождение (положительное происхождение). 113 В гегелевской логике это может быть соотнесено с “чистым бытием”, переходящим в “наличное бытие”. В последнем уже присутствует различение, но еще не определена вполне сущность (Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики// Энциклопедия философских наук ... С. 217, 220). 112 гумбольдтовским этапом развития языкознания, когда наука еще не осознавала самой необходимости принципиального различения в изучаемой реальности сущности и явления (категории языка и речи, структуры и функции, содержания и выражения еще не различались). Переходным, видимо, следует считать период от В. фон Гумбольдта до Ф. де Соссюра, когда уже наметилось относительное различение бытия и сущности, явления и сущности в языковой реальности, но оно еще не получило логического завершения. Соссюр, выделив сущность языка, завершил теоретическое восхождение онтологической парадигмы лингвистики, но при этом не определил возможности дальнейшего изучения эмпирической стороны языка – бытия научного объекта лингвистики. Вместе с тем, именно он заложил предпосылки для такого изучения. Как мы уже пытались показать, Соссюр различал категории явления (parole) и бытия (langage) в объекте лингвистики, но при этом не считал, что языкознание должно специально заниматься эмпирической стороной языка (т. е. прямо переходить к изучению бытия научного объекта), жестко отделяя лингвистику внутреннюю от лингвистики внешней, считая, что лишь первая может составлять специальный предмет научного изучения языка. Методологической основой следующей – “гуманистической” – парадигмы науки должна быть не просто диалектика тождества и различия: данная форма диалектики, предложенная Гегелем, специально предназначена для онтологического этапа (аспекта) науки и действительно показывает высокую эффективность при выделении сущности объекта, при ее отличении от бытия и при понимании бытия как явления сущности. В силу этого онтологический этап развития науки может быть также специально определен по методу как логический. На новом этапе ведущее значение в качестве метода развития предмета науки получает диалектика покоя и движения. При этом диалектика тождества и различия, хотя и отодвигается на задний план, но всегда остается в силе, определяя смысловые границы развития теории. “Гуманистический” этап должен быть этапом интенсивного, а не экстенсивного развития теории. Бытие объекта должно трактоваться как феноменологическая смысловая категория в самом широком понимании, включая ее исторический смысл. Бытие объекта в предметном понимании науки должно возвышаться до уровня реального исторического опыта объекта. В бытии сущность должна раскрываться в процессе ее исторического становления, находящегося вне или выше рамок ее чистого проявления. В силу всего этого данный этап может быть определен по методу как телеологический. Диалектика категорий покоя и движения, как реальная перспектива развития гегелевской триадической диалектики, опирающейся на диалектику тождества и различия, была предложена и глубоко обоснована выдающимся русским философом, филологом, лингвистом А. Ф. Лосевым. Развиваться и переживать реальное историческое становление может только то, что всегда и при любых условиях остается одним и тем же, т. е. самим собой. Говорить о каком-то движении можно лишь относительно какого-то покоя или неизменности. В свою очередь покой, неизменность также получает смысл и реальное бытие лишь в становлении, развитии. Сам по себе покой – тоже ничто. Тотальная взаимная относительность одного и другого, их абсолютная тождественность и столь же абсолютная противоположность друг другу, полное взаимное единство и различие – все это необходимо входит в диалектику их отношений. Соотношение онтологического и гуманистического этапов развития науки как двух последовательно сменяющих друг друга парадигм ее отношения к своему объекту можно представить схематически (см.: схема 2). При выделении пяти моментов диалектики объекта еще одна категория, не имеющая существенного влияния в триадической диалектике, специально нацеленной на логику объекта, получает важное научное значение – категория инобытия114. В бытии Категория инобытия, как представляется, была впервые введена в научное употребление Гегелем (Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики // Энциклопедия 114 представлен смысловой опыт объекта, который выражает историческое развитие, становление объекта в контексте внешних условий и влияний. Но в своем бытии объект, как мы ранее пытались показать, уже не вполне принадлежит самому себе: его бытие есть столь же его, сколь и бытие иного. Инобытие – отрицательная сторона бытия. Через инобытие иное входит в бытие объекта. Инобытие непосредственно есть отражение иного в бытии объекта. Иное является такой же причиной бытия объекта, как и его сущность. Бытие важно для объекта не просто как момент его положительного смыслового определения, но как момент перехода в инобытие. Здесь недопустима никакая метафизика и важна одна лишь диалектика. Принципиально возможны две точки зрения в понимании соотношения сущности и иного в бытии объекта: либо бытие объекта объясняется с позиций иного, либо бытие объекта объясняется с позиций его сущности. Это означает, что либо иное, представленное в бытии объекта отрицательно, движется, отражается, воплощается в смысловом опыте объекта, являясь доминирующим фактором (мотивом) бытия, либо сам объект в своей сущности изменяется, развивается, становится другим, обогащаясь новым опытом бытия. Обе точки зрения важны и дополняют друг друга. С одной точки зрения объект растворяется в философских наук. С. 272, 399), однако из-за специально логического назначения гегелевской диалектики не получила достаточного развития. Действительно, на уровне выделения сходств и различий трудно определить научное значение этой категории. В философии А. Ф. Лосева, нацеленной на выявление исторического смысла бытия сущности она становится одной из центральных. В явлении нам просто дана сущность. В бытии сущность конструирует себя исторически – по этапам, моментам, выразительно во времени. Но в самом бытии, как таковом, нет объяснения причин становления объекта, и поэтому тут возможна мистика. Лосев развивает эту тему. Он говорит, что в бытии в снятом виде присутствует инобытие, говорит об “инобытийно-конструируемом предмете”, где сущность может быть представлена “по частям, временно, искаженно” (Лосев А. Ф. Философия Имени... С. 58). В реальном видении предмета важна не только истина, но и неистина, отступление от истины и понимание причин этого отступления – исторических причин. Именно тут центральное положение занимает категория инобытия. ином и бытие объекта служит выражением иного, с другой – иное растворяется в бытии объекта. Схема 2 Общее содержание и научное значение теоретического развития науки при переходе от онтологической к “гуманистической” парадигме, от логики к телеологии научного объекта 1. Общий категориальны й смысл предметного Онтологический этап (аспект) развития предмета науки “Гуманистический” этап (аспект) развития предмета науки Восхождение от конкретного к абстрактному (к сущности объекта) Восхождение от абстрактного к конкретному (историческому бытию объекта) развития СУЩНОСТЬ (теоретический объект) 2. концептуальна я вершина парадигмы 3. Общая теоретическая проблема научной парадигмы 4. Общая теоретическая НЕРАЗЛИЧЕННОЕ РАЗЛИЧЕННОЕ БЫТИЕ (эмпирический объект) БЫТИЕ (эмпирический объект) Явление и сущность в изучаемой реальности не различены – наука стремится к их различению Явление и сущность различены, но в явлении еще не представлено развитие сущности: явление не рассматривается как историческое бытие сущности – наука стремится к их различению Общая задача науки – Общая задача науки – теоретическая: увидеть в бытии явление сущности; вскрыть эмпирическая: увидеть в явлении феномен исторического бытия задача парадигмы 5. Диалектика научного метода, составляющег о основу парадигмы 6. Место парадигмы в историческом опыте языкознания внутреннюю системную логику объекта, выделить и определить объекта, осмыслить бытие как исторический опыт объекта, сущность как подлинную реальность объекта в ее отличии от явления (узкая трактовка бытия) определить исторический смысл становления объекта (широкая трактовка бытия) Диалектика тождества и различия (триадическая диалектика Гегеля: единство – тождество – различие) Диалектика покоя и движения (пентадическая диалектика Лосева: единство – тождество – различие – покой – движение) Филологический (догумбольдтиански й) этап развития языкознания От Гумбольдта к Соссюру = выделение сущности языка Постонтологический этап развития языкознания (изучение языка в контексте внешних условий, в опыте исторического становления) Первая точка зрения находится в основе эмпирического, экстенсивного исследования телеологии объекта. Здесь объект в опыте его смыслового становления (бытия) и перехода в инобытие является как бы “представителем” не своей сущности, а сущности иного. Обычно под этим иным понимается сущность высшего порядка. Высшее контекстное условие, в котором может быть задан объект, обретает самостоятельную силу: оно переживает становление, оно есть подлинная сущность и теоретическая реальность объекта. Собственная сущность объекта снимается в сущности иного, как бы “растворяется” в ней. Традиционно это получает онтологическое обоснование в терминах так называемого “перехода от сущности низшего порядка к сущности высшего порядка”115. Что касается языка, то мы при эмпирическом его рассмотрении выделяем три комплекса внешних условий его бытия: а) социальная сфера, общественное сознание; б) коммуникация; в) психология индивида. В ХХ в. после Соссюра пост-онтологическое развитие языкознания шло по всем трем указанным направлениям. Практически все аспекты языковой природы получили освещение в ходе этого развития с опорой на самый разнообразный языковой материал. Здесь можно указать на большой опыт функционального изучения языка, всесторонний анализ смысловой стороны языка в самых различных условиях и контекстах (включая культурноисторический), разработку вопросов общественных функций и состояний языка, категорий национального литературного языка, структурной и стилистической языковых норм в лингвистической онтологии и социолингвистике, изучение коммуникативного и Методология материалистической, чисто объективной, космической логики развития познания была подробно разработана и обоснована В. И. Лениным, получив в его трудах следующее концентрированное выражение: “Мысль человека бесконечно углубляется от явления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и т. д. без конца” (Ленин В. И. Философские тетради. ПСС. Т. 29. С. 227). В этом высказывании, которое в течении десятилетий служило философским руководством, определявшим логику научного познания, много наивной веры в теорию объекта, которая никогда не переходит в теорию опыта объекта. 115 прагматического аспектов языка в коммуникативно ориентированной лингвистике и прагмалингвистике, психологии языка в психолингвистике, стилистического языкового выражения в лингвостилистике и т. д. Все разновидности внешней лингвистики трудно перечислить. Смысловое становление, выразительный опыт языка, согласно логике данного подхода, воплощает движение иной сущности – сущности высшего порядка. Весь язык служит явлением иной сущности. Он предстает как психологическое, коммуникативное, общественное явление, сам являясь формой бытия сущностей высшего порядка, воплощая в себе их движение. Эмпирическая открытость, относительная теоретическая незавершенность является одновременно и преимуществом, и недостатком данного подхода. С одной стороны, трудно подчинить язык какой-то одной сущности, однако с другой стороны, различие эмпирических позиций позволяет открывать самые разнообразные точки зрения на один и тот же объект, изучать язык в неограниченном числе контекстов на том или ином высшем макросистемном уровне. Вторая точка зрения способна составить основу интенсивного внутреннего исследования телеологии научного объекта. Задача науки здесь – увидеть и теоретически раскрыть инобытие как собственное смысловое движение сущности объекта, как ее последовательное внутреннее смысловое становление. Инобытие есть результат, смысловая вершина движения сущности. Объект как бы сам последовательно раскрывает в себе свою иную ипостась: иное себя самого. Здесь мы утрачиваем разнообразие эмпирических позиций в рассмотрении научного объекта, но зато приобретаем понимание принципа и цели его внутреннего смыслового становления – в отвлечении от внешних условий. Именно возможность понимания цели смыслового становления объекта позволяет считать данный подход телеологическим. Телеология в данном подходе означает не подчинение объекта какой-то внешней цели или контекстной смысловой задаче, а указывает на наличие внутреннего ресурса, “пространства”, метода смыслового движения, заданного в самом объекте, – некоторого алгоритма смыслового развертывания сущности объекта, реализация которого обязательна при любых внешних условиях. Понять движение как самодвижение сущности объекта, выделить универсальные черты этого самодвижения – в этом можно видеть высшую научную цель данного подхода. В опыте языкознания интенсивный телеологический подход к языку не получил достаточного развития ни в аспекте теоретического обоснования, ни в аспекте представленности в анализе практического языкового материала. Философские предпосылки этого подхода всесторонне разрабатывались А. Ф. Лосевым. Его применение требует столкновения категорий знака и символа, всестороннего описания диалектики их связи, определения сущности первого и второго, изучения их роли в языке и глубины взаимопроникновения. 3.2. Категория метода в научном анализе телеологии знакового отношения Телеология важна для науки, прежде всего, как метод. Телеология знаменует собой начало сознательного отношения науки к своему методу. Если на онтологическом этапе, на этапе поиска сущности, наука стремится выработать сознательное отношение к объекту, как таковому (т. е. перейти от интуитивного и нерефлексированного к сознательному и рефлексированному отношению116 к объекту), при этом ее метод, при помощи которого наука развивает и совершенствует это свое отношение, остается по большей части интуитивным, то приступая к разработке телеологии объекта, наука оставляет почву интуиции и в аспекте метода, Под сознательным мы понимаем такое отношение к объекту или методу в опыте познания, в основе которого лежит рефлексия (сознательное оперирование), развивающая диалектику моментов сущностного противоречия, выделяемого в предстоящем науке объекте. В языке, рассматриваемом сущностно как теоретический объект, таким противоречием является диалектика формы и содержания в языковом знаке. Содержанием дальнейшей рефлексии должна быть диалектика знака и символа как противостоящих принципов знакового отношения в языке: формального и естественно-выразительного. 116 переходя теперь, в дальнейшей реылексии, к осмыслению собственных методологических оснований, т. е. самих движущих мотивов своего подхода к объекту, и к осознанному применению достигнутого метода в опыте познания объекта. Телеология призвана характеризовать принцип связи сущности объекта с его природой, чтобы в конечном счете представить объект, понятый сущностно, вполне эмпирически. При этом телеология научного объекта должна быть не просто отрицанием, а продолжением и развитием его онтологии. В телеологии особый статус получает категория инобытия. Эта категория может служить критерием, по которому определяется общее направление и смысл развития всей научной телеологии. От того, как трактуется эта категория, зависит и все дальнейшее понимание объекта как реальности. Двум вариантам телеологии – экстенсивному и интенсивному соответствуют две точки зрения на категорию инобытия. При экстенсивном телеологическом подходе игнорируется сущность научного объекта как первое условие его реальности, и здесь ученый может допустить мистификацию объекта. Телеология тут не развивает, а подменяет собой онтологию объекта. Право быть и называться реальностью принадлежит не объекту, не его сущности, а привходящему фактору – контексту, внешним обстоятельствам бытия. Если повнимательнее присмотреться к такой телеологии, то окажется, что это – все та же онтология, которая на каком-то этапе отказывается от своего теоретического опыта и переходит к поиску объяснения и доказательств сущности объекта во внешних самой сущности объекта идеальных или материальных причинах: объект деонтологизируется или реонтологизируется, и это подается как его новая реальность или как иная реальность объекта. Незаметно для исследователя утрачивается специальная точка зрения науки на объект: не в объекте открывается его инобытие, а сам объект становится инобытием какого-то иного начала. Перехода в инобытие здесь нет, и инобытие здесь не реальность, а видимость, подготавливаемая новым ракурсом эмпирического рассмотрения объекта. С точки зрения интенсивной телеологии, наоборот, необходимо уходить от какой бы то ни было деонтологизации или реонтологизации объекта. Подлинной реальностью объекта неизменно и при любых условиях должна оставаться его сущность. Природа объекта есть воплощение его сущности в опыте бытия. Инобытие объекта как реальность также должно рассматриваться как инобытие его сущности. Объект “открывает” в себе иное не как привходящий фактор или как результат действия привходящего фактора, а как некоторый новый “масштаб” собственного смыслового развития, как иное самого себя. Преодолевая смысловое ограничение бытия, объект “открывает” в себе свое инобытие. При этом опыт бытия сущности, как и сама сущность, также абсолютно представлен в аспекте инобытия. Инобытие есть некоторое высшее единство внеопытного (сущностного) и опытного (смыслового, актуального, связанного контекстом) начал в научном объекте. Объект, взятый в своем инобытии, совершенно преобразуется, оставаясь при этом самим собой. Отсюда можно заключить, что инобытие (если мы намерены говорить о нем как о реальности и хотим понять, в чем заключается эта реальность) открывается нам в объекте как метод бытия сущности объекта. И сущность, и опыт бытия снимаются в методе бытия объекта, открывая бесконечную перспективу смыслового становления сущности, смысловую перспективу иного. Знак, знаковость, в своем первичном элементарном качестве (как оно было определено Соссюром), составляет сущность языка. И мы, говоря о том, что сущность объекта должна лежать в основе нашего научного поиска, ставим во главу угла языковой знак и, таким образом, принимаем для себя в качестве исходной посылки точку зрения языковового знака, как сущностного начала языка. Абсолютной противоположностью знаку в языке является символ. Символ – инобытие знака. Символизация всецело определяет перспективу смыслового становления знака. Символ содержит в себе метод смыслового развития языкового знака. Движение от знака к символу мы выбираем в качестве общего направления нашего исследования. Впрочем, мы бы дезориетировали читателя, если бы видели свою задачу лишь в том, чтобы определить знак символом, доказывая себе и другим лишь то известное положение, что языковой знак обладает символическими свойствами и что, следовательно, в знаке нужно видеть совсем не знак, а символ. В этом случае мы бы впали в односторонность не меньшую, а, возможно, еще большую, чем в эмпирической экстенсивной телеологии. Это был бы настоящий мистический символизм117, имеющий к языку весьма отдаленное отношение. Идя к символу, мы бы не понимали даже собственных мотивов: почему мы идем и принуждены идти к символу. Кроме того, вопрос о сущности символического в языке в этом случае также оставался бы открытым: мы бы исследовали влияние символического, не понимая его сущности. В общем, такой подход готовил бы нам массу неприятностей и неудобств. Поэтому, хотя мы, прежде всего, стремимся раскрыть сущность и влияние символического, нам важно увидеть отношение знака и символа в языке как взаимоотношение, для чего, помимо сущностного понимания знака (по Соссюру), нам потребуется также уяснить его позицию в языке с телеологической точки зрения, т. е. его позицию как метода относительно символа. Парадоксальность языка и двойственность его как научного объекта открывается не только когда мы наконец видим, чем является символ для знака (т. е. каким образом знак раскрывается как символ), но и когда видим, чем является знак для символа. Мистическую сторону русского иррационального символизма критиковал А. Ф. Лосев, который считал, что русские символисты, односторонне мистифицируя и эстетизируя символ, извратили философское значение идеи символического, не раскрыли в полной мере символ как категорию сознания (См.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. С. 4). В самом деле, как можно видеть, у русских иррационалистов-символистов наблюдается идеологическая переоценка значения символического в искусстве (См.: Белый А. Символизм // Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 255–259). 117 Отношение друг к другу знака и символа в языке – это взаимное отношение. Иначе говоря, знак для символа является тем же, чем символ для знака. Если символ есть инобытие знака, то знак, в свою очередь, должен быть инобытием для символа. Соответственно, языковой знак также должен раскрываться как метод, если к нему приближаться с позиций символа, т. е. если полагать символ (символическое) в качестве исходного пункта рассмотрения языка и, таким образом, идти от символа к знаку. Именно такой путь становления семиотических концептов (образ – символ – знак) обосновывает в своем исследовании Н. Д. Арутюнова118. Из сказанного можно сделать вывод, что знак и символ подчинены один другому в аспекте метода: каждый из них имеет в противоположном начале языка метод и, значит, вершину своего смыслового или функционального становления. Впрочем, взаимная необходимость категорий знака и символа в языке и тут требует некоторого уточнения. Необходимость этих категорий друг для друга нельзя понимать прямолинейно, узко комплементарно. Такого понимания (при том, что оно совершенно верно) в данном случае недостаточно. Дело в том, что в основе полной взаимной комплементарности и необходимости друг для друга знака и символа в языке лежит их столь же полная взаимная бесполезность. Иначе их методологическую функцию друг для друга невозможно было бы определить. Каждый из них, как уже указывалось, вполне самодостаточен, взаимное “стремление”, См.: Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 337–341; 341–346 (Разделы “Символ”, “Символ и знак”). В этом исследовании, на наш взгляд, доказывается, что не только символ может пониматься как вершина становления знака, но и знак в каком-то отношении должен рассматриваться как определенная вершина становления символа. Н. Д. Арутюнова вскрывает в языке целую систему онтологических “мостов” между знаком и символом. Символ может получить воплощение лишь в знаке, он должен быть знаком, чтобы восприниматься в собственном качестве, т. е. как символ; в свою очередь, знак может получить символическую смысловую интерпретацию. Символ предполагает в себе некоторое “семиотическое развитие” (Там же. С. 346), иначе он не сможет “родиться”, “явиться на свет” в качестве символа. Логично и в знаке предположить определенное “семантическое развитие”, продвигающее его к символу. 118 “тяготение” между ними отсутствует. Каждый из них является совершенно непроизвольной смысловой вершиной своего “визави”. И в этом – важнейшая специфика символа в языке, наиболее характерная черта символического вообще, с которой тесно связано объяснение сущности символа. Символ, безусловно, есть смысловое достижение знака, вершина его смыслового становления. Но понимать символ как нечто рационально конструируемое или рационально (логически) выводимое в знаке было бы искажением сущности и в конечном счете природы символического в языке (во всяком случае, чревато таким искажением) 119. В философии и семиотике сложились две точки зрения: широкое, неспециальное, и узкое, специальное, понимание символа120. Мы считаем, что такое расхождение позиций по проблеме символического не является случайным, и предлагаем собственное объяснение, которое, возможно, недостаточно по охвату, но касается самого ядра проблемы. Полем расхождения двух точек зрения на проблему символического служит область тропеической образности и, в особенности, метафора как наиболее абстрактный троп. В первой позиции отсутствует принципиальное различение символа и метафоры, и здесь символ, по сути, приравнивается к метафоре. Начало такой рационализации символа, как представляется, было положено в неокантианстве121. Для неразличения символа и “...В символе означающее и означаемое обязательно должны смыкаться в одной точке, как бы различны они ни были сами по себе”. Но при этом “до какого-то предела” они должны оставаться “раздельными и как бы диспаратными” (Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 57). Символ должен очень “далеко” отстоять от объекта обозначения. Символ ни в коем случае не может прямо вытекать из рациональных качеств знака, это было бы уничтожением символического в символе. Непредсказуемость, абсолютная непроизвольность символа – одно из обязательных его качеств. (Там же. С. 66; 55–61). 120 См.: Лотман Ю. М. Символ в системе культуры. С. 191; Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 23. 121 Мы имеем ввиду, прежде всего, точку зрения Э. Кассирера, изложенную им в книге “Язык и миф” (1925г.). Рационализация символа более всего заметна в антропологических исследованиях символических форм сознания (Firth R. Symbols: Рublic and Рrivate. Ithaca (NY): Cornell Univ. press, 1973). 119 метафоры имеются вполне объективные предпосылки: в обоих случаях достаточно ясно ощущается перенос значения. В метафоре – это вполне конкретный перенос, в котором участвует референция (например, назвать юность “весною жизни”, где ранняя пора жизни сравнивается с ранней порой года). В символе это всегда абстрактный перенос, в котором нет референции122 (например, “весы” – символ справедливости123, скипетр, держава, герб – символы власти и т. д.). Однако и в метафоре, там, где мы называем юность “весною жизни”, также проявляется нечто такое (связанное с эмоциями), что не может быть объяснено никаким взаимодействием участвующих в метафоре значений. Сравнение лишь выявляет это нечто новое, но само им не является, и метафора с этой точки зрения лишь иллюстрирует символ, но сама не есть символ. Тем не менее, это подобие дает основание сторонникам данной теоретической позиции рационализировать символ, приравнивать его к метафоре, а метафору считать также символом. Во второй позиции, наоборот, существенным началом символа считается его иррациональное (надрациональное, надпрагматическое) начало. Исследователи, придерживающиеся этой позиции, считают принципиальным проведение различия между метафорой (как и другими видами тропеической образности) и Вообще, символу не нужна референция. Референция для него несущественна: “символ безадресатен и некоммуникативен” (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 344). 123 В символе, как многие полагают, важен иконический элемент. Например, Ф. де Соссюр считал, что поскольку в весах иконически содержится идея равновесия, то они были выбраны в качестве символа справедливости (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики... С. 101). А. Ф. Лосев решительно критикует подобные объяснения символов, считая их наивными (Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 55–56). Очевидно, что здесь следствие принимается за причину. Действительно, существенным моментом символа является выразительное тождество с выражаемой при его помощи идеей. Но это – итог смыслового понимания символа, а не начало или причина того или иного его понимания. “Для символа, – считает А.Ф. Лосев, – ...необходима такая идея, которая не имела бы ничего общего с непосредственным содержанием самого символа” (Там же. С. 44). 122 символом124. Символ должен быть постоянным и бесконечным творчеством какого-то нового смысла или новой идеи. В символе всегда должно появляться или быть нечто неизвестное125. Символ представляет собой некоторый смысловой вывод, вырастающий поверх рациональной смысловой сферы знака (при этом он, безусловно, укоренен в этой сфере). Но в то же время в нем не может быть ничего типического126: всякая типичность, похожесть или сравнимость чего-то с чем-то (что, собственно, мы всегда видим в метафоре) чужда символу или, по крайней мере, не имеет для него решающего значения. Символ, как таковой, стоит над сравнением. Все это – загадки символа. Знание этих загадок не раскрывает собственного значения символа, но отрицательно подводит к его пониманию. Это и есть специальное, дифференцированное понимание символа. Сторонники данной, второй точки зрения считают собственно символическим именно этот последний, самый новый и самый “верхний” смысл в знаке. Мы в понимании символа придерживаемся второй позиции. Пытаясь раскрыть и объяснить значение этого последнего, “верхнего” смысла, мы надеемся найти и определить собственное значение и сущность символического в языке. Впрочем, и в этом пункте наш подход требует принципиального уточнения, касающегося его внутренней методологии. В позиции сторонников рациональной трактовки символа важно видеть, помимо всего прочего, то, что их подход к символу является принципиально аналитическим. Аналитический подход к объяснению символа, в конечном счете, “выталкивает” этих исследователей во внешнюю мотивационную сферу, которой объективно подготавливается появление символа. Они анализируют политический, культурный, эстетический, психологический и др. Необходимость этого для понимания символического убедительно раскрывается А. Ф. Лосевым. “Символ не является ни художественной метафорой, ни общеязыковой метафорой,” – подчеркивает он (Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство... С. 156). 125 Там же. С. 156. 126 Там же. С. 183. 124 контексты, которыми может быть обусловлен символ. Анализ этот весьма плодотворен и полезен, поскольку открывает семиотическую сторону культуры, истории. Однако нельзя не видеть, что все эти попытки в основе своей метатеоретичны, представляют собой метаописание, метаобъяснение символа через то, что в-себе не имеет никакого объяснения. В конечном счете, такой анализ, открывая какие-то внешние проявления символа, не раскрывает сущности символического (в знаке, в эстетическом или в историческом объекте). Это типичный для объективной экстенсивной телеологии подход к изучению символа. Тут больше анализируются история, искусство, общественные явления, чем сам символ (во всяком случае, трудно понять, чего здесь больше: специально семиотического или культурно-исторического). С другой стороны (и это мы должны высказать как семиотическое оправдание сторонников первой позиции), нужно понимать, что отпугивает сторонников рационального понимания символа от принятия синтетического объяснения символа. И здесь обнаруживается совершенно иная метасфера объяснения, далекая от всякого научного объяснения; открывается самая настоящая мистика символа, которая не может быть принята тем, кто стремится к его научному пониманию. Опыт такого изучения символа у ранних русских философов-символистов хорошо известен127. Они открыли символ, подвели русскую философскую мысль к этой проблеме, но четко объяснить, раскрыть роль символического среди эстетических, культурных, исторических, семиотических объектов не смогли (может быть, поэтому их опыт и не был принят?). Они поняли, что символ есть вершина человеческого понимания, человеческого опыта, что он “покрывает” собою все. Но вместе с тем в данной трактовке символ потерял и всякое определение. Отсюда известная мистификация символа, объяснение его смысла, его значения какими-то высшими силами, “неземными” причинами. И в таком объяснении также есть своя истина. В самом деле, вне нас в мире Мы имеем в виду работы А. Белого, Вяч. Иванова и ряда др. русских философов ХХ в. (См.: Белый А. Символизм как миропонимание). 127 нет красоты, но она появляется в знаке в связи с нашим пониманием природы, внешних явлений; объективно (т. е. без нас и помимо нас) нет и не может быть справедливости, но мы остро чувствуем справедливость или несправедливость происходящего и часто оправдываем эти чувства, обращаясь к внешним предметам, пытаясь найти основания своих чувств в самой логике ситуации... Из чего возникают все эти столь реальные и столь “неземные” чувства? Они столь же самопонятны, сколь и необъяснимы. Любовь, ненависть, наслаждение, отвращение... – эти чувства невозможно разложить на рациональные составляющие. Так что мистификация символического в человеке, в обществе, в искусстве, в языке правомерна как один из путей объяснения этого загадочного явления: в конце концов, почему для объяснения смысла символического внешнее, историческое, культурное более реально и способно лучше служить способом его понимания, чем внутреннее, мистическое? Одна общая черта заметна и в первом и во втором подходе. И там, и там пытаются обосновать бытие символа, еще не определив его сущность. Здесь, в части понимания символа, мы ясно видим “борьбу” за сущность, попытки расчленить нерасчлененное еще бытие, увидеть в бытии явление и приблизиться к сущности. С другой стороны, и в первом и во втором подходе ясно видна экстенсивная трактовка инобытия. Неспособность внести определенность, диалектически расчленить видимое бытие приводит к неразличению природы и сущности в изучаемом объекте, к попыткам увидеть и объяснить сущность “от противного”. Все это на уровне телеологического объяснения смысла бытия объекта, когда уже требуется объяснить это бытие в его отношении к инобытию, заканчивается выходом в метасферу объяснения, т.е. попытками обратиться к той сфере (к такой разновидности иного), за которую исследователь не несет никакой ответственности. Подобное метаобъяснение (вынужденная замена подлинного объяснения) требует выхода вовне, “переоблачения” объекта в иные одежды, нежели те, которые принадлежат ему по праву сущности. Объект утрачивает собственное значение и становится значением другого. Выбирая собственный путь, необходимо взять все самое ценное из первого и второго подходов. Наш подход должен быть, вопервых, рациональным, т. е. с научной точки зрения вполне объективным (сущностная сторона первого подхода), и, во-вторых, синтетическим (сущностная сторона второго подхода)128. Еще не определив сущность и значение символического в языке, мы также вынуждены идти от бытия. Поэтому следует указать, где нужно искать это бытие, чем и как его определять. Для этого, прежде всего, требуется методологически точный выбор категории инобытия (такой, чтобы в итоге не спутать инобытие с сущностью объекта). С нашей точки зрения, инобытие не должно открывать каких-то дополнительных референциальных свойств в бытии объекта, т. е. в инобытии не должно возникать “умножения сущностей” путем привнесения их извне, но при этом инобытие должно целесообразно определять бытие объекта и неизменно оставаться в этом своем качестве. Чтобы достичь этого, нужно при трактовке инобытия избегать выхода в какую бы то ни было метасферу объяснения (во внешнюю, эмпирическую или в смысловую, мистическую) и искать дальнейшего объяснения бытия объекта в нем самом, как иное его самого, как его собственный метод. Но чтобы это иное, в свою очередь, также “не обмануло” нас, превратившись в некую “новую сущность”, представляющую собой новую разновидность метаобъяснения (которое потребует для себя какого-то нового метаобъяснения, а это последнее, в свою очередь, потребует еще одного и так до бесконечности), наше объяснение инобытия не должно быть односторонним, т. е. направленным лишь на объяснение знака через символ или, наоборот, символа через знак. Наше объяснение должно быть взаимным: в определении знака В целом это соответствует лосевской идее о необходимости создания “объективной теории символа”. “Врагами” этой теории Лосев считает чрезмерный предметный содержательный аналитизм (метафоризация символа) и мистицизм (прямолинейная онтологизация символа) (См.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 11). 128 через символ обязательно должно определение символа через знак. учитываться обратное Применительно к языку это означает, что инобытие здесь должно трактоваться как его внутреннее отношение, обусловленное внутренней природной двойственностью языка как научного объекта. В самом деле, если символ определяет бытие знака, то что определяет бытие самого символа? Если мы в своем объяснении идем от знака к символу и в символе видим метод бытия знака, то что должно считаться методом бытия символа? Какая-то внешняя сфера, новая реальность, требующая нового метаобъяснения? Отношение знака и символа в языке должно рассматриваться как взаимное. С позиций символа (т. е. если брать символ за основу и рассматривать его как чистое начало языка) и знак может быть оценен как иррациональное в символе – как “символ символа”. “Полезность” знака для символа вполне аналогична той, которую обнаруживает символ по отношению к знаку, т. е. является вполне символической. Как символ нельзя сконструировать из знака, точно так же и знак нельзя рационально вывести из символа. Друг относительно друга они совершенно внесистемны, иррациональны и бесполезны. И тем не менее они всегда и неразрывно связаны, и каждый из них является вершиной объяснения и понимания другого. Потому мы и говорим, что отношение первого и второго необходимо трактовать через категорию метода, не примешивая к этому пониманию никаких рациональных категорий, т. е. не допуская ни малейшего механического, метафизического смешения одного и другого. Таким образом, в понимании символа и сущности символического в языке мы становимся на точку зрения А. Ф. Лосева – дифференцированную, специальную. 3.3. Категория модели в научном анализе телеологии знакового отношения До того, как понять и до конца представить себе методологическую функцию символа по отношению к знаку, а такую же функцию знака по отношению к символу, необходимо представить, чем является каждый из этих объектов в-себе. Все это необходимо, чтобы приблизиться к пониманию сущности одного и другого и определить пути преодоления того методологического дуализма129, с которым мы столкнулись, исследуя диалектику знакового отношения в языке. Наилучшим образом характеризовать внутреннее отношение в-себе знака и такое же отношение в-себе символа позволяет категория модели. Объект, представленный как модель, может рассматриваться совершенно рационально, в объеме его необходимых качеств (в границах сущности и ее бытия), т. е. до того, как в его смысловом становлении обнаруживается приближение к методу. На наш взгляд, неправильно в модели видеть метод. Модель открывает внутреннюю морфологию системы, ее структуру, парадигму, не становясь при этом ее методом. Можно сказать, что модель в этом смысле противостоит методу, служит объективной границей метода. Категория модели позволяет рассмотривать и сравнивать, не обращаясь при этом к категории метода, системообразующие признаки знака и символа в языке и выделять ряд их важных общих характеристик того и другого. Проблема описания знаковых объектов по принципу модели в свое время активно разрабатывалась в отечественной науке: в логике, семиотике, языкознании. Внимание науки к категории модели, как представляется, обусловлено двумя обстоятельствами. Модель как принцип организации и функционирования знакового объекта всегда задана в двух измерениях: она существует одновременно и в виртуальном, и в реальном мире и служит принципом связи одного и другого, некоторым “мостом” между Методологический дуализм, видимо, не может не следовать за онтологическим и, в каком-то смысле может пониматься как один из путей разрешения последнего. В науках, использующих язык в качестве объекта, дуализма методологии трудно избежать. Он должен предполагаться как закономерная сторона научного подхода. Некоторые ученые считают, что “без него, как способа или приема, невозможны никакие лингвистические или металингвистические описания” (Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. С. 85). 129 искусственным и естественным в языке. С одной стороны, модель (знак или символ) является отображением, слепком внешней реальности. Здесь формируется содержание, или семантические свойства модели, вырабатывается ее отношение к миру (или отношение человека к миру при помощи модели). С этой стороны представлены естественные свойства модели – сущностное условие ее понимания. С другой стороны, вырабатывается отношение модели к системе. Отображение реальности (в целом или в какой-то части) становится постоянным, типичным свойством модели. Последнее в снятом виде закрепляется как внутреннее системное качество и представляет собой порядок формирования системы в модели (или через модель). Система – искусственная сторона модели. Оба отношения – к миру и системе – органично соединены в модели. Можно сказать, что категория модели удобна для науки именно этой своей двусторонностью. Однако в этом же видится и определенное несовершенство модели – недостаток ее внутренних объяснительных возможностей. Дело в том, что принцип модели допускает самые различные интерпретации содержащегося в ней знакового отношения – как эмпиристские, так и рационалистические. При помощи модели просто невозможно доказать превосходство ни тех, ни других. В этом и выражается дуализм модели, который следует понимать совершенно объективно. В самом деле, трудно решить, что первично в модели и от чего зависит ее реальность? Внешнее объективное или внутреннее системное? Сама модель или система, в которую она входит? Естественное или искусственное? Содержание или форма? Используя модель как объяснительный принцип, можно с успехом доказать или опровергнуть как одно, так и другое. Но в этом самом недостатке обнаруживается и огромное преимущество модели перед другими способами интерпретации знаковых объектов. Модель, которая ничего не может объяснить всебе, открывает нам перспективу и значение метода и поэтому может считаться наиболее удобным способом приближения к нему. В нашу задачу не входит изучение ни онтологического, ни системного дуализма модели. Для нас достаточно понимание того, что модель в-себе необходимо истинностна (в смысле реальной значимости своих семантических свойств) и необходимо системна. И знак, и символ содержат и развивают в себе как определенное отношение к миру, так и определенное отношение к системе, и, следовательно, оба могут рассматриваться как знаковые модельные объекты. Модель в-себе – рациональна. Существенным в ней является такое ее качество, которое мы назвали бы рациональной константой модели. Знаковая модель (как знак, так и символ) должна характеризоваться некоторым постоянным функциональным принципом своего отношения к реальности и своего отношения к системе. И знак, и символ обнаруживают общие черты в том, что касается их рациональных качеств как знаковых модельных объектов. Рациональная константа модели выражается в том, что: а) в аспекте отношения к реальности мы видим пассивную функцию модели: пассивное отношение к реальности, которая отображается в содержании модели; модель понимается как копия реальности; в деятельностном представлении субъекта модель понимается как функция реальности, а не наоборот; б) в аспекте отношения к системе мы выделяем активную функцию модели: ее активное отношение к системе; здесь модель выступает формирующим принципом системы; система должна считаться функцией модели, но не наоборот. Таким образом, модель имеет пассивное начало в аспекте отношения к реальности и активное продолжение в аспекте своего положения в системе. И знак, и символ одинаково обнаруживают пассивное отношение к реальности, каждый в своем аспекте. Языковой знак как модель потенциально пассивен в моменте представленного в нем отображения реальности – фиксируемой в языке семантической иллюстрации объективных свойств реальности, помогающей узнавать эту реальность в знаке. Символ, эмпирический знак в качестве модели пассивен как воплощение смысловой деятельности субъекта, как представляемый в знаке процесс или способ субъективного осмысления реальности. Следует видеть, что в знаке и символе (в том, что касается пассивных свойств каждого из них) мы имеем не одну и ту же реальность. В знаке – это внешняя реальность, которая так или иначе дается в его значении. В символе – это субъективная реальность (чувства, эмоциональные состояния субъекта, волевые акты и пр.), которая представляется выразительно. Изначально символ (если говорить о его естественном дознаковом начале) имеет аффективную природу и воспринимается как проявление чистой естественной формы выражения. Можно сказать, что знак пассивен изобразительно, а символ – выразительно. Рациональная константа – это объективный закон модели. Невозможно до бесконечности сравнивать модель с представленной в ней реальностью, требуется известное упрощение в понимании естественных свойств, естественного начала, чтобы понять, в чем заключается ее системная, искусственная сторона. Содержательное тождество модели и реальности может изучаться до известных пределов. Как в том, что касается знака, так и в том, что касается символа, неоправданно доводить это изучение до абсурда и превращать в самоцель при понимании модели. Здесь важен не только анализ, но и синтез. Пределом понимания модели может считаться ее адекватное отношение к реальности. Модель всегда адекватна той реальности, которая в ней отображена, но в то же время никогда не может быть до конца похожа на эту реальность. Очевидно, что рациональная константа не отменяет и не снимает всех сомнений из области философской онтологии, касающихся вопроса о генезисе содержания модели: является или нет содержание модели действительным отражением реальности, действительно ли мы видим в модели реальность? Рациональная константа модели не имеет к этому вопросу никакого отношения, она просто не отвечает на этот вопрос, хотя и создает видимость его решения. Подчинение внешнему – внутренняя необходимость модели, даже если это внешнее ирреально и положено лишь гипотетически. Модель по содержательным свойствам пассивна объективно, как таковая. В знаке объективное содержание важно, прежде всего, как фактор (как предпосылка деятельности сознания), даже если все это содержание ложно или придумано человеком. Важно само полагание реальности, а не ее физическое присутствие. В символе содержание также важно в качестве фактора (как движущий мотив деятельности сознания), даже если сама реальность, которая здесь представляется, не более чем игра в реальность. “Похожесть” знака внешней реальности в-себе условна и произвольна. Как мы видели выше, научное значение этого факта было понято не сразу. Что в знаке “похоже” на внешнюю реальность, несет в себе функцию похожести на внешнюю реальность? Не нужно глубокой науки, чтобы понять, что это не внешняя форма знака, а его значение. А. А. Потебня определял значение как образ130, но при этом отличал его от “представления” – той реальной смысловой нагрузки (в его терминологии), которая обогащает значение в условиях его употребления. Соссюр определял значение через понятие131, абстрагируя его от любых смысловых определений. Потебня психологизировал значение, стремился понять, как оно определяется по смыслу. Соссюр понимал значение скорее логически, старался выделить то, что подлежит смысловому определению. Как ни подходить к языковому значению, значению в языковом знаке, в нем, прежде всего, следует видеть определенным образом формализованный принцип или порядок понимания. Языковое значение, чтобы быть значением в своем языковом У А. А. Потебни встречаются несколько определений значения: “соединение впечатлений в образы, принимаемые нами за предметы, существующие независимо от нас и без нашего участия” (Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: Синто, 1993. С. 98); “внутренняя форма есть центр образа” (Там же. С. 100); “значение = совокупность признаков, заключенных в образе” (Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления // Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 222). 131 “Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ” (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 99). Лишь в одном месте Соссюр видит в знаке “связь смысла и акустического образа” (Там же. С. 53). 130 качестве, обязано избавиться в-себе от какой бы то ни было феноменологии восприятия и понимания объекта и сохранить в-себе один лишь формализованный (до известных пределов) порядок понимания – порядок моделирования объекта. Языковое значение принципиально нефеноменологично, антифеноменологично. Не предположив этого, мы должны были бы считать, что язык состоит из одних лишь конкретных имен (что давно уже отвергнуто наукой). Феноменология знака достигается в предложении132: лишь в условиях синтаксического осмысления знак превращается в имя реальности. Но имя – это уже речевой знак. Таким образом, в языковом знаке формализация понимания (т. е. семантических свойств знака) первична, а феноменология (любая смысловая конкретизация значения в целях именования) вторична и производна от первого, формального момента. Похожесть символа на субъективную реальность обычно полагается как безусловная. Выразительное начало символа находится в чистой естественной форме выражения133. За этой формой скрыто внутреннее состояние субъекта, которое проявляется вовне. Определять отношение первого ко второму через референцию невозможно: форма выражения не является обозначением субъективного состояния, скорее, она может быть названа проявлением внутреннего. Связь первого и второго обычно понимается как полная, совершенно неразрывная134. Однако и Сторонники предикационной концепции языка, вообще, склонны видеть главное предназначение предикации в именовании: “техника именования есть предикация” (Курдюмов В. А. Идея и форма (основы предикационной концепции языка). М.: ВУ, 1999. С. 32). 133 Своеобразную эскалацию выражения от форм чистого естественного выражения до уровня символического выразительного единства, когда все составляющие выражения подчиняются некоторому единому смысловому предназначению, выстраивает А. Ф. Лосев (Лосев А. Ф. Философия имени. С. 37–41). 134 Последнее послужило основанием для появления так называемой “органической теории эмоций”, авторы которой (У. Джеймс, К. Ланге) пытались разложить человеческие эмоции на объективные физиологические составляющие и отстаивали ту точку зрения, что сумма всех этих составляющих и есть сама эмоция. Глубокая критика этой теории с обоснованием, наряду с динамогенной (двигательной, деятельностной, выразительной), идеаторной 132 здесь, сколь бы плотной и неразрывной ни была связь формы выражения и субъективного состояния, первое не исчерпывает второго. Таким образом, и в аспекте символического никакая похожесть (т. е. подобие внешнего внутреннему, модели – реальности) не может считаться совершенной. В символе также, уже в самом его начале, следует допускать известную формализацию. Но в отличие от знака это должна быть формализация не понимания, а выражения, которая здесь обеспечивает адекватность выражения внутреннему состоянию135. В этом состоит предпосылка восприятия символа и понимания экспрессии. Впрочем, в символе его феноменологические выразительные свойства в любых условиях занимают первое место. В этом главное предназначение символа – “собственно символическое” в нем. Выразительная формализация в символе в отличие от знака вторична, производна136. Напомним, что наше разделение знака и символа является предварительным и условным. Символическое не существует отдельно от знака, в принципе не может проявить себя каким-то иным образом. В знаке – бытие символа. Символа нет там, где нет знака, где нет формы условного обозначения. И тем не менее начало символа лежит в естественно-выразительном, которое является проявлением в-себе внутреннего эмоционального состояния субъекта. Семантика эмоционального состояния (смысловой) стороны эмоций была дана Л. С. Выготским (Выготский Л. С. Теория эмоций // Собр. соч. Т. 6. М.: Педагогика, 1984. С. 91–318). В защиту авторов “органической теории эмоций”, впрочем, можно сказать, что представить для эмоции какое-либо иное бытие, кроме выразительного (телесного в самом широком смысле слова, которое так или иначе проявляется вовне), невозможно. 135 Проявления боли, радости, злобы, тоски, удивления заметны уже на животном уровне. Изучением различных проявлений субъективных состояний в языке, по сути не языковых, но имеющих к языку самое непосредственное отношение (например, речевых жестов, речевой мимики) занимается паралингвистика. 136 На первичность феноменологического по отношению к общему, формализованному, потенциальному в символе при анализе его выразительного аспекта указывает Лосев (Лосев А. Ф. Философия имени. С. 40– 41). безгранична, никакой формы не хватит, чтобы выразить ее всю, целиком. Но именно в этой содержательной безграничности мы и видим естественную предпосылку символического137, которое более полно, комплексно, абстрактно проявит себя в знаке. Всегда, когда мы пытаемся выразить какой-то нам одним понятный смысл, внутреннее ощущение, мы мучительно подбираем слова и в итоге идем на компромисс с формой языка, обращаясь к знаку, огрубляем свое выражение. Но если на уровне естественной выразительности, где главенствует динамогенная (двигательная, реактивная) сторона эмоции, известный выразительный компромисс, который возникает, когда эмоция в естественной выразительности достигает для себя требуемой формы бытия, является свидетельством ущербности естественной выразительности, ее неспособности представить до конца всю эмоцию, то на уровне языкового знака, новый выразительный компромисс (когда эмоция соединяется со знаковой формой бытия и когда верх берет идеаторная (смыслообразующая) сторона эмоции) свидетельствует о смысловой бесконечности, многозначности, содержательной неуловимости символа, представленного в знаке. “Символ характеризуется относительной подвижностью, многозначностью объекта, т. е. его внутренних форм, при относительной устойчивости его внешнего языкового эквивалента”138. Содержательная безграничность эмоции на уровне естественной формы выражения говорит о несовершенстве любой естественной выразительности. Смысловая безграничность символической экспрессии в знаке говорит о силе, потенциальной бесконечности знака, о необозримости его смыслового опыта. С позиций знака, в условиях актуальной смысловой реализации, символ также открывается как нечто безусловное, безграничное. Лишь постфактум внешняя интерпретация, анализ “Символы появляются там, где человек имеет дело с неисчерпаемым содержанием” (Введенова Е. Г. Архетипы коллективного бессознательного // Эволюция. Язык. Познание. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 120). 138 Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. С. 6. Академик Виноградов здесь в понимании символа солидаризируется с идеями А.А. Потебни. 137 показывают нам условность символического в знаке. Объективный анализ, вскрывающий внешние мотивы символического, весьма эффективен при рассмотрении художественных, культурных и других неязыковых символов. Символическое в языковом знаке более абстрактно, его трудно связать с каким-то конкретным мотивом и поэтому его важно брать как фактор, как общую кульминацию внутреннего смыслового становления. В противоположном аспекте, в аспекте отношения к системе, происходит развитие и закрепление смысловых возможностей модели. В знаке и символе это закрепление несет различную функциональную нагрузку. Для языка это два его диаметрально противоположных системообразующих принципа. Тем не менее, и здесь при всех онтологических различиях знак и символ обнаруживают ряд общих формальных черт. В отношении модели к системе на первый план выступает диалектика части и целого, единичного и многого. Модель – это отдельный знак (слово) в совокупности формально-знаковых и/или символических свойств. Система (в ее материальном воплощении) – это множество, или совокупность соотносящихся друг с другом знаков/символов. Модель является носителем системной функции (функций) и должна быть эквивалентна системе. Бытие и само существование системы невозможно вне и отдельно от модели. Модель – способ материального существования системы. В знаке, в его отношении к системе, важна его содержательная отдельность, изолированность, способность выделить данный отрезок мира. Но если возможна некоторая содержательная отдельность, то, значит, возможно бесконечное число других отдельностей. Необходимость одного обозначения создает предпосылку бесконечного числа других обозначений, равных с ним по формальному статусу. Причинно-следственная зависимость строится от модели к системе. Модель инициирует систему. Системе в целом отводится пассивная роль: скорее, она действует “в интересах” обозначения (отдельной модели), чем наоборот. Теоретически любые формальные свойства системы могут быть нарушены, если того “потребует” необходимость обозначения. Определенное количество заимствований-варваризмов в каждом языке достаточно точно характеризует отрицательную сторону взаимоотношений модели и системы. Система (нормативный фактор) не может “отменить” модель (требование обозначения), но модель вполне может “отменить” требования системы. Такое соотношение модели и системы в языке внешне напоминает принцип связи формы и содержания в переводе, где адекватность (содержательная задача перевода) может достигаться неэквивалентными средствами, а эквивалентность (языковые условия выбора формы перевода) может игнорировать требования адекватности (правда, в последнем случае такой выбор оценивается как переводческая ошибка). Модель в знаке не может быть неадекватной той реальности, которая представлена в ее значении. Но в отдельных случаях модель может быть неэквивалентной системе, которая в ней (в ее формальных смысловых свойствах) необходимо должна быть представлена. Опыт системы содержится и существует в модели. Говорить о чистом системном опыте модели значило бы строить иной порядок их отношений (система в этом случае абсолютно предопределяла бы все свойства модели). В модели происходит испытание системы, ее смысловых возможностей. Система (в целом – “консервативный фактор”139) иногда может отвергнуть, не принять опыт модели. Модель, однажды появившись, исчезнет из опыта системы. Но это будет означать лишь “поражение” системы, ее неспособность воспринять новый опыт обозначения, дополнить себя этим опытом. В этой связи весьма ценной представляется следующая мысль Ф. де Соссюра: “Язык коренным образом не способен сопротивляться факторам, постоянно меняющим отношения между означаемым и означающим. Это одно из следствий, вытекающих из принципа произвольности знака. ...Нельзя себе представить, что могло бы воспрепятствовать ассоциации какого угодно понятия с какой угодно 139 См.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики... С. 107. последовательностью звуков140”. В языке важно не только положительное, но и отрицательное значение сложившейся структурной нормы. Отрицание сложившейся системы в коммуникативном опыте знака (в чем и в какой степени это ни выражалось бы) должно учитываться как ее постоянный функциональный фактор. Конечно, отрицательное отношение модели к системе в знаке, особенно в его крайних формах, следует рассматривать скорее как исключение, чем как правило. Подавляющее большинство знаков “лояльны” к системе и именно они составляют главный материальный массив языка. Положительное отношение к системе стоит в знаке на первом месте. Но и отрицательное отношение всегда сохраняется как некая семантическая “изнанка” знака, как некое “право вето”, которое знак сохраняет по отношению к системе и которым он пользуется в исключительных случаях. Отрицательная сторона важна, потому что она является свидетельством онтологической первичности знака по отношению к системе: в конечном счете, знак “делегирует” свои права системе, а не наоборот, хотя их взаимное согласие в реальной жизни языка редко нарушается и принимается по умолчанию. В символе, прежде всего, важна выразительная актуальность, что говорит о его преходящем, постоянно изменчивом характере. Символ каждый раз в чем-то не похож на себя, он все время разный, новый, другой141. В этом его сущность и смысловое предназначение. Символ все время открывает перспективу смыслового постижения, но никогда не определяет ее какой-то конечной целью; ему чужда Там же. С. 108. Если пользоваться терминологией экзистенциализма, то категория экзистенциальности, непосредственности переживания точнее всего способна характеризовать это базовое качество символа, которое дано в нем до того, как открывается его бытие. Категория экзистенциальности, однако, не устраивает нас: в ней отсутствует связь с внутренней рациональной стороной содержания деятельности. В экзистенциальности, как ее мыслят в экзистенциализме, отсутствует элемент опыта, скорее, в ней представлен некоторый абсолютный отказ от опыта. Экзистенциальность не понимается как выражение рациональной стороны деятельности. 140 141 всякая смысловая Исчерпать символ замкнутость, определенность, конечность. путем логического анализа, в принципе, невозможно: всегда обнаружится что-то новое, ранее не замеченное. Но при этом было бы неправильно видеть в символе какой-то “секрет” или “тайник”, понятный одному и не понятный другому. В символе нельзя ничего утаить, скрыть. Он не может быть средством условного смыслового кодирования, не предназначен для этого. При таком использовании в символе утрачивается его выразительное начало и он перестает быть символом (превращается в обычный формальный знак)142. В своей целостности символ должен быть выразительно непосредствен, прост, открыт, узнаваем, понятен. В этом – основное противоречие символа: смысловая понятность, узнаваемость и в то же время – смысловая “необозримость”, бесконечность. Система в символе, как и в знаке, оказывается воспринимающим, пассивным фактором. Модель первична, а система производна от модели. Но в символе в отличие от знака на первом месте – не положительное, а отрицательное отношение к системе (мы уже говорили об этом). Позитивное системное строительство со стороны символа (т. е. в символе), скорее, следует рассматривать как исключение. Его можно представить в художественных символах. В языке оно не может быть нормой. Символ не может стать в полном смысле слова языковой условностью: для этого он должен стать знаком, обрести способность референции143. Наибольшая степень формализации, “В символе можно обмануться, в знаке – ошибиться”. Символ нельзя не понять, хотя его можно неверно интерпретировать. “Даже когда речь идет об общении богов и высших сил с жителями Земли, и код, который в этом случае используется, не всегда известен земному партнеру, употребляется слово знак, а не символ” (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 344). 143 Две крайности во взаимоотношении знака и символа видит Х.-Г. Гадамер: “... чистое указание, сущность знака, и чистое представительство, сущность символа” (Х.-Г. Гадамер. Истина и Метод. М.: Прогресс, 1988. С. 200). Символ вообще создается не для референции. “Символ влиятелен, но не коммуникативен. Он не имеет адресата. Нельзя передать символом какое-либо сообщение другому лицу” (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 339). 142 которой можно достичь в символе (на языковом уровне), – это условное речевое закрепление, которое принимает форму речевых штампов, выражений, которые могут сохраняться в выразительном опыте языка: различные знаки внимания, уважения, приветствия, благодарности, формы обращения, несущие перформативную нагрузку речевые выражения. Отрицательное отношение к системе необходимо символу для того, чтобы обрести смысловую устойчивость, известную определенность, которую он не имеет в-себе, поскольку его началом является смысловая текучесть. Символ в смысловом отношении, в принципе, феномен отрицательный. Символ открывает свое смысловое “я”, свою смысловую устойчивость не в себе, а в другом – относительно другого. Каждый символ вызывает ассоциацию системных смысловых отличий и относительно них определяет себя по смыслу. Открывая и развивая свой смысловой опыт, каждый символ активизирует и развивает соответствующую смысловую нагрузку в системе в целом. Впрочем, система здесь может “отменить” некоторый смысловой опыт символа. Обычно это заметно в речи, когда мы подбираем нужное слово и особенно когда ошибаемся в выборе эквивалента для выражения того или иного смысла, оценки, коннотации. Система в этом случае как бы “подсказывает” нам, что в номенклатуре средств языка имеется более точное выражение, более характерное в смысловом отношении слово. Система как бы “сигнализирует”, что данный смысловой опыт отдельной модели должен быть согласован с уже имеющимся опытом других моделей. Эквивалентность модели системе означает ее согласованность с другими моделями в составе системы. Неэквивалентность, наоборот, свидетельствует, что актуальный смысловой опыт модели игнорирует или каким-то образом нарушает сложившиеся привычные отношения в системе, т. е. модель берет на себя не свойственные ей смысловые функции. Таким образом, в аспекте символа мы также должны предполагать возможность “разрыва” отношений модели и системы со стороны модели. Принцип рациональной константы модели (который заключается в том, что модель обнаруживает в себе пассивное отношение к внешнему реальному, откуда она черпает свои семантические свойства, и активное отношение к системе, где она раскрывает свои формальные свойства) подводит нас к ряду важных выводов относительно характера и способов системообразующего влияния на язык знака и символа (т.е. двух представленных в языке аспектов знакового отношения), а также относительно характера их влияния друг на друга. Первый вывод связан с вопросом о сущности модели. Где следует искать сущность модели – с ее пассивной или активной стороны? Является ли сущностью модели представленная (изобразительно или выразительно) в ее содержании реальность, или сущность модели заключается в ее системных свойствах? Мы предположили, что по условиям рациональной константы модели онтологически первичной должна быть та ее сторона, откуда она черпает свои семантические свойства, т.е. ее пассивная сторона, в которой и заключена сущность модели. Это можно считать общим принципом для знака и символа. Второй вывод касается онтологической роли самой системы, представленной в модели. Зачем с точки зрения модели нужна система? Какова ее роль? Для чего модели требуется вырабатывать в себе системные свойства? Если система (системность), как мы предположили, не является сущностью модели, если она, таким образом, вторична и стоит после сущности, то в ней должно быть представлено какое-то необходимое свойство, которое будет продолжением сущности модели. Функция системы относительно модели состоит в том, что она должна так или иначе создавать предпосылку бытия модели, или то, как модель будет являться во всех способах своего бытия. Система является первичным условием бытия модели. В системе модель достигает необходимой формы своего бытия (категории бытия и явления на этом уровне, как мы видим, совпадают). Это положение также можно считать общим для знака и символа. До сих пор уподобление знака и символа, как знаковых модельных объектов, имело в основном формальный характер. Однако следует помнить, что за внешним формальным сходством знака и символа скрыто их глубокое внутреннее онтологическое различие. Семантическая природа знака и семантическая природа символа различны: в знаке и символе в снятом виде представлены две абсолютно инородные друг другу реальности. Отсюда и обретаемая в каждом из них системная форма бытия служит собственным целям. Можно сказать, что в языке одновременно формируются и закрепляются две параллельные друг другу системы: со стороны знака и со стороны символа. Двойственность знакового отношения пронизывает собою все устройство языка. Поэтому наш третий вывод касается самого качества системного строительства в языке со стороны знака и со стороны символа. Формально общим для знака и символа можно считать то, что каждый из них, как знаковый модельный объект, в содержательном развитии движется от реальных семантических свойств к системным семантическим свойствам. В целом это отражает прогрессивное движение каждого из них от сущности к форме бытия (где сущность – это реальные семантические свойства модели, необходимая форма бытия – смысловое закрепление семантики модели в системе). Разница между формально-знаковым и символическим системным строительством в языке заключается в том, что: а) со стороны знака смысловое закрепление его реальных семантических свойств в системе несет операциональную нагрузку; б) со стороны символа закрепление его реальных семантических свойств в системе несет концептуальную нагрузку. Знак ищет операционального усиления в системе. Символ – концептуального усиления. Но при этом каждый из них в-себе как знаковый модельный объект в своем системном развитии (закреплении) движется от семантики к смыслу. Понятно, что это встречное движение. Сталкиваясь на почве смысла (и обретая на этой почве свое бытие), знак и символ создают внутреннюю форму языкового выражения, внутреннюю форму языка. Во внутренней смысловой форме Гумбольдт и Потебня, каждый по-своему, видели сущность языка, сущность слова, как знака языка. Если подняться над противоречием искусственного формально-знакового и естественновыразительного в языке и говорить о его единой сущности, то таковой должна считаться именно внутренняя смысловая форма, которая является результатом сложнейшего смыслового сопряжения формально-знаковых и символических свойств языка. Операциональное развитие знака в системе говорит о том, что знаку, как таковому, не хватает смыслового движения, и предпосылка этого смыслового движения закрепляется за ним в системе. Знак по природе своей концептуален. В основе знака лежит значение, которое представляет собой некоторый целостный концепт (не важно в данном случае, склонны мы рассматривать этот концепт как образ или как понятие). Главное в этом концепте – формализация понимания, некоторое постоянство, тождество отношения к реальности. Это первое условие знака. Однако это условие достигается лишь путем семантической абстракции значения знака от любых индивидуальных и актуальных свойств объекта. Появление знака в языке мотивировано свойствами объекта, но сам знак непосредственно не может быть именем объекта. В знаке мы должны видеть предпосылку именования, но не имя. Знак изначально должен быть непохож на ту действительность, которую призван обозначать. Эта непохожесть должна быть представлена не просто во внешней форме (понятно, что эта форма не имеет ничего общего с объектом обозначения), а в самом значении знака. Трудно говорить о степени этой непохожести. Будем считать, что она должна быть достаточной для того, чтобы могло сохраняться семантическое тождество знака во всех случаях его употребления, т. е. чтобы во всех модификациях это был один и тот же знак. Таким образом, сущностное в знаке – это отвлечение от любой феноменологии обозначения. Избавившись от феноменологии именования, знак в-себе утрачивает и способность бытия. Однако он вновь обретает способность бытия и способность именования в результате смыслового закрепления необходимой формы своего бытия в системе языка, т. е. системного способа являться в условиях бытия144 (понятия “смысловое закрепление” и “система” в данном случае совпадают). Смысловое закрепление знака в системе выражается в грамматическом определении его значения в составе структурной парадигмы языка. Грамматическая форма значения – это и есть необходимая форма бытия знака. Грамматические свойства знака операциональны. Они представляют собой формализованный порядок референции и актуализации значения знака в условиях его употребления. Благодаря этим свойствам знак обретает способность именования. Лишь в условиях именования знак получает бытие. Вне этих условий в системе знак обладает лишь предпосылкой бытия. Именование является высшим выражением феноменологии знака, пределом его смысловой конкретизации. Конечно, нельзя ставить знак равенства между конкретными смысловыми свойствами имени и грамматической формой значения знака. Первые обладают гораздо большим разнообразием, чем вторая. Сущность первых в том, что они всегда уникальны, второй – что она стереотипна. Но именование, бытие знака недостижимо без категориально-грамматического определения его значения. Любая смысловая специализация значения достижима лишь каким-то грамматическим путем. Формальные смысловые свойства позволяют достичь требуемой точности объектной адресации значения. Значение как бы обретает способность описывать мир, становится прямым отражением данных актуальных свойств объекта. Возникает иллюзия истинности – значение как бы повторяет все то, что “делает” объект, становится “изваянием” реальности. Различные языки обладают бесконечным Во всяком бытии должно быть представлено явление сущности. Бытие – частный, ограниченный временем момент сущности, но в нем является вся сущность. Сущность вся открыта и вместе с тем бесконечно “сокрыта” в своем бытии: “раскрытие и сокрытие суть совершения самого бытия” (Х.-Г. Гадамер. Введение к работе М. Хайдеггера “Исток художественного творения” // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 113). 144 разнообразием грамматического определения семантики слов (категории предметности, предметной глагольности, качественности, лица, числа, рода, времени, аспекта действия и т. д.). Нас здесь интересуют не различия, а общий онтологический смысл этого явления. В целом можно сказать, что категориально-грамматические свойства языковых значений вместе с самими этими значениями представляют собой определенный формализованный порядок понимания мира. Парадоксальным итогом всей этой тотальной формализации понимания мира в языке является поистине бесконечная способность именования, уникальность, неповторимость каждого значения в функции именования (при абсолютном сохранении исходных общих формальных свойств). Два аспекта феноменологии знака следует выделять в имени. Вопервых, это предельная индивидуализация обозначения (некоторый объект в определенный момент называется данным именем). Вовторых, это выразительная способность, в которой открывается отношение говорящего к предмету речи, к обозначаемому. Первый аспект относится к объективной, второй – к субъективной модальности именования. Выразительная способность знакового именования относительна. Скорее, она уже принадлежит не знаку как таковому, а символу. Но знак в своих смысловых качествах является носителем выразительной функции, собственного символизма. В знаке открывается символическая сторона именования. Отсюда можно сказать, что знак, в условиях его использования в функции именования, в смысловом определении достигает выразительности, способности символизации. Но подлинное значение смысловой выразительности открывается нам не со стороны знака, а со стороны символа. Мы должны учитывать смысловую сторону знака, но сам знак не может объяснить причину своего смысла – функции именования. Таким образом, знак в смысловом качестве начинает с абсолютной непохожести, антифеноменологичности, а заканчивает, путем формально-грамматического операционального усиления в языке, способностью достигать полной похожести, ситуативности, абсолютной феноменологии именования. Имя – вершина смыслового становления знака. Вся формальная часть системы языка служит цели объективного именования. Систему, которая выстраивается в языке со стороны знака (формально-знакового аспекта знакового отношения в языке), мы можем назвать, имея в виду ее предназначение, функциональной, операциональной. С этой стороны языка нашему сознанию открывается некоторая функциональная модель мира. Еще одну немаловажную способность выявляет формализованный порядок понимания мира в языке. Формализованный порядок понимания, который нам дан в значении языкового знака, снимает смысловую нагрузку именования, отсекает все случайное, привходящее, позволяя сохранить в относительной чистоте и устойчивости систему языка. Системное развитие символа говорит о том, что ему не хватает концептуальной устойчивости. В отличие от знака, символ, взятый со стороны естественных качеств, непосредственно операционален, т. е. выразителен. Это говорит от том, что смысловое развитие символа начинается с абсолютной схожести с той реальностью, которая в нем естественным образом воплощена145, а заканчивается принципиальной условностью закрепления в системе или, иначе говоря, “непохожестью” на тот предметный концепт, с которым теперь связывается его бытие146. Системное смысловое Х.-Г. Гадамер считает, что в символе существенной является не изобразительная, а репрезентативная функция: “от себя они [символы] о символизируемом ничего не высказывают ... они осуществляют свою функцию замещения исключительно благодаря своему существованию и самопоказу... Такие символы, как религиозные, знамя, мундир, в такой сильной степени замещают чествуемое, что оно в них просто присутствует” (Гадамер Х.-Г. Истина и Метод. С. 203). Переводя мысль Х.-Г. Гадамера с языка философских обобщений на язык лингвистики, можно сказать, что символ насквозь перформативен. Он есть то, что он есть, совершенно выразительно, т. е. он сам есть то, что он собою представляет. 146 “Для символа, как его понимают все культурные языки, необходима такая идея, которая не имела бы ничего общего с непосредственным содержанием самого символа ... внутренняя сторона символического изображения и его 145 закрепление символа не препятствует его смысловой феноменологии. Наоборот, как и в знаке, системное смысловое закрепление здесь по-своему высвобождает феноменологию смысла, делает возможным бесконечное ее разнообразие при относительной устойчивости смыслового бытия. Каждый раз в том или ином языковом выражении мы безошибочно узнаем одно и то же, и вместе с тем всегда новое, чувство. В смысловой уникальности, бесконечности – сущность символического. В смысловой устойчивости, тождественности – форма бытия символа. Отношение сущности и бытия в символе кажется перевернутым с точки зрения привычного понимания147. Но еще раз повторим: сущность символа – не в обозначении и не в смысловом определении (хотя только при условии обозначения и смыслового определения единственно возможен символ), а в символическом отношении к реальности, т. е. именно в преодолении любой смысловой определенности, любого содержательного ограничения – в бесконечной перспективе содержательного становления знака. Символическое применительно к языку важно понимать как чистую смысловую способность, как фактор, который открывается в знаке. Символическое само по себе, как естественная форма выражения, иррационально. Чистого символического не существует, и мы лишь условно называем чисто символической естественную форму выражения, соотнесенную с внутренним психологическим состоянием субъекта. Соединение чистого символического со внешняя сторона не имеют ничего общего между собою” (Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 44). Надо только заметить, что Лосев здесь говорит о законченных, устоявшихся в общественном представлении символах. Аллегоризация, метафоризация символа, т. е. уподобление символа некоторому изобразительному мотиву, бессмысленна. “Весы” понимаются как символ справедливости, но в них самих нет ничего от справедливости. Спорить о том, что больше напоминает собою идею справедливости – “весы”, “меч” или какой-нибудь другой предмет, есть схоластика. 147 Cогласно Х.-Г. Гадамеру, символы “не означают прироста бытия репрезентируемого, хотя то, что оно [бытие] таким образом может осуществлять свое присутствие через символ, и входит в его бытие. ... Они – репрезентанты и принимают свою репрезентирующую функцию бытия от того, что должны репрезентировать” (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 203). знаковой формой бытия открывает символическое (само качество символического) человеческому сознанию, которое способно его понимать. Но в то же время говорить, что символическое может быть понято сознанием до конца, отрицает саму идею символического. Символическое в знаке не может и не должно быть понято до конца – иначе это будет обычное смысловое определение (которое, например, можно видеть в метафоре). Символическое как таковое “трансцендентно” – в том смысле, что стоит по ту сторону любого смыслового определения в знаке. Но в то же время оно необходимо опирается на опыт обозначения и смыслового определения в знаке, не имея для себя никакого другого способа бытия. Понятно, что смысловое закрепление символа в системе воплощает его движение к предметному мотиву. Это есть опредмечивание мотива, его перенесение из сферы чистой неосознанной потребности в плоскость сознательного понимания148. С позиций семиотики в этом можно видеть путь объективации символа. Максимальной объективации и соответственно максимальной концептуальной устойчивости символ достигает в аксиологии языкового знака. Это и есть предметное воплощение символа, форма его смыслового бытия в языке. Важно отметить, что аксиологические смысловые свойства в языковом знаке имеют относительный и опытный характер (в отличие от категориальнограмматических свойств, понимаемых абсолютно). Аксиологические свойства накапливаются в опыте именования, фиксируя развитие “Дело в том, что в самом потребностном состоянии субъекта предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До своего первого удовлетворения потребность “не знает” своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направляющую деятельность функции, т. е. становится мотивом.” (Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения. Т. 2. М.: Педагогика, 1983. С. 205). “Осознание мотивов есть явление вторичное, возникающее только на уровне личности и постоянно воспроизводящееся по ходу ее развития” (Там же. С. 214). 148 формы смыслового бытия символа. Имя как категорию следует размещать между знаком и символом149. В имени некоторым абсолютным образом сливаются их свойства. С одной стороны, имя – смысловое достижение знака, с другой – начало символа. Имя – опредмеченный символ, “поэтому кажется принадлежащим самому бытию”150. Знак конструирует имя. Семантические свойства имени со стороны знака представлены схематически, изобразительно. Символ, воплощенный в имени, определяет смысл знакового именования выразительно, в целом. Значение знака в символе раскрывается как образ. В этом пункте мы обнаруживаем интересный ракурс функциональной противопоставленности знака и символа в языке. Если формальные свойства в знаке служат снятию в нем смысловой нагрузки именования и сохранению в нем его чистых формальных свойств как средства обозначения, то аксиологические смысловые свойства (как представленная в знаке форма смыслового бытия символа) как раз важны тем, что в них сохраняется и бесконечно накапливается смысловая нагрузка именования. Поднимаясь на уровень языка в целом, мы можем сказать, что со стороны символа в языке формируется аксиологическая модель мира. Аксиологическая модель мира является итогом смыслового закрепления символа (необходимой формы бытия символа) в системе языка. Символ – качественно иное отношение человека к действительности. С этой стороны происходит идиоматизация, идеологизация и, в конечном счете, мифологизация мира. Система языка в символическом ее аспекте статична и нефункциональна – в отличие от принципиальной функциональности того ее аспекта, который образуется со стороны знака. Как таковую, ее можно назвать системой смысловых значимостей (понимаемых, как мы В искусстве имя функционально может быть заменено изображением. “Сущность изображения как бы находится посередине между двумя крайностями. Эти крайности представления – чистое указание, сущность знака, и чистое представительство, сущность символа. И то, и другое отчасти содержится в сущности изображения” (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 200). 150 Там же. С. 471. 149 указывали выше, отрицательно). Она образуется путем бесконечного накопления смыслового опыта слова как средства именования и соотнесения данного смыслового опыта со смысловым опытом других слов в языке. Этот опыт историчен по своей природе. Здесь мы обязаны исходить из того, что каждый лексико-семантический вариант (и иногда даже отдельная словоформа) в языке получает собственную символическую значимость. Функциональное значение имеет не аксиологическая модель мира сама по себе, представленная как система смысловых значимостей в языке, а опыт ее смыслового отрицания в акте именования. Когда мы называем слово, то этим мы, прежде всего, вызываем ассоциацию совокупного смыслового опыта слова, т. е. ассоциацию его смысловой значимости в языке. Слово (как символ), при любых условиях его порождения и восприятия, мыслится как таковое, внеконтекстно, или виртуально151. Однако, с другой стороны, слово представлено актуально: оно находится в контексте (непосредственным функциональным контекстом слова является предложение), который определяет его смысловую направленность. Обе стороны слова функционально значимы лишь благодаря друг другу, но не сами по себе. Вторая сторона слова (актуальная) отрицает (а также продолжает и развивает) первую (виртуальную). Первая сторона выполняет аксиологическую и нормативностилистическую функцию (можно видеть мифологические истоки этой функции). Столкновение актуальной и виртуальной сторон смысловой значимости слова открывает нам личностную феноменологию слова и всю культуру слова в языке. Ирония, пожалуй, способна глубже всего вскрыть историчность и условность смыслового опыта слова в языке. Например, из газетного заголовка: “Чиновник не пустит итальянский сапог на российскую землю”. Речь идет о том, что таможенная служба России В смысловом отношении “символы в принципе автономны” (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 341). Мы в этом усматриваем специфическое “одиночество” символа. Символы “одиноки” в смысловой определенности, которую они выявляют отрицательно относительно системы и других символов. 151 препятствует ввозу партии итальянских женских сапог на территорию страны. Но со словом “сапог” ассоциируется солдат, завоеватель. Отсюда – ирония относительно чрезмерного служебного рвения государственных чиновников. Иностранцу данная смысловая ассоциация может показаться искусственной. И она действительно является искусственной, поскольку “изобретена” случаем, смысловой историей слова в языке. Другой пример: “falcões” – в португальском языке это слово в своем образном значении используется для обозначения “ястребов”, сторонников жесткой линии в государственном ведомстве, в парламенте. Буквальный перевод на русский язык звучит нелепо: “соколы из парламента”; слово “сокол” получило совершенно противоположный смысловой опыт в русском языке; сокол – благородная, жертвенная птица (“Песня о соколе” М. Горького). Наоборот, слово “açor”, буквально означающее “ястреб, коршун” в португальском языке, приобрело в ходе своего смыслового развития положительную окраску (напр., “saber de açor” – “быть специалистом в каком-либо деле, обладать проницательностью”; “açor” – мудрая, высоко парящая птица). Смысловой опыт слова рождается в живой практике речи и в целом имеет фольклорную природу. Случайное, неожиданное появление слова в каком-то контексте (в анекдоте, песне, литературном произведении, кино и т. д.) вдруг может открыть в нем новые изобразительные и выразительные смысловые возможности и в целом обострить его символическое восприятие. В основе символа важно видеть, с одной стороны, случайность именования, а с другой – эпический оттенок открывающегося и закрепляющегося в нем смысла. 3.4. Объективная сторона модели и значение метода Недостаточность модели как принципа понимания объекта состоит в том, что в ней лишь фиксируется связь сущности с формой бытия (в целом или в любой ее части). Связь сущности с формой бытия представляется в модели структурированной, но сама из себя модель не способна объяснить представленную в ней связь. Точнее, модель дает лишь одностороннее ее объяснение. Она объясняет детерминированность бытия с позиций сущности, т. е. дает системное объяснение бытия. Такое объяснение недостаточно в том отношении, что в нем не до конца представлена истина бытия объекта152. При помощи системного объяснения невозможно достичь полного понимания феноменологии объекта. Феноменология оказывается как бы совершенно внешним, случайным фактором, не имеющим прямой связи с сущностью бытия объекта. Случайность выглядит совершенно оторванной от необходимости бытия объекта. Полное объяснение бытия последовательно раскрывается и может быть дано лишь с учетом позиции метода. Метод является важнейшим условием объяснения феноменологии объекта. Истина бытия во всей полноте открывается с позиций двух критериев: сущностного и методологического. Следует уточнить, в чем состоит позиция метода в понимании бытия объекта. Назовем это так: собственное, объективное значение метода. Метод – это чистая не-сущность, чистое не-сущее (поэтому философы часто связывают категорию метода с категорией ничто, или небытия, и даже иногда отождествляют с этой категорией153). Но при этом метод есть такое не-сущее, “которое не отделено от сущего по бытию”154. Метод не может онтологизироваться, мыслиться обособленно. У него нет “своей” сущности. Это не какая-то новая или посторонняя сущность или извне налагаемое условие бытия. Метод (в объективном значении) – Неудовлетворенность таким положением высказывали многие философы, которые детерминированность бытия сущностью считали недостаточным принципом объяснения истины бытия (Хайдеггер М. Время и бытие // Разговор на проселочной дороге. М.: Высш. шк., 1991. С. 80–101). 153 Некоторые философы, напр. М. Хайдеггер, прямо связывают бытие с ничто, минуя категорию метода. Для них ничто и есть метод бытия. Высшим мотивом бытия, по М. Хайдеггеру, является смерть. “Подлинное существование определяется им как “бытие-к-смерти” (Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. М.: Полит. лит-ра, 1985. С. 54). 154 Лосев А. Ф. Философия имени. С. 54. 152 это условие самой же сущности, которое открывается в факте ее бытия, т. е. чистое иное самой сущности, ее инобытие155. Метод представляет собой дальнейшую объективацию системных свойств объекта, дальнейшую объективацию бытия, которая означает, что объект перестает быть только реальностью всебе или для-себя и становится реальностью для-другого156. При этом обнаруживается иное значение бытия. Значение остается самим собой, но при этом в нем открывается новый смысл, новая направленность, которая ассоциативно, на правах коннотации, связывается с фактом значения. Другое оживает в бытии объекта как иное его значения, или как “значение значения”. Значение бытия объекта становится значением его метода. Подобную транспозицию от объективного значения (значение предмета = сущность + бытие) к методу (дальнейшая объективация в ином) легче всего было бы понимать трансцендентально – как некое “перевоплощение” значения, уход предмета “в мир иной”, в царство субъекта. Однако нас не устраивает трансцендентальное понимание, в нем мы видим неоправданное упрощение проблемы метода, поскольку в нем игноририруется собственное значение сущности. Метод превращается как бы в самостоятельную сущность, которая сама из себя управляет бытием объекта157, игнорируя те онтологические основания, которыми метод естественным образом был произведен. Проблема метода становится проблемой субъективного ракурса, подхода к объекту, за которым открывается внешнее и произвольное отношение к нему. “Инобытие есть... не некое безразличное наличному бытию, находящееся вне его, но его собственный момент” (Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики // Энциклопедия философских наук. Т. 1. С. 230). 156 Качество вещи с отрицательной стороны раскрывается как бытие-длядругого. Бытие-для-другого есть предпосылка инобытия, в котором раскрывается метод бытия вещи (См. Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики // Энциклопедия философских наук. Т. 1. С. 229). 157 Напр., М. Хайдеггер предпринимал попытки “мыслить бытие, не принимая во внимание обоснования бытия сущим... мыслить бытие без сущего...” (Хайдеггер М. Время и бытие // Разговор на проселочной дороге. С. 81). Само бытие, по М. Хайдеггеру, не открывается из сущности, но оказывается “ниспосланным” извне: “История бытия означает ниспослание бытия...” (Там же. С. 86). 155 Метод здесь подменяет собою сущность, единолично “узурпируя” право определять необходимость бытия. Подлинная природная необходимость бытия (при онтологизации метода) ускользает от научного понимания. При переходе к методу, когда наука, преодолевая крайности научной рефлексии, вырастает до высот сознательного отношения к своему методу, не должна происходить смена метафизики объекта, смена позиции сущности. Метод должен мыслиться при безусловном сохранении собственного объективного значения сущности, т. е. при безусловном сохранении всех свойств модели. Общим правилом здесь, видимо, должно считаться то, что взаимосвязь сущности и метода не должна пониматься и описываться как некое прагматическое отношение: сущность не является результатом или инструментом метода (это было бы онтологизацией метода и игнорированием собственного значения сущности), равно как и в методе недопустимо видеть некий “инструмент” сущности (в этом случае уничтожается значение метода, и он подается как некая смысловая частность или особенность бытия). Мы уже говорили, что метод в его объективном значении – это непроизольная смысловая вершина становления сущности. В каком-то смысле сущность “бессильна” перед открывающимся в ней методом. Парадокс метода в том и состоит, что он вездесущ, как и сама сущность, и в то же время в нем нет и не должно быть ничего сущностно необходимого, т. е. никакой рациональной смысловой направленности, смысловой пользы для сущности. С точки зрения содержания бытия сущности метод должен быть совершенно бесполезен. Сущность не дает никакого рационального смыслового “задания” своему методу. Но при этом метод – не внешняя данность, а момент в самой сущности. Категория метода в такой его интерпретации ближе всего должна стоять к категории инобытия. Категория инобытия в смысловом отношении по ряду позиций шире категории метода. Метод – инобытие сущности, в котором можно видеть ее переосмысление. Но это не уход в иную реальность и полное забвение собственного значения сущности, забвение бытия. Это такое инобытие, в котором сохраняется все богатство бытия. Сложность нашего положения состоит в том, что наши объекты – знак и символ – являются моделями сами по себе, а не потому, что мы в целях научного понимания пожелали их так увидеть. В нашем случае, модель является и способом научного понимания, и научным объектом. Лучшим способом понимания языка является сам язык. С одной стороны, здесь возникает опасность неразличения в составе модели теоретического и эмпирического объектов, как ее сторон. Но с другой стороны, это дает возможность непосредственно моделировать эмпирический объект (т. е. опытную сторону бытия объекта). Научная модель в-себе абстрактна и предназначена для выделения теоретического объекта. При переходе к эмприческому объекту она сохраняет силу как показатель необходимой формы бытия (т. е. сущностной стороны) объекта. Смысловые возможности теоретической модели определены уровнем явления. В эмпирической модели явление уже должно осмысливаться как бытие. Но при любом смысловом рассмотрении модели она обращена внутрь, в себя, к необходимой стороне бытия. Модель в-себе не может подняться над системным пониманием бытия, и в целом ее тенденцией является обращенность к сущности и объяснение любого видимого бытия как явления сущности. Мы специально говорим о преодолении этой тенденции, о выходе вовне к категории метода и о действительно полном понимании бытия не только в системном (необходимом), но и в феноменологическом аспекте. И знак, и символ представляют собой определенную форму (модель) понимания человеком мира, каждый из них естественным образом развивает некоторый порядок моделирования реальности. Что несет добавление к системным свойствам объекта метода его бытия? И в знаке, и в символе это означает дальнейшую объективацию бытия. Критерием дальнейшей объективации бытия –как в знаке, так и в символе – является субъект, человек, создатель и пользователь модели. Подлинный феноменологический смысл бытия модели открывается в самом человеке, который в смысловом опыте модели приходит к сознанию своей относительности в этом мире, относительности своего понимаия. Модель есть воссоздание (путем моделирования), или содержательное конструирование реальности. Это есть в-себе чистое погружение в содержание реальности; человеческого “я” нет в этом погружении. И в то же время человеческое “я” скрыто за каждым шагом содержательного погружения, за каждым штрихом модели. Но обнаруживается это лишь на самом пике содержательного конструирования, когда модель открывается человеку как целое. На каком-то этапе человек осознает, что содержание модели – это лишь экспозиция реальности, за которой стоит он сам, и что все это имеет значение для него. Самосознание субъекта – отрицательный результат содержательного развития модели. Пройдя через все содержательные определения, субъект в итоге приходит к отношению к самому себе. На вершине смыслового определения модели стоит субъективная самооценка, оценка субъектом самого себя. Это и есть условие, которое позволяет увидеть и понять открывающееся в модели значение метода. Итак, субъект является условием, в связи с которым в знаке и в символе проявляется значение метода. Само значение метода в знаке и символе является различным, поскольку оно открывается относительно различных объективных сущностных предпосылок. Значение метода требует переосмысления фиксируемого в модели бытия (стоящей за нею реальности), придания бытию нового качества, в котором раскроется во всей полноте его феноменология. Без позиции метода феноменология объекта раскрывается не полностью (лишь с узко детерминистских позиций). Рассмотрим на смысловом опыте модели отношение метода к бытию и непосредственно к сущности. Во-первых, если к смысловому пониманию бытия добавляется позиция метода, происходит смысловое увеличение и смена акцента в понимании модели: если модель была лишь реальностью в-себе, то теперь она становится также реальностью для другого. Этим другим для знака и для символа является субъект, т. е. понимающее начало модели, к которому все и возвращается на вершине ее смыслового определения158. Модель переводится из плана собственного, внутреннего, логического в план фактического существования. В самом деле, рассмотренный чисто логически, как модель, объект не является фактом (факт можно понять логически, но чтобы понять логику как факт требуются дополнительные смысловые условия). Категория факта подразумевает временную последовательность состояний объекта – то, что объект каждый раз оказывается новым, другим, т. е. является каким-то феноменоменологическим образом. Но речь идет не о логическом “калейдоскопе” состояний, которые наблюдает и анализирует ученый, а о реальной истории объекта. Такое возможно лишь с позиций другого, понимающего начала, которое, перенесенное в снятом виде в объект, выступает как позиция метода. Нельзя быть фактом лишь узко в-себе и для-себя. Можно стать фактом, открываясь для чего-то другого. Таким образом, феноменологическая реальность объекта без учета позиции метода является фикцией: объект фактуален для другого, и с этих позиций он фактуален также в-себе и для себя, т. е. может быть рассмотрен в-себе как событие и как факт. Во-вторых, открывая в бытии объекта значение метода, мы приходим к тому важному положению, что с позиции метода реальность объекта в-себе и его реальность для другого приходят к полному тождеству, слиянию. Это одно и то же бытие (тождество В символе как таковом это может показаться парадоксальным, даже абсурдным, поскольку его собственное значение есть чистый субъект. Получается, что с точки зрения символа субъект, пройдя этап соединения с некоторой внешней формой выражения, от самого себя приходит к самому себе. Это процесс объективации символического в знаке, в знаковой выразительной форме. Субъект получает возможность созерцать себя, понимать и оценивать. Причем “обман” символа в том и состоит, что человек формально видит не себя, а то, что представлено в знаке. “Символы – репрезентанты и принимают свою репрезентирующую функцию бытия от того, что должны репрезентировать” (Гадамер Х.-Г. Истина и Метод. С. 203). Выразительное движение от субъекта к субъекту характерно для искусства. В языке эта сторона, “изнанка” символического, конечно, не является доминирующей. 158 которого обусловливается тождеством онтологической предпосылки, т. е. сущности). Противопоставленность объекта и субъекта теряет свое обычное значение. В модели реализуется бытие объекта, но оно же по факту является реализацией бытия субъекта. Чтобы понять это бытие, не требуется никакого “перевода” смысла этого бытия с “языка” объекта на “язык” субъекта: это один и тот же “язык”, один и тот же смысл. Иное, открывающееся в этом смысловом слиянии, и есть значение метода. Это особенно важно понимать, когда мы говорим о явлениях знаковости и символизации в языке: так, предметное содержание знака, соединенное с его коммуникативной смысловой обусловленностью, открывает значение метода символизации в языке – область стилистической, культурной и личностной коннотации. В-третьих, позиция метода по-новому раскрывает смысловую обусловленность бытия, представленного в модели. Обусловленность бытия со стороны сущности раскрывает бытие как необходимое. В аспекте метода в бытии становится релевантным представленный в нем опыт бытия (в котором в качестве его отрицательного момента большую роль играет фактор случайности бытия). Для нас это смысловой опыт слова в его знаковом и символическом понимании в языке. Необходимость бытия, наоборот, отодвигается на задний план, становится вторичной. Даже она может рассматриваться как момент опыта, как производная от метода (в конце концов, весь язык есть результат опыта выразительной коммуникативной деятельности субъекта). Из сказанного, понятно, что объективное значение опыта бытия объекта возможно лишь при условии его субъективного значения как опыта субъекта. Субъект понимает, осмысливает и оценивает слово в языке. Опыт его отношения к слову и есть опыт слова в языке. В опыте бытия модели, как мы уже говорили, не столь важна его положительная, сколько отрицательная сторона. В комплексе это вся совокупность смыслового опыта, исторически накопленного в модели, и одновременно отрицание совокупного опыта в данной смысловой реализации модели. Обе эти стороны значимы лишь благодаря друг другу. Феноменология смысла, его методологическое значение представлены в самом акте данного отрицания. Непосредственно значение метода раскрывается в бытии модели, создавая предпосылку феноменологического понимания бытия. Но следует учитывать функцию метода и при его прямом соотнесении с сущностной стороной модели. С позиции метода поновому раскрывается значение самой сущности, для которой чрезвычайно важна ее феноменологическая смысловая перспектива. Во-первых, лишь с учетом позиции метода приходит сознание исторической данности и конечности бытия модели: ее сущности и всех форм ее смысловой детерминации, которые проявляются в бытии объекта. Когда мы берем модель в-себе, как таковую, то не ощущаем этой конечности. С этой стороны значение бытия понимается абсолютно, как вершина смыслового определения сущности. Наоборот, со стороны метода, открывается относительность, историческая данность бытия сущности. Подлинная бесконечность бытия открывается лишь как значение опыта, который не ограничен никакими конечными представлениями. Во-вторых, изменчивость бытия по закону отрицания требует постоянства критерия, по которому ее саму можно было бы оценивать как некоторую форму смыслового движения. Достигая бытия, сущность достигает некоторой абсолютной инстанции смыслового движения. Это своеобразный смысловой perpetuum mobile, в котором царствует относительность. Бесконечная спецификация, выделение каждый раз какой-то новой и частной особенности бытия – таковы проявления смыслового движения сущности на этом уровне ее понимания. На уровне метода сущность достигает некоторой абсолютной инстанции смыслового покоя. Какая бы особенность бытия ни была представлена, она, в конечном счете, есть лишь очередное продолжение опыта бытия, новое свидетельство тотальности, постоянства и бесконечности смыслового опыта. Можно сказать, что в масштабе бытия сущность подчиняется влиянию внешних условий, которые требуют от нее определенной формы смыслового становления. В масштабе метода сущность доминирует над специальной, особенной стороной бытия, и любая форма бытия лишь подтверждает единство метода, которым обусловлен путь любых форм бытия к одному и тому же истоку, к одной и той же сущности, где все они становятся явлениями одной природы.159 Наконец, в-третьих: рассмотренная с позиций сущности, в-себе, модель обладает пассивными смысловыми свойствами относительно представленной в ее содержании реальности. Дополненная значением метода, модель обретает способность активного отношения к реальности: модель-копия превращается в модель-план, модель-программу160. В модели появляется избирательное смысловое отношение к реальности. Сама реальность оживает в модели, которая становится фактором, регулирующим в сознании субъекта смысловое понимание реальности. Причем новые активные свойства модели нисколько не исключают ее первичных пассивных качеств, имеющих сущностное значение. Учитывая неразличенность с позиций метода субъективного и объективного в смысловом определении модели, можно сказать, что сама реальность моделирует содержание нашей Чтобы выкристаллизовать этот покой, М. Хайдеггер отказывается от сущностного понимания бытия, рассматривая бытие в-себе без его соотнесения с сущностью. Хайдеггер не видит связи этого покоя с сущностью, но четко угадывает его значение для чувственного и художественного восприятия: “на нас напирает покоящееся в себе бытие.” (Х.-Г. Гадамер. Введение к работе М. Хайдеггера “Исток художественного творения”. С. 114). Это есть покой метода в объективном его значении. 160 На двусмысленность в этом отношении понятия модели указывает Лосев, рассматривая применение этого понятия к явлениям искусства в сборниках тартусской школы (См.: Лосев А. Ф. Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа // Знак. Символ. Миф. М.: МГУ, 1982. С. 220–245). Для искусства такое различение особенно важно. В самом деле, реальность представляется в соответствии с принципами модели, или модель строится в соответствии с принципами реальности? Что производно от чего? Сводить искусство к функции обычного отражения, значит отказывать искусству в праве на оригинальность, преодоление штампа, свободу формы понимания. Не видеть в искусстве отражения значит отказывать ему в возможности иметь какую-либо связь с реальностью. 159 деятельности, но в этом же самом мы моделируем содержание бытия реальности. Отрицательной стороной такого движения является развитие некоторых предрассудочных форм отношения человека к реальности. Однако в этом имеются и положительные моменты: постоянство содержательного опыта, необходимость его расширения и развития, возможность приближения к значению метода. В смысловом преодолении предрассудка открывается самосознание субъекта – с положительной (в знаке) или отрицательной (в символе) стороны. Итак, с позиций метода по-новому раскрываются значение бытия и значение сущности в объекте: системность бытия сменяется его фактуальностью; абсолютная объектность бытия переходит в абсолютную субъектность; системная обусловленность бытия уходит на второй план, а на первый выступает опыт бытия, история бытия объекта. Далее, системная бесконечность сменяется исторической бесконечностью бытия (системность модели, ее сущностная детерминация в рамках метода осознается как некоторый исторически данный конечный способ ее понимания, в то время как движение исторического опыта мыслится как подлинная бесконечность); в методе модель обретает постоянство смыслового критерия бытия (смысловой покой), в ракурсе которого любая случайность бытия рассматривается как момент опыта, включается в этот опыт и понимается как его продолжение; раскрывая в себе значение своего метода, модель перерастает момент пассивного отношения к реальности и обнаруживает активную, избирательную позицию (в знаке и символе мы можем говорить об активных отражательных смысловых свойствах модели). Все шесть перечисленных моментов образуют базу феноменологического понимания объекта как модели: в аспекте переосмысления бытия (фактуальность, субъект-объектная неразличенность, опытность) и в аспекте дальнейшего развития значения сущности (историческая бесконечность, смысловой покой, активные смысловые свойства). Знак есть некоторая форма познания человеком реальности. Символ есть некоторая форма чувственного отношения человека к реальности. Каждый из них, рассмотренный в-себе, как модель, пассивен. Однако каждый из них, пройдя этап необходимого смыслового определения в аспекте бытия, открывает в себе значение метода. В знаке вершиной его содержательного смыслового становления и значением его метода является некоторая способность символизации. В символе вершиной его выразительного смыслового становления и значением его метода является некоторая знаковая форма объективации символа. Знак через содержательное смысловое развитие стремится стать символом. Символ, развиваясь выразительно, стремится к тому, чтобы превратиться в некоторую форму объективного обозначения, стремится стать знаком. В противоположном моменте каждый из них видит и свое инобытие, и небытие, и свой метод. Друг в друге символ и знак, два абсолютно противоположных начала знакового отношения в языке, открывают значение метода. В методе открывается покой, неизменность, постоянная направленность смыслового движения. При этом ни знак, ни символ не достигают и не могут каким-то положительным образом достигнуть конечной цели своего движения (вообще, значение метода в содержании модели обнаруживается, скорее, отрицательно). Нельзя, например, построить знак от символа. Точно так же, двигаясь от знака, можно открыть его символическую функцию, но нельзя построить символ из знака рациональным путем. Однако именно благодаря этому движению, благодаря постоянно открывающемуся значению метода в знаковых и символических средствах языка, мы получаем способность активно чувствовать и активно познавать мир. 4. Эволюция форм натурального символизма Было бы определенным упрощением представлять язык как результат некоторого абсолютного слияния знака и символа, которое воплощается в слове. Взаимное стремление друг к другу знака и символа в языке (как, впрочем, и в любой знаковой системе) следует признать абсолютным, но оно никогда не является самодостаточным. Всегда сохраняется некоторый резерв развития: в символе – в сторону его дальнейшей эволюции как знака, т.е. эволюции в нем его знаковых свойств, в знаке – в сторону дальнейшей эволюции в нем его символических смысловых способностей, т.е. эволюции его как символа. Между первым и вторым не может быть установлено какое-то окончательное равновесие, в котором бы сама проблема их отношения друг к другу снималась. Поэтому наше представление о телеологии знакового отношения в языке требует некоторой корректировки. Как бы мы ни понимали материальное совпадение знака и символа в языке, аспект их отношения друг к другу должен рассматриваться отдельно. Отношение знака к символу и отношение символа к знаку – не одно и то же. Принципиальное значение для семиотики имеет вопрос о первичности одного и, соответственно, вторичности другого из них. В семиотике и культурологии сложились два варианта решения этого вопроса. Согласно одному из них (впервые эта точка зрения была изложена в работах Ч.С. Пирса161), знак полагается как нечто первичное, а символ – как нечто вторичное, производное от знака. Согласно другому варианту (его автором считается Э. Кассирер162), наоборот, движение от символа к знаку должно полагаться в качестве базового, первичного, из которого уже на новом уровне вновь возникает движение от знака к символу. Ч. Пирс исходил из онтологической первичности знака по отношению к символу и был по-своему прав, говоря, что символ вырастает из знака163. Э. Кассирер исходил из генетической первичности символа по отношению к знаку и со своих позиций доказывал, что знак является определенной вершиной в эволюции символической функции сознания.164 Точку зрения Ч. Пирса мы считаем одностронней: в ней берется лишь одна сторона телеологии знакового отношения – от знака к символу, – которая понимается им как накопление и Peirce Ch. S. Elements of Logic// Collected papers. Vol.II. – Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1965. 162 Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. I (Language) – New Haven: Yale Univ. Press, 1953-55. 163 См.: Peirce Ch. S. Ibid – p. 169. 164 См.: Cassirer E. Ibid – p. 186. 161 обнаружение смысловых качеств в знаке в условиях его употребления и определяется как семиозис. Генетический подход Кассирера мы считаем более перспективным. В нем учитываются обе стороны телеологии знакового отношения: как от символа к знаку, так и от знака к символу. Первое отношение, которое мы называем семиогенез, должно быть поставлено во главу угла. В нем подготавливаются условия для последующего семиозиса на знаковом уровне (т.е. когда символ уже понят в-себе как знак). Семиогенез – это эволюция символа (символической формы) как знака. Прежде чем понять, как в знаке, в опыте семиозиса, раскрывается его символический смысл, необходимо исследовать опыт семиогенеза, увидеть, как в символе в процессе его эволюции проявляется и развивается его знаковая форма. То отношение, которое развивается в опыте семиогенеза, мы, вслед за Кассирером, будем понимать как натуральное символическое.165 В целом оно происходит от незнаковых, неязыковых форм выражения, поэтому иногда мы (в первую очередь, имея в виду его ранние стадии) будем называть его также незнаковым, доязыковым символизмом. Во вторичном отношении в опыте семиозиса – от знака к символу – рождается собственно языковой символизм, который поэтому можно считать производным, знаковым. Чтобы до конца понять и представить значение и сущность собственно языкового символизма, необходимо отличить этот символизм, вырастающий на основе языкового знака, от символизма натурального, идущего от незнаковых форм выражения. Нам, прежде всего, важно понять, каким образом подготавливаются условия для выявления символической функции в языковом знаке, из чего вырастает языковой символизм. Для этого мы, с одной стороны, должны представить языковой знак в его генетической связи с формами натурального, доязыкового символизма и, с другой стороны, представить символические формы как семиотические 165 См.: Cassirer E. Ibid – p. 105. концепты с тем, чтобы исследовать их эволюцию как знаковых сущностей. 4.1. Символ как категория в истории философии, эстетике и культурологии. Общее понятие символа Незнаковый символизм чрезвычайно разнообразен. Он возникает как бы совершенно непроизвольно, естественным образом. Человек вдруг начинает по-новому видеть и воспринимать предметы и явления окружающего мира. Он начинает узнавать в них не их самих, а нечто иное, потустороннее, высшее, что никак не обусловлено бытием этих предметов, но в то же время неразрывно связано с ним. Кипарис у древних греков становится символом смерти и всего связанного со смертью, береза у русских принимает функцию эстетической символизации женственности, различные идолы (камень, статуя животного, кусок дерева и т. д.) у древних выступают символами божеств, можно долго перечислять различные символы мудрости, красоты, справедливости, власти и т. д., которые сохраняют свою значимость до сих пор. Трудно дать какое-либо метафизическое объяснение названному явлению: в какой мере оно является частью бытия субъекта, а в какой – объекта. Исторически различные объяснения явлений символизации сводятся к следующим базовым положениям. 1. Символизация всегда есть процесс произвольного превращения человеком (путем субъективного переосмысления) какого-то объекта в знак. “Символ есть прежде всего некий знак”166. Это можно понять как открытие знака в объекте: объект вдруг начинает указывать человеку на чтото еще, находящееся выше или вне его бытие. 2. Открытие знака происходит на вершине целостного чувственного восприятия (и осмысления) объекта субъектом. Однако, как бы ни представлять себе телеологически дальнейшее развитие чувственной формы восприятия на уровне ее целостного осмысления (видеть ли в ней эксплуатацию субъективной чувственности или некое новое 166 Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 2. М.: Искусство, 1969. С. 14. созерцание бытия объекта), ее объективным итогом является выход в сверхчувственную сферу бытия субъекта. “Символ – это совпадение чувственного и сверхчувственного...”167 Собственным содержанием символа обязательно должно быть нечто сверхчувственное, значимое в социальном, нравственном, эстетическом и т. п. отношении, в связи с чем человек способен испытывать сильные эмоциональные переживания168. Только символически (т. е. при помощи какой-то символической формы) мы можем воспринимать такие феномены, как прекрасное и безобразное, нравственное и постыдное, доброе и злое и т. д. Любое их рациональное логическое толкование в-себе не может считаться исчерпывающим и получает какую-либо достаточность, лишь когда подводит к их целостному и единому символическому пониманию. Символ – знак, который перестает служить самому себе и служит иному, высшему, чего как будто нет в нем самом, но что открывается в значительной мере лишь с его помощью. 3. Понятый объективно, символ совершенно условен, является социальной конвенцией. Однако с субъективной стороны, понятый как носитель сверхчувственной значимости, символ догматичен169 и воспринимается субъектом органично как нечто безусловное и естественное. Лишь объективный научный анализ показывает человеческое происхождение символа. Понимаемый непосредственно, т. е. чувственно, символ космичен и “нечеловечен”. Человек открывает его как закон, как некое природное или данное свыше установление, которое можно любить, можно ненавидеть, но невозможно игнорировать. Символические Гадамер Х.-Г. Истина и Метод. С. 119. Например, прекрасное “не отличается такими свойствами, которые оставалось бы лишь распознать в предмете, – оно должно быть засвидетельствовано субъективным моментом...” (Гадамер Х.-Г. Введение к работе М. Хайдеггера “Исток художественного творения”. С. 106. 169 Догматический момент в ранних символических формах подчеркивается Х.-Г. Гадамером (Истина и Метод. С. 124). В прошлом нравственные догмы обычно получали символическое изображение (миф, аллегория). До сих пор символизация остается наиболее выразительным способом иллюстрации нравственных и художественных абстракций. 167 168 нормы для человека, пожалуй, самые строгие и непререкаемые. Их нарушение в зависимости от социальной значимости нормы может оцениваться как эпатаж, цинизм, нравственный вызов или даже святотатство. Например, в России в XVI–XVII вв. запрещалось есть телятину (это было равносильно убийству ребенка), считалось святотатством целовать икону в губы. Символ может стоять в основе суеверий: у некоторых племен Австралии, Южной Америки налагается табу на упоминание в речи имен умерших членов рода: считается, что этим можно вызвать душу умершего. 4. Значение символа важно не само по себе. Оно всегда значимо для чего-то другого, оказывает концентрическое влияние на другие окружающие символ предметы. Символ всегда помещается в центр отношения человека и мира и служит интерпретатором окружающей реальности. Значение символа переносится на реальные объекты, становится значением их бытия. Поэтому для символа существенно важен перенос его значения на что-то, что само по себе символом не является и символической функцией в себе не несет. Если человек увидел в реальной жизни символ, то вся жизнь (на каком-то участке) для него приобретает символическое значение. Человек поддается “обаянию” символа, какое-то время остается под его впечатлением, видит в нем смысл своего бытия. Символ как бы открывает человеку глаза на мир, показывает иное значение видимого. Этим свойством символа с успехом пользуются художники, поэты, писатели: каждый из них стремится как можно более совершенно представить в художественной форме то или иное значение символизации, подвести слушателя, читателя, зрителя к символически значимому переживанию. Первоначально, в древности, символ связывался с мифом, которым определялось его сверхчувственное значение (Платон). Тогда миф обычно не отличался от аллегории. В мифе видели сказку, ложь, которая, однако символизировала нечто нравственно поучительное170. В дальнейшем происходит христианизация и См.: Платон. Государство // Собр. соч. Т. 3. М.: Мысль, 1991. С. 140. Для Платона одним из важнейших и наиболее иллюстративных способов 170 религиозная мистификация значения символа. Истинное, высшее значение символа унифицировалось и связывалось с христианским символом веры (credo). Здесь можно видеть образцы наиболее совершенного и глубокого понимания символа. Вместе с тем, символ отрывался от человека, хотя считалось, что он открывается (от лица Бога) и может быть понятен лишь человеку. В новое время, прежде всего, усилиями немецких романтиков (Ф. Шеллинг, И.-Г. Гердер, Фр. Шлегель, Ф. Шиллер, И.-В. Гёте и др.), происходит идеологическое освобождение символа. Значительно расширяется представление о сферах его обнаружения и применения. Символ эстетизируется, понимается как высшая, универсальная форма-носитель идеи прекрасного в искусстве (И. Кант)171: прекрасное символично и в высшем смысле может быть воплощено лишь в том, что должно восприниматься как символ. Кант открывает символический характер действия языка. Символ, с одной стороны, дерационализируется, противопоставляется всем формам тропеической образности и, прежде всего, аллегории, а с другой стороны, перестает пониматься как форма некоего божественного откровения и все больше связывается с творческой деятельностью человеческого гения, способного создавать или открывать все новые и новые символы. В более поздний период, в неокантианстве, происходит универсализация символа: символ трактуется как высшая, предельная по своим содержательным возможностям форма познания реальности. Все в человеке стремится к символу172. Возникает своеобразный “пансимволизм”. “Человек – существо символическое” (Э. Кассирер). Наука, искусство, религия, нравственные и общественные институты, язык – все это доказательства чего-то нравственно или эстетически ценного был миф (Диалоги “Протагор”, “Критий” и др.). 171 Мы имеем в виду то, что Кант охарактеризовал как “эстетическую способность суждения” (Кант И. Критика способности суждения. § 59). 172 Впрочем, уже немецкие романтики постулировали всеобщность символа для бытия человека. “Все, что происходит, есть символ” (И.-В. Гёте). “Всякое знание символично” (Фр. Шлегель). символические формы человеческого бытия. Ценность такого понимания символа состоит в том, что в любом действии человеку открывается нечто высшее, сверхчувственное, подлежащее нравственному толкованию и оценке. Отрицательный момент можно увидеть в том, что символическое стало невозможно связать с конкретной устойчивой формой бытия (оно просто растворялось в бесконечном разнообразии форм человеческого бытия), вследствие чего стало невозможно объективно исследовать его природу, определить символ как феномен, подвести символическое под какие-либо внешние объективные критерии. Но параллельно с постулированием бесконечного разнообразия сферы символического в неокантианстве в целом сужается типология знакового определения символических форм. Символическое, как правило, рационализируется, специально связывается с метафорой и даже отождествляется с последней: метафора считается высшей выразительной формой символического. В этом, как ни странно, также можно видеть положительный момент, поскольку связь метафоры и символа должна полагаться как наиболее устойчивая – с тем лишь условием, что символ не должен напрямую отождествляться с метафорой. Здесь не может быть никакой рациональной редукции. Метафора должна полагаться как форма бытия собственно символического, как рациональная знаковая основа накопления опыта символизации. В переносе значения вообще, каким мы его видим в метафоре или в любом другом тропе, следует, в первую очередь, видеть движение опыта символизации. Определенный вклад в теорию символа внесла отечественная философия, филология, лингвистика (А. А. Потебня, А. Белый, Вяч. Иванов, В. В. Виноградов, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, С. С. Аверинцев, Н. Д. Арутюнова). Неокантианцы, исследуя явление символизации, идут главным образом, от абстрактного субъекта. Понять бытие символа в опытном и феноменологическом аспектах с этих позиций невозможно. Отечественная школа, прежде всего, подчеркивает социальную значимость символа (А. Ф. Лосев)173, т. е. его включенность в социальный контекст – его традиционность, конвенциональность, понятность. Символ есть феномен культуры народа: без этого декларируемое нравственное понимание символа невозможно. В свою очередь, узнавание культуры может происходить лишь в символе. Символ, конечно же, замыкается на субъекте, человеческой личности. Но символическая и нравственная оценка самой личности возможна не иначе как в контексте культуры. Символ – знак личности в контексте культуры. Точкой отсчета в понимании символа, таким образом, должен быть опыт бытия человека, который определяет культурное, социальное и нравственное значение символа. Собирая воедино многие положения различных философских школ и направлений по проблеме символа, мы можем составить следующую картину понимания символа, или (в нашей терминологии) явлений чистого, натурального, незнакового символизма. Явление символизации, или символ, возникает там и тогда, где и когда человек вдруг обнаруживает знак в том, что в-себе знаком не является (это может быть даже языковой знак, но при этом его собственная знаковая функция игнорируется, и человек видит в нем не то, что он есть, а чистый натуральный символ; такое естественно-символическое отношение к языковому знаку, к слову возможно, например, в поэзии). Несмотря на знаковое происхождение, символ, как таковой, не может быть знаком чего-то внешнего, материального, буквального. Он выразительно отсылает нас к чему-то абстрактному, социально и культурно значимому (невозможно представить себе, что может служить символом какогото конкретного предмета: например, вот этой лежащей передо мной книги; хотя сама книга при определенном ее восприятии может служить символом знаний). Символ становится центральным фактором бытия человека, главным выразительным С особенной силой этот момент всякого символического подчеркивается в работе А. Ф. Лосева “Проблема символа и реалистическое искусство”. 173 интерпретатором значимости окружающей человека реальности, сосредотачивая в себе ее высшее значение для субъекта. Субъективное чувство, эмоциональное или эстетическое переживание, наполненное социально или культурно значимым нравственным содержанием, – вот что составляет собственное значение чистого натурального символа. 4.2. Структура символического восприятия Общее понимание символа может считаться лишь предварительным условием его изучения. Здесь объясняется сущность символического, но не вполне раскрывается бытие символа, которое обосновывается односторонне содержательно с позиций его детерминации со стороны сущности (т. е. собственно символического значения), но не метода (символической формы). С нашей точки зрения, онтологическая задача науки должна быть дополнена задачей телеологического объяснения символа в контексте его устойчивого стремления к своему инобытию. Необходимо провести и осмыслить движение от сущности к бытию и, далее, от бытия к методу, с позиций которого бытие будет оценено как опыт бытия. Другими словами, необходимо проложить связь от значения символа к опыту символизации (от собственного значения модели к значению ее метода). Труднее всего в символе объяснить постоянство, устойчивую воспроизводимость его значения. Каким образом осуществляется переход от субъективного чувственного опыта к значению символизации? В чем необходимость этого перехода? Каковы механизмы закрепления символического значения в символе? Как развивается и развивается ли вообще опыт символизации? Значение символа, однажды воспринятое субъектом, должно культивироваться, т. е. как-то воспроизводиться, воссоздаваться в опыте реальной жизни, напоминать о себе и в этом переживать свое становление. Это должна быть выразительная культивация символического значения. Потенциально символическое значение должно иметь бесконечное культивация должна быть число носителей: выразительная бесконечно разнообразной при принципиальном постоянстве, тождестве значения. Происходит многостороннее узнавание символа в бесконечном множестве его выразительных проявлений, в бесконечном разнообразии форм бытия. Чувства патриотизма, любви, дружбы у каждого человека проявляются по-разному: более примитивно или утонченно. Но в то же время это всегда одни и те же по своему значению чувства, для которых каждый видит свой путь их выразительной символизации. С другой стороны, один и тот же человек может испытывать одно и то же чувство по поводу различных явлений и ситуаций. Человек иногда во всем, даже в самом неожиданном, начинает видеть символы, испытывая по этому поводу соответствующие эмоциональные или эстетические переживания. Лучше всего это можно показать на примере художественных произведений. А. С. Пушкин, непревзойденный мастер художественного символического моделирования, вкладывает символический смысл в слова князя в драме “Русалка”: “Все здесь напоминает мне былое”, – это тема раскаяния, нравственного несогласия со своим поступком, которая руководит развитием образа. Отец в пьесе В. С. Розова “Вечно живые” после приезда из эвакуации, возвратясь домой, с радостью сообщает дочери, в какую давку он попал в московском трамвае. Это символ прежней Москвы, которую они не видели несколько лет, со всей ее суетой, радостями и неудобствами. Отец во всем видит и узнает свою Москву: давка в московском трамвае, может быть, в наибольшей степени напомнила ему о долгожданном возврате к прежней жизни. Но для дочери этот символ с не меньшей остротой говорит о другом: о том, что теперь эта жизнь будет продолжаться без того человека, которого она любила. Ей все напоминает, что его нет в этой жизни. И этот же самый символ требует от нее противоположного: оставить в прошлом образ любимого. Для отца – это расстаться с лишениями и тяготами военного времени, а для дочери это значит расстаться с тем, что во многом составляло смысл ее жизни. Этот удивительный по силе символ показывает все противоречие развития образов героев. Проходит время, знакомые предметы теряют обаяние символизации, и та же давка в трамвае не будет вызывать ничего, кроме раздражения. Думается, сказанное определенно свидетельствует о тотальности символического бытия, имманентности позиции символа в чувственном восприятии человека. Символ не подчинен человеческому волению. Нельзя по желанию искать символ, а от найденного символа уже невозможно отказаться. Можно пройти мимо символа, не заметить его, но заметив, его трудно выбросить из головы. Чувство, социально значимое, нравственное, эстетическое, которое открывается в явлениях символизации, по-своему управляет человеком, и он везде видит бытие этого своего чувства, везде обнаруживает его символическое присутствие. Таким образом, мы можем сказать, что символическое – постоянный фактор бытия человека. Оно служит свидетельством социальной и культурной значимости любого личностного восприятия мира, напоминает о нравственной укорененности любых человеческих чувств. Для нас здесь важно, что человек объективно понимает свое чувство как символическое значение и видит его не в себе, а во внешних предметах, явлениях, ситуациях. Ситуации ли оживают в человеческом сознании новым высшим смыслом или, наоборот, человек сам одухотворяет (эстетизирует, поэтизирует, гуманизирует и, вообще, подвергает личностному осмыслению) окружающие его предметы и ситуации? Назовем это явление первичной объективацией символического. Здесь символическое встречается с некоторой формой бытия, которая непосредственно выразительна и значение символизации в ней представлено органично, естественно. Формы, обретающие значение символизации, бесконечно разнообразны. Внешне они не связаны, отделены друг от друга174. Ввиду непосредственной выразительности их часто даже не Здесь как нигде чувствуется “автономность”, одиночество символа. Это качество символа отмечается в работе Н.Д. Арутюновой “Язык и мир человека”. С. 341. 174 принимают за символы, считая фрагментами чувственного восприятия мира человеком. И они действительно являются таковыми. Но это лишь одна, чувственная их часть, которая не принадлежит этим формам, но является эмоциональной реакцией субъекта. Стоит задуматься: на что в данном случае реагирует человек? Он реагирует на открывающееся ему в опыте эмоционального осмысления символическое в этих формах, что-то невидимое, несобственное, сокрытое позади них или выше их собственного значения, но проявляющееся выразительно как фактическое и реальное. Форма объективирует эмоциональную реакцию человека, переводит ее на язык символического понимания. Сама по себе давка в транспорте может вызвать лишь реакцию раздражения. Но в той ситуации под воздействием внутреннего состояния человека она вызвала и усилила положительную эмоциональную реакцию как символ привычности жизни, возврата к доброму, старому, во всех его проявлениях175. Первичную объективацию символического нельзя считать окончательной, полной формой бытия символа. Собственно символическое здесь еще в значительной мере находится в сфере чувственного бытия и, как таковое, субъективно (эмоциональная реакция человека может пониматься непосредственно и не связываться с функцией символизации). Явление символизации обретает бытие, но дальнейшее смысловое понимание бытия, превращающее его в опыт бытия, на этом уровне раскрывается недостаточно. Что обеспечивает внутреннее тождество различных форм чувственного бытия, в которых мы раскрываем для себя О бессознательном содержательном начале всякого символического пишет Е. Г. Введенова, которая считает, что символ имеет архетипическую природу и противостоит в этом качестве непосредственному естественно-выразительному бессознательному: “Вероятно, есть только две возможности восприятия бессознательного содержания: непосредственно-эмоциональное, чувственное переживание и исключительно символическое (другой возможности нет) представление архетипа” (Введенова Е. Г. Архетипы коллективного бессознательного // Эволюция. Язык. Познание. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 121). Символ – это социализованное, представленное для внешнего пользования бессознательное. 175 символическое значение? Видеть основание этого тождества в самом чувственном опыте субъекта (и, таким образом, выводить это основание исключительно содержательно, через мотивационный контекст, индуктивным путем) в принципе, возможно, но малоэффективно, потому что уводит в сторону от телеологии символа, от понимания метода бытия символических форм. Такого рода обобщения отодвигают символ назад, в стихию субъективного, уводят назад от открывающейся в нем функции метода. Содержательная трактовка символа не раскрывает опыта его становления. В конечном счете, на этом пути возникает опасность мистификации символа. Подлинная телеология символа (мы здесь говорим о натуральном, незнаковом символизме) открывается на пути его дальнейшей объективации, в которой, прежде всего, следует видеть выразительную объективацию его формы. Не в содержании, не в мотивах человеческого понимания и поведения, а в форме ищет символ метод своего бытия. Это есть переход от формы чувственной, непосредственной (но уже ассоциируемой с тем или иным символическим значением) к форме собственно символической, «потусторонней», которая может представляться идеально. За всеми вариациями чувственного бытия, в которых человеку может открываться символическое, человек стремится представить некий выразительный идеал символического бытия, некоторое высшее воплощение значения символизации. На этом пути человек все больше формализует символ, открывая для себя его знаковую природу. Например, человек видит девушку. Он восхищен ее красотой. Ее образ вызывает в нем высшие чувства. В этом – начало символического восприятия, первое осознание символической значимости чувственного переживания. Человек идет далее по пути символического уподобления девушки с каким-то другим предметом (в русском сознании это может быть дерево березка, араб может сравнить понравившуюся девушку с попугаем и т. д.). Этот другой предмет и служит в данном случае идеалом символического бытия, является устойчивым знаковым носителем символического значения. Конечно, данный идеал может быть представлен лишь абстрактно, гипотетически. Однако в обществе обычно существует устойчивая тенденция к тому, чтобы материализовать, выразительно представить значение символизации. За этими попытками “овеществить” символ стоит стремление собрать воедино и дать символическое выразительное воплощение различным чувственным или рациональным категориальным представлениям. Конечно, в общественной практике все попытки материализовать символ несовершенны. Тем не менее, эти попытки весьма знаменательны как вехи в культурной, нравственной, эстетической и в целом духовной эволюции человека. Они есть ничто иное, как концентрированное выражение роста личностного сознания, свидетельство эволюции чувственного опыта, нравственного и эстетического вкуса. Все их можно понять как опыт достижения инобытия, т. е. метода, с позиций символического значения. Пассивная чувственная модель бытия символа (в которой открывается его первичная объективация) должна перерастать в активную “порождающую модель”176, в “закон возникновения”177 символического значения. В символе не должно быть забвения частностей178. “Порождающая модель” должна обобщать, сохранять в-себе на правах смыслового опыта, а также предопределять любые частные, случайные смысловые проявления символического значения, которые наблюдаются в видимых формах. Достичь чистого абсолютного символа (какого бы содержания это ни касалось) в реальном общественном опыте человек не может, и он вынужден останавливаться на полпути – на тех формах, которые выразительно открывают в себе значение символизации, но при Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. С. 144. 177 Лосев А. Ф. Там же. С. 134. 178 Лосев А. Ф. Там же. С. 150. 176 этом не могут считаться окончательным воплощением этого значения. Это как бы “полусимволы”, реальные, исторические, найденные человеком модели символизации (миф, аллегория, олицетворение, художественный образ, метафора и др.), которые, какими бы несовершенными ни были, в понимании человека непосредственно служат носителями символического значения и от которых значение символизации проецируется на предметы и явления реальной жизни. В представлении человека последние в смысловом отношении “подражают” первым, а не наоборот. В попытках понять реальность человек апеллирует не к самой реальности, а поверх реальности к некоторой идеальной “формеполусимволу”, которая как знак должна раскрыть и объяснить конечный способ выразительного бытия символического значения. Человек может иногда достаточно наивно и однозначно относиться к найденным символическим формам, а иногда достаточно свободно и прагматично оперировать ими, когда ему становится ясна их данность, историчность. Так возникают религиозные догмы, эстетические идеалы, нравственный общественный опыт, онтологические научные обобщения и т. д., в которых человек, видит, с одной стороны, нечто высшее, непререкаемое, а с другой, их вполне жизненную полезность. Абсолютный выразительный идеал символа в реальном человеческом опыте символизации недостижим. Человек в своем выразительном опыте лишь открывает модель символизации и в чувственном отношении к реальности следует ей, “подражая” чистому символу. 4.3. Формы символического понимания Символические формы – средство понимания мира, которого человек достигает чаще всего интуитивно, через чувственное отношение к реальности. Но человек может и специально моделировать данные символические формы, оставляя как бы за скобками непосредственную реальность (т. е. то, для понимания чего все эти формы и предназначены). В этом случае символические формы могут становиться предметом мифологической традиции, религиозного культа, художественного творчества. Попытаемся (возможно, несколько условно) представить себе эволюцию символических форм в специальном ракурсе, помня, что в каждом из рассматриваемых случаев речь идет об определенном историческом или профессиональном (когда дело касается развития эстетического вкуса) идеале символического бытия, при помощи которого человек стремится интерпретировать чувственную реальность. Добавим также, что данную эволюцию не следует понимать буквально-исторически, хотя исторический момент в ней, безусловно, присутствует. Наиболее ценным является представленная в ней логика развития вкуса (эстетического и нравственного) в процессе последовательного перехода человека в интерпретации своего чувственного бытия ко все более сложным и совершенным символическим формам. Совершенство символической формы как исторически выбираемого человеком идеала символического бытия в целом определяется ее абстрактностью. Однако в этом же должна быть представлена возможность гибкого приближения символической формы к интерпретируемой с ее помощью реальности. Развитие символических форм всегда двойственно, амбивалентно, распадается на иррациональную и рациональную стороны: развитие мифа сопровождается развитием аллегории (и других фабульных и анекдотических форм); развитие прямого олицетворения уравновешивается развитием типологического обобщения; художественный образ связан с развитием форм идейно-схематического изображения (эмблема, плакат и т. д.); противовесом метафоре является форма обычного понятия. Конкретные в-себе формы более жестки и в итоге оказываются менее жизненными, пригодными для интерпретации форм видимой реальности и отрываются от реальных форм, а абстрактные в-себе формы оказываются более гибкими и в итоге обнаруживают большую символичность, способность приближаться к видимым реальным формам бытия, но при этом чувственная сторона в них оказывается подчиненной стороне рациональной. 4.3.1. Миф и аллегория Одной из наиболее древних и примитивных форм символизации является миф. В Древней Греции могли существовать только мифические герои (Геракл, Тесей, Персей). Обычный человек (например, Одиссей) не мог стать героем, он мог только походить на него. Миф был самой настоящей моделью символизации и объяснения явлений жизни общества. Все буквально подводилось под миф, должно было являться продолжением, дополнением, частью предустановленного в мифе значения символизации, соответствовать или не соответствовать ему. Во всем этом можно видеть перенос значения с модели (в данном случае мифа) на события реальной жизни. Феноменологический аспект бытия мифа фактически моделировался событиями реальной жизни. Все эти события воспринимались как носители значения символизации, т. е. были практическим воплощением стоящего за ними символа-мифа, непосредственным продолжением мифологии. Опыт мифа в человеческом представлении обогащался этими событиями. Здесь мы впервые сталкиваемся с важнейшей функцией символа – действительно представлять значение бытия человека. Бытие человека и бытие мифа в их высшем, нравственном значении приходят к полному слиянию. С позиций этого нравственного значения живет не просто человек – живет миф в опыте жизни человека. Человеческий опыт есть осуществление опыта символического значения мифа. Человек как бы отдает всего себя символу-мифу и во всем видит не свое, а его бытие. Все бытие человека воспринимается в зеркале символа. Конечно, миф – слишком жесткая модель символизации, требующая буквального, культового отношения к себе. Миф отступает, не выдерживая конкуренции с другими, более гибкими и демократичными формами символизации. Материальным коррелятом мифа является аллегория – рационально понятый миф, лишенный связи с целым. Надо сказать, что миф по своему формальному устройству аллегоричен, в аллегории же можно выявить некоторую содержательную модель мифа: аллегория содержательно строится по этой модели. В мифе его аллегорическая сторона находится на втором плане и какое-то время не видна. В аллегории, наоборот, мифическая сторона низведена до уровня полной искусственности. Формула переноса значения от выдуманного (мифического) к настоящему в аллегории важнее, чем смысловое содержание. Эволюция анекдота от мнемонического изложения реального исторического события до некоторой формулы фольклорного юмористического рассказа, думается, подтверждает отмечаемый нами путь “развенчания” мифа через аллегорию. Аллегория как таковая не требует буквального восприятия. В аллегории (например, в басне) более наглядно представлен перенос значения. В древности категории аллегории и мифа отождествлялись. Философам и филологам понадобилось много лет, чтобы доказать их отличие друг от друга. 4.3.2. Олицетворение и художественный тип Следующей парой категорий символизации, аналогичных мифу и аллегории, являются олицетворение и тип (тип как форма художественного или рационального обобщения). Здесь человек еще не понимает своей власти над символом, но уже достаточно свободно понимает его и даже экспериментирует с ним. Уже нет эпического культового (как в мифе) отношения к символу, нет жесткой прямой связи значения символизации с конкретным событием реальной жизни (как в аллегории). Следует различать прямые абстрактные олицетворения и те, которые представлены в образе, соединены с каким-то конкретным историческим лицом или литературным персонажем. Олицетворения-абстракции часто используются в поэзии (например, в стихотворении Пушкина “Золото и булат” богатство разговаривает с силой; в стихотворении Высоцкого “Песня о правде” повествуется о похождениях правды среди людей), но в целом они более непосредственны, прямолинейны. Данный тип олицетворения – характерный прием народной поэзии. Олицетворения-образы впервые встречаются среди исторических мифологических обобщений (например, царь Крез – олицетворение богатства, царь Соломон – олицетворение мудрости и т. д.). В последующем данный тип олицетворений будет широко использоваться в литературе классицизма. Здесь важное значение имеет опыт литературных художественных олицетворений скупости, щедрости, мужества, добродетели, справедливости и т. п. Различные персонажи (Журден, Робинзон Крузо, Манон Леско, Фигаро и др.) скорее являются олицетворениями, чем художественными образами: кто-то олицетворяет добро, кто-то – зло, кто-то – жестокость, кто-то – кротость. Борются и взаимодействуют в персонажах не их образы, а некое высшее начало: добро разговаривает со злом, кротость с жестокостью. Личная судьба героя есть судьба высшего начала в нем. У олицетворения, как справедливо отмечает Лосев, отсутствуют реальные черты179, оно, порывая с жестким культовым буквализмом мифа, не достигает совершенства художественного образа (особенно в части свободы художественной формы). Тем не менее, при всем несовершенстве оно также понимается как модель, символическая форма, служащая объяснению смысла большого числа явлений человеческого бытия. Материальным коррелятом олицетворения является категория типа. Тип – это произведенное человеком обобщение различных черт видимой реальности и соединение их в какой-то одной художественной конструкции, едином образе. Персонажи “Мертвых душ” Гоголя – это, прежде всего, типы (сатирические), Базаров (“Отцы и дети” Тургенева) – это скорее тип, чем образ революционера. Тип абстрактнее олицетворения, в его создании больше чувствуется роль автора, субъекта. 4.3.3. Художественный образ и схематическое художественное изображение (эмблема) Следующей ступенью развития опыта символизации является категория художественного образа (мы берем здесь образ как идеал нравственного эстетического понимания реальности, а не как способ представленности содержания в какой-то выразительной форме). Для обозначения того, что мы здесь называем 179 См.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 139. “художественным образом”, Х.-Г. Гадамер использует более широкое понятие “художественное изображение”, имея в виду не только литературное, но и живописное, музыкальное, архитектурное и др. воплощение значения символизации180. Мы, тем не менее, сохраняем термин “образ” как укрепившийся в отечественном опыте изучения данных явлений. Художественный образ впервые появляется в романтической и расцветает в реалистической литературе. Он требует совершенно иного к себе отношения, чем те символические формы, которые встречаются на более ранних этапах развития художественного и личностного сознания. Образ всебе предельно конкретен, но при сравнении образа с реальностью в нем можно обнаружить величайшее обобщение. Точно так же в образе можно увидеть соединение сиюминутного и вечного. Поэтому в образе легко заметить черты многих других символических форм: мифа, аллегории, олицетворения, типа. Выразительное преимущество образа в сравнении с другими изобразительными формами можно видеть в том, что в нем оказывается непосредственно запечатленной личность его автора, создателя181. Прежде всего, художественный образ уже не довлеет, в нем нет назидательности (как в аллегории) или жесткой формулы понимания (как в мифе). Внутренняя смысловая непроизвольность – вот главное достоинство образа. Он как-то объясняет и раскрывает представленную в нем реальность, но в нем уже нет задачи организовать, систематизировать или классифицировать данную реальность – любая рациональная формула (которую еще можно было видеть в ранних, примитивных формах символизации) чужда образу. Образ, прежде всего, целостен и как таковой стоит выше См.: подробно об этом в: Х.-Г. Гадамер. Истина и Метод. С. 191–210. Вообще, лишь в связи с художественным образом мы впервые можем говорить о взаимодействии художественной формы произведения с личностью писателя. Oбраз автора отрицательно проявляется в образах и формах произведения. Проблема образа автора как вершины стилистического анализа произведения впервые поднималась академиком В. В. Виноградовым (Виноградов В. В. О теории художественной речи. С. 105–211 (глава “Проблема образа автора в художественной литературе”). 180 181 любой рациональной смысловой направленности, которая может входить как часть в его содержание. Символ в художественном образе обретает характер, оживает собственной личностной жизнью182. В художественном образе мы уже не просто созерцаем символ, а сопереживаем. В образе нами совершенно свободно чувствуется символизация: мы переносим ее опыт на самих себя и в той или иной степени отождествляем себя с образом. Не секрет, что люди часто живут чувствами литературных героев, моделируют собственное чувственное восприятие мира по соответствующим их образованности и вкусу эстетическим образцам (литературным, музыкальным, живописным и т. д.). В этом смысле образ представляет собой “порождающую модель” символизации, которая может переноситься на обычное чувственное восприятие. Художественный образ может выходить на любую степень абстракции. Из всех форм символизации в художественном образе мы полнее всего способны сообщаться с символом, чувствовать символическое. И все-таки в художественном образе мы не достигаем всей полноты символизации. Символ никогда не растворяется в образе до конца. Можно представить символ без художественной стороны его осуществления, но представить художественный образ без символического момента в нем трудно и, наверное, невозможно183. Художественный образ без символической направленности превращается в “натуралистическую копию”184. В образе всегда следует различать натуралистический и эмблематический (идейно-схематический) моменты. Эмблема – другая, обращенная к символу сторона образа. Мы обычно ее не видим, не чувствуем, это скрытая сторона образа. Но без нее он теряет свое символическое значение. Образ не может превратиться в идейную схему – тогда он лишается главного своего качества – изобразительности – и перестает быть образом. Задача образа – Например, в своем письме П. А. Вяземскому Пушкин говорит о литературных героях (Онегине, Татьяне) как о живых людях, общих знакомых. 183 Лосев А. Ф. Проблема символа... С. 145. 184 Там же. С. 164. 182 максимально спрятать в себе свою идейную схему, имеющую нравственное, социальное или общеэстетическое значение, и лишь на пике своего художественного развития с наибольшей неожиданностью раскрыть заложенный в нем смысл. Однако, в жизни мы видим множество вещественных эмблем (художественных и нехудожественных): государственные гербы, знамена, экслибрисы, плакаты и др. символические изображения. Здесь образ представлен концентрированно-идеологически. Он есть само воплощение реальной модели нашей жизни (например, герб СССР с серпом и молотом, колосьями и изображением земного шара недавно объяснял нам смысл нашей национальной жизни). В эмблеме человек, казалось бы, достигает, наконец, идеала символического бытия. Но и здесь символ содержательно превосходит форму его материального воплощения: “всякая эмблема есть символ, но отнюдь не всякий символ есть эмблема. Понятие символа гораздо шире понятия эмблемы”185. Эмблема – наиболее формализованный символ. Она возвращает нас ко всем предыдущим формам символизации, более конкретным и жестким. Она аккумулирует в себе элементы типа, образа, олицетворения и даже мифа: в части обобщения эмблема подобна типу, в части нравственной назидательности в ней можно видеть сходство с аллегорией, в части идеализации действительности она имеет черты мифа, в части непосредственной изобразительности она – образ. Но все это в эмблеме, как и весь ее смысл, открывается не чувству, а рациональному созерцанию. Эмблема в целом не жизненна. Человек может утратить понимание эмблемы, забыть ее смысл (например, значение элементов герба). Потребуется истолкование этимологии элементов эмблемы. Эмблема постоянно “рискует” утратить связь с жизнью, превратиться в никому не понятное схематическое изображение. Но при этом она специально предназначена для обобщения, интерпретации существенных сторон жизни. Эмблема менее всего способна актуализировать 185 Там же. С. 149. живое человеческое переживание. Смысловая абстракция, созерцательность берет в ней верх. В ней мы видим почти полную потерю символической выразительности. Эмблема – это уже почти предел объективации символического значения в аспекте инобытия, но все-таки еще не полное достижение метода. 4.3.4. Метафора и понятие как символические формы Наиболее совершенным способом формального представления символа является метафора. Поэтому ее иногда отождествляют с символом. В нашем случае метафору следует брать предельно широко: не просто как явление из области языковой идиоматики, образующееся в опыте смыслового взаимодействия представленных в языке значений, но также как явление внеязыковое, возникающее в опыте нашего непосредственного отношения к миру. Метафора – это, прежде всего, форма чистого натурального символизма, который возможен сам по себе и для которого не требуется какая-то специальная знаковая форма реализации. Метафора сильна своей произвольностью. Наиболее обобщенно она описывается как модель чувственного восприятия, налагаемая на модель рационального восприятия. В метафоре на первое место выходит перенос значения. Чувственная сторона метафоры (переносное значение) полагается как порождающая модель. Рациональная сторона (буквальное значение) полагается как подчиненная по смыслу и в этом отношении как производная от первой. В метафоре мы можем видеть универсальную и наиболее прозрачную формулу символизации. В принципе, любая из предыдущих символических форм также представляет собой некоторый вариант переноса значения. Каждая из них, как и метафора, подводит нас к какому-то опыту чувственного сравнения. Только если в метафоре формула сравнения лежит на поверхности, обнаруживая смысловую лапидарность метафоры, то в других символических формах сравнение скрыто, дано неявным образом. Буквальное значение в них совершенно отделено от переносного, символического. Перенос значения не является в них чем-то довлеющим, хотя и подразумевается как некоторый смысловой результат. В этих формах нет жесткого, как в метафоре, смыслового указания: в них дано как понимать, но не определено что понимать (может быть, лишь аллегория содержит относительно ясное указание на прямое значение). В метафоре дистанция между переносным и буквальным значениями свернута. Относительная свобода опыта символического понимания, символической интерпретации в метафоре исчезает. В целом же, метафора более жестко, чем другие символические формы, подчиняет себе реальность, навязывает себя ей. В метафоре модель символизации включает в себя отсылку к реальности. Если остальные формы можно понять как случаи “символического изображения” 186 (аллегория, олицетворение, образ), то в метафоре мы ясно видим модель символического именования. В самом деле, в метафоре объект именуется ненастоящим именем, но лишь символически – так же, как другие символические формы призваны изображать (по смыслу) не себя, а нечто другое, высшее, что открывается в них как реальность лишь в опыте символической интерпретации. Их изображение также есть что-то неподлинное, несобственное: они по смыслу служат не себе, а тому, что с их помощью должно быть понято или прочувствовано в реальной жизни. Без этой неподлинности символ – не символ, искусство – не искусство. Но именно она в аспекте понимания оборачивается самой настоящей изобразительной подлинностью символа. Понятие символического изображения ввел И. Кант (“Критика способности суждения” § 59), который предложил отличать этот вид изображения от схематического (буквального). При углубленном чувственном восприятии предметов мира (или предметов искусства) мы стремимся “прорваться” сквозь слой их схематического изображения и открыть форму их символического изображения, испытывая при этом эстетическое эмоциональное переживание (Х.-Г. Гадамер. Истина и Метод. С. 119–120). Гадамер для разграничения соответствующих явлений предлагает различать категории отображения и изображения, из которых первая характеризует момент копирования действительности, а вторая – момент ее художественного понимания (Там же. С. 186). 186 Метафора дает разгадку общей направленности объективации символа, пути определения его метода, который составляет основу смыслового постоянства символа и служит критерием опыта бытия. Для метафоры немаловажен факт ее буквального значения, т. е. то, что подводится под ее значение, сравнивается с нею, уподобляется ей. Потому что в этом – ее выразительный опыт, история, ее выразительная связь с миром: “Стихи мои! свидетели живые / За мир пролитых слез” (Н. А. Некрасов). Особую выразительность метафорическому переносу здесь придает то, что “свидетелями” называются “стихи”. Со словом “свидетель” возможны другие метафоры: например, “свидетель века” (о человеке), “немые свидетели истории” (о стенах старой крепости) и т. д. Связь буквального и переносного значения – всегда взаимный процесс: новый объект может оживить казалось бы уже давно стершийся образ. В буквальном значении заложен опыт понимания метафоры. Этот механизм метафоры, раскрывает нам опытную сторону понимания и других символических форм: они в своем значении также в немалой степени зависят от того, к чему предполагается и будет осуществлен перенос этого их значения. В метафоре аспект понимания не столь гибок, как в других символических формах. В последних предметный аспект понимания более скрыт, обладает относительной самостоятельностью. В каком-то смысле метафору невозможно не понять (поскольку все, что в ней требуется понять, – это что именуется и как именуется). Образ можно не почувствовать, аллегорию можно не уловить, смысл мифа или значение олицетворения также иногда лишь постепенно становятся понятными в опыте жизни. Конвенция понимания обнаруживается в этих формах гораздо более сложным образом. Метафора – наиболее абстрактный и наиболее формализованный способ выразительной материализации символа по сравнению с более конкретными формами – мифа, олицетворения, образа (изображения). Практически любой объект в его чувственном понимании субъектом может стать моделью символического понимания другого объекта. В метафорическом уподоблении буквального значения переносному можно видеть модель искусственного подведения под род: “Здесь имеет место не только перенос, но и настоящее преобразование в другой род; при этом происходит не переход в уже существующий разряд, а создание нового разряда”187. Формальным схематическим коррелятом метафоры, похожим на нее по своему внутреннему смысловому устройству, является понятие, существенную часть которого составляет подведение какого-то конкретного предмета, признака или качества под род. Родовой признак в понятии как раз выполняет функцию идеала бытия, а видовая, т. е. конкретная смысловая, сторона служит смысловым воплощением этого идеала. Разумеется, категория рода тут уже полагается не свободно и произвольно, как в метафоре, а естественно, органично, по необходимости. Конечно, можно лишь условно отнести понятие к символическим формам. Понятие, прежде всего, логическая форма и как таковая принадлежит рациональной сфере сознания. Но понятие повторяет в себе уже известную нам формулу символизации, выражающую движение от конкретной чувственно воспринимаемой формы к идеалу символического бытия, и на этих правах может быть включена в общую иерархию символических форм в качестве конечного пункта эволюции. В каком-то смысле всякое понятие символизирует свой род. Выделяя частные смысловые признаки, мы развиваем (порой сами того не замечая) общее представление. Итак, две параллельных линии развития символических форм с относительной четкостью выстраиваются на пути общей эволюции модели символизации. С одной стороны, это конкретные символические формы, которые жестко определяют содержательную сторону модели символизации: миф, олицетворение, образ (изображение), метафора; они представляют собой конкретное содержательное предписание, которое условно полагается как родовой признак, особенная сторона которого Кассирер Э. Сила метафоры// Теория метафоры (сборник). М.: Прогресс, 1990. С. 36. 187 представлена самим опытом реальной жизни. С другой стороны, это абстрактные символические формы, которые допускают более гибкое приложение к опыту реальной жизни: аллегория, тип (типологическое обобщение), эмблема, понятие (понятие мы берем в аспекте родовой отнесенности); здесь содержательное предписание является более общим, допускающим множественность вариантов смысловой реализации. Каждая из указанных форм в-себе может полагаться как абсолютная символическая форма, т. е. как абсолютный символ или идеал символического бытия. Но рассмотренная объективно, она обнаруживает свою относительность как всего лишь некоторый этап в общем процессе эволюции модели символизации. 4.4. Символическое значение художественной формы Сколь бы ни была высока степень абстракции, достигаемая в процессе эволюции символических форм, никакая попытка выразительной материализации символа (в формах натурального символизма) не может считаться совершенной. Абсолютный символ должен органично сочетать в себе такие противоречивые качества, как абсолютная смысловая незыблемость, постоянство и способность бесконечного смыслового изменения, подвижности. Другими словами, символ всегда должен быть и, в то же время, не быть самим собой. Это – выразительный идеал символа. Символ с выразительной стороны лучше представлять динамически, он должен быть непосредственно перформативен, т. е. самой своей формой выражать смысл своего видимого присутствия. Например, символичен черный цвет в траурных церемониях, символично то, что создает художественную обстановку во дворцах правосудия (скульптура греческой богини с весами в руке), религиозных храмах (иконы, предметы культа). Яснее всего это можно проиллюстрировать на примере искусства, где нет иллюзий относительно заложенных в нем возможностей выражения идеала символического бытия. Искусство лишь приближает человеческое понимание к символу и не претендует на полноту символического выражения. Любое видимое выражение – лишь подсказка, путь к разгадке значения символизации. Символ не должен замыкаться в себе, он всегда должен сходить со сцены в зрительный зал, т. е. бесконечно приближаться к нам, освобождая наше чувственное смысловое понимание. В художественном символе не может быть узкого смыслового указания (как в метафоре, олицетворении или аллегории). Он подводит нас не к предмету, а к стихии понимания и тут же бросает нас, оставляя наедине со своими чувствами. В символе всегда должна быть смысловая тайна, неизвестность. Если и говорить о выразительном идеале символа, то на языке риторики это должна быть фигура умолчания. Художественная форма в искусстве должна служить символу (а не каким-либо низшим формам, над которыми довлеет смысловое ограничение), и это является важнейшим условием ее выразительного совершенства (конечно, одного этого условия недостаточно, но без него художественная форма выглядит нарочитой, надуманной, узко технической). Присутствие символа (значения символизации) в художественном произведении должно быть всеобъемлющим. “Подлинная символика есть уже выход за пределы чисто художественной стороны произведения188”. Все художественное произведение внутренне должно подчиняться этому смысловому движению. Единство действия уступает место единству значения символизации. Своеобразное тождество символического ведет нас через всю структуру произведения. Но в то же время нельзя сказать, что символ буквально виден за каждым изгибом сюжета. Он – тайна, подразумеваемая, но невидимая. Он открывается и становится понятен лишь в конце, в последней развязке сюжета. Но он не просто открывается: он ретроспективно раскрывает нам глаза на все произведение, где он и прежде показывал себя, но мы не верили ему, отказывались его видеть. Он – как то “ружье”, которое, по образному замечанию А. П. Чехова, должно выстрелить в последнем акте, и лишь после этого весь тайный смысл сценического действия становится понятным 188 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 145. зрителю. Удивительной символической выразительностью обладает заключительная ремарка в драме А. С. Пушкин “Борис Годунов”: “НАРОД безмолвствует”. Народное мнение оказывается не просто фоном, но символом всего произведения: к нему все возвращается, и последней своей реакцией народ, оцепеневший от свершающегося на его глазах святотатства, демонстрирует всю степень национальной катастрофы, к которой привели бессовестные интриги бояр. Большой символической силой обладает последняя реплика в пьесе А. П. Чехова “Вишневый сад”, где после всей несколько наигранной суматохи расставания героев с прошлой жизнью остается один никому ненужный слуга Фирс, который произносит то, что ощущалось, но никак не могло быть произнесено на протяжении всего действия пьесы: “Человека забыли!”. Слова носят буквальный смысл: действительно, главные герои уехали и забыли его, слугу. Но эти же слова глубоко символичны: они показывают подлинный смысл всего утраченного главными героями. Настоящий символ, когда мы с ним сталкиваемся в различных натуральных формах – в искусстве, мифологии, религиозном культе и иных общественных представлениях, – должен быть выразительно неисчерпаем. В этом главное достоинство символа: он есть весь, и вместе с тем его всегда мало. Подлинное значение символизации в аспекте высшего смыслового назначения также должно быть апофатично. Идеал бытия, в котором воплощается символическое значение, открывается лишь по ту сторону любой видимой формы. Мы можем выразительно прикоснуться к нему (как мы это показали на примере ключевых смысловых эпизодов из “Бориса Годунова” и “Вишневого сада”), но полностью выразительно представить его, материализовать – задача нереальная и тщетная, поскольку противоречит самой сущности символического. Идеал бытия символа (т. е. символ, в котором во всей полноте и до конца осуществлен его выразительный метод) представляем лишь идеально, гипотетически, но не материально. Но тем не менее именно к идеалу символического бытия стремится человек в своем чувственном опыте, именно с ним связывает он открывающееся ему во внешних формах значение символизации. В явлениях чистого натурального символизма, как мы отмечали, вся их диалектика предстает в перевернутом виде. Выразительный идеал символа открывается лишь через внешние чувственные формы, в которых при этом их собственное значение отодвигается на второй план, и они понимаются как выражение символического бытия. Верно ли будет называть их символами? В принципе, это допустимо, но лишь в той мере, в какой они открывают в себе не собственное значение, а какой-то иной, чуждый им выразительный метод, идеал символического бытия. Если переносить этот идеальный символ в реальность, то все видимые формы суть части и опыт его бытия. Мы видим, что отношение формы и содержания, конечного и бесконечного, сущности и бытия, бытия и метода в явлениях символизации раскрывается как бы в обратном порядке. Символ (в чистом его понимании) – “узурпатор” чужого бытия189. Он “крадет” бытие у видимых реальных предметов, которые как бы уже перестают служить самим себе и представляют только символ, в них ярче их собственного значения узнается значение символизации. 4.5. Общие принципы развития: переход от натуральных символических форм к абстрактной знаковости Итак, после того, как мы на пути к определению сущности и значения собственно языкового символизма исследовали эволюцию форм первичного натурального незнакового (или до-знакового) символизма, остается ответить на два ключевых вопроса. Первый касается самого характера эволюции символа, общей направленности движения символической модели к своему методу. Второй касается возможностей перехода от незнакового к знаковому (языковому) символизму: насколько незнаковый символизм, эволюционируя, приближает нас (и приближает ли вообще) к “Символы – репрезентанты и принимают свою репрезентирующую функцию бытия от того, что должны репрезентировать” (Гадамер Х.-Г. Истина и Метод. С. 203). 189 началам знакового символизма и каковы в этом случае возможности взаимодействия незнакового и знакового символизма. Нам кажется, что историческая эволюция символа (как она представлена выше) в каких-то своих моментах может быть спроецирована на становление символа в онтогенезе. Во всяком случае, общая направленность становления символа ни там, ни здесь не должна менять своего знака, должна оставаться тождественной. В принципе, становление символа в фило- и онтогенезе может быть понято как процесс распознавания формы символа. Чувственное восприятие мира человеком должно опираться на какую-либо символическую модель понимания. Трудно сказать насколько, но, видимо, в значительной мере чувственное бытие получает символическую интерпретацию. В нем все более отчетливо выделяются и противостоят две стороны: собственно чувственная (она же буквальная) и символическая. Причем первая, видимая сторона в контексте символической интерпретации полагается как в-себе неистинная. Ее собственное значение отходит на задний план, отбрасывается, и она становится носителем символического значения, которое теперь является истинной основой ее бытия. Вообще, символ произрастает из обычного сравнения чувственных представлений, из которых одно является главным, другое – подчиненным, воспринимающим. И мы, разворачивая эволюцию символа, видимо, должны были начать со сравнения, а не с мифа. Но и в самом мифе, как и в других смысловых фигурах, опирающихся на ту или иную форму переноса значения, также важно видеть сравнение, которое полагается в мифе в качестве его внешнего момента и без которого смысл мифа не может быть понят. Тут большую роль играет само качество сравнения: является оно буквальным и конкретным (как в мифе) или абстрактным (как в понятии при переносе значения от рода к виду), является оно естественным и непроизвольным (как в аллегории, олицетворении или художественном образе) или достаточно искусственным и произвольным (как в метафоре). Видимая сторона чувственного восприятия предстает не в своем качестве, а как “символическое изображение”, подлинное значение которого раскрывается в его отношении к символу, к идеалу символического бытия. Само чувственное бытие человека подготавливает появление символа. Чтобы понять собственное чувство или эмоциональное переживание, человек должен в своем сознании придать этому чувству некоторую устойчивую форму бытия, т. е. произвести его первичную объективацию, которая осуществима лишь путем соотнесения с чем-либо внешним, объективным, что тогда будет считаться непосредственной причиной чувственного переживания. Конечно, здесь все предстает в перевернутом виде: принято считать, что объекты, внешняя среда воздействуют на чувства, и мы лишь реагируем на определенное внешнее воздействие. Это совершенно очевидная объективная причинно-следственная зависимость. Но и при таком объективном понимании все это не отменяет того факта, что нечто внутреннее, субъективное каким-то образом связывается с внешней формой бытия. Здесь важно видеть взаимный процесс: внутреннее чувство ассоциируется с чем-то внешним и в нем получает форму бытия. Но в человеке его эмоциональная реакция не остается на уровне элементарной чувственной ассоциации, а принимает форму сложнейших эмоциональных комплексов. Логически это становится возможным, поскольку человек идет по пути дальнейшей объективации чувственного бытия, т. е. по пути внешней интерпретации его первичной формы, что означает путь к символу, т. е. выразительному идеалу бытия. В философии и психологии принято объяснять чувственный опыт чаще всего содержательно, через контекст – путем вскрытия объективных мотивов человеческих эмоций и оценок. Это чрезвычайно интересно, но к нашему подходу не имеет непосредственного отношения. Нас, в первую очередь, интересует формальная сторона явлений символизации. Здесь чувственные комплексы (эмоциональные, оценочные, эстетические), составляющие содержание явлений символизации, часто объясняют через так называемые “предструктуры понимания” (М. Хайдеггер), “архетипы” (К. Юнг), “базисную метафору”190. Теорию “лингвистической относительности” Э. Сэпира и Б. Уорфа в каком-то отношении также можно поставить в один ряд с данными вариантами объяснений, которые в целом можно понять как внешние, контекстные, натуралистические, незнаковые, претендующие на понимание конечных причин феноменов культуры. Такой подход может привести к натуралистической физиологической трактовке феноменов культуры. Впрочем, и такие объяснения можно было бы с натяжкой принять, если бы они не уводили нас в сторону от ответа на вопрос: как все это развивается в человеке, его опыте, приобретая нравственное и культурное значение? Символ является универсальным средством объективной интерпретации чувственного опыта. От модели непосредственного чувственного понимания реальности человек идет к знаковой форме символа и в нем совершенствует опыт этого своего понимания. Символ значим (в его родовом значении) не только для меня, но и для других. Путем символической интерпретации чувственного бытия человек делает доступным свое видение другим людям. Символическая форма чувственного опыта получает общественное вкусовое, нравственное, эстетическое, культурное значение. В символе мы наблюдаем накопление и развитие чувственного опыта, в опыте символизации рождаются народные культы, мифы, искусство, национальные обычаи, нравственные привычки. При этом сохраняется и непосредственное значение чувственного бытия при относительной свободе его субъективного понимания, и опыт его устойчивой общественно значимой символической интерпретации. Именно поэтому можно сказать, что символ (символическая форма) не пред-задан, а над-задан, сверх-задан в опыте чувственного Категорию “базисной метафоры” как основу национальной мифологии как комплекс бессознательных мотивов, формирующих смысловые тенденции национальной культуры, выделяли представители немецкой школы “сравнительной мифологии” конца XIX в. (А. Кун, М. Мюллер), в рамках которой разрабатывалась и лингвистическая концепция мифа. 190 бытия, потусторонен любой видимой чувственной форме. Символ – зеркало мира, в котором все события человеческой жизни отражены в новом сверхчувственном (нравственном, эстетическом и т. д.) свете. Человеку порой приятнее иметь дело с отражениями, чем с действительной видимой стороной бытия. Кажется, наконец, можно ответить на первый из поставленных вопросов: куда развивается опыт символизации и что таит в себе направленность этого развития? Символическая модель в аспекте последовательного приближения ее к своему методу движется от полной выразительной естественности к максимальной выразительной искусственности. Это можно понять как закон развития символической модели при переходе от бытия к значению ее метода. В основном это подтверждается и рассмотренными нами фактами исторической эволюции символических форм, в которой мы выделили как ее основную тенденцию – общее усиление абстрактности, смысловой гибкости при переходе от более простых и буквальных символических форм к более сложным. Смысл этого развития заключается в максимальной объективации выразительного бытия символа. Что касается второго вопроса – о связи форм, воплощающих натуральную символическую модель, и языка, – то здесь, прежде всего, следует исходить из того, что язык может быть отнесен в один ряд с явлениями незнаковой символизации. Язык деятельностно воплощает в себе формы натурального незнакового символизма. Выражением такого деятельностного воплощения являются такие формы, как метафора, метонимия и другие виды тропеической образности. Все эти формы суть отражение внешнего неязыкового символизма. Деятельностный символизм в языке следует выделять особо, поскольку в нем представлен опыт смыслового развития языка, но он не имеет прямого отношения к собственно языковому символизму. Важно не смешивать и достаточно строго разграничивать неязыковую (натуральную) и языковую модели символизации. Мы назвали бы все образные формы в языке явлениями вторичной символизации, когда язык копирует и фиксирует в своем смысловом опыте незнаковые символические модели: это может быть опыт эмоционального, эстетического, мифологического и т. п. отношения к тем или иным объектам. Прямое значение объекта не удовлетворяет субъекта по образной окраске, выразительности. И субъект в опыте обозначения идет по пути метафоризации видимого объекта, уподобляя его (прежде всего, с чувственной стороны) другому объекту, в опыте отношения к которому более непосредственно представлена модель соответствующего чувственного восприятия. Все это, конечно, отражается в смысловом опыте языка и так или иначе закрепляется в нем. Связан ли натуральный незнаковый символизм каким-то другим путем, помимо вторичной формы своего присутствия в языке, с собственно языковым символизмом? Речь идет не об отражательной, а о генетической связи: возможна ли она? Следует признать, что вся эволюция натуральных символических форм подводит нас к языку, генетически подготавливает появление языка, формы языкового знака. Повторим, что опыт символической интерпретации чувственных форм развивается последовательно в направлении все большей формализации и абстракции, – от полной выразительной естественности к максимальной выразительной искусственности. Это есть не что иное, как развитие знаковости в формах символического понимания. От обычного чувственного сравнения человеческий опыт поднимается к мифу, аллегории и, далее, через олицетворение, образ, схематическое образное представление (эмблему) приходит к совершенно абстрактному и искусственному чувственному уподоблению видимой реальности в метафоре и, наконец, в родовом признаке понятия. Реальна ли вообще возможность достижения абсолютного идеала выразительного бытия для чувственного и символического понимания, т. е. возможность достижения всей полноты метода символизации, или такое достижение должно мыслиться исключительно идеально и не имеет права рассчитывать на какоелибо материальное воплощение? Чтобы такое достижение стало возможным, по всем диалектическим правилам символ должен абсолютно подчиниться своему методу. Но в методе, мы знаем, должно быть представлено отрицание сущностной стороны модели. И чтобы такое подчинение было осуществимо, символ должен прийти к отрицанию того, что составляет его сердцевину, сущность – отказаться от сравнения. Символ в идеальном воплощении должен подняться над сравнением. Такое достижимо лишь путем полного отказа от формы со стороны содержания. Содержание символа должно “разорвать” всяческие выразительные отношения с формой. Это означает абсолютное знаковое воплощение символа, т. е. превращение его в знак. Таким образом, вершиной выразительной объективации символа (если представить достижение символом его выразительного метода как реальность) должна быть абстрактная знаковость. Знак как метод, инобытие и абсолютное отрицание сущностной стороны символической модели должен венчать все выразительное становление символа. Но, как мы знаем, для символа данное требование абсурдно: для него это значит – перестать быть собой, т. е. символом, перестать служить какому бы то ни было чувственному сравнению. Но человек в своем опыте чувственного понимания мира делает шаг в этом направлении. Через полное отождествление значения символизации и прямого значения объекта в символе утрачивается способность быть сравнимым с чем-либо, утрачиваются выразительность, смысл бытия. В этом пункте мы встречаемся с самым большим парадоксом натурального символа и символических форм вообще: идеалом символического выразительного бытия является знак – абсолютный антипод и выразительный “противник” символа. Хотя, собственно, для нас в этом не должно быть ничего неожиданного: мы с самого начала исходили из предпосылки, что абсолютное отношение знака и символа друг к другу должно строиться через категорию метода. Трудно сказать, является ли язык прямым продуктом выразительного развития натуральных символических форм или, наоборот, последние являются продуктом смыслового развития языкового знака: “... речь может идти не об эмпирическом установлении временного “раньше” или “позже”, а лишь об идеальном отношении, при котором языковая форма соотносится с мифологической (Э. Кассирер рассматривает миф как основу опыта символизации – Н. И.), о том, каким образом одна вторгается в другую и обусловливает ее содержание”191. Х.-Г. Гадамер также считает недостаточно изученным вопрос о соотношении языковых и символических форм192. Как бы то ни было, наиболее законченное воплощение знаковой реализации символа мы находим в языке. Языковой знак аккумулирует в себе идеал выразительной формализации символа. “Если верно, что метафору в общем смысле следует рассматривать не как определенное явление речи, а как одно из конститутивных условий существования языка, то для ее понимания нужно вновь вернуться к основной форме образования понятий в языке. В итоге они возникают из акта концентрации, компрессии чувственного опыта, создающего необходимые предпосылки для формирования каждого языкового понятия”193. Лишь в языковом знаке мы видим абсолютно внешнюю связь формы и содержания. Впрочем, остатки предшествующего символического опыта не до конца исчезают в языковом знаке. От опыта символических форм языковой знак оставляет себе замещающую способность. Но в знаке она, разумеется, не является главной. В символе, наоборот, замещающая функция является главной194. На этом и строится игра, театр, выразительный обман символа. В символе нет предметного указания, референции. Символ может показать, изобразить, выразительно напомнить: возникающая из этого функция смыслового указания в нем является уже производной, вторичной, надстраивающейся над функцией замещения. В знаке, наоборот, предметное указание основывается на полной выразительной условности и находится на первом месте. Кассирер Э. Сила метафоры. С. 36. Гадамер Х.-Г. Истина и Метод. С. 470. 193 Кассирер Э. Сила метафоры. С. 39. 194 Разграничение знака и символа по этому признаку проводится Гадамером Х.Г. в “Истине и Методе”. С. 200–203. 191 192 Похожесть – содержательная, выразительная – и строящаяся на этой функции возможность сравнения составляют основу символа и всех символических форм. Непохожесть – выразительная и содержательная – и невозможность какого бы то ни было внешнего сравнения создают исходную смысловую позицию языкового знака. Разве может быть в языковом знаке хоть что-то похожее и, значит, сравнимое с объектом обозначения? Выразительная непохожесть языкового знака и объекта обозначения – явление очевидное, не требующее доказательства. Но и назвать “похожестью” отношение содержания языкового знака (значения) и объекта обозначения было бы абсурдно. Термин “похожесть” здесь абсолютно не применим. Между первым и вторым нельзя осуществить операцию сравнения, уподобления, аналогичную той, которую мы осуществляли в символе. Как мы видели, в натуральном символизме объект, так или иначе чувственно представляемый, уподоблялся символу (той или иной символической форме). В знаке же весь объект (и прежде всего сущностно) представлен значением. Перенос значения (если продолжать видеть в знаке символ и, таким образом, моделировать от него к реальному объекту некий перенос значения) в данном случае совершенно пуст и ничего не прибавляет к видимой форме бытия195. Идеал замещающей функции (изначально присущей символу), который достигается в знаке при его полном содержательном тождестве объекту, оборачивается полной условностью обозначения. Значение языкового знака целиком принадлежит своему объекту. Все понимание человеком способа бытия обозначаемой реальности сосредотачивается в значении языкового знака. С этой точки зрения языковой знак содержательно полагается (совершенно условно) как идеал выразительного бытия реальности, которую он функционально призван обозначать. Идеализация бытия представлена в языковом значении. Языковое значение – это искусственная содержательная модель, которая Х.-Г. Гадамер справедливо отмечает в символическом изображении “прирост бытия”: появляется нечто, чего нет в видимой реальности (Гадамер Х.-Г. Истина и Метод. С. 188, 200). 195 условно полагается тождественной соотносимому с ней объекту обозначения. Тем не менее, в этом “мертвом” символе, заключенном в языковом знаке, и сокрыто начало собственно языкового символизма. В языковом знаке возрождается новое движение символизации, которое теперь становится не непосредственно выразительным (как в формах натурального символизма), а содержательным, смысловым. В отличие от натуральной символической модели, языковая модель символизации в аспекте ее приближения к своему методу движется от полной содержательной искусственности (в абстрактном значении языкового знака) к полной содержательной естественности (в опыте объектного именования). В контекстных условиях употребления знак превращается в имя реальности. Лишь вслед за функцией именования открывается собственное значение языкового символизма. В силу принципиальной искусственности языкового знака и полного его функционального отрыва от почвы натурального незнакового символизма, мы называем тот способ символизации, который осуществляется в языковом знаке, производным. Итак, главная для натурального символизма проблема выразительного тождества осталась позади. Теперь она может возникать в языке лишь в снятом виде – в форме вторичной отражательной символизации, где язык “подражает” натуральной символической модели. В символическом развитии языкового знака на первый план выходит проблема содержательного тождества, в котором языковой знак достигает своей смысловой формы бытия и открывает значение своего метода. 5. Эволюция символа в языке 5.1. Субъект-объектное отношение в символической и знаковой моделях понимания Итак, рассматривая формальную сторону явлений символизации, мы условно приравняли языковой знак к символу, поставив его в один ряд с другими символическими формами. Особенностью знака, однако, как мы видели, является то, что символические свойства в нем усиливаются и формализуются настолько, что они утрачивают свое значение, функцию и переходят в иное качество. Внутренние свойства символической модели, доведенные до высшей точки формализации, переходят в свою противоположность: утрачивается перенос значения, исчезает сравнение, становится бесполезной какая бы то ни было выразительность (в знаке важна форма как таковая, а не то, что она выражает). В содержательном аспекте всю логику развития символических форм также можно условно представить как единый процесс, в основе которого будет находиться миф, а кульминационным пунктом будет языковое значение. Мы, прежде всего, имеем в виду не структуру, а функциональные качества содержания, которые эволюционируют от мифа к значению. Необходимой основой для объединения языкового значения с содержательной стороной других символических форм является представленный в них порядок достижения истинного понимания мира. Однако в собственно символических формах истина понимания достигается выразительной игрой, когда на место буквального значения ставится переносное. В языковом знаке, сущностью которого является значение, формула переноса значения пропадает. В нем нет внутренних условий для выразительной игры. Истинное понимание мира в нем достигается непосредственно в содержательном представлении путем смыслового развития значения. По форме символическое понимание можно считать интерпретативным или косвенным пониманием мира, где настоящее знание достигается через ненастоящее, истинное через неистинное. То понимание, которое мы видим в языковом значении, можно назвать чистым, прямым, непосредственно-истинностным. В символе прагматика функционально не отделима от истины. В языковом знаке прагматическая и истинностная задачи понимания, часто различные и далекие друг от друга, могут приходить в полное взаимное несоответствие (так, что, например, истинное знание будет служить злу, а добро и полезность – отстоять далеко от истины). Впрочем, и в первом, и во втором случаях присутствует какое-то представление об истине. Поэтому, отвлекаясь на время от прагматических различий, можно тот и другой вид понимания обобщенно называть просто пониманием. “Объект понимания – величина постоянная. Интерпретация направлена на переменный смысл слов в высказывании и самих высказываний”196. Чистое понимание в знаке исходным образом направлено на некоторый постоянный, сущностно значимый смысл, т. е. на объект, как он есть. Поэтому когда мы сравниваем содержательную сторону символических форм с содержательной стороной языкового знака, то, прежде всего, имеем в виду истинностные предпосылки, а не прагматическое качество понимания. В языковом знаке и в символических формах по-разному взаимодействуют объективная и субъективная реальности. В символе содержательным приоритетом обладает субъективная реальность, которая представлена переносным значением. Именно в этом значении отражено понимание мира субъектом: чем или каким является для него этот мир в его конечном и истинном значении. В-себе реальность мира (независимо от восприятия субъектом) оказывается тут моментом вторичным, подчиненным: ввиду ее выразительной неподлинности ее значение подводится под переносное и, таким образом, связывается с реальностью переносного значения – качеством смыслового определения, которое она получает в аспекте переносного значения. В общем, можно сказать, что в символической модели главным является то, каким я вижу мир, а не то, каким этот мир является сам по себе. Истина понимания мира субъектом подается как его (мира) собственная истина. Отсюда в символической модели возникает необычный порядок взаимодействия объективной и субъективной реальностей. Формально в символической модели субъективная Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. С. 62. 196 реальность противопоставляется объективной, что выражается в общей противопоставленности в ее составе переносного и буквального значений (первое представлено явно, второе – имплицитно). Однако содержательно объективная и субъективная реальности оказываются смешанными, качественно неразличенными. Эмпирическая и теоретическая стороны понимания содержательно смешаны. Между ними еще нет прагматического различия. В символе нет сознания прагматической направленности понимания. Символ не отвечает на вопрос о том, что реально: объект или его понимание мною. Собственно, все это мы и называем выразительной игрой. В языковом знаке взаимодействие объективной и субъективной реальностей имеет противоположную направленность. Абсолютным содержательным приоритетом тут пользуется объективная реальность, которая представлена предметным языковым значением. В языковом знаке отсутствует формальная противопоставленность объективной и субъективной реальностей, потому что его содержание составляет предметное представление и в нем нет внутренних смысловых условий для переноса значения. Зато в языковом знаке достигается абсолютная содержательная противопоставленность субъекта и объекта. Если в символической модели объект реален ровно настолько, насколько реален субъект – субъективный смысл, которым человек наделяет объект на правах собственного видения мира, то в языковом знаке, наоборот, реальность субъекта является функцией реальности объекта. Сущностным началом языкового значения является рефренция к объекту. Однако отрицательно референция к объекту выражает рефренцию к субъекту. Указывая на объект, я этим отрицательно указываю на самого себя. Объект – это «что» не есть я, это «как» не есть я и т. д. Отрицательно и истина бытия объекта есть истина бытия меня самого (может быть, поэтому нас так иногда и волнует истина: если я неправильно вижу объект, то я неправильно выражаю себя и, следовательно, неправильно представляю себя как реальность). Отрицательный смысл субъективной выразительности сохраняется на всем протяжении бытия языкового знака, всего опыта его содержательного смыслового определения. Что бы я ни выразил в языковом значении по смыслу, отрицательно это есть я, мой субъективный смысловой опыт. Субъект в своих качествах зависит от объекта, от опыта его понимания. Если бы не было объекта (референции к объекту), то относительно чего выделялось бы тогда мое бытие и чем был бы я сам?197 В символе субъект и объект различены условно и даны как два конкурирующих друг с другом содержания, из которых одно не просто подменяет другое, но служит смысловым развитием другого, которое то не может выполнить в себе. Одно содержание как бы подхватывает смысловую “эстафету”. Это мы и называем смысловым смешением объективного и субъективного в содержании символической модели. При их относительно строгой формальной разведенности мы видим их общую содержательную неразличенность. В языковом знаке субъект не может как-то положительно “войти” в содержание, стать его частью. Положительное (т. е. какоето относительное или дополнительное) смысловое участие субъекта в содержании языкового знака означало бы, что субъект на какое-то мгновенье может оставить почву референции и начать моделировать предметную функцию и смысловой опыт значения из себя, без функции референции, без представления об объекте. Логически такая операция невозможна. По смысловым условиям языкового значения чистая безотносительная субъективность в-себе Парадоксальным итогом теоретического развития философии субъективного идеализма, отрицавшего наличие объективной реальности, отрицание и самого мыслящего субъекта как реальности. Дэвид Юм, например, никак не мог найти человеческое “я” в содержании представления. По этому поводу иронизирует С. Л. Франк: “Вполне естественно, что я не нахожу себя в составе объектов – по той простой причине, что я есмь тот, кто ищет, – не объект, а субъект. ... Это похоже на то, как иногда рассеянный человек ищет в комнате очки, сквозь которые он смотрит; он их не видит, потому что видит сквозь них” (Франк С. Л. Реальность и человек. М.: Республика, 1996. С. 221). Мы можем говорить о субъекте, о субъективности лишь при наличии объекта: я есть лишь потому, что есть (и как таковое полагается в моем представлении) некое не-я. 197 не может быть представлена. Для любого проявления субъекта нужно что-то внешнее: нужен объект. В мыслимом представлении объект как функция “необходим” субъекту больше, чем он необходим сам по себе: без объекта теряется какая бы то ни было относительность бытия субъекта. Непосредственное, не опосредованное объектом (объективным представлением) полагание субъекта есть абсурд, поскольку само логически уничтожает себя как реальность. Полагание объективного представления – необходимая функция сознания, в которой формируется объективная основа опыта субъективного 198 человеческого бытия . Таким образом, в языковом значении мы видим не условное и относительное, как в символе, а безусловное, естественное и абсолютное тождество субъекта и объекта, необходимым следствием которого является столь же абсолютное отрицание ими друг друга. Конечно, в языковом значении как таковом еще нет действительной противопоставленности субъекта и объекта. Но в нем сосредоточены все неоходимые предпосылки для полагания такого противопоставления и для его дальнейшего смыслового развития. Субъект-объектное различение всецело осуществляется в смысловом пространстве языкового значения, которое может быть названо средством осуществления данного различения. Исходя из всего сказанного сущностной онтологической функцией языкового значения, его прямым содержательным предназначением можно считать не просто функцию объектного указания и предметного смыслового моделирования, но функцию субъект-объектного различения. Во-первых, это непосредственная реализация опыта субъект-объектного различения (в речи), вовторых, это накопление опыта субъект-объектного различения (при общественном и историческом понимании языка). Напротив, сущностной онтологической функцией метафоры, как и любой С. Л. Франк определяет это как “первичное существо нашего собственного бытия,... первичное существо реальности вообще” (Франк С. Л. Реальность и человек. С. 223). 198 другой символической модели, в ее содержательном аспекте следует признать субъективное смысловое определение бытия объекта и, таким образом, условное полагание содержательного тождества объекта с субъектом, в котором и усматривается истина понимания мира. 5.2. Функция субъекта в символической и знаковой моделях понимания Принципиальным расхождением между содержанием символических форм и языковым значением является различное качество человеческой субъективности. В содержании натуральных символических форм человеческая субъективность, как мы говорили, представлена относительным образом. Субъективность, как фактор содержательного смыслового определения, в них не свободна по смыслу, она ограничивает себя внешней формой выражения – знаковой формой. В языковом знаке человеческая субъективность как смысловой фактор содержания не связывает себя знаковой формой и представлена совершенно свободно, абсолютным образом. Это создает новое качество человеческой субъективности, которая впервые как личность проявляет себя в содержании языкового знака. Именно личность определяет смысловую сторону и в целом смысловую форму значения в языковом знаке. В содержании языкового знака, в опыте предметного моделирования происходит формирование субъекта как личности. Напротив, за содержанием натуральных символических форм скрыта еще не вполне сознающая себя субъективность. Постоянная замкнутость, нераскрытость в аспекте субъективного смыслового определения – характерная черта натуральных символических форм. За смысловой эксплицитностью, внешней смысловой ассоциацией кроется недостаточная реализация субъекта, ограниченные смысловые возможности. В языковом значении субъект всегда имплицитен. Но это создает постоянный дифференциал смыслового напряжения. В то время как натуральные символические формы не могут развиваться по смыслу (по крайней мере, это развитие в них существенным образом ограничено), в языковом значении обеспечивается практически бесконечная перспектива смыслового развития. Это – личностное смысловое развитие, личность является его условием, мотивом этого развития. Собственно, приходится еще раз убедиться в правильности известного соссюровского положения о сущности языкового знака, в котором связь означающего и означаемого должна полагаться как условная. Но, подходя к этой проблеме со своих позиций, а именно: вскрывая внутреннюю смысловую сторону знаковой сущности языка, мы еще раз хотим показать, какой импульс развитию личностного сознания дает переход от мотивированной выразительной связи формы и содержания в символе к немотивированной и условной связи тех же сторон в языковом знаке. Еще одно важное онтологическое различие между символическими формами и языковым знаком видится в том, что благодаря личности как фактору содержательного смыслового определения в языковом знаке появляется возможность коммуникации. Без личности коммуникация не возможна. Коммуникация есть со-общение одной личности с другой на базе общего предметного значения. Коммуникация осуществляется исключительно от личности к личности: межличностное сопряжение – ее высший смысл199. Символ же, поскольку за ним нет личности (т. е. она не развернута до конца), “безадресатен и некоммуникативен”200. Благодаря неполному отрицанию личности символ не может служить средством коммуникации. Субъективная выразительность в символе важна как таковая. В самом деле, невозможно представить себе передачу коммуникативного намерения символическим путем. На базе символа не может возникнуть диалога – коммуникативного смыслового соперничества С этой точки зрения текст определяется как “сопряженная модель коммуникативных деятельностей отправителя и адресата сообщения”, т. е. представляет собой “знаковую модель коммуникации” (Сидоров Е. В. Основы коммуникативной лингвистики (учебное пособие). М.: ВКИ, 1988. С. 9, 85–86). 200 Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 344. 199 двух личностей, значения. протекающего на базе общего предметного Итак, субъект-объектное отрицание в языковом значении имеет гораздо большую амплитуду, чем в содержании натуральных символических форм, что обеспечивает принципиально иное качество субъективности, определяющей смысловую форму значения, а также подготавливает то условие, что не внешняя объектная форма (чувственный “суррогат” человеческой субъективности), а непосредственно сама человеческая субъективность в личностном ее значении служит основой смыслового определения содержания и символического развития. При переходе от символа к знаку символическое развитие совершает радикальный поворот от формы к смыслу и становится не формально-выразительным, а содержательно-смысловым. Формальное в целом развитие символа (в плане все более полного функционального отделения субъекта от объекта при переходе от одной символической формы к другой) заканчивается содержательным противопоставлением субъекта и объекта в языковом знаке. 5.3. Эволюция функции субъекта в диалектике символического понимания Конечно, наше противопоставление языкового знака и натуральных символических форм является слишком общим. Субъективность достаточно тонко раскрывает себя и в символических формах. Следует дифференцировать субъективные личностные параметры различных символических форм. В качестве общей тенденции можно выделить последовательное возрастание субъект-объектной относительности в содержании этих форм. Влияние субъекта усиливается, становится все более заметным по мере того, как выделяется и растет фактор объективного содержания – его функциональная самостоятельность, независимость, в-себе данность. Чем гибче и разнообразнее смысловые возможности содержания, тем более четко, определенно мы идентифицируем субъекта в нем. Косвенно, в ракурсе коммуникативных условий точкой отсчета в развитии функции субъекта в процессе эволюции символических форм можно считать тот момент, где мы начинаем не верить видимому представлению, не соглашаться с ним, “подправлять” его (собственно, это и является первой предпосылкой для межличностного смыслового сопряжения). В мифе и аллегории практически отсутствуют возможности для проявления авторской выразительности (например, в эпосе не может быть рассказчика, но есть повествователь, аллегория – басня или анекдот – также всегда рассказываются деавторизованно). Субъект и объект в них абсолютно не различены. В олицетворении и типе уже заметна некоторая смысловая относительность позиции субъекта, в них уже заложена возможность для авторского понимания и соответственно выразительного смыслового определения объекта. Мы уже можем спорить, не соглашаться с представленным в олицетворении или типе субъективным видением мира. Кроме того, в олицетворении и типе нарушается смысловое равновесие между субъектом и объектом, которое составляло основу содержательного тождества в мифе и аллегории. В последних субъект и объект неразделимы настолько, что они реальны и фиктивны одновременно. Доказывать фиктивность или реальность мифа или аллегории нелепо: одно здесь абсолютно совпадает с другим. Впрочем, мы, скорее, склонны верить в реальность мифа и не верить в реальность аллегории (например, анекдота). Но выбор между “верю” или “не верю” здесь лежит не в плоскости истины бытия субъекта или объекта, а в области прагматики понимания: в прагматическом преобладании субъективной или объективной позиции. Эмпирическая реальность мифа мыслится на стороне субъекта, а реальность аллегории – на стороне объекта. Миф истинен (или неистинен201) субъективно. Согласно точке зрения Э. Кассирера, в мифе не может быть неистины, в нем все дано как истина. А. Ф. Лосев соглашается с мнением Кассирера в том отношении, что представленная в мифе истина не может быть опровергнута научным путем, какой-либо объективной аргументацией. Мифу не нужна наука, он не питается научным опытом. Однако это не значит, что миф не полемичен, что в нем нет собственной аргументации, отсутствует сознание ложного и 201 Аллегория истинна или неистинна объективно (неистиность аллегории может проявиться, например, в рассказанном не точно или “не по адресу” анекдоте). В прагматике мифа доминирует субъект, в аллегории – объект. Но между субъектом и объектом нет содержательного отношения. Смысловое равновесие сохраняется. На этом и строится выразительная игра, смысловой “обман” в мифе и аллегории: где мы не знаем и не должны знать, почему мы верим и одновременно не верим представленному содержанию. В олицетворении и типе субъект-объектное смысловое равновесие нарушается в пользу объекта. Здесь ярко проявляется субъективная направленность на объект, попытка вскрыть, отразить истину его бытия. Собственная выразительность символической формы в олицетворении и типе еще не имеет самостоятельного значения: она служит исключительно лучшему пониманию объекта. В мифе и аллегории мы не можем разграничить бытие объекта и субъекта. В олицетворении и типе у субъекта нет своего бытия: все представленное бытие есть бытие объекта. Вообще, олицетворение и тип содержательно всегда заключают некоторое обобщение, являются типизацией видимых черт объективной реальности. Содержательная реальность в них сводится, в конечном счете, к реальности объекта. Причиной несогласия здесь может быть неправильное видение, обобщение черт объекта субъектом. Наиболее ярко авторская выразительность проявляется в художественном образе и в художественном идейно-схематическом изображении (эмблеме, плакате). Субъект-объектное смысловое равновесие в них нарушается в пользу субъекта; субъективная выразительность получает самостоятельное значение, превращается в самоцель. Ее статус повышается до уровня художественной формы. Субъект больше не боится того, что он будет “уличен” в неистинности. В художественном образе или неистинного. Миф по своему социальному предназначению как раз и создается, чтобы отделить правду от лжи. Он есть правда, а все остальное – ложь. Лосев допускает существование “мифических критериев истинности и достоверности” (Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. С. 39–40). схематическом художественном изображении качество понимания значительнее предмета понимания: важно то, как субъект понял объект. Это едва уловимое смещение выразительного акцента в сторону субъекта имеет принципиальное значение: при понимании объекта субъект выражает, в первую очередь, свое бытие. Объект, наоборот, утрачивает ведущий статус. Реальность субъективного восприятия подается как реальность объективного бытия. Доверие к изобразительности образа есть доверие к художественной форме его представления (которое в целом строится на основе вкуса), а не к точности изображения. Теперь мы можем не верить объекту, но не можем не верить субъективной выразительности – как бы при этом мы ни оценивали ее качество. При этом следует иметь в виду, что субъект в своей художественной выразительности не может абсолютно оторваться от объекта, игнорировать его бытие. Собственное бытие субъекта может обнаружиться лишь относительно бытия объекта. Абсолютная, ничем не ограниченная по смыслу реальность субъекта, субъективной выразительности (т. е. в-себе реальность объективного небытия) в предмете художественной формы есть абсурд. Мы опять приходим к тому, что функция субъекта как в мышлении, так и в искусстве невозможна без функции объекта. В метафоре и в понятии присутствует референция. Взаимная относительность субъекта и объекта в них усиливается. Субъект и объект все больше обособляются, отдаляются друг от друга. Причем здесь уже достигается относительная формализация понимания объекта субъектом, основывающаяся на качественно иных взаимоотношениях субъекта и объекта в символической модели понимания. Для сравнения, на предыдущих этапах символического развития мы видели: в мифе и аллегории абсолютное естественное понимание, которое создается взаимной неразличенностью функций субъекта и объекта (естественное понимание вообще отличается непосредственной похожестью и в своей основе иконично202); в олицетворении и типе, а также в художественном образе и в схематическом художественном изображении – относительное естественное понимание, где в смысловом определении уже обнаруживается частичная рефлексия субъекта и объекта и одна из сторон полагается как естественная, другая же мыслится подчиненно, как следствие или результат полагания естественной стороны, и, таким образом, формализуется, получая ту или иную смысловую направленность (в олицетворении и типе смысловое определение понимается как выражающее, в первую очередь, бытие объекта, а в образе и художественной схеме такое же смысловое определение понимается как выражающее, прежде всего, бытие субъекта). В метафоре субъективная, и формализованно. и понятии обе стороны понимания – и объективная – трактуются по смыслу Это всегда взаимная формализация: формализуется само взаимоотношение двух сторон понимания. Вместе с тем, и метафора, и понятие опираются на некоторое комплексное образно-смысловое представление в каждом из аспектов субъект-объектного отношения: как в аспекте субъективного понимания (переносного значения в метафоре или родового признака в понятии), так и в аспекте объектной отнесенности (буквального значения в метафоре или видового признака в понятии). Однако в обоих случаях мы видим не чистый, а свернутый образ, который специализирован по смыслу в аспекте отношения к противоположной стороне. Так, например, метафора – “сдвоенный образ” и “прямой наследник образа, но она не продвигает образ по пути семиотического развития... В ней образ постепенно стирается, а смысл выравнивается по законам стандартной семантики. Метафора, рассматриваемая в перспективе ее развития, – это техника смыслообразования”203. В любом мифе всегда много непосредственно-изобразительного, прототипического. Рассуждение, смысловая отвлеченность чужды мифическому сознанию. “Миф гораздо больше чувственное бытие, чем сверхчувственное” (Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 41). 203 Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 323, 324. 202 Вместе с тем в метафоре (как, впрочем, и в понятии) важно видеть возможность дальнейшего логического смыслового развития: выделения третьего смысла (позиции предиката) как самостоятельного понимания семантики связи двух сторон. Имплицируя позицию предиката, метафора как бы подсказывает путь к дальнейшей метафоризации, к смысловому развитию символической модели понимания204. В метафоре субъективная сторона понимания берет верх. В этом отношении метафора является продолжением смысловой традиции образа и схематического художественного изображения (эмблемы). Образ синтетичен, целостен и, как таковой, самодостаточен и безотносителен. Метафора сохраняет субъективную природу образа, но продвигает ее дальше, прибавляя к ней именно смысловую относительность. В понятии верх берет объективная сторона понимания: субъект по смыслу зависит от объекта. Субъект здесь представлен общим родовым, объект – видовым признаком, т. е. конкретной эмпирической стороной понятия. От того, какую сторону, какой частный смысл мы выделяем в объекте, зависит в целом наше понимание. Общая абстрактная сторона понимания является функцией смысла, который мы выделяем в объекте. Понятие продолжает смысловую традицию олицетворения и типа, которые, как модели символического понимания, содержательно представляют собой некоторый предел категориального понимания мира. Здесь человек впервые выходит на уровень нравственных обобщений, начинает мыслить категориями красоты, добра, справедливости, различать прекрасное и безобразное, добро и зло и т. д. Переносное значение в этих формах мыслится обобщенно как категория (хотя и представлено конкретно, иллюстративно, типически). Как категории понимания, в аспекте переносного значения эти формы самодостаточны, т. е. даны как некий абсолют. Понятие развивает категориальное понимание, которое впервые открывается в олицетворении и типе, в направлении увеличения Позиция предиката – важный смысловой ресурс метафоры (См.: Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 323, 345–346). 204 качественной абстрактности и смысловой относительности. Теоретическая, общая родовая сторона понятия мыслится как некоторое объединение видовых свойств объекта. В совокупности тех или иных видовых свойств объект сравним с другими объектами. С другой стороны, в одном и том же объекте может быть выделена не одна, а несколько позиций общего. Объект в своих качествах может подводиться под самые разные родовые обобщения. Связь общего и частного, родового и видового в понятии требует обоснования. В понятии, как и в метафоре, также имплицируется позиция третьего смысла – предиката, с которой открывается перспектива смыслового развития понятия. Появляется отношение к контексту. В этом и заключается относительность той модели понимания, которую мы видим в понятии. Относительное формализованное понимание, характеризующее символическую модель понимания в метафоре и понятии, содержит ряд новых качеств, которые оставались нераскрытыми в других символических формах на предыдущих этапах развития символического понимания. Прежде всего, в метафоре и в понятии ярко проявляется искусственность понимания. Мы не замечаем этой искусственности в мифе и аллегории ввиду неразличенности субъективной и объективной сторон их содержания. В первую очередь мы обращаем внимание на содержательную естественность в олицетворении и типе или на выразительную естественность (т. е. качество художественной формы) в образе и схематическом художественном изображении, не выделяя в них скрытой искусственной стороны. Последняя мыслится в этих формах как ненастоящая и выражает не собственную смысловую необходимость, а необходимость противоположной стороны, которая полагается как естественная. “Несобственность” смыслового бытия в образе и олицетворении выражается в том, что: а) в образе объективное содержательное (которое само не выражает необходимости своего смыслового развития и в целом полагается как искусственное) по смыслу подчиняется требованиям субъективной выразительности; б) в олицетворении и типе, наоборот, субъективное выразительное (в данном случае понимаемое как искусственное) подчиняется смысловым требованиям объекта. Искусственность одной из сторон понимания в этих формах как бы замаскирована естественностью другой стороны. Эта искусственность открывается в них лишь внешнему наблюдению, но внутреннего осознания искусственности в этих формах нет. Поэтому мы и называем тип понимания, который обнаруживается в этих формах, относительным естественным пониманием. В метафоре и понятии искусственность понимания берет верх, становится явной. Теперь не она подчинена естественной стороне понимания, а, наоборот, естественная сторона функционально подчинена ей. Растет функция результата понимания, которое теперь важно не как таковое, а с точки зрения достигнутого смыслового результата. Во всем этом, прежде всего, следует видеть коренное усиление прагматики понимания. При этом онтология символического понимания в процессе развития символических форм остается неизменной: выразительная игра (т. е. перенос значения с субъекта на объект) не меняет своей направленности, позиции субъекта и объекта остаются неизмененными. Искусственность теперь по смыслу, по логике своего бытия, служит самой себе и воспринимается как само настоящее, как реальность понимания. В искусственности – начало системного понимания. Открывается сам принцип системности, которого еще не было в более ранних, внутренне менее дифференцированных символических формах: в понятии – это объективная искусственность и объективная системность (в значении рода), в метафоре – это субъективная, служащая цели выражения искусственность и субъективная системность (в экспрессивной значимости переносного значения). В понятии смысловой результат понимания подается как объект, как сама объективная реальность, в метафоре смысловой результат субъективен. Но как в метафоре, так и в понятии любая смысловая абстракция рассматривается как смысловое достижение субъекта. Очевидной становится принципиальная произвольность смыслового соотнесения позиций субъекта и объекта. Например, “метафора возникает только в условиях нарушения категориальных границ. Ресурс метафоры – сдвиг в классификации объекта, включение его в тот класс, которому он не принадлежит”205. Понятие мыслится как некоторый предел истинного понимания объекта. Но и в нем главными являются глубина, охват смыслового понимания объекта, достижение новой высшей абстракции: смысловое развитие понятия есть, прежде всего, его теоретическое развитие, т. е. развитие в нем его субъективного аспекта (в сторону рода). Далее, в понятии и метафоре нам открывается контекст через имплицитно представленную в них позицию предиката. “Позиция предиката позволяет извлечь из образа (т. е. из содержания символической модели – Н. И.) свойства, совместимые с субъектом”206. В образе, а также в типе и олицетворении не представляется возможности видеть контекст. Эти формы самодостаточны, целостны, смысловое развитие в них ограничено функцией внутреннего смыслового отношения, т. е. узко представленной в них задачей понимания. Например, образу как таковому не нужен контекст, хотя его смысловое развитие может быть понято и представлено лишь каким-то внешним образом, через контекст. Позиция предиката, т. е. импликация “логической связки” как следующего смыслового шага в сторону контекстного развития в образе максимально свернута, не определена207. Если мы представляем какое-либо содержание как образ, этим мы замыкаем его по смыслу на себя и таким образом как бы лишаем контекстного отношения. Образ – вместилище смыслов. Но он лишен смысловой направленности, по крайней мере, сам из себя ее не объясняет. Эту направленность ему может дать лишь субъект – автор. Неожиданность, непроизвольность смыслового развития – Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 323. Там же. С. 323. 207 В образе в отличие от метафоры отсутствует различенность объекта и субъекта (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 315, 322. 205 206 важнейшее качество образа208. Все это делает образ одной из наиболее предпочтительных разновидностей художественной формы, например, в романтической и особенно в реалистической литературе209. Любое его целостное развитие, смысловая метаморфоза происходят как бы совершенно случайно. Но главное преимущество образа – смысловая целостность – является и крупнейшим его недостатком. Ни один из смыслов в образе не берет на себя функцию смысловой доминанты понимания. Поэтому исследователи отмечают в образе такие характерные качества, как безотносительность, внутренняя смысловая достаточность, неприятие какого бы то ни было смыслового расчленения210. Метафора, которая следует за образом и во многом наследует его свойства211, – это смысловое “насилие” над образом. Она разрывает его целостность, привносит в него произвольный смысловой сдвиг, упрощает, но при этом дает ему смысловую направленность. Отсюда в метафоре более ясно видна контекстная функция, по которой и оценивается качество происходящего в ней смыслового сдвига. В понятии нет смысловой направленности, но в нем также присутствует внутренняя смысловая расчлененность. В понятии происходит смысловая поляризация содержательного представления: создание на базе содержания некоторой модели родо-видового отношения, необходимость которого может быть объяснена лишь при помощи контекста, в котором раскрывается мотив, особенная сторона понимания. Понятие претендует на всеобщность понимания объекта, а также на всеобщность “Стихийность формирования образов определяет их автономность, неподвластность человеку, спонтанность их появления и исчезновения... Образы меньше всего связаны с волей... человека” (Арутюнова Н. Д. Там же. С. 318–319). Н. Д. Арутюнова постулирует перечисленные качества образа как обязательные, иначе образ перестает быть образом, переходит в разряд других, более формализованных символических форм, например, метафоры. 209 См.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 142–144, 162. 210 Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 316, 320. 211 Там же. С. 322. 208 контекстного отношения. Но при этом контекстное отношение в понятии не является гибким: ввиду того, что в-себе, в плане внутреннего родо-видового отношения, понятие должно оставаться неизменным. Базовая смысловая предопределенность, содержательно представленная позициями крайних терминов в структуре родо-видового отношения, т. е. позициями рода и вида, важнейшее качество понятия. Положенное как всеобщее, понятие вместе с тем не терпит свободного, неограниченного развития опыта смыслового определения. Отношение понятия и контекста – это всегда взаимное отношение. С одной стороны, контекст раскрывает нам смысловые возможности понятия, но, с другой стороны, и понятие есть некоторый подход к контексту: мы видим контекст через призму понятия, в свете представленной логики родо-видового отношения – крайних терминов смыслового понимания. Позиция предиката в понятии характеризуется как связка, средний термин, логическое основание. Смысловое развитие понятия – это развитие среднего термина, “углубление в логическое основание” (Гегель). На пути контекстного развития понятие разворачивается в форму суждения и умозаключения212. Отношение метафоры к контексту также строится на взаимной основе. Но в метафоре проявляется ограниченное по смыслу отношение к контексту. Итак, с позиций общего рассмотрения процесса эволюции символических форм можно констатировать, что в то время как в формальном плане внутреннее смысловое отношение в символической модели понимания остается без изменений и, таким образом, на всем пути символической эволюции сохраняется общая формула замены буквального значения переносным, в содержательном аспекте в этой формуле обнаруживается ряд существенных оттенков: увеличивается и все больше формализуется противоположность субъекта и объекта, Логическое развитие понятия, развернутого через форму суждения в форму умозаключения, есть то или иное развитие среднего термина – логического основания связи двух крайних терминов. (См.: Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики. С. 365–366. 212 увеличивается их взаимное функциональное обособление, вырастает смысловая абстракция переносного значения, усиливается прагматика понимания, искусственная сторона становится ведущим смысловым фактором понимания – неважно: усматривается в ней некоторое истинное отражение действительных свойств объекта (как в понятии) или чисто субъективное отношение к нему (как в метафоре). Одновременно усиливается смысловая функция контекста, все более выявляется и конкретизируется по смыслу позиция предиката, вместе со всем этим возрастает произвольность содержательного смыслового определения и все ярче обнаруживаются личностные субъективные качества этого определения. Таким образом, можно заключить, что переход от символической к знаковой модели понимания подготавливается всем ходом эволюции символических форм. 5.4. Преемственность содержательного развития от символа к языку Языковое значение, содержательная основа языкового знака, является кульминационным пунктом развития символической модели понимания. Понимание, которое достигается в языковом значении в сравнении со всеми предшествующими ему способами символического понимания можно определить как абсолютное формализованное понимание. Таким образом, в содержательном аспекте, как и в формальном, выстраивается прямая линия эволюции символических форм, в основе которой лежит некоторая естественная формула понимания (миф), а на вершине находится некоторая искусственная формула понимания (языковое значение). Понятно, что в данном случае мы берем языковое значение как некоторую концептуальную формулу понимания и с этих позиций помещаем ее в один ряд с другими символическими моделями, рассматриваемыми столь же концептуально. Количественно, с точки зрения внутренней структуры, последние могут быть и, чаще всего, оказываются гораздо сложнее языкового значения. Однако, качественно, по смыслу и, прежде всего, функционально, как формула понимания мира, языковое значение превосходит их, потому что аккумулирует в себе все их свойства, является закономерным результатом всей их эволюции. Чтобы понять, в чем состоит преемственность смыслового развития при переходе от символической к языковой модели понимания, а также понять собственные смысловые качества языкового значения в их отличии от смысловых характеристик натуральных символических форм, представим некоторые наиболее важные смысловые параметры, по которым языковое значение обнаруживает как общие, так и отличительные черты с содержанием натуральных символических форм и предстает как более совершенная модель понимания, преобразуя формулу символического понимания и подготавливая, таким образом, в себе функцию языкового символизма. Два противоположных пункта стоят в начале и в конце пути символической эволюции: с одной стороны, это миф, а с другой – языковое значение. По целому ряду позиций языковое значение – абсолютный аналог и абсолютный антипод мифа: на новом витке эволюции оно повторяет свойства мифа, но внутренне перераспределяет заданное в мифе соотношение диалектических моментов, логику их взаимодействия. Прежде всего, отношение субъекта и объекта в языковом значении вновь приходит к содержательному равновесию. Но если в мифе это было неразличенное и положительное содержательное равновесие, то в языковом значении мы видим уже различенное и отрицательное содержательное равновесие между субъектом и объектом. Далее, обязательным качеством мифа должна быть непредсказуемость смыслового развития, смыслового поведения в контексте. Миф алогичен. Все действия в нем происходят как бы без видимой причины. С этой точки зрения он кажется недоступным внешнему обыденному пониманию. Это – отрицательное качество мифа, являющееся следствием отрицательного отношения мифа к контексту. Но оно же свидетельствует о непосредственности связи мифа со своим методом. Связь мифа и контекста – это связь абсолютно понимаемого порядка и хаоса, бытия и небытия, жизни и смерти. У мифа не может быть никакого “взаимопонимания” с контекстом, ничего общего, никакого перехода в контекст. Контекстное осмысление уничтожает собственное значение мифа, фальсифицирует его. Миф, как концепт, при всей жесткости представленной в нем формулы понимания, “беззащитен” перед фактором контекста. В нем нет и не может быть позиции предиката (смыслового приближения к контексту), и, следовательно, отсутствуют формальные смысловые механизмы управления своим контекстным развитием, механизмы контекстной адаптации. Контекст требует смысловой трансформации, модификации, переосмысления заданного содержания. Функция контекста – мотивирующая. Он служит внешним обоснованием необходимости связи прямого значения объекта с переносным. Но миф не терпит такого отношения к себе, он требует буквального, культового продолжения, а не смыслового развития. Он сам по смыслу – “интерпретатор”, и в этом качестве противится любой внешней интерпретации. Привнесение фактора контекста переводит миф в план фактического существования, бытия. Но у мифа как символической формы своего бытия нет. Бытие мифа – это бытие буквального значения объекта. Собственное бытие мифа ограничивается моментом его чувственного совпадения с прямым значением объекта, т. е. бытие в нем полностью совпадает с явлением сущности (если в данном случае считать, что миф – “сущность”, а прямое значение объекта – “явление” сущности). Любой выход за рамки этого совпадения требует функционального подчинения мифа прямому значению объекта, в то время как внутренние смысловые условия мифа требуют, чтобы, наоборот, буквальное значение было функцией его значения. Очевидно, что в условиях исторического развития смысловой разрыв между первым и вторым неизбежен. В языковом значении после относительно жесткой контекстной предопределенности в метафоре и понятии, на новом витке содержательной символической эволюции, мы вновь сталкиваемся с непредсказуемостью смыслового развития. Языковое значение повторяет в себе это важнейшее качество мифа. Однако, как это ни парадоксально, непредсказуемость контекстного смыслового проявления в языковом значении органично сочетается со столь же значимой в нем контекстной смысловой предсказуемостью, предопределенностью. Два качества взаимодействуют и дополняют друг друга в опыте смыслового развития значения (т. е. в опыте его бытия как некоторой модели понимания). Каждое новое употребление значения вызывает ассоциацию всего предыдущего опыта его употреблений и с этой точки зрения предопределено всем наличным смысловым опытом значения. Но в-себе каждое новое употребление отрицает предыдущий смысловой опыт, накопленный в значении, выявляя каждый раз нечто новое, что хотя бы в минимальной степени не детерминировано предыдущим смысловым опытом, разрывает или преодолевает предзаданные формы смысловой детерминации, т. е. является чистой смысловой случайностью, открывая стихию иного (возможность и перспективу метода в смысловом развитии значения). Без этого мы не могли бы регистрировать способность символизации в языковом значении, и языковой знак, слово языка, не мог бы называться символом. Таким образом, непредсказуемость дальнейшего бытия в языковом значении необходимо опирается на совокупный наличный смысловой опыт бытия. Все это говорит о качественно более совершенной позиции предиката в языковом значении по сравнению с более ранними символическими формами. Так, в мифе мы видим абсолютное отсутствие позиции предиката, миф отвергает внешнее контекстное осмысление. Аллегория (басня, анекдот), если в ней продолжать видеть содержательную модель мифа, при общем отсутствии позиции предиката показывает парадоксальность, абсурдность дальнейшего контекстного развития представленного в ней содержания. Контекстное помещение олицетворения (типа) или образа (схематического художественного изображения) открывает скрытую в них тайну смыслового разрешения, некоторого смыслового вывода, известную или понятную лишь автору. Здесь можно говорить о контекстном развитии при отсутствии какой-либо смысловой предопределенности, т. е. позиции предиката. В метафоре и понятии достаточно строгая импликация позиции предиката создает относительно однозначную перспективу их контекстного развития. В языковом значении позиция предиката множественна, полифункциональна, она совпадает со всеми смысловыми определениями языкового значения, а, стало быть, по сути, со всем представленным в нем наличным смысловым опытом. Это внутренняя смысловая форма значения в ее категориальнограмматическом и образно-смысловом аспектах. Значение может осуществить “поворот” к любому смыслу, к любому определению бытия и, таким образом, занять согласно наличному смысловому опыту необходимую контекстную позицию. Однако в этой же позиции откроется некоторый новый, отрицательный опыт бытия, который будет выходить за рамки наличного смыслового опыта, но сам в свою очередь также будет совокупным образом аккумулироваться в составе этого опыта, подключаться к другим, уже известным определениям бытия, и так – до бесконечности. Всякое значение потенциально должно иметь бесконечное число смысловых реализаций (смысловая функция значения может быть количественно ограничена лишь объемом человеческой памяти). Но никакое смысловое развитие не должно нарушать содержательного тождества языкового значения. Не предположив этого, мы должны были бы существенно ограничить свои представления о возможностях языковой выразительности, смыслового развития языка вообще. Таким образом, полная смысловая предопределенность языкового значения сочетается в нем с постоянной потенциальной новизной смысловых контекстных проявлений, с непредсказуемостью смыслового поведения и смыслового развития. Собственно, на этом и основывается творческое, авторское использование слов языка писателями, поэтами, которые в идеале применяют слова языка с максимальной смысловой полнотой, на пределе их выразительных и изобразительных возможностей. Постоянный поиск нового смысла в слове – важнейший ориентир писательского труда. Еще одну параллель необходимо провести между мифом и языковым значением: это присутствующий в них абсолютный характер опосредствования в аспекте бытия. Бытие мифа опосредуется объектом. Это принципиальное свойство символической модели понимания, которое формально сохраняется, в других, стоящих за мифом натуральных символических формах. Содержательное бытие языкового знака, которое мы видим в смысловом определении языкового значения, опосредовано субъектом. Причем в мифе, с одной стороны, и в языковом значении – с другой, данное опосредствование исходным образом полагается как абсолютное, как некая константа, как принципиальное качество содержательного движения каждого из них как модели понимания через смысловое определение бытия к значению своего метода. Это в целом совпадает с проведенным выше по принципу модели базовым онтологическим различением символа и языкового знака, согласно которому основу содержательного тождества в символе составляет некоторое субъективное чувственное представление (напрямую соотносимое с естественной формой выражения и составляющее с ним единое неразличенное целое213), а основу содержательного тождества в языковом знаке составляет некоторое объективное предметное представление, называемое языковым значением. Соответственно символ развивается по смыслу выразительно – в сторону объекта. Языковой знак развивается по смыслу содержательно – в сторону субъекта. Причем и там, и здесь, как мы сказали, это обычный путь развития модели от смыслового определения в аспекте бытия к значению своего метода. Таким образом, собственное значение метода в символической модели понимания лежит в области Другими словами, символ бесконечно выразителен, связь содержания и формы в символе естественная, выразительная. По этой причине Ф. де Соссюр отвергает символ как форму сущностного определения языка, и выбирает в качестве таковой языковой знак (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 101). 213 формы, на пути дальнейшей объективации бытия. Метод в содержании языкового знака раскрывается от субъекта, как его функция, и положительно представлен как результат внутреннего смыслового развития значения. Из всего этого следует, что в нижнем пункте символической эволюции мы имеем абсолютную релевантность формы (в идеале это непосредственное выразительное воплощение содержания в форме, их принципиальная неотделимость и функциональная неотличимость). Напротив, в верхнем пункте символической эволюции, в языковом знаке, мы видим абсолютную нерелевантность формы (здесь с позиций смыслового определения языкового значения связь означаемого и означающего должна214 полагаться как абсолютно произвольная). Содержание языкового знака, языковое значение, имеет абсолютную власть в знаке. Форма же “бесправна”, она принципиально невыразительна, является чисто технической стороной знака. Представляя теперь весь путь эволюции символической модели понимания от значения мифа к языковому значению (понятно, что такое возможно лишь в порядке научной абстракции), мы можем сказать, что генеральной тенденцией этой эволюции является восхождение символической модели понимания от некоторой абсолютной субъектности (когда субъект “видит” лишь себя) к абсолютной объектности (когда субъект не “видит” ничего, кроме объекта). Абсолютный характер онтологического субъектобъектного отношения в каждом из крайних пунктов символической эволюции дает нам право понимать собственное качество каждого из них отрицательно, через противоположный момент. С этих позиций можно сказать, что в целом символическая модель понимания от мифа к языковому знаку развивается от некоторой абсолютной безобъектности к некоторой абсолютной бессубъектности. 214 Что, собственно, и подчеркивает Ф. де Соссюр. Конечно, ни безобъектную в-себе данность мифа, ни буссубъектную в-себе данность языкового значения не следует понимать буквально-онтологически – как полное физическое отсутствие в них соответствующей реальности: объекта в онтологии мифа или субъекта в онтологии языкового знака. Такое исключало бы саму возможность какого было ни было их внешнего проявления. Или в этом случае мы вынуждены были бы констатировать в них полное отсутствие какой-либо диалектики смыслового развития – невозможность смыслового определения в аспекте бытия и невозможность их смыслового движения к своему методу. Речь здесь должна идти о некоторой форме условного смыслового полагания, когда при наличии категориальной позиции в каждом из крайних пунктов символической эволюции возможность соответствующего категориального смыслового определения еще отсутствует. Иными словами, “отсутствие” здесь должно означать чистую незаполненность противоположной собственному значению символической формы категориальной позиции. Одновременно это должно сигнализировать об открытости, относительной нереализованности потенциала смысловых определений бытия и о новых возможностях дальнейшего смыслового движения (при принципиальном тождестве общей смысловой направленности этого движения). Таким образом, натуральные символические формы содержательно развиваются от относительного нуля объектной функции (в мифе) к относительному максимуму той же функции (в метафоре и в понятии), т. е. к полноте смысловой представленности объекта в содержательной символической модели понимания: таким максимумом является импликация прямого значения объекта в метафоре или понятии, импликация референции (т. е. когда вместе с символическим значением полагается также его бытие). Знаковая модель понимания в языке, в аспекте смыслового определения бытия, эволюционирует от относительного нуля (в абстрактно представленном языковом значении) к относительному максимуму субъектной функции, т. е. полноте смысловой представленности субъекта в содержании языкового значения. Еще одним отличительным качеством языкового значения в сравнении с содержательной стороной натуральных символических форм является смысловая полнота, всесторонность, многоаспектность внутренней формы языкового значения, которая функционально предопределяет порядок смысловых проявлений языкового значения в аспекте бытия (и соответственно отрицательно – порядок осуществления субъектной функции в смысловом опыте значения). Это качество языкового значения подготавливается в различных своих чертах всем характером содержательного развития натуральных символических форм, ходом символической эволюции. B языковом значении важно различать две его стороны: образный и категориальный аспекты. С одной стороны, значение нам дано как образ, а с другой – как некоторая совокупность или “пучок” категорий. В первом случае важно узнавать смысловую индивидуальность значения, во втором – понимать значение типически, как результат некоторого смыслового обобщения, видеть в нем некоторый порядок или внутреннюю технику подведения под род. Строго отграничивать в составе значения один аспект от другого, как показывает научный опыт, вряд ли возможно. Логично предположить существование между ними целого ряда смысловых переходов, взаимодействий. Можно сказать, что два аспекта функционально дополняют друг друга. Первый – это собственно семантический (лексико-семантический) аспект значения, второй – грамматическая сторона значения. Категориально, в статике языка, образующие грамматическую сторону значения категории можно считать результатом грамматикализации семантических свойств значения: в историческом опыте языка последние как бы подводятся под общий смысловой знаменатель и, таким образом, формируют грамматическую парадигму языка. Например, процессы формирования категории артикля в индо-европейских языках, сложные процессы формирования категории рода в ряде африканских и индейских языков, контекстная значимость частиц выражения аспекта или времени глагола в креольских языках, семантическое происхождение показателя сослагательности/условности в русском языке и др. – все это подтверждает тезис о семантических источниках языковой грамматики. Однако функционально, в речевой динамике языка будет по-своему оправданно считать семантическую сторону значения результатом семантизации его абстрактной категориальнограмматической стороны (которая оказывается, таким образом, как бы предзаданной). Собственно, тезис о том, что языковая грамматика архетипически определяет свойства языковой семантики, является основополагающим в теории генеративной грамматики и генеративной семантики. Первая точка зрения выражает в целом эмпиристический подход к языковому значению, вторая – рационалистический подход к значению. Впрочем, нас интересуют не взаимоотношения семантического и грамматического аспектов языкового значения, а то, что в каждом из этих своих аспектов значение, на своем уровне (если видеть в нем некоторый кульминационный пункт символической эволюции), повторяет семантические свойства натуральных символических форм – так, что в этих формах можно разглядеть некоторую “предысторию” смысловых качеств языкового значения. Трудно однозначно определить, какими качествами должно обладать языковое значение. Мы будем оценивать смысловые качества языкового значения как в образном, так и в категориальном аспектах по двум критериям: во-первых, языковое значение должно мыслиться безотносительно, абсолютно – так, чтобы нельзя было представить возможность какого-то иного понимания; во-вторых, в каждом из своих аспектов значение должно мыслиться некоторым относительным образом, т. е. всякий раз открывать возможность иного понимания. Безотносительность и относительность – два необходимых смысловых условия языкового значения, каждое их которых полагается как неизбежное отрицание своей противоположности. Проведя прямую линию от натуральных символических форм к языковому значению, можно предположить, что абсолютные семантические свойства значение “заимствует” у художественного изображения, и в этом отношении оно продолжает семантическую традицию образа215. С этой стороны значение всегда мыслится внеконтекстно, безотносительно. Свои относительные семантические свойства оно принимает от метафоры (которая является как бы “первым” опытом смысловой относительности в процессе эволюции символической модели понимания) – с той лишь разницей, что в метафоре мы видели относительно однозначную перспективу контекстного осмысления, подготовленную смысловой разницей буквального и переносного значений, в то время как в языковом значении смысловой контекстный опыт, смысловой узус значения, является многоаспектным, разноплановым, неоднозначным и к тому же, постоянно меняющимся. Относительные семантические свойства значения можно назвать сочетаемостными. Следует иметь в виду, что они мыслятся не как нечто внешнее, привходящее, а как продолжение целостной индивидуально-образной основы значения. Относительные семантические свойства (т. е. опыт смысловых контекстных позиций значения) могут исторически накапливаться. В аспекте своего узуального смыслового опыта значение конкурирует с другими значениями, проявляет себя как значимость. В своих категориальных качествах значение также мыслится прежде всего абсолютно, независимо, в-себе. Но конкретная представленность категориальных качеств значения всегда обнаруживает себя и некоторым относительным образом. С одной стороны, это то, что называется грамматическими категориями. С другой – это грамматические значения (например, категория времени и значение времени, категория артикля и конкретный артикль как показатель смыслового оформления имени в предложении, категория числа и грамматическое значение числа и т. д.). Грамматическая категория как таковая абсолютна, безотносительна. Она подобна “архетипу” понимания. Но она же, Убедительное доказательство именно такой логики развития семиотических концептов дается Н. Д. Арутюновой в “Языке и мире человека” С. 313–346. 215 воплощенная в конкретном грамматическом значении слова, проявляется как относительная величина, служит показателем контекстной смысловой связанности значения – синтаксического отношения. Грамматические категории (например, классовые смысловые показатели значения: предметность, глагольность, род, число и т. д.) выражают некоторую абстрактную родовую отнесенность значения216. Эта сторона грамматической формы значения (абсолютное смысловое качество грамматической формы) во многом напоминает тот порядок смыслового обобщения, типизации, который мы видели в олицетворении и типе – с той разницей, что в последних данное обобщение было однозначным и конкретным, в то время как языковое значение является носителем многих грамматических категорий. Относительная сторона грамматической формы значения, как смысловая специализация общей стороны, в каждом из аспектов парадигматического отношения раскрывает содержание значения по форме как понятие, т. е. повторяет в себе смысловой принцип понятия, принцип подведения под род. Только в понятии мы видели относительно однозначное родо-видовое противопоставление и соответственно относительно однозначный смысловой выход в контекст. В значении мы можем видеть сразу несколько грамматических парадигм, посвоему формализующих поведение значения в контексте. Таким образом, формальные смысловые качества языкового значения подготавливаются эволюцией натуральных символических Логично предположить, что чем менее развит язык функционально, тем семантичнее, буквальнее и разнообразнее в нем его высшие грамматические показатели (грамматические категории), задавая иногда огромное множество реляционных синтаксических функций. И наоборот, чем более функционален язык, тем абстрактнее в нем абсолютные грамматические категории и тем более формализованы конкретные грамматические значения. Часто при изучении иностранного языка мы в чужом языке семантизируем то, что в них должно пониматься формально (например, случаи согласования времен в романских или в германских языках: Present Perfect в английском языке или Modo Condicional в португальском). Начинающие переводчики часто оказываются “рабами” грамматики, желая, чтобы язык перевода семантизировал (т. е. буквально представлял) формально-грамматическую сторону значений языкаоригинала. 216 форм со стороны олицетворения (типа) и понятия, а семантические образные качества значения – со стороны художественного изображения (образа) и метафоры. В отличие от натуральных символических форм, относительно однозначных по их смысловому предназначению, языковое значение комплексно, интегративно, многоаспектно. Значение умножает в себе смысловые качества символической модели понимания, синтезирует их в едином смысловом комплексе, делает их гибкими, подвижными, универсальными. Можно сказать, что среди известных нам моделей понимания нет ничего проще и, одновременно, сложнее, устойчивее и подвижнее языкового значения. Сущностно (в собственном первичном качестве, как системную языковую величину, до момента какой бы то ни было объективации в речи) языковое значение можно определить как чистую идеальную норму (модель) предметного понимания. Предметное бытие и в целом предметная реальность значения должны определяться относительно субъекта. В чистом языковом значении субъекта в качестве реальности как бы еще нет: субъект представлен незаполненной смысловой позицией, виртуально. Следовательно, и само значение, понятое в-себе как реальность, виртуально: его реальность равна реальности субъекта. Виртуальная функция значения важна. В чистом понимании значения представлена исходная позиция опыта его смыслового развития. Здесь даны все предпосылки для смыслового развития и в то же время само оно отсутствует. Все дальнейшее смысловое развитие значения, смысловое определение бытия (актуально или исторически) есть усиление в нем функции субъекта. 5.5. Прагматика понимания и стиль Важнейшим отличительным качеством языкового значения является гибкость прагматической функции. Наоборот, в натуральных символических формах мы видим достаточно жесткую прагматику понимания. Традиционно под прагматикой понимают некую внешнюю фактологию смысла, подчиненность смысла внешним условиям, с которыми связывается употребление знака. Прагматика говорит о внешней целесообразности смысла. Провести черту между прагматической целесообразностью и смыслом весьма трудно, потому что именно в прагматике смысловая сторона содержания питается новыми соками, и то, что вчера было лишь прагматическим эффектом (иллокутивным, перлокутивным, ситуационным и т. д.), сегодня становится непосредственно самим смыслом, т. е. закрепляется как постоянная или устойчивая смысловая функция содержания. Тем не менее, в целях строгого категориального различения собственно прагматики и смысла будем считать, что прагматика – это постсмысловой результат употребления знака. По-своему подходя к явлениям прагматики, мы отвлекаемся от чисто внешнего ее понимания и считаем, что любая внешняя прагматика знака, при всей ее хаотичности, разноплановости, должна опираться закономерные предпосылки в самом знаке. непредсказуемости, на определенные Знак (или символическая форма) непосредственно служит пониманию мира. Онтологически из этого и формируется содержание знака. Но в самом понимании по-разному обнаруживается участие субъекта, которое является разнообразным в языковом знаке, но относительно строгим и закономерным по смысловой направленности в натуральных символических формах. Мы в целом солидарны с той точкой зрения, согласно которой прагматика изначально создается позицией субъекта в содержании языкового выражения217. Субъект самой своей невидимой позицией решает: какой быть прагматике, какой результат будет достигнут Ю. С. Степанов предлагает специализировать логику понимания прагматической функции выражения и рассматривать ее не с позиций слушающего, а с позиций говорящего. Главное в прагматике – присвоение выражения субъектом речи. Поэтому предлагается заменить сам термин “прагматика” на термин “дектика” (от греч. “могущий вместить или принять в себя”): “Все наталкивает на то, чтобы в названии этой координаты языка отразить ее главное свойство – отношение языка к говорящему (курсив мой – Н. И.), заключающееся в присвоении себе языка в момент – и на момент – речи. ... Таким образом, названием всей координаты, всего данного измерения языка будет дектика” (Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М.: Наука, 1985. С. 224). 217 при помощи смысла. С учетом именно этих позиций мы употребляем термин “прагматика понимания”, усматривая в явлении, которое он обозначает, базовую смысловую предпосылку всякой прагматики, которая может быть достигнута в языковом знаке. Там, где присутствует прагматика, уместно говорить не столько об истинности, сколько об искренности218. Содержательная реальность понимания должна переходить в реальность выражения. Истина понимания в выразительном аспекте интерпретируется с точки зрения искренности представляемого смыслового результата как реальность самого понимания. Но при этом, как бы ни менялась прагматика понимания в содержании натуральных символических форм или в языковом значении, базовые истинностные параметры понимания (т. е. сам алгоритм понимания) остаются без изменений. В основе всего и там, и здесь лежит формула содержательного субъект-объектного тождества. Субъект, раскрывая бытие объекта, этим содержательно обнаруживает и самого себя: а) в натуральных символических формах – положительно (сохраняется формула переноса значения, буквальное значение заменяется переносным, содержательное тождество субъекта и объекта в целом является условным и относительным); б) в языковом значении – отрицательно (происходит смысловое развитие значения, его наполнение новым смыслом, сравнение исчезает, тождество субъекта и объекта полагается как безусловное и абсолютное). Таким образом, как в первом, так и во втором случае и формальные, и содержательные (истинностные) условия понимания остаются без изменений: субъект и объект находятся на своих местах, выполняют свои функции, и их отношение друг к другу не меняется. Действует некоторая содержательная константа понимания. О важности этой категории при целостной интерпретации логического смысла высказывания говорит Дж. Р. Серль. С его точки зрения, без искренности невозможна прагматическая интерпретация интенционального смысла высказывания: между сущностным условием и условием искренности речевого акта существует глубокая внутренняя связь (См.: Серль Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. М.: Прогресс, 1987. С. 105, 125). 218 Однако, с другой стороны, с точки зрения прагматики понимания один из оперантов во всей процедуре понимания – субъект либо объект – должен оказываться в смысловом “выигрыше”: функционально он должен определять смысловую действительность понимания. Соответственно противоположный момент должен оставаться как бы в смысловом “проигрыше”, как бы становиться ненастоящим, фиктивным, “не самим собой”. Он не должен определять прагматическую функцию значения: смысловая значимость понимания от него больше не зависит, ему не принадлежит. Прагматическая функция понимания – действительность смысла – становится более понятной, если посмотреть на нее “со стороны”, т. е. не просто с точки зрения “чистого” порождения219 знакового или символического содержания, но с учетом условий внешнего восприятия последнего. Кого или что, в конечном счете, мы видим перед собой, когда воспринимаем содержание той или иной символической или знаковой формы? Что преподносится нам в качестве реального смыслового продукта и действительной функции понимания: субъект или объект? Может быть, перед нами субъект, который хочет показать лишь себя, осуществить функцию самовыражения, но при этом вынужден апеллировать к объекту (а как иначе и относительно чего он мог бы обнаружить свое бытие?)? Или, может, перед нами только – объект, а функция субъекта содержательно подчинена задаче объективного понимания, т. е. “Чистое” выражение – это фикция. При построении коммуникативного акта в сознании говорящего образ вторичной коммуникативной деятельности (восприятие речевого сообщения слушающим) неявным образом предшествует первичной (собственно выразительной деятельности говорящего). Это совершенно очевидно вытекает из положений классической риторики, лингвистической теории коммуникации (См.: Сидоров Е. В. Основы коммуникативной лингвистики. М.: ВКИ, 1986. С. 22). То же отмечает теория перевода в опыте двуязычной коммуникации. В условиях коммуникации речевое выражение не является чистым произволом говорящего, который прежде чем что-то сказать, моделирует (сколь угодно гипотетически) чужое восприятие, что и подготавливает смысловую функцию его выражения. В коммуникации, как нигде, “спрос определяет предложение”. Это можно считать смысловым законом коммуникации. 219 субъекта как бы “по-настоящему” и нет, его самовыражение снято, равно нулю, есть лишь объект, который раскрывается нам в содержании знаковой или символической формы той или иной стороной своего бытия? Кого, какого операнта понимания мы узнаем, когда воспринимаем организованное по смыслу согласно осуществляемой формуле понимания содержание? Следует учесть тотальность значения прагматического выбора, который, в конечном счете, должен быть однозначным: либо в пользу объекта, либо в пользу субъекта – либо функция субъективного самовыражения подчинена функции объективного предметного понимания, либо функция понимания подчиняется функции субъективного самовыражения (чистого личностного коммуникативного воздействия). Какие-то смысловые “полутона”, смешение двух функций по принципу их количественного участия в управлении процессом смыслового определения бытия, в прагматике вряд ли возможны. В этом случае уничтожается само значение прагматики, где между субъектом и объектом не может быть смыслового “равноправия”, лишь один из них становится подлинной реальностью выражения. Впрочем, следует иметь в виду, что в прагматике подлинным критерием оценки, конечной инстанцией, относительно которой определяется реальность выражения, в любом случае является не объект, а субъект. Содержание – это функция объекта, он является критерием оценки содержания. Прагматика – это всегда функция субъекта. Прагматика под тем или иным ракурсом выдает значение субъекта, показывает, каким образом обнаруживается его реальность через смысловую функцию содержания. Речь идет о качестве присвоения содержания субъектом. Через смысловое развитие содержания субъект так или иначе показывает себя. Прагматическая ответственность субъекта – как при правильном, так и при неправильном понимании – не равна его содержательной ответственности. Еще раз напомним, что речь идет не о прагматическом эффекте, пост-смысловом результате выражения, а об исходной прагматической позиции понимания, базовой прагматической трактовке смысла, которая переходит в функцию смысловой реальности выражения220. В языковом значении мы имеем широкие возможности для прагматического выбора. В натуральных символических формах возможности прагматического выбора весьма ограничены. Сама форма естественного символического понимания предопределяет прагматическую реальность субъекта. Здесь мы видим жесткое распределение прагматической функции понимания и выделяем два ряда форм: субъективно и объективно значимые. К первым относятся миф, художественный образ, метафора, ко вторым – аллегория, тип, понятие. Промежуточное положение занимают олицетворение (смысловой аналог художественного типа) и эмблема (смысловой аналог художественного образа), которые либо неявно объективны (олицетворение), либо неявно субъективны (эмблема). В первых формах, что бы ни обнаружил субъект в объекте, по смыслу все есть он, субъект: в поисках смыслового определения бытия человек руководствуется функцией субъективного выражения. Во вторых формах, как бы ни построил субъект свое понимание, по смыслу все есть не он, а объект: в поисках смыслового определения бытия человек руководствуется необходимостью бытия объекта. Если брать в качестве точки отсчета функцию субъекта, то можно сказать, что во вторых формах прагматическая функция определения смыслового результата и смысловой реальности понимания передается от субъекта к объекту. Это формы с от-субъектной прагматикой понимания. Их также можно назвать косвенно субъективными формами, или формами с пассивной субъектной функцией. Прагматический итог понимания здесь заключается в том, В последнее время в лингвопрагматике наблюдается ее выход на все большую смысловую глубину. Функциональная ориентация, считает Т. М. Николаева, должна привести “к отказу от ряда наивных иллюзий середины ХХ века об обязательности установки коммуникантов на “коммуникативную удачу”, на желание как можно точнее передать сообщаемую мысль. В связи с этим существенным станет выявление ряда “неявных” и “потаенных” установок в коммуникации, опирающихся на социальные, прагматико-социальные, ролевые и личностно-психологические факторы” (Николаева Т. М. От звука к тексту. М: Языки русской культуры, 2000. С. 17). 220 что в смысловом определении бытия человек видит и понимает не себя, а объект. В первых формах понимание строится к субъекту, это формы с к-субъектной прагматикой понимания. Их также можно назвать непосредственно субъективными формами, или формами с активной субъектной функцией. Прагматический итог понимания здесь заключается в том, что в смысловом определении бытия человек видит и понимает не объект (он может даже игнорировать необходимость бытия объекта), а себя, необходимость своего выражения. Таким образом, в прагматике понимания либо субъект “растворяется” в объекте, либо наоборот. Необходимость бытия первого либо второго должна брать верх и руководить логикой смыслового определения содержания, переходящего в смысловую реальность выражения. Проблема прагматики понимания в символических формах – это проблема ракурса, подхода, что во многом напоминает проблему перспективы в живописи. В формах с от-субъектной прагматикой мы видим прямую (“линейную”) перспективу понимания, в формах с к-субъектной прагматикой возникает эффект “обратной перспективы”221. “В системе обратной перспективы художник становится частью изображаемого мира, с которым возможно установить личностное общение. Называя имена, познающий входит в соприкосновение с их носителями, и миф, связанный с ними, оживает”222. Формы с к-субъектной прагматикой понимания по смыслу в целом синтетичны, в них субъективное смысловое обобщение берет верх. Поэтому они – специально художественные формы. Формы с от-субъектной прагматикой понимания, хотя и собирательны в категориальном аспекте (например, тип, понятие), но по смыслу, скорее, аналитичны. Они более приспособлены для объективного познания. В них всегда сохраняется сомнение Эффект “обратной перспективы” для объяснения особенностей русского иконического письма подробно рассматривает Б. А. Успенский (См.: Успенский Б. А. Поэтика композиции // Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 9–218). 222 Кузнецов С. О. Слово и язык у о. Павла Флоренского//Современная философия языка в России. М.: Инст. языкознания РАН, 1998. С. 26. 221 относительно общей (субъективной) стороны понимания, в то время как частная эмпирическая сторона сомнений не вызывает, берется как данное. В формах с к-субъектной прагматикой сомнений относительно того, как я понял мир, быть не может: если объект не отвечает субъективной стороне понимания, то “тем хуже” для объекта. В отличие от содержания натуральных символических форм в языковом значении мы имеем гибкую прагматику понимания. В символических формах относительно легко обнаружить прагматический “обман”, “подмену” – открыть скрытое за ненастоящим значением настоящее. Например, в образе важна выразительность как таковая, т. е. качество субъекта, а не объекта. В олицетворении, наоборот, выразительность подчинена объекту. Объект может “не позволить” произвести то или иное обобщение. Смысловая непохожесть “смертельна” для олицетворения, а также для аллегории (анекдота) и понятия. В языковом значении “прагматический обман” обнаружить гораздо труднее. Для этого требуется выход в контекст – ситуационный или коммуникативный. В символе воспринимающий может обмануться сам, приняв ненастоящее за настоящее. В знаке говорящий может солгать вполне сознательно, намеренно223. С другой стороны, в символе ложь не вызывает опасений, реальности субъекта (автора) она не угрожает. В знаке неистина, ошибка в объективном понимании (если она обнаружена) воспринимается как нечто неприемлемое, она может глубоко ранить субъекта (поскольку реальность субъекта, как мы знаем, есть функция реальности объекта). Употребляя знак, актуализируя его в ситуации говорения, говорящий порой сам не может дать себе отчета в том, что он делает больше: выражает себя или обозначает объект. И то и другое представлено в знаке в равной Знак и символ по-разному неистинны. Эту особенность отмечает Н. Д. Арутюнова: “Знак и символ способны на разные “преступные” действия: знак может солгать, символ – обмануть. В символе можно обмануться, в знаке – ошибиться” (Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 344). На наш взгляд, это связано с различиями в прагматической функции, которые мы видим в знаке и символе. 223 степени. Бытие объекта, данное в смысловом определении языкового значения отрицательно, есть бытие субъекта, и наоборот. Любой из смысловых аспектов может быть поставлен на первое место и пониматься как “руководитель” смысловой функции значения. Гибкая прагматика – это и недостаток, и огромное преимущество значения. Как обидно бывает человеку, когда он (как ему кажется) открывает истину и ничего, кроме истины, а его обвиняют в необъективности – в желании покрасоваться словом, полюбоваться своей выразительностью. Но уместно спросить: а всегда ли искренен субъект перед самим собой, всегда ли четко контролирует он смысловую функцию своего знакового выражения, не проявляется ли исподволь сквозь явно представленный смысл иная прагматика понимания, в которой на первом месте стоит не объект, а собственное “я”? Все это, конечно, уже не имеет прямого отношения к семиотике. То, что с нравственной стороны выглядит как трудность, препятствие или даже недостаток, с объективной стороны функционально предстает как огромное преимущество языкового значения. Гибкая прагматика понимания подготавливает гибкость, потенциальное разнообразие стилистической функции значения. Ни в одной естественной символической форме стилистическая функция не может быть столь емкой, универсальной, как в языковом значении. Элементы стиля заметны уже в символических формах. Но в них, как показывает опыт, преобладает жанровое, т. е. выразительное, материальное, идущее от формы начало стиля. В художественной форме субъект в каком-то смысле “беззащитен” перед фактором стиля – стилистическим/жанровым отношением, которое он открывает в своем же выражении (при том, что в любой художественной форме главный деятель смысла – он сам, субъект). В художественной форме стиль не может вполне раскрыться с индивидуальной стороны, субъективно. Абсолютная “победа” индивидуальной стороны выражения над общей, жанровой – полная, не скованная никакими рамками естественная выразительность – в художественной форме означала бы потерю объективных критериев стиля и “смерть” стиля как такового. Конечно, можно говорить о стиле писателя, поэта. Но любой художник, прежде всего, стремится утвердиться не в индивидуальной, а в общей жанровой стороне стиля – творчески раздвинуть рамки жанра, иначе художественное значение создаваемого им произведения будет ничтожно. Невозможно почувствовать стиль, не почувствовав жанр, в котором работает писатель. Отчасти, это подтверждается данными литературных теорий стиля224. Поэтому значение субъективной, индивидуальной стороны стиля в сравнении с его общей жанровой стороной в художественной форме всегда вторично (хотя именно она должна называться стилем). В языковом значении индивидуальная сторона стиля является определяющей. Жанровая сторона, наоборот, является вторичной, подчиненной. Функциональная стилистическая дифференциация языка – стихийный процесс, в котором лишь постфактум узнается социальная конвенция выражения. Все это свидетельствует о выразительной естественности языковой стилистики в целом. Личность чувствует себя в языке свободно, для нее как будто нет никаких предзаданных смысловых ограничений, хотя ее собственное значение оценивается в контексте содержательного смыслового опыта языка с позиций стилистической нормы (общего значения стиля). Когда мы воспринимаем чью-то речь, мы, прежде всего, слушаем человека как такового и не думаем об общей, нормативной стороне его выражения. Проблема нормы возникает при ее нарушении – в момент, когда действует эффект так называемого “обманутого ожидания”, когда говорящий в чем-то превосходит Например, П. Н. Сакулин проблему стиля в литературе понимал как преодоление писателем общих рамок жанра. Но это преодоление не означает полного разрыва с общим, оно не может быть абсолютно немотивированным, произвольным. “В стиле, по нашему взгляду, выражаются особенности формы: степень своеобразия писателя или произведения может быть минимальной, но не нулевой” (Сакулин П. Н. Филология и культурология. М.: ВШ, 1990. С. 142) “Форма – родовое понятие, стиль – видовое... общее учение о форме, разумеется, служит основанием для специального учения о стиле” (Там же. С. 140). Телеологическое единство стиля образуется связью двух данных моментов. 224 норму или нарушает ее. Стилистика художественных искусственна. Естественная выразительность форм часто трудноразличима за объективной, искусственной стороной художественного выражения: необходим сознательный опыт конвенционального восприятия, чтобы понимать произведения искусства. Все это еще раз показывает разные возможности для проявления человеческой субъективности в художественных формах, с одной стороны, и в языковом значении, с другой. В художественных формах, глубоко символических по их прямому смысловому предназначению, основывающихся на логике символического понимания, эти возможности более ограничены. В языковом значении, основывающемся на тождестве прямого субъект-объектного противопоставления, на тождестве референции, человеческая субъективность в аспекте индивидуальной стороны стиля обнаруживается максимально полно, как личность: сколь угодно разнообразно и вместе с тем бесконечно тождественно как высший момент смыслового синтеза значения. 5.6. Сущность и значение языкового символизма Теперь, когда мы, наконец, представляем то многое, что связывает язык с натуральными символическими формами, мы приближаемся к пониманию сущности и значения собственно языкового символизма. Анализ показал, что в процессе содержательной эволюции натуральных символических форм с необходимостью происходит образование абстрактной знаковости, принципы которой наиболее совершенным образом воплощаются в языковом знаке. Проблема естественного символизма – всегда проблема формы. Поиск формы толкает символическое сознание на усиление искусственной выразительности, которое и завершается на этапе приближения естественной символической модели понимания к своему методу образованием натуральных символических форм. В языке заканчивается формальный этап общей эволюции символа. Форма языка, для которой характерна выразительная неестественность, произвольность, есть некий абсолют объективации символического бытия, абсолют символической формы. В этом пункте, как мы уже говорили, натуральный символ “умирает”, и “рождается” языковой знак, слово языка. В этом проявляется известная двойственность языкового знака, который, с одной стороны, можно рассматривать как высшее воплощение символа, как выразительный “идеал” символа, а с другой – как форму, которая по своим исходным содержательным условиям отказывается от всего символического. В знаке возникают новые условия бытия, процесс символического понимания переходит в новое качество. Бытие языкового знака – это бытие не внешней (как в символе), а внутренней формы, т. е. некоторый порядок смыслового определения языкового значения. В знаке начинается этап собственно языкового символизма. Вообще, сущность символического вообще состоит в том, чтобы выражать необходимость неподлинного бытия объекта, т. е. необходимость его символического бытия. С другой стороны, символическое (в узком специальном понимании) по своему прямому предназначению не может и не должно выражать необходимости подлинного бытия объекта. Необходимость бытия объекта, так или иначе положенная в символической модели понимания (мы уже говорили, что символ не может абсолютно игнорировать внешнюю реальность), сама не становится символическим значением. Символ в своем сущностном значении выражает необходимость самого себя, т. е. совершенно перформативен в своей выразительности: он, прежде всего, есть то, что он есть. Сочетания “необходимость неподлинного бытия” или “символическое бытие” воспринимаются непривычно. Получается, что это бытие как будто есть, и одновременно его нет. И это очень важное свойство символа: реальность объекта становится реальностью символа, а реальность символа подается как реальность объекта. Каждый из них получает, таким образом, функцию инобытия в другом. Провести черту между реальным и нереальным в символе одновременно нереален. весьма сложно: он весь реален и Необходимость неподлинного (символического) бытия означает необходимость понимания объекта субъектом. Объективно, т. е. представленная содержательно как смысловая эволюция объекта, необходимость понимания есть функция инобытия объекта. Инобытие, положенное всеобщим образом, есть метод бытия объекта, который практически раскрывается исключительно с позиций иного: в нашем случае – с позиций субъективного понимания. Метод призван характеризовать то, как объект бесконечно тождественным и постоянным образом раскрывает свое бытие в ином, для иного и через иное. Но при этом объект не становится иным и всегда остается самим собой. Иное необходимо, чтобы раскрыть постоянство метода бытия объекта, и этим его необходимость исчерпывается. Отсюда получается, что иное как функция, как опосредующая инстанция понимания необходимо есть, но в то же время его самого как будто и нет: есть лишь метод бытия объекта. С одной стороны, реален объект; бытие объекта снимается в содержании символа и дается как нечто несобственное, ненастоящее, как содержательная модель. С этой точки зрения, чисто содержательно символ можно понять как нереальную реальность реального (внешнего реального – в образе, в субъективном понимании). С другой стороны, реален сам символ; он реален непосредственно, как таковой, выразительно; но в нем нет своей необходимости: его выразительная необходимость – это метод бытия объекта. Поэтому чисто выразительно с позиций субъекта символ можно понять как реальную нереальность реального (как выразительную реальность, или выразительное моделирование внешней реальности). Другими словами, символ – это выражение, которое всецело отдает себя содержанию и которого как такового для самого себя больше нет; и символ – это содержание, которое всецело отдает себя своему смысловому методу, который раскрывается исключительно выразительно, это содержание, которое в моменте своего символического бытия самому себе уже также не принадлежит. Инобытие нефункционально и нерационально с точки зрения необходимости бытия объекта в том смысле, что необходимости бытия ничего “не нужно” от инобытия, оно в нем не имеет для себя никакой пользы. Наоборот, с позиций символа, символического понимания может показаться, что необходимость бытия является функцией инобытия. В методе снимается различение объективной и субъективной реальностей. Объективно метод раскрывает себя как значимость бытия объекта. Но эта же чисто внешняя объективная значимость раскрывает себя также субъективно – как значимость самого понимания. В самом деле, без субъекта, без понимания не может быть никакой значимости, и с этой точки зрения значимость исключительно субъективна. Но при этом в символе она не принадлежит субъекту и подается как чистое свойство объекта. В значимости объективного бытия и его понимания представлено инобытие объекта. Символ – естественный или языковой (языковой знак как символ) – представляет собой модель перехода от необходимого положительного определения бытия к инобытию. Подмена реального бытия нереальным, собственного – несобственным есть существенная черта всякого символического, которая сохраняется на всем протяжении развития опыта символизации – как на этапе доязыкового символизма, так и на этапе собственно языковой эволюции символа (развития символа в языковом знаке). На этапе доязыкового символизма для понимания чувственно воспринимаемой реальности человек привлекает какую-то внешнюю конкретную форму, которая служит посредником понимания, интерпретирует внешнюю реальность, является носителем символического значения. В опыте символизации человек отвлекается от необходимости подлинного бытия, заменяя ее необходимостью бытия неподлинного, символического. Нельзя сказать, что необходимость подлинного бытия совершенно отбрасывается. Она участвует в понимании и интересует человека, но... лишь в той мере, в какой она отвечает необходимости неподлинного бытия, своей символической значимости, является не самой собой. Символ – “узурпатор” чужого бытия: он навязывает реальности иной смысл, но при этом сам не несет никакой смысловой “ответственности”. Среди натуральных символических форм неподлинность символического бытия нагляднее всего проявляется в метафоре, в которой что-то настоящее называется чем-то ненастоящим и лишь таким путем обнаруживает значимость своего бытия. Однако и в других натуральных символических формах мы видим такую же подмену реального бытия бытием нереальным, значимым: миф – это буквальное бытие символически значимого; человек требует от реального бытия продолжения бытия мифического, но первое и второе очень скоро приходят во взаимное несоответствие; аллегория – весьма наглядный способ символического отрицания реального бытия: басни, анекдоты, шутки – они все упрощают реальность, абсолютизируя какую-нибудь отдельно значимую черту; олицетворение – одностороннее обобщение конкретных черт объекта и превращение их в значимые черты; кто-то становится воплощением мужества, кто-то – воплощением доброты, справедливости и т. д.; или же, если никто не способен стать высшим выражением нужных качеств, сами эти качества персонифицируются, “оживают” в литературных произведениях (целое нагромождение олицетворений можно видеть в 66-м сонете У. Шекспира: “Зову я смерть, мне видеть невтерпеж/ Достоинство, что просит подаянья/ Над нищетой глумящуюся ложь/ Ничтожество в роскошном одеянье...); тип – конкретное практическое обобщение; человек всегда сравнивает себя с кем-то и, таким образом, видит типические черты в себе и других, затем переносит эти черты на реальные объекты, подчиняет их типизации; типизация – характерный художественный прием (типы помещика, интеллигента и т. п. в литературе); художественный образ – идеализация реальности, выделение в ней лишь некоторых значимых, хотя и конкретных черт, и отвлечение от других, может быть, столь же необходимых, но в данном опыте эстетического понимания менее значимых черт; эмблема – например, герб страны выражает то, какой хотят видеть свою страну, чем то, какая она есть в реальности; и тем не менее в эмблеме (в плакате, в карикатуре и др.) представлен реально существующий объект в его главных, значимых в понимании субъекта качествах; понятие – всем известны споры древних греков о бытии общих понятий: мы можем говорить о бытии собаки, лошади, кошки, но не можем говорить о бытии животного вообще; получается, что всякое обобщение в какой-то мере условно и не является настоящим: это – найденная человеком значимая абстракция. И тем не менее именно через обобщение в понятии мы видим и понимаем природу вещей, сущность вещей в тотальности их бытия; все это удивляло древних философов (в средние века та же проблема стала основной в философском споре номиналистов и реалистов). Таким образом, в символе реальность бытия объекта подменяется реальностью понимания. Второе выдается за первое. Символ замещает собой (причем в натуральных символических формах вполне материально) объект, но при этом он “не прячет” своей неподлинности: по всему видно, что он – не объект, но лишь интерпретатор чувственного опыта понимания объекта. С другой стороны, в символе человек не присваивает себе своего понимания, не отождествляет (или не вполне отождествляет) его с собой. Мы видели, что по содержательным условиям символа это невозможно сделать. В символе человек как бы показывает, что не он произвольно захотел увидеть реальность такой, но реальность как бы сама, помимо его воли, через символическую форму открывается в данном своем качестве. Таким образом, условная субъективная значимость и условная бессубъектность – парадоксальное сочетание исключающих друг друга свойств – делают символ, символическую форму универсальным средством нравственной интерпретации реальности (прежде всего, конечно, чувственно воспринимаемой реальности). Символическая способность суждения, способность прекрасного, как писал И. Кант, “... соотносится с чем-то в самом субъекте и вне его, что не есть ни природа, ни свобода, но все-таки связана с основой свободы, со сверхчувственным, в котором теоретическая способность соединена с практической общим неизвестным образом”225. Особый интерес здесь для нас представляет промежуточное положение языкового знака, слова языка в общей символической эволюции. С одной стороны, языковой знак наиболее совершенно воплощает в себе принципы натурального символизма и с этой точки зрения может рассматриваться как натуральная символическая форма в ряду других. С другой стороны, по своим содержательным условиям языковой знак открывает в себе новый, качественно иной вид символизма, который может быть назван собственно языковым. Видимо, будет неверно постулировать лишь отрицательное отношение между языковым и неязыковым видами символизма. В языке его символизм не может возникнуть сам собой из ничего. Он должен опираться на естественные символические возможности, которые заложены в языковом знаке. Таким образом, в языковом знаке мы отчетливее всего различаем две способности символизации: а) базовую, естественную, которую можно также считать механической, поскольку она создает знак, в ее рамках языковой знак является тем, что он есть, – средством обозначения; б) производную, собственно языковую символическую способность. На уровне первой способности языковой знак имманентен сам себе и не выходит за пределы той идеи, смысловой задачи, ради которой был создан. На уровне второй символической способности языковой знак далеко выходит за пределы его прямого смыслового предназначения, любого заложенного в нем образа или смысла. Причем эта способность – бесконечно открывать новые и новые смысловые горизонты – становится необходимым свойством знака, слова языка. Такое различение двух видов символизма в целом соответствует предложенному А. Ф. Лосевым применительно к анализу символических способностей художественных 226 выразительных форм . Мы считаем, что в языковом знаке разграничение данных двух сторон символического (формально225 226 Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. С. 228. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. С. 145. значимой и расширительно-смысловой, выразительной) предстает как нигде отчетливо. Языковой знак в чисто естественно-символическом его понимании является символом своего значения. Языковое значение определяет необходимость бытия языкового знака. Это натуральная символическая способность языкового знака, можно сказать, “рудимент” натурального символизма в нем. Языковое значение и есть чистая символическая значимость бытия объекта, соотнесенная с формой знака. Иначе, языковое значение можно определить как предметно значимое бытие денотата, данное в символическом выражении. Это чистый метод бытия объекта, чистое инобытие, представленное в знаке. В отличие от натуральных символических форм языковой знак является не конкретным, а совершенно абстрактным посредником понимания. Абстрактность языкового знака – это абстрактность формы, которая лишена возможности как-либо участвовать в смысловом определении содержания (в натуральных символических формах, где сама символическая форма в необходимости своего бытия определяет содержательное понимание объекта, служит смысловым определением бытия). Назовем эту исходную позицию объективного понимания в языковом знаке его базовым символизмом, происхождение которого генетически связано с эволюцией натуральных символических форм и является ее венцом. Однако сам по себе базовый символизм совершенно искусственен и абстрактен, что освобождает человеческое понимание, делает его чистым, непосредственным. Человек “не видит” языкового знака в своем понимании объекта: символическое посредничество языкового знака снимается, и в опыте понимания его можно не учитывать. В известной мере при изучении языка о базовых натуральных символических свойствах языкового знака можно забыть. Тем не менее их важно понимать – как фактор, который определяет необходимость языкового выражения. Существенным моментом символа является представленный в нем в снятом виде переход от бытия к инобытию. Инобытие в структуре символического понимания – это бытие, которого нет с точки зрения реального бытия. Но в то же время это бытие (инобытие) есть собственное бытие символа. Сама семантика слова “символ” отражает данное свойство символа как модели. Например, мы говорим: “символическое приветствие”, “символическое внимание”. Это значит: ненастоящее приветствие, ненастоящее внимание. Но в то же время важно, что это всегда определенным образом значимое приветствие и значимое внимание. Получается, что самого приветствия и самого внимания как бы нет, но значимость того и другого присутствует в символическом выражении. В символе, в опыте символического понимания настоящее и ненастоящее необходимы друг другу. Прежде всего, их следует рассматривать как соотносительные категории. Если бы не было настоящего, внешней подлинной реальности, то не было бы смысла говорить и о какой-то символической реальности, о символизме вообще. С другой стороны, если бы не было функции символического бытия, функции ненастоящего, то каким образом нечто выделялось и оценивалось бы нами как настоящее? На основании чего мы приходили бы к пониманию бытия внешней реальности? Настоящее необходимо ненастоящему в символе, потому что иначе символическое не может определить форму своего бытия. Но и ненастоящее необходимо настоящему в символе, потому что лишь с позиций ненастоящего, символического раскрывается феноменология бытия настоящего, лишь отсюда настоящее определимо как факт. В факте, помимо его событийности, в-себе данности, прежде всего, важна его значимость, данность субъекту227. Символическое всегда выше Категория факта тесно связана с категорией события. В то же время эти две категории во многом неэквивалентны. Н. Д. Арутюнова считает необходимым разграничивать эти категории. События происходят сами по себе, факты происходят для субъекта. Субъективная значимость – органичная составляющая категории факта. В событии субъективная значимость – вторична. В отличие от событий факты управляемы логически: в факте субъекту дано право оценки, выбора. Человек может манипулировать фактами – при том, 227 факта. Символ – это собственная в-себе взятая субъективная значимость факта, которая сама по себе, без факта – ничто, поскольку вне факта невозможно представить ее бытие, но и факт без нее – не факт, а нечто еще не ставшее реальностью для субъекта. Итак, можно сказать, что собственное качество символа есть качество ненастоящего, нереального в нем. Однако все это исключительно производно, соотносительно. Его нельзя понимать как нечто в-себе данное и самостоятельное. Это качество раскрывается относительно отрицаемой в нем реальности, нереальное в символе есть функция отрицаемого реального. Таким образом, никакая форма выражения не может быть понята как символическая, пока не выделено то настоящее, реальное, относительно которого данная форма определяет себя как ненастоящая, и пока не понято до конца внутреннее качество этого определения. Собственное качество символа есть представленное в нем качество инобытия объекта, качество субъективной значимости понимания. Языковой и неязыковой виды символизма важно различать по качеству представленного в каждом из них нереального. Однако, как мы сказали, нереальное в символе является функцией отрицаемого реального. Поэтому, чтобы определить, в чем состоит сущность нереального в символе и, таким образом, сущность и природа самого символа, необходимо четко представить само первичное реальное: относительно чего символ нереален. В натуральном символизме мы видим одну подлинную реальность – реальность объекта. Натуральное символическое обнаруживает собственное качество как символическое лишь относительно этой реальности, оно есть ненастоящее этого настоящего. В натуральных символических формах мы видим абсолютное преобладание данного вида символического отрицания: когда переносное значение, которое в какой-то своей части превосходит по смыслу что сами факты ему не принадлежат (См.: Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт. С. 152– 169). буквальное, ставится на место последнего. Получается, что буквальное значение (объект) как реальность вытесняется, а у переносного значения как реальности нет своего бытия. Первое реально есть, но оно не представлено. Второго нет, но оно представлено, определяет необходимость бытия, выражает инобытие первого значения. В языковом символизме мы видим удвоение отрицаемой реальности. Во-первых, это, как и в натуральном символизме, реальность объекта. С этой стороны языковой знак подобен обычному натуральному символу. Языковой знак в своей первичной символической способности является ненастоящим внешней реальности; он замещает внешнюю реальность, но его собственная смысловая функция относительно понимаемого с его помощью объекта совершенно чиста, прозрачна, т. е. “перенос” значения с языкового знака на собственное значение объекта должен быть совершенно пуст. Во-вторых, само предметное понимание в языковом знаке также становится реальностью, фактологизируется, становится реальностью. Фактологизация понимания происходит ввиду полноты представленной в нем субъектной функции. По сути, это найденная, наконец, в чистоте символического отрицания реальность самого субъекта. В натуральных символических формах субъект еще не был до конца реальностью, его функция ограничивалась функцией переносного значения, в котором субъект наглядно представлял способ своего понимания. Собственно языковой символизм, вторичная символическая способность в языковом знаке, есть ненастоящее, неподлинное (т. е. инобытие и метод знаковой представленности) этих двух реальностей. Впрочем, ввиду уже указанной чистоты языкового знакового понимания (знакового посредничества), первичное символическое отрицание в языковом знаке с точки зрения языкового символизма в идеале (когда в этом отрицании представлена чистота субъект-объектной соотнесенности и истина понимания) может не рассматриваться как символически значимое – так, что символическое качество опыта языкового понимания может полагаться и как качество самого объекта. Из этого и вырастает уже рассмотренный нами прагматический “обман” языкового знака, в котором качество понимания может подаваться как качество самого объекта, что является основой освобождения стилистической функции в языковом знаке. Таким образом, определяя собственное качество символического вообще как качество инобытия внешнего реального, мы можем сказать, что на уровне базового символизма в языковом знаке мы видим первичное символическое отрицание, в котором представлено предметно-значимое бытие денотата (символическое инобытие денотата), относительно истины бытия которого субъект определяет и истину бытия самого себя как реальности. В языковом знаке первичное символическое отрицание переходит во вторичное, снимается в новом значении символизации. Собственно, последнее и рассматривается нами как явление языкового символизма. Во вторичном символическом отрицании истина субъектобъектного соотнесения, представленная на уровне первичного символического отрицания, снимается; как реальность она нейтрализуется путем переноса в новое символическое инобытие. На уровне языкового символизма уже не просто истина бытия объекта или представленная отрицательно через него истина бытия субъекта раскрывает себя как собственное значение символизации: истина смыслового определения бытия перестает определять необходимость символического выражения в языковом знаке. Это понятно, поскольку все это теперь становится реальностью знака (не забудем: символ – это нечто противоположное необходимости подлинного бытия). В языковом знаке реален объект, реален субъект228, реально понимание объекта субъектом (их смысловое соотнесение); и то и другое вместе – самая настоящая основа для В натуральных символических формах, в которых мы выделяли лишь одно первичное символическое отрицание, субъект не был реальностью, поскольку его функция подменялась функцией переносного значения. В знаке субъект – реальность, хотя эта его реальность узнается лишь отрицательно, через смысловое определение значения. 228 нового ненастоящего, которое и должно служить новым символическим значением и определять необходимость новой символической выразительности языкового знака. Во вторичном символическом отрицании реальная выразительность языкового знака (основанная на истине понимания) должна сниматься и переходить в новую символическую выразительность. Воплощенное в языковом знаке единое настоящее (реальность объекта и его предметного понимания субъектом) должно вновь становиться ненастоящим, переходя в инобытие, раскрывая себя в условиях новой символической относительности феноменологически как факт. Возникает новая символическая реальность знака. В аспекте вторичного символического отрицания предметнозначимое бытие денотата переходит в его личностно-значимое бытие. Прежде всего, новый опыт символизации в языке выражает новое качество инобытия внешней реальности, открываемое в опыте ее субъективного осмысления. Новое инобытие не отменяет первичного качества инобытия денотата, т. е. его предметнозначимого инобытия, но исключительно вырастает на основе первого качества как его смысловой момент, его результат. Вместе с тем новое инобытие знаменует и новое качество функции субъекта в опыте понимания. В первичном символическом отрицании нам открывалась лишь формальная реальность субъекта. Эта реальность не несла в себе никакого собственного качества, оно равнялось истине понимания, т. е. было отрицательной функцией предмета понимания. Здесь следует исходить из того, что самосознание человека тождественно содержанию сознания, отрицанием которого оно является, есть функция представляемого содержания. Предметное самосознание субъекта (которое обнаруживает себя относительно некоторого предметного содержания) пассивно, его собственное значение не превышает значения предмета понимания. Однако это самосознание не может оставаться в своей данности (в этом случае оно является совершенно пустым, не имеет в себе никакой цели, не несет никакой значимости: это – чистая фактологизация бытия229), оно тут же переходит в личностное самосознание субъекта. И все необходимые предпосылки для такого перехода создает языковой знак как форма символического понимания мира. В тотальности символического отрицания в языковом знаке тождество субъекта внешней реальности переходит в тождество субъекта своего реальности понимания. Субъект видит (представляет) собственную реальность – самого себя как реальность – в реальности своего понимания. Личностное самосознание субъекта, открывающееся относительно реальности знака, обладает активной содержательной функцией. В знаке субъект видит уже не просто представленное бытие объекта, а свое бытие. Факт бытия объекта теперь уже осмысливается как факт бытия субъекта. Если в аспекте первичного символического отрицания субъект приходил к сознанию собственного смыслового тождества объекту (в смысловом определении бытия объекта субъект отрицательно “видел” себя), то в аспекте вторичного символического отрицания субъект приходит к сознанию смыслового тождества объекта себе. Это едва уловимое смещение смыслового акцента от объекта к субъекту имеет принципиальное значение. Полагая бытие объекта, субъект этим же самым полагает и свое бытие, одно незаметно переходит в другое, и бытие объекта теперь рассматривается и интерпретируется как функция бытия субъекта. В языковом знаке человек способен отвлекаться от эмпирической данности объекта. Последняя практически утрачивает ведущее положение в смысловом определении бытия. Ведущим становится опыт бытия субъекта, опыт понимания. При этом данное смысловое смещение не следует понимать как содержательный отказ субъекта от объекта, т. е. Не все философы выделяют категорию самосознания на уровне предметного содержания мышления. Например, Гегель называет ее изначальным тождеством “я” (Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики. С. 156). В отечественной философии категория самосознания выделяется не логически, а как личностное самосознание (См.: Философский энциклопедический словарь. С. 591, 622). 229 видеть в нем полное содержательное исчезновение, уничтожение объекта. Функция объекта сохраняет свое значение. Формально в истинностной апелляции к объекту субъект продолжает видеть высшее доказательство собственной реальности: субъект не мыслит себя без истины понимания. Таким образом, при общем смысловом тождестве содержания абсолютно объективное превращается в абсолютно субъективное, получает новую функциональную интерпретацию. Нарушение истинностных параметров понимания (если оно открывается субъекту) требует изменений и в его субъективном опыте. Таким образом, предметно-значимое бытие денотата является инобытием его подлинного бытия. Но это бытие (знаковое инобытие денотата) является основой собственного необходимого выразительного бытия языкового знака, подлинным бытием и сущностью знака (мы уже отмечали, что сущность знака определяется его значением и представленным в значении порядком его смыслового определения). Личностно-значимое бытие денотата является инобытием предметно-значимого бытия, т. е. является, во-первых, новым инобытием денотата и, во-вторых, собственным символическим инобытием языкового знака. Но в этом новом символическом инобытии и открывается собственное бытие субъекта как личности. Это – самое настоящее бытие личности, в котором нет ничего собственного, необходимого и настоящего ни для объекта (денотата), ни для знака. Таким образом, возникает совершенно новая реальность символического бытия. Не будем называть это новое бытие (символическое инобытие знака) ни сверхъестественным, ни сверхчувственным, хотя оно вполне заслуживает таких определений, поскольку превышает любую непосредственную необходимость бытия, как объективного, так и чувственного субъективного, но, тем не менее, попытаемся указать, каким образом или, точнее, в чем обнаруживается его необходимость. Необходимость любой сущности проявляется в ее бытии. Бытие знака есть снятое и символически представленное в значении знака бытие объекта. Этим определяется выразительная необходимость языкового знака (он создается, чтобы обозначать внешние объекты). Бытие личности есть снятое, символически понятое (отрицаемое в новом опыте символизации) бытие языкового знака, в котором человек теперь видит факт своего бытия. Сама личность теперь становится ненастоящим, символическим значением языкового знака, в котором он становится самой настоящей реальностью и фактом бытия личности, выражая в опыте смыслового определения необходимость ее бытия. Символ везде остается “верен” своему главному принципу: “узурпировать” чужое бытие. Знак в его натуральной символической способности узурпирует бытие объекта: в значении знака представлено бытие внешней реальности. Личность как символ узурпирует бытие знака, предмета своей деятельности. Знак с этой стороны отрицательно выражает личностное бытие субъекта и самим опытом данного отрицания символизирует личность. Может показаться, что мы приходим к парадоксальному заключению: что личность как реальность в-себе не существует. Но данный тезис не следует принимать абсолютно. В нем следует видеть лишь частный случай принципа символической относительности. Теоретически личность есть метод своего бытия, и в таком понимании ее можно рассматривать как таковую, в-себе. Однако эмпирически бытие и реальность личности – это реальность всех ее проявлений, важнейшей из которых является знаковая деятельность, язык. В языковом знаке мы видим наиболее полную чистую символизацию личности. Он по своим внутренним условиям не может символизировать ничего внешнего, объективного, не связанного с субъектом, как это было в натуральных символических формах, в которых мы видели “не-человеческий” символизм, т. е. так или иначе уходящий от человека, “не доверяющий” его чувственному опыту, стоящий над ним (хотя в то же время любой такой символизм рассматривался как смысловое достижение субъекта, поскольку человек сам выбирал форму символического понимания, отождествлял себя с этой формой, так или иначе видел в ней собственное чувственное воплощение; в этом можно было видеть ростки примитивного, символического, конкретно представляемого самосознания субъекта). В знаке же все внешнее, объективное теперь “входит” в его содержание, на правах смыслового опыта включается в содержательное представление, становится участником смыслового определения значения, реальностью знака. В знаке нет ничего кроме выражения бытия: положительно – бытия объекта, отрицательно – бытия субъекта. Но любое смысловое определение бытия самим фактом субъект-объектного отрицания, образующим его, символизирует личность. Необходимые свойства символического бытия эмпирически устанавливаются как смысловое отрицание опыта реального объективного бытия (как отрицание тотальности бытия). В символе нет своей необходимости и своего опыта: символ всегда “видит” чужую необходимость как свою собственную. Поэтому символ и свой опыт имеет не в себе, а в том объективном и реальном, что в его содержании обретает инобытие. В известном смысле можно поставить знак равенства между собственным значением символа и самосознанием субъекта, которое также не имеет своего опыта. Оно является внеопытной, надопытной категорией. Оно лишь проявляется в смысловом отрицании опыта реального бытия. Для бытия знака (первичной символической способности языкового знака и предметного самосознания субъекта) сущностно необходим опыт бытия объекта: знак должен быть способен воспроизводить в себе любые реальные свойства объекта, абстрагируя их от тотальности его бытия. Эти свойства, символически представленные в знаке, полагаются как необходимо истинностные. Для бытия личности (т. е. для определения и выявления значения личности в языковом знаке и личностного самосознания субъекта) сущностно необходим совокупный смысловой опыт знака, опыт всех его смысловых определений. Личность непосредственно отрицает опыт бытия знака и в этом обнаруживает свое собственное бытие, свое индивидуальное значение. Значение личности, таким образом, имеет общую сторону, которая охватывается всей совокупностью смысловых определений знака (смысловым опытом знака в языке), а также индивидуальную сторону, которая представлена актуальной смысловой реализацией знака, отрицающей его общий смысловой опыт. Личность активна в моменте отрицания смыслового опыта знака: именно здесь она активно полагает свое бытие. Причем это нисколько не противоречит формальной, пассивной представленности личности как субъекта в предмете понимания. Таким образом, пассивная смысловая функция субъекта (относительно объекта понимания в предмете понимания) переходит в активную смысловую функцию (относительно смысловой реальности знака, через отрицание совокупного опыта его смысловых определений). В данном переходе, в подмене пассивного активным смысловым в языковом знаке и обнаруживает себя его прагматический “обман” как символа: человек не присваивает себе опыт своего понимания в аспекте первичного смыслового отрицания, т. е. в предмете понимания, поскольку здесь все есть представляемая реальность объекта; и в то же время субъект необходимо присваивает себе опыт своего понимания в аспекте вторичного символического отрицания, в котором все становится свидетельством опыта его (субъекта) бытия, фактологизирует это бытие. Итак, можно сказать, что при переходе от первичного символического отрицания ко вторичному в языковом знаке происходит самая настоящая метаморфоза символа, всей природы символического. Общей причиной данной метаморфозы является дальнейшее усиление функции субъекта: человеческая субъективность из пассивного фактора понимания превращается в активный фактор понимания, осмысливая все предстоящее ей в знаке как факт своего бытия, а само понимание – как свою функцию. Предметная в-себе реальность знака переходит в его личностную реальность, где во всей полноте и целостности раскрывается смысловая феноменология знака, которую после всех предметных смысловых определений венчает значение самой личности. В этом последнем можно видеть кульминационный пункт всей смысловой телеологии знака, высший момент его внутреннего смыслового синтеза. Это значение становится методом смысловой жизни знака, с позиций которого любое его внутреннее смысловое определение в знаке раскрывается как личностно-значимое. Исходя из всего сказанного сущность собственно языкового символизма можно определить как смысловое развитие субъективной составляющей в языковом знаке и доведение этого развития до высшей точки – когда субъективное отрицание как фактор смыслового определения языкового значения раскрывается в своей целостности в качестве высшей инстанции смыслового синтеза значения, символизируя, таким образом, личностную значимость смысловой функции понимания и принимая на себя функцию метода всех возможных смысловых определений языкового значения. Языковой символизм неразрывно связан с опытной смысловой природой языкового знака. Но как таковой он выше этой природы, выше любой смысловой реальности знака – как иное знакового бытия. Поэтому языковой символизм не определяет необходимости языкового выражения: в нем нет ничего сущностного с точки зрения необходимых выразительных свойств языка. Последние определяются смысловой реальностью знака (т. е. предметной функцией понимания). Однако языковой символизм все-таки необходим в качестве высшей функциональной составляющей языкового знака, относительно которой сама смысловая реальность определяет себя феноменологически как факт. Данное определение сущности языкового символизма является, прежде всего, философским, а не специально лингвистическим. Но мы вынуждены остановиться на этом определении потому, что до сих пор должны были рассматривать языковой символизм в одном ряду с другими явлениями символизации, т. е. понимать его в широком контексте. Перевод общего понимания языкового символизма из философских категорий в лингвистические требует выделения той функциональной составляющей языкового знака, которая отвечала бы всем представленным выше онтологическим параметрам символического. Собственно, такая функциональная составляющая и должна считаться значением языкового символизма. По общим принципам символического в этой функциональной составляющей не должно быть ничего сущностного для языка: она не должна определять необходимости языкового выражения. Однако в то же время эта функция должна превосходить необходимые, конститутивные знаковые функций языка, быть критерием их смысловой интерпретации, венчать все внутреннее смысловое становление языкового знака, но при этом сама она не может служить смысловым определением его значения. Эта функция должна превышать любую знаковую прагматику; но, являясь кульминационным пунктом внутренней телеологии знака, она не может быть целью смыслового развития языкового значения. Эта функция имеет алогическую природу, но ее бытие вне логики знака невозможно представить. Несмотря на то, что в ней нет ничего необходимого для языка, ее нельзя назвать и факультативной: ее представленность в языке, ее появление в опыте языкового выражения совершенно обязательны – ее не может не быть. Такие качества, как вездесущность и отсутствие прямой системной необходимости, говорят о том, что, не совпадая с сущностью языка, эта функция является обязательным атрибутом его природы. Данная функция должна служить предельным смысловым обобщением содержания языкового знака, подводить это содержание к моменту высшего смыслового синтеза, быть методом всех смысловых оформлений языкового значения; и она же должна быть высшим моментом феноменологии языкового знака, открывать значение личности в содержании знака, индивидуализировать языковое выражение. Данная функция должна пониматься в целом как чистое инобытие языкового знака: инобытие всех необходимых языковых знаковых функций, всех смысловых определений языкового значения. Наиболее полно названным онтологическим условиям символического соответствует лишь одна функция языкового знака – стилистическая. Стиль и есть то высшее смысловое качество, которое делает языковой знак, слово языка символом. Он и есть собственное значение символического в языке. Являясь высшим функциональным качеством знака, стиль раскрывает качество самой личности. В известном смысле не будет преувеличением назвать стиль значением личности в содержании языкового знака. Вопрос об определении стиля как объективной реальности является одним из сложнейших в современной филологии и лингвистике. Несмотря на усилия многих ученых, он продолжает оставаться неразгаданной онтологической загадкой науки. Как можно судить по публикациям на эту тему, недостаточная разработанность онтологии стиля в современной филологии, лингвистике и лингвостилистике объясняется невозможностью дать сколь-либо исчерпывающее положительное определение бытия стиля в языке и языковом знаке и охватить в целом в общем научном представлении все аспекты его природы. Практически все аспекты бытия языкового знака поддаются стилистической интерпретации. Стиль в целом является и содержательной, и выразительной, и функциональной категорией языкового знака и языка. Одновременно с этим, он раскрывается и как психологическое и как коммуникативное, и как социальное явление. Если к сказанному добавить проблему определения критериев взаимодействия стилистической нормы со структурно-языковой нормой, то можно представить, насколько масштабной является задача положительного определения природы стиля в языке во всем многообразии аспектов его бытия. Поэтому мы, не претендуя на полноту освещения проблемы, подходим к ее решению с отрицательной стороны, т. е. даем отрицательную трактовку стиля как значения символизации в языковом знаке и языке. Стиль есть, прежде всего, личностное качество языкового знака. Он выражает символическое присутствие личности. Символическое, значит, такое, которое нельзя представить как необходимое по бытию, но которое в то же время обнаруживает себя как значимое: личности, как таковой, в опыте знака нет, но она представлена стилем. Личность – новая, символическая реальность языкового знака, в которой нет ничего необходимого с точки зрения предметных содержательных функций знака, но которая венчает венчает весь процесс смыслового становления знака как иное его бытия. Литература 1. Алпатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1999. 2. Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М.: Главная редакция вост. лит-ры, 1975. 3. Амирова Т. А. Из истории лингвистики ХХ века. М.: ЧеРо, 1999. С. 105. 4. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник. М.: Прогресс, 1990. С. 5–31. 5. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998. 6. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 7. Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. 8. Бокадорова Н. Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII – начала XIX века. М.: Наука, 1987. 9. Введенова Е. Г. Архетипы коллективного бессознательного // Эволюция. Язык. Познание. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 113–133. 10. Вежбицка А. Русский язык // Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1997. С. 33–88. 11. Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. 12. Выготский Л. С. Орудие и знак в развитии ребенка // Выготскиий Л. С. Собр. соч. Т. 6. М.: Педагогика, 1984. С. 5–90. 13. Выготский Л. С. Теория эмоций // Выготскиий Л. С. Собр. соч. Т. 6. М.: Педагогика, 1984. С. 91–318. 14. Гадамер Х.-Г. Истина и Метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 15. Гадамер Х.-Г. Введение к работе М. Хайдеггера “Исток художественного творения” // Гадамер прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 100–115. Х.-Г. Актуальность 16. Гак В. Г. Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998. 17. Гегель Г.-В.-Ф. Наука Логики // Энциклопедия философских наук. Т. I. М.: Мысль, 1974. 18. Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. Собр. соч. в 4-х томах. Лекции по эстетике. Т. 1., Символическая форма искусства Т. 2. М.: Искусство, 1968 г. 19. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 20. Ельмслев Л. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? Благовещенск: БГК им. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 3– 22. 21. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд. ин. лит-ры, 1960. С. 284–389. 22. Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. 23. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры: Сборник. М.: Прогресс, 1990. С. 33-43. 24. Кодухов В. И. Общее языкознание. М.: ВШ, 1974. 25. Кузнецов С. О. Слово и язык у о. Павла Флоренского // Современная философия языка в России. Предварительные публикации 1998. М.: Инст. языкознания РАН, 1999. С. 7–31. 26. Курдюмов В. А. Трехмерная модель языка: предикационная динамика vs классическая семиотика // Военный университет: сборник научных трудов: Ч. 1. № 3. М., 1999. С. 87–101. 27. Курдюмов В. А. Идея и форма. Основы предикационной концепции языка. М.: Военный университет, 1999. 28. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике XXIII. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. С. 12–51. 29. Ленин В. И. Философские тетради. М.: Политиздат, 1978. 30. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. Т. 2. М.: Педагогика, 1983. С. 94–231. 31. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 32. Ломтев Т. П. Язык и речь // Ломтев Т. П. Общее и русское языкознание. М.: Наука, 1976. С. 54–59. 33. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. 34. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. 35. Лосев А. Ф. Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М.: изд. МГУ, 1982. С. 220–245. 36. Лосев А. Ф. Философия имени. М.: изд. МГУ, 1990. 37. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: изд. Правда, 1990. С. 195–390. 38. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: изд. полит. лит-ры, 1991. С. 21–186. 39. Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1995. С. 5–296. 40. Лосев А. Ф. История эстетических учений // Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1995. С. 321–404. 41. Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н. О. Избранное. М. Изд. Правда, 1991. С. 11–334. 42. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 129–132. 43. Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 191–199. 44. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М.: Языки русской культуры, 1999. 45. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собр. соч. Т. 3. 46. Николаева Т. М. От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000. 47. Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Изд. ин. лит-ры, 1960. 48. Платон. Государство // Платон. Собр. соч. Т. 3. М.: Мысль, 1991. С. 79–420. 49. Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: Синто, 1993. 50. Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления // Потебня А. А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 201– 235. 51. Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. М.: Изд. полит. литры, 1985. 52. Сакулин П. Н. Филология и культурология. М.: Высшая школа, 1990. 53. Серль Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. М.: Прогресс, 1987. С. 96–126. 54. Сидоров Е. В. Основы коммуникативной лингвистики (учебное пособие). М.: ВКИ, 1988. 55. Слюсарева Н. А. О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию // Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990. С. 7–28. 56. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 31–285. 57. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990. 58. Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика. М.: Наука, 1988. 59. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М.: Наука, 1985. 60. Сухотин А. М. Тезисы к докладу-реферату о “Курсе общей лингвистики” Ф. де Соссюра // ВЯ, 1994. № 6. С. 142–143. 61. Тарасов Е. Ф. Тенденции развития психолингвистики. М.: Наука, 1987. 62. Успенский Б. А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: “Языки русской культуры”, 1995. С. 9–218. 63. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983 г. 64. Франк С. Л. Реальность и человек. М.: Республика, 1996. 65. Хайдеггер М. Время и бытие (лекция) // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 80– 101. 66. Холодович А. А. О курсе общей лингвистики Ф. де Соссюра // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 9–29. 67. Хомский Н. Синтаксические структуры. Благовещенск: БГК им. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 23 – 138. 68. Шаклеин В. М. Лингво-культурное содержание слова и предложения // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ, Братислава, 1999. М.: ИПО “Лев Толстой”, 1999. С. 504–514. 69. Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. I (Language) – New Haven: Yale Univ. Press, 1953-55. 70. Firth R. Symbols: public and private. Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1973. 71. Jakobson R. Linguistics and poetics // Style in language (Sebeok T. A.). Cambridge, Massachusetts, 1960. Р. 350–377. 72. Lapa R. Estilística da Língua Portuguesa. Coimbra: Coimbra Editora Ltd. 73. Peirce Ch. S. Elements of Logic// Collected papers. Vol.II. – Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1965