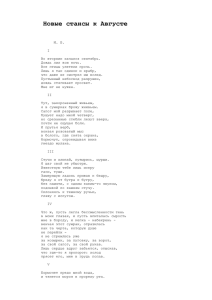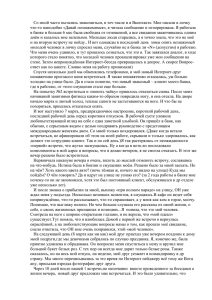ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ,
advertisement
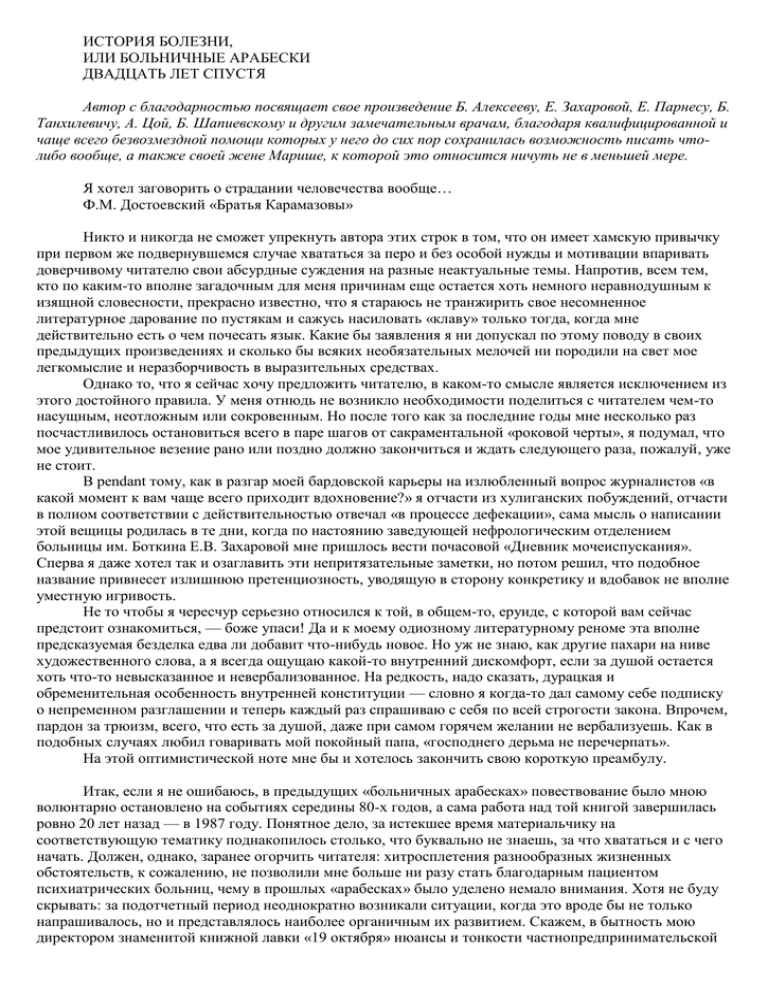
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ, ИЛИ БОЛЬНИЧНЫЕ АРАБЕСКИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Автор с благодарностью посвящает свое произведение Б. Алексееву, Е. Захаровой, Е. Парнесу, Б. Танхилевичу, А. Цой, Б. Шапиевскому и другим замечательным врачам, благодаря квалифицированной и чаще всего безвозмездной помощи которых у него до сих пор сохранилась возможность писать чтолибо вообще, а также своей жене Марише, к которой это относится ничуть не в меньшей мере. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще… Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» Никто и никогда не сможет упрекнуть автора этих строк в том, что он имеет хамскую привычку при первом же подвернувшемся случае хвататься за перо и без особой нужды и мотивации впаривать доверчивому читателю свои абсурдные суждения на разные неактуальные темы. Напротив, всем тем, кто по каким-то вполне загадочным для меня причинам еще остается хоть немного неравнодушным к изящной словесности, прекрасно известно, что я стараюсь не транжирить свое несомненное литературное дарование по пустякам и сажусь насиловать «клаву» только тогда, когда мне действительно есть о чем почесать язык. Какие бы заявления я ни допускал по этому поводу в своих предыдущих произведениях и сколько бы всяких необязательных мелочей ни породили на свет мое легкомыслие и неразборчивость в выразительных средствах. Однако то, что я сейчас хочу предложить читателю, в каком-то смысле является исключением из этого достойного правила. У меня отнюдь не возникло необходимости поделиться с читателем чем-то насущным, неотложным или сокровенным. Но после того как за последние годы мне несколько раз посчастливилось остановиться всего в паре шагов от сакраментальной «роковой черты», я подумал, что мое удивительное везение рано или поздно должно закончиться и ждать следующего раза, пожалуй, уже не стоит. В pendant тому, как в разгар моей бардовской карьеры на излюбленный вопрос журналистов «в какой момент к вам чаще всего приходит вдохновение?» я отчасти из хулиганских побуждений, отчасти в полном соответствии с действительностью отвечал «в процессе дефекации», сама мысль о написании этой вещицы родилась в те дни, когда по настоянию заведующей нефрологическим отделением больницы им. Боткина Е.В. Захаровой мне пришлось вести почасовой «Дневник мочеиспускания». Сперва я даже хотел так и озаглавить эти непритязательные заметки, но потом решил, что подобное название привнесет излишнюю претенциозность, уводящую в сторону конкретику и вдобавок не вполне уместную игривость. Не то чтобы я чересчур серьезно относился к той, в общем-то, ерунде, с которой вам сейчас предстоит ознакомиться, — боже упаси! Да и к моему одиозному литературному реноме эта вполне предсказуемая безделка едва ли добавит что-нибудь новое. Но уж не знаю, как другие пахари на ниве художественного слова, а я всегда ощущаю какой-то внутренний дискомфорт, если за душой остается хоть что-то невысказанное и невербализованное. На редкость, надо сказать, дурацкая и обременительная особенность внутренней конституции — словно я когда-то дал самому себе подписку о непременном разглашении и теперь каждый раз спрашиваю с себя по всей строгости закона. Впрочем, пардон за трюизм, всего, что есть за душой, даже при самом горячем желании не вербализуешь. Как в подобных случаях любил говаривать мой покойный папа, «господнего дерьма не перечерпать». На этой оптимистической ноте мне бы и хотелось закончить свою короткую преамбулу. Итак, если я не ошибаюсь, в предыдущих «больничных арабесках» повествование было мною волюнтарно остановлено на событиях середины 80-х годов, а сама работа над той книгой завершилась ровно 20 лет назад — в 1987 году. Понятное дело, за истекшее время материальчику на соответствующую тематику поднакопилось столько, что буквально не знаешь, за что хвататься и с чего начать. Должен, однако, заранее огорчить читателя: хитросплетения разнообразных жизненных обстоятельств, к сожалению, не позволили мне больше ни разу стать благодарным пациентом психиатрических больниц, чему в прошлых «арабесках» было уделено немало внимания. Хотя не буду скрывать: за подотчетный период неоднократно возникали ситуации, когда это вроде бы не только напрашивалось, но и представлялось наиболее органичным их развитием. Скажем, в бытность мою директором знаменитой книжной лавки «19 октября» нюансы и тонкости частнопредпринимательской деятельности в условиях постсоветского экономического пространства в частности и российской ментальности вообще неоднократно ставили мой бедный рассудок на грань помешательства, и сейчас трудно даже представить себе, что смогло его удержать от безвозвратного перехода за нее. Вообще, вопрос «с чего начать» — это, как выражался Зощенко, «собачий вопрос». Мне, например, всегда бывает трудно удержаться, чтобы не впендюрить перед основным текстом какойнибудь эффектный вступительный аккорд эпиграфического характера, как, скажем, я позволил себе сделать в «Ex epistolis». Но сейчас, наверно, все-таки проще всего применить старый и проверенный способ — располагать события в хронологическом порядке. Впрочем, это только так говорится, а на самом деле поди теперь вспомни, что было сначала, что потом, а что в промежутке. Тем более память моя под тяжким бременем лет из предмета юношеской гордости постепенно превратилась в причину постоянных бытовых и творческих накладок и всевозможных недоразумений. И становлюсь я уже совсем как тот дедок, с которым когда-то лежал в больнице № 20. Он все время забывал самые обиходные слова и выражения и каждый раз, мучительно пытаясь их вспомнить (что удавалось далеко не всегда), щелкал в воздухе пальцами и повторял по много раз: «Ну это… как его…» Однажды он споткнулся о ножку кровати, долго щелкал пальцами и наконец разродился: «Ну это, как его… еб твою мать!» Вот и со мной, к сожалению, стали происходить подобные вещи. К примеру, как-то ночью в качестве средства от жестокой бессонницы я стал в постели вспоминать историю битв Наполеона. И перебрав в уме почти всю их хронологию от Тулона до Ватерлоо, вдруг с ужасом осознал, что сама фамилия великого французского полководца напрочь вылетела у меня из головы. Разумеется, об заснуть тут уже не могло быть и речи. Я промаялся еще часа полтора, но восстановить в оперативной памяти фамилию «маленького капрала» (забавно, что этот его nom de guerre я как раз отлично помнил) так и не смог — пришлось вставать и идти смотреть в книге. Увы, когда пытаешься припомнить события собственного прошлого, посмотреть негде. Вести дневники нам было недосуг, до «живых журналов» тогда еще не додумались — вот и потонули наши жизни в сумбурных обрывках, случайно уцелевших деталях, искаженных и перевранных реминисценциях. Но не будем о грустном — во всяком случае не сразу и не сейчас. Закавыка еще и в том, что во второй половине 80-х — начале 90-х годов, когда страна мучительно переживала всевозможные катаклизмы и недуги переходного периода, я, находясь, как и подобает истинному художнику, в полной противофазе с окружающей действительностью, переживал последний всплеск отличной физической формы. Я вел невероятно активный и нездоровый образ жизни. Я регулярно (и помногу) недосыпал и нерегулярно (хотя и тоже помногу) питался, отдавая безусловный преферанс жирным, мучным и острым блюдам. Я умудрялся беззастенчиво злоупотреблять спиртными напитками и в еще большей степени — курением даже во времена приснопамятной борьбы с алкоголизмом и запечатлевшегося глубоким рубцом на сердце каждого курильщика дефицита табачных изделий. Я практически непрерывно кропал разного рода нетленку (в том числе и пресловутые «Больничные арабески»), и в промежутках между всем этим мне еще удавалось какими-то загадочными и преимущественно левыми способами что-то зарабатывать на содержание жены и двух маленьких детей. И тем не менее мое конское здоровье (я употребляю этот отчасти экзотический эпитет, по сути дела, в прямом значении — достаточно вспомнить, как на деревенском участке одного из моих друзей меня запрягали в плуг вспахивать картофельное поле) в общем и целом не давало поводов обращаться за медицинской помощью, если не считать всяких рецидивов юношеских болячек: устрашающего размера и невероятно болезненных нарывов в промежности или незначительных бытовых травм вроде двух переломов ребра, имевших место строго в один и тот же день (11 марта) с интервалом в год. Первый из них я получил на обледенелых подходах к станции метро «Отрадное», безуспешно пытаясь удержать в вертикальном положении своего друга Костю, который, по изящному выражению Ч. Диккенса, «с трудом держался на ногах от избытка жизненных сил и горячительных напитков», а второй — уже самостоятельно навернувшись с не менее обледенелых ступенек родной станции метро «Петровско-Разумовская». И даже поездка через месяц после Чернобыльской аварии в наиболее зараженные радиацией юго-западные районы Брянской области обошлась без сколько-нибудь заметных (или, по крайней мере, выявленных) последствий. Из лечебных мероприятий того периода стоит разве что упомянуть о цикле капельниц с никотиновой кислотой, которому я неразумно подвергся в своей районной поликлинике с целью укрепления сосудистой системы нижних конечностей. Подозреваю, что именно тогда мне, по всей вероятности, и занесли одну из разновидностей вируса гепатита С, благополучно здравствующего в моей крови по сей день. И лишь ближе к середине 90-х годов стали понемногу вылезать наружу первые признаки старения и необратимого распада организма. Началось все, натурально, с сахарного диабета. Собственно, недвусмысленные симптомы этого неизлечимого заболевания — неутолимая жажда, горечь и сухость во рту и, как пишут в поликлинической наглядной агитации, «частое и обильное мочеиспускание» — появились у меня довольно давно, и моя заботливая жена Мариша, от чьего всевидящего ока никогда не могло укрыться даже малейшее изменение моего физического состояния, неоднократно призывала меня сделать необходимые анализы. Но мне как-то все было не до того, и я продолжал жить и работать в прежнем режиме, ежедневно выкушивая при этом по два-три литра сладких газированных напитков в придачу к крепкому сладкому чаю, который я имел обыкновение пить из литровой пивной кружки. И тут, кажется в январе 1994 года, мы с Маришей решили съездить на недельку отдохнуть в Ялту. Надо сказать, эта поездка оставила у меня неизгладимые впечатления не только потому, что именно там подтвердился неутешительный диагноз, поставленный моей проницательной супругой, но, главным образом, потому, что в этой жемчужине Крыма мне в первый и скорей всего в последний раз в жизни довелось почувствовать себя состоятельным человеком, который, по фигуральному выражению С. Довлатова, может себе позволить читать меню не справа налево, а слева направо. Произошло это, к сожалению, отнюдь не по причине резкого улучшения моего материального положения (да и с чего бы этому взяться?), а вследствие ужасной инфляции, свирепствовавшей в то время на только-только ставшей независимой Украине. Поменяв на симферопольском вокзале по грабительскому, как мне потом объяснили, курсу 100 долларов, мы получили взамен такую необъятную кипу гривен, что она не влезала в Маришину сумочку, не говоря уже о моем бумажнике. Тогда как цены на все товары и услуги представлялись нам попросту смехотворными. К примеру, поход по полной программе в самый дорогой ялтинский ресторан обошелся в пересчете на рубли примерно в три или четыре поездки на московском метро. Словом, истратить за неделю эти 100 долларов нам так и не удалось, хотя мы честно старались изо всех сил. Если верить Хемингуэю, что-то похожее испытывали американцы, жившие в Париже после Первой мировой войны. Мы даже купили, чтобы взять с собой в Москву, какое-то дикое количество местной свежекопченой рыбы, но за день до отъезда оголодавшие крымчане благополучно свистнули ее непосредственно с балкона нашего номера. А жили мы, между прочим, в одном из лучших ялтинских санаториев на самом берегу моря. Правда, ввиду сложного экономического положения молодой республики в корпусах не топили, да и с водоснабжением (как горячим, так и холодным) имели место регулярные перебои — но интерьеры, парк и погода были великолепны. Кроме того, все желающие имели возможность бесплатно пройти медицинское обследование, и от не хрена делать я наконец малодушно поддался на Маришины уговоры и сдал кровь на сахар. Придя за результатами к санаторному врачу (естественно, пожилому и меланхоличному еврею), я был отчасти фраппирован его настойчивыми предложениями прилечь и навязчивыми и одновременно уклончивыми упоминаниями о какой-то загадочной гипергликемической коме, которая, по его словам, была ему здесь совершенно ни к чему. И вообще он обращался со мной, как с безнадежно больным человеком, чьи дни (а, возможно, даже часы) сочтены, в то время как я, если не считать вышеописанных симптомов, чувствовал себя абсолютно здоровым, в связи с чем позволил себе несколько иронических замечаний по поводу его макабрических настроений. «Вы, наверно, очень мужественный человек», — похоронным голосом сказал врач и, внезапно перейдя на ленинский говорок, добавил: «А сахарок-то у вас, батенька, выше нормы в четыре с лишним раза». Потом, вернувшись к прежним погребальным интонациям, он прописал мне манинил перед каждым приемом пищи и соответствующие ограничения в диете, причем в скорбных глазах крымского эскулапа ясно читалось, что поможет все это как мертвому банки. Однако, услышав, что через пару дней мы уже возвращаемся в Москву, он несколько расслабился, оживился и даже на прощанье счел уместным рассказать мне очень старый местечковый анекдот про смерть Рабиновича («Ну да, я жив, а хули толку?»). Надо думать, таким опосредованным способом он предполагал склонить меня философски и фаталистически отнестись к моему новому недугу. Если говорить о первом его предписании, то необходимо отметить, что я неукоснительно и ежедневно принимал внутрь упомянутый лекарственный препарат на протяжении почти восьми лет. До тех самых пор, пока заведующая эндокринологическим отделением 20-й больницы с гордостью не сообщила мне о том, что наука не стоит на месте и что по результатам последних исследований манинил признан крайне вредным для диабетиков, поскольку чрезмерно стимулирует и, как следствие, истощает поджелудочную железу. Впрочем, еще до этого эпизода у меня был непродолжительный перерыв в приеме манинила, когда мне порекомендовали заменить его другим, более прогрессивным противодиабетическим средством, — кажется, оно называлось «глюкобай», но точно не скажу. Однако от этой прогрессивной новинки вскоре пришлось решительно отказаться, поскольку она до такой степени провоцировала, пардон, метеоризм, к которому я и без того имею печальную (и наследственную) склонность, сопровождавшийся неконтролируемой флатуленцией и вдвойне неконтролируемым сфинктеральным резонансом, что я попросту был лишен возможности появляться на людях, да и наедине с самим собой чувствовал себя не слишком комфортно. Второе же предписание, вопреки моим собственным опасениям и сострадательным ахам и охам окружающих, оказалось для меня совсем необременительным. Будучи человеком, абсолютно нерасположенным к аскезе, я довольно легко могу переносить всевозможные ограничения почти в любых человеческих потребностях и отправлениях, за исключением разве что курения и ненормативной лексики, без которых в нашем деле совсем никуда. А уж к сладостям, от употребления которых меня особенно предостерегали, я с детских лет был более или менее равнодушен, и в тех ситуациях, когда другие дети просили у родителей конфету или мороженое, как правило, просил (и, надо сказать, далеко не всегда получал) котлету или бутерброд с колбасой. Но, как известно, диабет страшен в наши дни не столько сам по себе, сколько своими жуткими осложнениями — несчастные диабетики постепенно и неотвратимо слепнут, у них со временем перестают работать почки и печень, значительно повышается риск гангрен, инфарктов и инсультов, не говоря уже о стойкой импотенции, от которой не спасают даже наиболее широко разрекламированные афродизиаки. Радует одно: все это в большинстве случаев происходит не очень быстро. Диабет принято называть «медленным убийцей», и убивает он обычно не намного быстрей, чем жизнь вообще. Собственно, в популярных медицинских брошюрах так и пишут: «Диабет — это не болезнь, а образ жизни». Все это я узнал, проконсультировавшись по возвращению из Крыма с более квалифицированными коллегами санаторного врача, и с облегчением понял, что по крайней мере в ближайшие лет пять мне ничего фатального скорей всего не грозит. А на более отдаленные сроки я в принципе не имею обыкновения загадывать. Тем бóльшим было мое удивление, когда пресловутые осложнения начались почти сразу же после проведенных консультаций. Кстати, и характер этих осложнений тоже оказался не самым распространенным: у меня, прошу прощения за интимную подробность, стали самопроизвольно выпадать зубы (некоторые из них, я, можно сказать, голыми руками вынимал изо рта) и в довольно непродолжительное время выпали все до одного. Не стану утверждать, впрочем, что это меня чересчур сильно огорчило, — скорей наоборот. С зубами я мучился всю свою сознательную жизнь, сколько себя помню. Не описать словами, какие неимоверные страдания претерпел я на этом тернистом пути, отмеченном сотнями бессонных ночей, тысячами выкуренных сигарет, гекалитрами выпитой водки и тоннами сожранного анальгина. Проницательный читатель здесь, конечно же, заметит, что надо было регулярно обращаться к стоматологам, жевать «орбит без сахара» и не помню сколько раз в день чистить зубы пастой «Colgate total». Но о двух последних в годы моей молодости у нас еще не слыхали, а к стоматологам, понятное дело, мне приходилось обращаться неоднократно. Так, еще в нежном подростковом возрасте одно из первых обращений закончилось тем, что мне задели бормашиной обнаженный нерв и я от болевого шока потерял сознание. Хорошо также сохранился в памяти эпизод, когда несколькими годами позже могучий лысый дантист моей районной поликлиники, упираясь коленом в бок, рвал мне коренной зуб без наркоза и приговаривал, кивая на миловидную медсестру: «Ты на сиськи, на сиськи смотри и представляй, как ее порешь, тогда не так больно будет». Весьма своеобразная, надо признать, анестезия… Что же касается анестезии традиционной, то она в те далекие годы применялась в отечественном зубоврачебном деле крайне редко, по большому блату или за большие деньги. Хотя я прошел и через это, причем дважды. Но если в первый раз все обошлось сравнительно благополучно и ограничилось только тем, что, пока я кайфовал под общим наркозом, мне просто просверлили язык и я потом с неделю был лишен возможности принимать пищу и членораздельно излагать свои мысли и ощущения, то во второй раз дело кончилось значительно хуже. Помнится, это произошло, когда, непосредственно перед тем как вступить в лоно супружества, я опрометчиво решил в честь такого знаменательного события произвести капитальную санацию полости рта. На последние деньги я смотался в Институт стоматологии, где мне опять-таки под общим наркозом и в один присест шесть зубов вырвали и около десятка запломбировали. После этой полезной и, главное, своевременной оздоровительной процедуры я весь медовый месяц с распухшей мордой лез на стену и бегал по потолку от невыносимой боли, поскольку, как мне с обезоруживающей улыбкой сообщили в упомянутом институте, парочку каналов случайно запломбировали каким-то не тем материалом, который начал там неподконтрольно расширяться. В общем, что тут говорить, — в свете всего пережитого исчезновение источника многолетних мучений едва ли можно было рассматривать как утрату. Скажу больше: когда мне (не без некоторых, разумеется, сложностей и мытарств и далеко не с первой попытки) сделали прекрасные съемные протезы, я горько пожалел о том, что никто не надоумил меня совершить эту гуманную операцию еще в юношеские годы. И с тех пор я, буквально как профессор Пнин, от всей души рекомендую ее каждому, кого милосердный Господь наградил плохими зубами. Как подумаешь, скольких страданий таким способом удалось бы избежать… Но нет, о грустном еще, пожалуй, рановато… Однако следует сказать, что на этом этапе развития болезни диабетические осложнения ограничились только стоматологией, поскольку я совершенно не уверен, можно ли к таковым отнести постигший меня вскоре тяжелый артроз обоих плечевых суставов — от разных врачей я слышал разные мнения на этот счет. Отмечу лишь, что по сравнению с выпадением зубов он оставил у меня значительно менее приятные воспоминания. Во-первых, это тянулось довольно долго — в общей сложности около года, во-вторых, было очень больно (особенно когда в переполненном транспорте ктонибудь ненароком пихнет в плечо), в-третьих, это, наконец, создавало массу чисто житейских проблем — от неспособности самостоятельно помыться или надеть пиджак (не говоря уж об вкрутить перегоревшую лампочку) до невозможности работать на компьютере и играть на музыкальных инструментах. Прописанные мне хирургом районной поликлиники какие-то едкие мази и вонючие притирки не помогали ни хрена, но, к счастью, примерно в это время среди моих знакомых появился замечательный врач Женя Парнес. Не возьмусь точно определить его медицинскую специализацию — исходя из богатейшего личного опыта, а также из опыта моих многочисленных друзей, неоднократно обращавшихся к Жене за помощью при самых различных заболеваниях, у меня сложилось твердое убеждение, что он одинаково хорошо разбирается практически во всех человеческих недугах. На моей памяти не было случая, чтобы его диагноз или назначение оказались бы ошибочными. Нельзя же в самом деле считать ошибкой, когда он порекомендовал мне пить анальгетики при межреберной невралгии, — кто ж мог предположить, что у меня от этого остановится почка? Да и к тому же, скорей всего, я сам по приобретенной в молодости привычке к неумеренному употреблению анальгина ими беззастенчиво злоупотребил. Но все это произошло уже значительно позже. А когда я обратился к Жене по поводу вконец замучившего меня артроза, он немедленно прописал мне уколы хрящевосстанавливающего препарата с экзотическим названием «алфлутоп». Недостаток у этого препарата был только один: он почему-то в то время вообще не продавался в российских аптеках и приходилось покупать его у добрых людей, контрабандой привозивших это волшебное средство прямиком из Германии. Но дело того стоило: после нескольких месяцев ежедневных инъекций в, выражаясь высоким слогом, лядвею и непосредственно в плечевой сустав мой артроз улетучился, и хочется надеяться, что безвозвратно. Кстати о названиях лекарств. Меня всегда чрезвычайно интересовало, кто и руководствуясь какими резонами придумывает их, а также наличествуют ли среди этих резонов соображения запоминаемости и эвфонии. Не буду сейчас говорить о том, как трудно человеку, не имеющему специальной подготовки (а тем более нашему брату, старому склеротику), удержать эти названия в голове — наверно, каждому хорошо знакома ситуация, когда стоишь как дурак перед аптечным прилавком и мучительно пытаешься восстановить в памяти эту чуждую русской фонетике и пес его разберет что означающую комбинацию букв. Но еще загадочней то, почему среди этих названий настолько часто встречаются такие неприятные (хотя, конечно, во многом это дело вкуса) русскому уху звукосочетания, как, к примеру, имудон, пердолан, пердипин, ибупрофен, томудекс, урососан и многие другие. Надо ли удивляться, что, по словам одного моего приятеля — страшного, между нами говоря, хулигана и матерщинника, — он с детства воспринимал всякие нецензурные выражения вроде, я дико извиняюсь, «проебал» или «пропиздон» исключительно как названия лекарственных препаратов. Опять же абсолютно не ясно, почему одни и те же лекарства по-разному называются у нас и за границей. Я понимаю, раньше, когда мы все безвылазно сидели за железным занавесом, нам было, в общем, по барабану, как там у них что называется. Но теперь, когда мы иногда выбираемся посмотреть чужие края, такое положение вещей создает известные трудности. Помню, как однажды в нью-йоркской аптеке я пытался купить мочегонное средство «арифон ретард». Разумеется, симпатичный неграптекарь такого названия сроду не слыхал, а когда я, отчаявшись объяснить на своем скверном английском, какого рода препарат мне необходим, перешел на язык жестов, воспринял это как личное оскорбление в общественном месте и уже совсем было собрался вызывать полицию. Короче говоря, не все у нас еще продумано с названиями лекарств, и соответствующим учреждениям здесь, безусловно, есть над чем поработать… А возвращаясь к «жизни с диабетом» (так называлась красочно оформленная брошюра, подаренная мне в каком-то диабетическом центре), можно сказать, что в остальном она на первых порах не причиняла мне сколько-нибудь серьезных неудобств. Словом, живи да радуйся. Пожалуй, единственным, что всерьез отравляло мое существование, была необходимость ежемесячно посещать районную поликлинику на предмет получения (бесплатно!) сперва вредоносного манинила, а позже — целительного инсулина. Не стану упоминать о многочасовых очередях — после того как во второй половине 80-х мы сутками простаивали за водкой, очередями нас уже не испугаешь. Оставлю за скобками и профессиональную неприветливость сотрудниц регистратуры, а также их непостижимую уму неспособность найти мою медицинскую карту, которая почему-то каждый раз проваливалась как сквозь землю, — у нас еще не было достаточных поводов отвыкнуть от прелестей советского сервиса. Хуже было другое. Даже потеряв по меньшей мере полдня и с боями прорвавшись через все эти препоны, барьеры и рогатки к своему так называемому лечащему эндокринологу, получить то, что тебе законно причитается, оказывалось в силу разнообразных и, как метко заметил Е. Попов, ни от кого не зависящих причин невероятно сложно и удавалось далеко не всегда. Казалось бы, всех дел-то на пять минут: выписали рецепт, поставили печать — и гуляй. Ведь я пришел не за квалифицированной медицинской помощью, требующей вдумчивого обследования и внимательного осмотра, а единственно для того, чтобы выписать бумажку. Но в том-то и беда, что в такой ситуации врачи районной поликлиники (во многом, кстати говоря, не по своей вине) превращаются, по сути дела, в чиновников и бюрократов, а modus operandi этих последних исчерпывающе охарактеризовал в свое время еще И. Ильф (цитирую по памяти): «Если служебная тумба благодаря своему служебному положению может доставить вам неудобства или неприятности, то она непременно это сделает». Так что какая тут к свиньям собачьим клятва Гиппократа, принцип «не навреди» и прочие благоглупости! Вот как-то раз по протекции Бори Шапиевского, своего старого, еще школьного приятеля, а ныне популярного московского гинеколога, я договорился лечь на эндокринологическое обследование в 20-ю больницу, где он в то время работал (рассказ о ней ждет читателя чуть позже). Но чтобы попасть туда, из все тех же бюрократических соображений требовалось направление районной поликлиники. Отсидев четыре часа в очереди, я попросил таковое у своей эндокринологини и, разумеется, получил категорический отказ. Об этом не могло быть и речи! Оказывается, сперва я должен пройти полную диспансеризацию (то есть еще по полдня отсидеть в очередях к доброму десятку врачей), сдать кучу анализов и т. д., и только тогда она, проконсультировавшись с заведующим, решит, давать мне направление или не давать, а в противном случае ее оштрафуют, уволят по статье, посадят с конфискацией имущества и не исключено, что расстреляют. Тогда по рекомендации того же Бори я приватным порядком обратился с аналогичной просьбой к одному его знакомому — врачу из поликлиники другого района. И тот, нимало не убоявшись административной и уголовной ответственности, а также получив от меня в качестве благодарности мою книжку и диск с песнями, немедленно выписал то, что нужно. Все это противозаконное деяние заняло три минуты, и никто, насколько мне известно, не пострадал. Спрашивается, так какого же хрена? Ох, недаром кто-то из великих — кажется, Герцен или Салтыков-Щедрин — говорил (цитирую опятьтаки по памяти): «Страшно подумать, что было бы, если б в России перестали брать взятки. Жизнь бы, наверно, остановилась». Однако, повторяю, в целом, если не считать этого пусть и крайне неприятного аспекта, особых проблем диабет мне не доставлял. Правда, со временем, когда я по утрам, буквально как молодой олень, вскакивал справить нужду, у меня непосредственно в процессе этого рутинного мероприятия от случая к случаю стали появляться какие-то непонятные приступы: начинало мутить, знобить и кружилась голова, причем настолько сильно, что добраться обратно до койки я мог, только держась за стеночку. Под влиянием популярных диабетических брошюр я расценивал это как проявления утренней гипогликемии, которой так пугают нашего брата диабетика, и сейчас же бросался жрать что-нибудь сладкое. И это помогало: часа через три-четыре головокружение пропадало — и так до следующего раза. Но вот в один прекрасный весенний день (скажу больше: это был день моего рождения) мы с Маришей и моим старым другом Олегом Белиловским, приехавшим с ностальгическим визитом из Израиля, отправились на наш продуктовый рынок закупить харчей и выпивки для предстоящего полноформатного вечернего застолья. У первого же павильона я внезапно почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног и весь окружающий пейзаж как-то странно накренился градусов примерно под 45. Впрочем, сознание при этом оставалось совершенно ясным, и я почел за лучшее самостоятельно опуститься на асфальт, не дожидаясь, пока грохнусь об него мордой. Отлежавшись с полчасика, я всетаки смог, опираясь на дружеское плечо Олега, дотащиться до дома, а вечером даже принял почти полноценное участие в праздничных возлияниях. Но когда я назавтра вышел из дома, симптомы в точности повторились, и это однозначно не являлось результатом утреннего похмелья, каковому я вообще очень мало подвержен. На «гипу» оба этих случая также не были похожи, поскольку имели место после весьма плотного завтрака. Более того: ситуация не изменилась и в ближайшие дни — я попрежнему не мог находиться в вертикальном положении дольше трех-четырех минут и даже по дому передвигался, только опираясь на предметы меблировки. Уже поминавшийся добрым словом Женя Парнес, к которому я обратился за консультацией, сперва высказал вполне обоснованное предположение, что все это так или иначе связано с перепадами давления. Но регулярные его измерения при переходе из лежачего положения в сидячее, из сидячего — в стоячее и обратно не показали сколько-нибудь значительных отклонений от нормы и резких скачков. Тогда Женя отправил меня делать обследование, которое, если я ничего не путаю, называлось «магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга». Заключение этого исследования могу привести дословно (оно сохранилось в моем обширном медицинском архиве): «экстравазальная компрессия обеих позвоночных артерий в виде дугообразного смещения хода между поперечными отростками шейных позвонков со значительным смещением кровотока». По-простому, как популярно разъяснил мне Женя, это означало, что искривленные позвонки пережимают артерии, снабжающие кровью мозг, а в вертикальном положении кровь от него еще и отливает — и все это вместе взятое вызывает нарушение работы вестибулярного аппарата. По Жениным словам, это заболевание консервативному лечению практически не поддается, а хирургическое вмешательство здесь — чистая лотерея, и он к нему прибегать категорически не советует. Тем не менее он без особого оптимизма прописал мне лошадиные дозы ноотропила в комбинации с каким-то еще препаратом, название которого я благополучно забыл. Кроме того, он строжайше запретил резко вставать и садиться, запрокидывать голову, а также обращаться к любым «мануальщикам» и массажистам, поскольку это может привести к необратимым последствиям вплоть до стволового инсульта. Я честно выполнял все рекомендации, но ощутимого облегчения, как Женя и обещал, не наступало. То есть я, конечно, начал со временем понемногу выползать по разным неотложным делам, но хватало меня только на то, чтобы дошкандыбать до Дмитровского шоссе и поймать машину, а дальше передвигался короткими перебежками от одного места, где можно присесть, до другого. Кроме того, поскольку тянулось это все уже несколько месяцев, у меня возникла своего рода фобия — я вообще стал бояться выходить из дома, что, разумеется, сказывалось на жизненном укладе и состоянии духа. Но тут, когда я уже почти смирился со своим положением «невыездного», мне позвонил какойто совершенно незнакомый человек (очевидно, кто-то из друзей, услышав о моих мытарствах, дал ему номер моего телефона) и очень вежливо представился: доктор медицинских наук такой-то — к сожалению, я не запомнил имени этого, безусловно, достойного представителя самой гуманной профессии. Он даже не спрашивал о симптомах моего недуга, а сразу сказал примерно следующее: «Ваша болезнь не лечится, но кровь, как вода, — либо она рано или поздно пробьет себе дорогу, либо не пробьет. Поэтому ничего не бойтесь, живите как живете, старайтесь больше ходить. В конце концов, ничего страшного: упадете — встанете и пойдете дальше. А если не встанете, то, значит, не судьба». Не то чтобы я воспринял эти слова как откровение (тем более что о чем-то похожем не раз думал и сам), но после нашего разговора дела постепенно стали поправляться, и через некоторое время я мог уже достаточно свободно перемещаться в пространстве, а вскоре и вовсе перестал испытывать какие бы то ни было проблемы с вестибулярным аппаратом. Рецидивы этого заболевания появились у меня только лет через десять, но я обещал, что о грустном мы пока не будем… А между тем, не сочтите за банальность, время шло (и даже в определенном смысле «старилось и глохло»), и мой образ жизни несколько изменился, хотя ни в коем случае нельзя считать, что он стал более здоровым. К этому периоду я в общих чертах завязал с книготорговлей и книгоиздательством, наивно и легкомысленно полагая, что меня вполне сможет прокормить концертная и гастрольная деятельность. Предпосылок для этого, скажу сразу, изначально не существовало ни малейших, и потому в промежутках между редкими концертами в полупустых залах мне, дабы снискать хлеб насущный, приходилось, не отрывая задницы, переводить, редактировать и верстать всякую несусветную чушь, которая в отличие от моего песенного и литературного творчества была весьма востребована и сравнительно неплохо оплачивалась. И если прежде мне по недомыслию казалось, что более душевредного занятия, чем книготорговля, в природе нет, то теперь я уже ни минуты не сомневался: редактура по этой части даст ей сто очков вперед. Дошло даже до того, что по ночам мне начали сниться типично редакторские кошмары. Как будто я правлю текст, в котором фигурирует фраза: «Он наложил на себя руки собственноручной рукой». Я пытаюсь ее исправить, а компьютер выдает сообщение: «Нет доступа. Предложение составлено правильно». Натурально, просыпаешься в холодном поту… Надо отметить, что редактору, работающему с отечественными авторами, приснившаяся фраза отнюдь не представляется чем-то феноменальным и из ряда вон выходящим. Наяву встречались мне конструкции и похлеще. К примеру, такая: «Относительно старости следует отметить, что она относится к относительным понятиям, и отношение к ней можно отнести к разряду индексных показателей отношения к людям вообще». Или уж совсем анекдотическое и где-то мной уже цитированное: «Русская церковь всегда стояла и будет стоять в миссионерской позиции». Разговоры о тяжелой редакторской доле и сейчас остаются для меня настолько актуальными, что я, пожалуй, позволю себе сделать здесь небольшое лирическое отступление на эту животрепещущую тему. Тем более, как мне кажется, читателю пора уже дать немного отдохнуть от моих медицинских историй. Лет десять назад мой хороший знакомый Алик Жолковский (это, если кто по темноте не знает, вовсе даже не врач, а известный писатель и филолог — между прочим, профессор Университета Южной Калифорнии, а также автор предисловия к моей книжке «Опыты») на страницах журнала «Знамя» разразился прочувствованной филиппикой, в которой подверг беспощадной и уничтожающей критике весь институт редакторства как таковой (О редакторах. «Знамя» № 2, 1996). Во избежание недоразумений хочу заявить сразу: с большинством положений этого эссе, или, как предпочитает называть свои этюды сам автор, «виньетки», я безоговорочно согласен и подобно любому пишущему человеку мог бы немало к ним добавить из личного опыта. Пожалуй, несколько досадно, что, сосредоточив основной огонь своей тяжелой артиллерии на социальном аспекте вопроса, Алик полностью оставил без внимания аспект, так сказать, психиатрический, на который чрезвычайно метко указал в своих «Записях и выписках» покойный М.Л. Гаспаров: «Психолингвисты отмечают, что склонность к переработке текста — черта душевнобольных. Предлагается отрывок прозы (из С.-Экзюпери): «что можно сделать с этим текстом?» Нормальные даже не понимали вопроса, а те тотчас начинали редактировать (иногда очень тонко), пересказывать от первого лица и пр. …» Но в целом спорить с Аликом не приходится, несмотря даже на то, что мне все-таки чаще доводилось сражаться по другую сторону баррикад. Разумеется, таким матерым литераторам, как Алик, или, как, смею надеяться, автор этих строк, редактор абсолютно не нужен. И нехай они порой позволяют себе что-нибудь вроде того, что позволяли себе Л.Н. Толстой («Накурившись, между солдатами завязался разговор») или Ф.М. Достоевский (знаменитый «круглый стол овальной формы») — редактор все равно не полномочен совать свой нос в эти темные углы писательской лаборатории, поскольку, как весьма справедливо отмечает Алик, не его подпись стоит под текстом и не он, стало быть, несет всю полноту ответственности перед Аполлоном и людьми. Что же касается литераторов менее одаренных, то им никакой редактор не поможет и при всем желании не сумеет сделать из их дерьма конфетку. Но, полностью разделяя выстраданный пафос борьбы за суверенитет автора, я тем не менее нахожу такое трактование проблемы несколько односторонним, поскольку оно a priori подразумевает в этом последнем хотя бы минимальный литературный талант или на худой конец элементарное умение грамотно и мало-мальски связно излагать свои мысли. Ну и конечно, сколько-нибудь адекватную самооценку и совестливость. Тогда как почти все за редчайшими исключениями авторы (и особенно переводчики), которых мне приходилось редактировать, не только ни в коей мере не обладали способностями к изящной словесности, но и на своем родном языке изъяснялись, как на плохо выученном иностранном. О самооценке и совестливости умолчу. Поэтому моя редакторская работа по большей части сводилась не к тому, чтобы, боже упаси, вносить в текст какие-то изменения цензурного или идеологического характера, а к тому, чтобы, пробравшись сквозь дебри корявой бессвязности и дремучей безграмотности, попытаться понять, о чем там вообще идет речь, и по возможности внятно пересказать это своими словами. Таким образом, весь текст приходилось, по сути дела, переписывать — а каждому известно, что переделывать сделанное плохо гораздо трудней (и добавлю от себя: противней), чем делать что-то заново. Причем большинство этих авторов (отдадим им должное), как правило, достаточно трезво оценивают свои способности и абсолютно толерантно и, я бы даже сказал, безучастно относятся к любой редакторской правке, а чаще всего и вовсе в нее не заглядывают. Им в принципе без разницы, как будет выглядеть их текст в печати, тем более что они, наверно, все-таки понимают, что его сложно сделать хуже, чем он был изначально. Главное, гонорар (по-хорошему как минимум наполовину причитающийся редактору) получен, а все остальное — это уже факультативно. Но изредка встречаются среди них и люди с гипертрофированным самолюбием и непропорционально завышенным самомнением, которые до последнего вздоха бьются за каждую свою корявую фразу и даже за каждую грамматическую ошибку. Вот, помню, как-то раз я получил от одного такого клиента (кстати говоря, доктора наук) гневное электронное письмо следующего содержания: «Как Вы посмели в моей книге заменить правильно написанное слово “прецендент” на безграмотное “прецедент”! Требую незамедлительно исправить эту грубейшую ошибку!» Хотел я ему сперва написать, чтобы он у себя в мейлере включил автоматическую проверку орфографии, но потом передумал. Не поможет… Первое время я вообще крайне болезненно воспринимал подобные ситуации и, честно говоря, просто не знал, как себя вести, но позже научился относиться к ним философски и вполне в духе позиции Алика — то есть я попросту прекратил спорить с авторами о чем бы то ни было и с легким сердцем соглашался абсолютно на любые их требования. В конце концов это действительно не мой текст, а хозяин, как известно, — барин. Мое дело предложить, твое дело отказаться. Хочешь, чтобы в тексте, под которым стоит твоя фамилия, было написано «карова», — ради бога. Более того: иногда я умышленно не исправлял наиболее выдающиеся и забавные «ляпы» и злонамеренно позволял им выйти в свет — как, например, приведенную выше фразу про русскую церковь, каковую потом неоднократно встречал то там, то сям в качестве анекдота. При всем этом меня до сих пор не перестает мучить сакраментальный вопрос: за каким вообще издатели с таким постоянством приглашают и публикуют авторов, которые не умеют писать, и переводчиков, которые не умеют переводить? Неужели только ради того, чтобы многотысячная армия редакторов не осталась без работы? Почему бы не заказать ту или иную статью, книгу или перевод одаренному, квалифицированному или хотя бы грамотному человеку? Ведь ими еще не окончательно оскудело наше несчастное отечество. Могу с уверенностью заявить: они есть (многих я знаю лично) и, более того, зачастую испытывают сложности с публикациями. Так, например, я почти не сомневаюсь, что это мое, безусловно, талантливое и не нуждающееся в редактуре произведение едва ли будет напечатано — по крайней мере, при жизни автора, — если только я не наскребу денег и не издам его за свой счет. Хорошо, что в наше время доступно хотя бы это. Ну вот, опять я о грустном… Впрочем, кажется, эту фразу можно смело ставить после каждого моего абзаца. Но нам, пожалуй, пора вернуться к нашим облезлым мутонам и вплотную приступить к собственно «Больничным арабескам-2». Я не оговорился. Ведь, как читатель мог заметить, до этого момента в повествовании мне удавалось справляться со своими многочисленными недугами, не прибегая к госпитализации. Но так, разумеется, не могло продолжаться бесконечно. И вот после почти 20-летнего перерыва весной 2002 года я сподобился наконец лечь на капитальное обследование в больницу № 20 (ни в коей мере не желая показаться навязчивым, я нахожу уместным подчеркнуть эти упорно повторяющиеся двойку и ноль, хотя трудно даже вообразить себе, что они могли бы символизировать). С первого же взгляда приятно удивило, что за истекший период в больничном обиходе, интерьере и меню произошло не так уж много изменений. Те же обшарпанные стены и потолки с разводами (прямо как у меня дома и двадцать лет назад, и сейчас), те же холодные каши и сомнительного происхождения волокнистые кусочки мяса в супе (помню, когда-то давно один из пациентов безапелляционно утверждал, что в больничные супы идет мясо с ампутированных конечностей). Казалось, даже постельное белье на койках не менялось с того далекого времени. Опять же сложный и непередаваемый запах в местах общего пользования, где я бывало просиживал ночи напролет, читая или сочиняя стихи. Боже, сколько ностальгических воспоминаний… Абсолютно тем же самым осталось и выражение лиц медицинского персонала. Оно тоже словно застыло во времени — как будто эти люди, ни на йоту не изменившись, перенеслись через два десятилетия. Прежним остался и стиль отношения к больным — в целом вполне доброжелательный и сочувственный, но при этом несколько пренебрежительный, бесцеремонный и как бы отмахивающийся. Какая-то невероятная смесь между Герасимом из толстовской «Смерти Ивана Ильича» и продавщицей из винно-водочного отдела, у которой на физиономии написано сакраментальное «вас много, а я одна». Хотя отчасти их можно понять — работа у них тяжелая, оплачивается плохо, а пациент иной раз попадается такой вредный, что своей рукой удавил бы. Эх, люди, люди… Но кое-что все-таки стало другим. Общая, с позволения сказать, либерализация страны не обошла стороной и эти печальные учреждения. К примеру, совсем исчезла из употребления больничная униформа — незабываемые заношенные до лоска халаты, свалявшиеся пижамы, стоптанные в блин тапочки, кальсоны 60-го размера в комплекте с нижними рубашками 44-го, — народ теперь ходил во всем своем. При поступлении уже не нужно было в обязательном порядке совершать под наблюдением санитарки ритуальное омовение в облупившейся ванне, столь вдохновенно описанное когда-то М. Зощенко. Да и само мое пребывание в больнице носило, по сути дела, амбулаторный характер. То есть я приезжал туда с утра, проходил предписанные обследования, совершал назначенные процедуры, а с обеда уже сматывался домой, чего раньше, когда пребывание в больнице можно было с полным основанием считать разновидностью тюремного заключения, и представить себе было невозможно. Тут, однако, необходимо учесть, что я являлся отчасти «блатным» и, следовательно, в чем-то привилегированным пациентом. Хотя, надо сказать, такой режим при всей его внешней привлекательности меня тем не менее не слишком устраивал. Дело в том, что я, сколько себя помню, всегда был и остаюсь ярко выраженной «совой» и мне крайне редко удается уснуть раньше пяти-шести часов утра. А если при этом к полдевятому (а иногда и раньше) надо быть в больнице, то времени для сна, по сути дела, не остается, тогда как я, к сожалению, уже вышел из того счастливого возраста, когда мог без особых проблем не спать сутками. Помню, рекорд по этой части был установлен летом 1976 года. Мы с моим другом Костей в силу различных обстоятельств провели почти совсем без сна около четырех суток: первую ночь отработали в качестве лабухов на выпускном вечере, вторую — пропьянствовали на дне рождения Кольки Страчука, а третью — проплутали в болотистых лесах под Сухиничами. И вот, извиняюсь за автоцитату, «в одно из неприятных утр», добравшись после очередной бессонной ночи до своей больничной койки (а в тот день еще как нарочно сломался лифт и мне пришлось подниматься на седьмой этаж пешком), я обратил внимание на то, что сердчишко мое крайне недобросовестно относится к своим непосредственным обязанностям. Оно то принималось биться с оглушительной частотой, то внезапно останавливалось и как будто проваливалось куда-то в желудок. Дальше — больше: я начал задыхаться, весь покрылся холодным потом, в глазах помутилось и запрыгало, а морда, как мне потом рассказали соседи по палате, приобрела характерный булыжносерый оттенок. И вообще как-то вдруг стало совсем херово, хотя вроде нигде ничего не болело. Прибежавшая заведующая отделением (та самая, которая поведала мне о сугубой вредоносности манинила), наскоро пощупав мой пульс и не докричавшись сестер, настолько разнервничалась, что собственноручно повезла меня на кресле-каталке в отделение кардиореанимации. Ее волнение можно было понять — только пару дней назад у нас в палате так же скоропостижно уже скончался один пациент. Здесь я должен уведомить читателя, что разного рода неполадки в моем «пламенном моторе» начались довольно давно. Перебои ритма, учащенный пульс, неприятные ощущения и боль за грудиной, одышка и т. д. сопровождали меня по жизни уже много лет. Удивляться тут особенно нечему, поскольку у автора этих строк имеются налицо все до единого факторы риска ишемической болезни сердца, как то: артериальная гипертензия, курение, избыточная масса тела, нарушения углеводного обмена (в частности, сахарный диабет), наследственная предрасположенность (мой отец перенес пять инфарктов, и от последнего из них умер в возрасте 57 лет), гиподинамия, нерациональное питание и повышенное содержание в крови холестерина. Хотя до этого момента по-настоящему плохо с сердцем мне еще ни разу не было, если не считать одного совсем, впрочем, недавнего случая, когда во время экскурсии в Поленово я сгоряча решил взобраться на крутой берег Оки и по завершении подъема чуть в прямом смысле слова не окочурился от сумасшедшей одышки. Кроме того, мои личные обстоятельства, о которых я, разумеется, не буду сейчас распространяться, были в то время таковы, что в целом я был совсем не прочь уйти из жизни и, более того, это порой представлялось мне едва ли не лучшим выходом из сложившегося положения. Поэтому по дороге в реанимацию я с некоторым даже удовлетворением предполагал, что у меня, натурально, инфаркт (нахватавшись по верхам всякой популярной медицинской литературы, я знал, что у диабетиков он иногда может протекать без болевого синдрома), и жалел только о том, что мне предстоит пройти мучительный курс интенсивной терапии, оставаясь в полном сознании. Но несклонные к сантиментам кардиологи очень быстро рассеяли эти приятные иллюзии. Мой сердечный приступ был моментально атрибутирован ими как пароксизм мерцательной аритмии, а все реанимационные мероприятия свелись к нескольким уколам и капельницам кордарона, которые за несколько часов полностью привели меня в порядок. Причем до такой степени, что уже назавтра я был с позором выдворен из отделения реанимации ввиду, так сказать, должностного несоответствия и следующую ночь провел, как обычно, дома за компьютером. Не стоит, однако, думать, что описанный приступ мерцательной аритмии стал лишь случайным эпизодом. С этим неизлечимым заболеванием нам, увы, придется встретиться еще не раз. Кстати говоря, я часто недоумевал, почему большинство моих болезней оказывались неизлечимыми, пока наконец не догадался, что «излечимых» болезней вообще не бывает. Их течение можно замедлить, даже на какое-то время приостановить, но каждая из них оставляет в наших скоропортящихся организмах свой неизгладимый след и рано или поздно всегда возвращается. Если, конечно, ее раз и навсегда не опередят более опасные и расторопные соратники по борьбе. Что же касается моих впечатлений от отделения реанимации — ведь это было моим первым, хотя, к сожалению, отнюдь не последним посещением подобных заведений, — то они во многом оказались амбивалентными. С одной стороны, невероятно и беспричинно строгие условия содержания пациентов не могли, как выражался Веня Ерофеев, не «будоражить правосознание». Взрослых людей без различия возраста и пола оставляли буквально в чем мать родила и изымали абсолютно все — от нижнего белья до часов и мобильного телефона. Не разрешалось иметь при себе даже книг и газет, не говоря уже о карандаше и бумаге. Вставать с койки (чтобы, к примеру, справить нужду) было запрещено, и всякий раз в таких случаях приходилось обращаться к медперсоналу и делать свое срамное дело на виду у всех. Вдобавок общий вид помещения без стен и дверей, с голыми и по большей части неподвижными телами, разбросанными по кроватям, очень напоминал мертвецкую. Тем более резким контрастом всей этой мрачной и местами беспросветной обстановке выглядели врачи и санитары. Казалось бы, в таких условиях, среди агонизирующих и ежедневно умирающих людей (лишь за те сутки, что я там провел, умерло трое) трудно сохранить бодрость духа. Тем не менее на лицах персонала не было заметно ни малейшего признака уныния или подавленности — напротив, в них явственно ощущалась деловитая оживленность и приподнятость настроения. Громкий и веселый мат разносился по всему отделению, постоянно слышался смех, грубоватые подбадривания и разнообразные прибаутки с некрофилическими коннотациями. Все сотрудники (и особенно санитары) делали свое нелегкое дело четко, энергично и с некоторым даже артистизмом, а общая атмосфера живо напоминала обстановку на батарее капитана Тушина в разгар Шенграбенского сражения. Глядя на них, я вспомнил, как однажды летел самолетом авиакомпании Air France и меня тогда до глубины души поразила работа команды стюардов. Этих молодых, симпатичных и очень пластичных ребят (в основном, кстати, парней, а не девушек) можно было при желании принять за цирковых артистов. Непрерывно перебрасываясь шуточками между собой и с пассажирами, они, чуть ли не танцуя, передвигались по узким проходам между креслами и только что не жонглировали стаканами, бутылками, салфетками, журналами и прочими сопутствующими предметами. У меня до сих пор стоит перед глазами, с каким изяществом один невысокий, но очень ладный паренек, одновременно вынув из двух карманов своей форменной курточки две зажигалки, дал прикурить (в те добрые старые времена в самолетах еще можно было курить!) двум пассажирам, сидевшим по разные стороны прохода, а потом, небрежно перекинув зажигалки из руки в руку, с неизменным французским «oh làlà!» опустил их обратно в карманы и скромно поклонился, словно ожидая аплодисментов. Что-то в этом роде (за исключением разве что поклонов) проделывали со шприцами, катетерами и утками ребята из отделения кардиореанимации 20-й больницы. Впрочем, подобный артистизм наблюдался отнюдь не во всех блоках интенсивной терапии, где мне довелось бывать, но, как бы то ни было, квалифицированную помощь я получил везде. Еще некоторое время после выхода из реанимации мое пребывание в 20-й больнице шло своим чередом, но вскоре произошло событие, которое внесло кардинальные изменения в план моего обследования и лечения. На УЗИ брюшной полости у меня обнаружили довольно солидную раковую опухоль правой почки. В свете моих уже упоминавшихся тогдашних умонастроений я и это открытие воспринял не без энтузиазма. Но, надо сказать, что энтузиазм этот носил преимущественно умозрительный характер, а по правде говоря, было страшновато. Все-таки в одночасье загнуться от инфаркта — это не то, что неизвестно сколько времени мучиться самому и мучить окружающих. Хотя, конечно, в этом щекотливом вопросе трудно расставить приоритеты и определить для себя, что предпочтительней. Это, вероятно, можно сделать только после эмпирического сравнительного эксперимента, который едва ли доведется провести на себе кому-либо из смертных. Но в целом мое отношение к скорой кончине было скорей позитивным, тем более что ровным счетом никаких неприятных физических ощущений в области почек я пока не испытывал. «Ну вот, — говорил я себе, любуясь собственным мужеством в ситуации, когда другой бы сломался, — в нашем роду мало кто из мужиков доживал до старости, а ты чем лучше? Так что все по делу, нормальный ход, “ведь ты моряк, Мишка”, “сохраню ль к судьбе презренье…”» И все в таком духе. К тому же от рака почки, как известно, умер мой любимый Жорж Брассенс, и такое совпадение, разумеется, не могло мне не импонировать. И вообще я внутренне настолько настроился на это дело, что даже свой новый альбом, который как раз выходил в то время, сгоряча назвал «Последние песни» и, чтобы доставить себе une ultime délectation, сходил на концерт впервые приехавшей в Москву Цезарии Эворы. Но и теперь медицина ухитрилась обмануть мои ожидания. После ряда дополнительных исследований и консультаций со специалистами стало очевидным, что мою опухоль отловили на редкость своевременно и она вполне операбельна. Кроме того, я узнал, что радикальная нефрэктомия на предметастатических стадиях рака почки (а у меня, как по заказу, была именно такая стадия) ведет к практически полному излечению от этого заболевания, тогда как человек вполне в состоянии полноценно существовать и с одной почкой — отдельные особи даже рождаются на свет с подобным дефектом и прекрасно себе живут, сколько им отпущено. Кстати, в этой связи могу рассказать забавную историю. Когда я некоторое время спустя после упомянутой операции попал на предмет несостоявшейся установки кардиостимулятора в 4-ю градскую больницу, в одной палате со мной лежал здоровенный 40-летний мужик, внешним видом больше всего напоминавший разнорабочего в продуктовом магазине (каковым, как выяснилось впоследствии, он и оказался). Поэтому вдвойне странным выглядело его поведение — он держался чрезвычайно деликатно, обращался к окружающим исключительно на «вы» (что, как правило, не принято в наших больницах, где в отношениях между пациентами безоговорочно преобладает бесцеремонное корпоративное «ты»), постоянно употребляя сослагательные обороты вроде «не были бы вы так любезны», и, что еще более удивительно, постоянно читал маленькие книжечки Тургенева и Фета в дешевых школьных изданиях. За все время никто не слышал от него ни единого резкого слова, не говоря уже о нецензурных выражениях. И вот как-то раз он вернулся в палату с какого-то обследования, сел на койку, немного помолчал и вдруг разразился длиннейшим монологом, из которого даже трудно было сразу понять, о чем, собственно, идет речь, поскольку на 90% он состоял из виртуознейшей и весьма нетривиальной матерщины. С трудом продравшись сквозь частокол этих чудовищных ругательств, я уяснил, что он сейчас ходил на «ультразвук» и там Карина Ашотовна («семь смоленых хуев ей в армянскую жопу») сказала, что у него, оказывается, от рождения одна почка, а он, дожив до 43 лет, даже не имел об этом понятия. Не могу объяснить причины произошедшей метаморфозы, но с того момента он уже вел себя в полном соответствии со своим внешним видом и социальным статусом, а Фета с Тургеневым больше не раскрывал ни разу. Словом, из 20-й больницы меня, минуя промежуточные инстанции, перевели непосредственно в Московский онкологический институт им. П.А. Герцена, где молодой, но уже хорошо известный хирург Б.Я. Алексеев взялся незамедлительно избавить меня от этого бесполезного и ставшего таким опасным излишества. Забегая вперед, скажу, что он с блеском справился со своей непростой задачей. Пожалуй, самое сильное впечатление при подходе к институту им. Герцена производили близлежащие столбы и заборы, увешанные рукописными и распечатанными объявлениями примерно такого содержания: «Полное исцеление рака на любой стадии за 2 часа. Оплата по договоренности». Я, постоянно имея перед глазами собственный неблаговидный пример, никогда не обольщался насчет моральных качеств рода людского, но весьма терпимо и снисходительно относился ко всем его порокам и слабостям. Однако тут, признаться, даже моя хваленая толерантность дала трещину, и в голову полезли разные дурацкие и совершенно неоригинальные мысли о том, почему за всю историю человечества ни в одном уголовном кодексе не предусматривалось наказания за низость. Впрочем, это бы, скорей всего, мало что изменило… Но мне все равно трудно представить себе, с каким чувством эти «целители» смотрят в зеркало и в глаза тем, на чьей беде они наживаются. Наверно, они оправдывают себя чем-нибудь вроде «им так и так помирать, а я заработаю немного». Хотя пес их знает, о чем эти суки думают, и думают ли хоть о чем-то, кроме… Нет, все-таки о грустном пока еще не время. В остальном же институт им. Герцена ничем не отличался от других больниц (см. несколькими страницами выше описание больницы № 20). Это теперь для него построили суперсовременный корпус с охраной, двухместными палатами, стильными интерьерами и прочими атрибутами больничной роскоши, только за вход в который нужно платить рублей 500. А тогда, пять лет назад, он помещался в убогом барачного типа здании грязно-желтого цвета, живо напомнившем мне незабвенные корпуса больницы им. Ганнушкина. Сходство усугублялось еще и тем, что, войдя в отделение урологии, где мне предстояло провести ближайшие несколько недель, я явственно ощутил недвусмысленный и стойкий запах мочи, столь памятный мне по поднадзорной палате 8-го отделения знаменитой психбольницы. Но тут уж, как говорится, a la guerre comme a la guerre. А между тем операция по разным причинам откладывалась. Более подробно ознакомившись с моим обширным анамнезом, доктор Алексеев и в еще большей степени его анестезиолог стали всерьез опасаться, сумеет ли выдержать мой потрепанный житейскими бурями организм предстоящие тяжелые испытания. И, опять-таки забегая вперед, надо сказать, что их опасения оказались не напрасными: непосредственно во время операции у меня произошел еще один пароксизм мерцательной аритмии, и это, естественно, весьма осложнило и удлинило ее течение. Короче говоря, мне пришлось пройти несколько дополнительных обследований и консультаций, потом доктору Алексееву понадобилось куда-то ненадолго уехать, и в итоге получилось, что мою почку отчекрыжили в самый разгар летней жары, а это по всем показателям считается чрезвычайно неблагоприятным как для самой операции, так и в особенности для послеоперационного периода. Кроме того, за несколько дней до операции мне представили длинный список всяких медицинских прибамбасов — начиная от физиологического раствора и кончая хирургическими резиновыми перчатками, — которые я должен был приобрести самостоятельно и, разумеется, за свой счет. В институте, где ежедневно делается по несколько полостных операций, всего этого необходимого реквизита почему-то не имелось в наличии. Цирк… И вот, наконец, торжественная дата была назначена на завтра. По уже упомянутым причинам личного характера я в принципе был совсем не против скончаться под наркозом (тем более что незадолго подписал какую-то бумагу, где такой вариант развития событий предусматривался), и поэтому день перед операцией прошел в целом спокойно, отчасти даже безмятежно, чему во многом способствовал небольшой утренний инцидент. В курилке мне показали мужика, который с неделю назад перенес аналогичную операцию. Выглядел он, прямо скажем, не слишком авантажно: морда бледная, глаза запавшие, передвигался с трудом — но держался довольно бодро. Я подсел к нему, угостил сигареткой и спросил, как ему все это понравилось. Затянувшись и сплюнув себе под ноги, он немного подумал и сказал буквально следующее: «Ты знаешь, вообще ничего — я думал, будет хуже. Но минет мне нравится больше». К обеду я съездил домой, собрался с мыслями, написал несколько писем, а вечером вернулся обратно в больницу, где перед самым отходом ко сну мне предстояло совершить традиционные предоперационные процедуры: очистить желудок и выбрить, я извиняюсь, промежность. Но если первое мероприятие прошло без особых приключений, то со вторым все вышло не так гладко, как хотелось бы. Я уже имел некоторый опыт в этом интимном деле и предпочел отказаться от услуг медсестры, которая, надо отдать ей должное, на них вовсе не настаивала. Она завела меня в так называемую санитарную комнату и с дружеским напутствием «смотри, яйца себе не отрежь, еще пригодятся» скромно оставила одного. Неторопливо раздевшись и намылившись, я вставил новое лезвие в свой старый добрый станок — и тут внезапно погас свет. Как вскоре выяснилось, не только в санитарной комнате, но и во всем отделении. Кажется, один из ковбоев у О. Генри расценивал умение побриться в темноте как одну из основных характеристик настоящего мужчины, и могу без ложной скромности признаться, что и мне в молодости случалось проделывать этот в общем-то незамысловатый трюк. Хотя, насколько я понимаю, у американского классика речь все-таки шла о физиономии, а не о паховой области. Памятуя предостережение медсестры, лезть туда на ощупь с бритвой я не рискнул, и пришлось дожидаться рассвета. Впрочем, в июне светает рано, а уснуть мне в ту ночь все равно так и не удалось. Утром мне вкололи какой-то укол, велели раздеться донага, обмотали ноги эластичным бинтом, погрузили на каталку и повезли в операционную. Последнее, что я помню, это как за мной закрылись двери грузового лифта. Не знаю, как у кого, а у меня пробуждение после глубокого многочасового наркоза обычно происходит очень не сразу и в несколько приемов. Сперва окружающие реалии воспринимаются фрагментарно и почему-то в виде каких-то геометрических орнаментов, весьма напоминающих детские калейдоскопы. А потом сквозь них очень постепенно начинают прорисовываться очертания чего-то конкретного и узнаваемого — как правило, уже описанный выше интерьер отделения реанимации. Но на этот раз все оказалось немного по-другому: наряду с цветной мозаикой присутствовали еще и звуки, причем достаточно резкие и неприятные — эдакое непрерывное и пронзительное пиканье. Очнувшись, я сразу отметил, что с большим удовольствием поспал бы еще, но эти навязчивые звуки, раздававшиеся откуда-то сверху и с боков, мешали вернуться в сладостное забытье. Пришлось просыпаться окончательно. Первым более или менее сознательным ощущением было то, что чувствую я себя в целом неплохо, и в моем еще затуманенном мозгу даже мелькнула мысль: а не попробовать ли мне встать? Но более тщательно прислушавшись к своему организму и немного оглядевшись, я понял, что от этой волюнтарной и чересчур самонадеянной затеи скорей всего придется отказаться. Наверно, со стороны я представлял собой впечатляющее зрелище: я лежал на спине в чем мать родила, через все брюхо шел длиннющий косой разрез от солнечного сплетения до правого бедра, заклеенный каким-то хитрым сетчатым пластырем, на морду надета мешающая дышать кислородная маска, в член вставлен катетер, ведущий к переполненному мочесборнику, из правого бока торчат две дренажные трубки, откуда розоватая и весьма неаппетитная на вид жидкость капает в какой-то сморщенный мешочек, под ключицей левой руки вставлен еще один катетер, к которому подключена капельница, а другую руку каждые три минуты сжимает аппарат для постоянного измерения давления, соединенный с монитором, расположенным прямо у меня над головой. Он-то и был источником этих неприятных звуков. Вернее, даже не он, а они, потому что точно такие же мониторы стояли над койками моих соседей по отделению, и все они (разумеется, мониторы, а не соседи) непрерывно пищали. По идее, они должны были пищать, только когда показатели давления оказывались выше или ниже каких-то критических значений, но, как мне объяснили позже, в тот день вся эта система почемуто вышла из строя и аварийная сигнализация срабатывала после каждого замера независимо от его результатов. Бедные медсестры, ругаясь на чем свет стоит, метались от одного больного к другому и пытались ее отключить, но каждые три минуты она начинала пищать снова. В отделении реанимации я провел пару дней, пребывая преимущественно в полузабытьи, сквозь которое время от времени прорывались какие-то дурацкие поэтические строчки — что-то вроде: «Доктор, доктор, на хрена ж ты поставил мне дренаж?» Затем меня перевели в обычное отделение, а еще через пару дней я уже помаленьку начал вставать, хотя слабость во всех членах ощущал неимоверную. Особых страданий благодаря антибиотикам, снотворным и обезболивающим я не испытывал, рана моя, несмотря на одуряющую жару и диабет, заживала как на собаке, и где-то на десятый день мне сняли швы и с божьей помощью выписали домой. Тем более что наступила пора отпусков, и институт вообще закрылся на летние каникулы. Словом, если бы меня в тот момент спросили о моих впечатлениях обо всем этом мероприятии в комплексе, я мог бы с чистой совестью ответить примерно так, как тот мужик в курилке. И дела шли бы совсем замечательно, но тут, очевидно воспользовавшись послеоперационным истощением организма, во весь голос начала заявлять о своих правах моя мерцательная аритмия и разгулялась не на шутку. Она отравляла мое существование ежедневно, пульс то скакал от 40 до 240 ударов в минуту, то вообще куда-то исчезал (а это, смею уверить читателя, чрезвычайно утомительно и неприятно), а несколько раз пресловутые пароксизмы оказывались настолько интенсивными, что приходилось вызывать «скорую» и снова отправляться в кардиореанимацию. Подолгу я там, конечно, не задерживался, но и сильно лучше мне не становилось. Разумеется, такое положение дел меня устроить не могло, и я начал нахально приставать к врачам с требованием как можно скорей прекратить это безобразие. Мнения врачей, как водится, разошлись. Одни авторитетно заявляли, что мне необходимо в обязательном порядке ставить кардиостимулятор, а другие не менее уверенно утверждали, что этого делать ни в коем случае нельзя, и в обоих случаях оппоненты аргументировали свою позицию опасностью внезапной остановки сердца и тромбоэмболии. Впрочем, если говорить о последней, то Женя Парнес предостерегал меня от нее еще очень давно, и я, по его рекомендации, вот уже лет 15 каждый божий день неукоснительно принимаю аспирин. Вскрытие, безусловно, покажет, к чему это приведет. Короче говоря, чтобы покончить с упомянутой дилеммой, спустя месяц после выписки из института им. Герцена я с подачи все того же Бори Шапиевского был госпитализирован в 20-е кардиологическое отделение 4-градской больницы (где, кстати говоря, почти 50 лет назад и начались мои странствия по медицинским заведениям нашей столицы — см. «Больничные арабески»-1) с целью, как значилось в моем выписном эпикризе, «подтверждения или исключения диагноза СССУ» (синдрома слабости синусового узла). И в зависимости от наличия или отсутствия у меня вышеупомянутого зловредного синдрома должен был положительно или отрицательно решиться вопрос об установке пресловутого кардиостимулятора. О десятидневном пребывании в стенах этой больницы, кроме уже изложенного анекдота про разнорабочего из продуктового магазина, рассказывать особенно нечего. Лечение там было до такой степени необременительным, что я сейчас, как ни стараюсь, не могу даже вспомнить ни внешнего вида, ни имени, ни даже пола своего лечащего врача. В памяти сохранился только образ кастелянши Зои Павловны, которую все больные и в глаза, и за глаза почему-то игриво называли «Скемпопаловна», хотя это была немолодая и непривлекательная женщина с ярко выраженными мужскими интонациями и ухватками. Помню еще, что чувствовал себя все это время довольно паршиво, а если честно, то еле ноги таскал и из-за зверской аритмии не мог даже толком заснуть. Что же касается диагностики СССУ, то этот вопрос решился на удивление быстро и оперативно. Мне было проведено так называемое инвазивное электрофизиологическое исследование (это когда через нос в сердце засовывают какие-то проводки — мероприятие не слишком приятное, но в общем вполне терпимое), которое дало отрицательный результат. В смысле — положительный. То есть пресловутого СССУ у меня не обнаружили и, соответственно, устанавливать кардиостимулятор категорически отказались. Больше в этой больнице мне было делать нечего, да никто и не горел желанием меня там задерживать. Уже прямо перед выпиской заведующая отделением провела со мной беседу психотерапевтического характера, содержание которой сводилось примерно к тому, что я уже не раз слышал от врачей в аналогичных ситуациях: «Мы понимаем, что не сумели вам помочь. Вообще, мерцательная аритмия — заболевание во многом загадочное и до конца еще не изученное. Методика ее лечения до сих пор точно не разработана. Вот когда у вас разовьется СССУ, приходите, поставим вам стимулятор. А пока пейте кордарон и живите как сможете». Я сказал спасибо и отправился домой. Не возьмусь даже предполагать причин этого поразительного явления, хотя уверен, что оно едва ли стало результатом психотерапевтического воздействия, но не успел я выйти за территорию больницы, как сразу же почувствовал себя гораздо лучше. И с того самого дня моя аритмия как-то вдруг резко поумерила свою активность. Нет, она, разумеется, не исчезла совершенно и по-прежнему время от времени (и сейчас, к сожалению, все чаще и настойчивей) напоминает о себе, и рекомендованный кордарон я по-прежнему принимаю внутрь ежедневно. Однако, как бы то ни было, в кардиореанимацию в связи с ней я больше ни разу не попадал. Впрочем, ведь на аритмии свет клином не сошелся — с течением лет подвернулись и другие не менее достойные поводы. В целом же после всех катаклизмов и испытаний 2002 года в моей больничной эпопее наступил небольшой перерыв, и именно на этот период пришелся пик моей ныне безвременно почившей концертно-гастрольной деятельности. Со своими фривольными песенками я побывал в Германии, в Израиле, во Франции, в Канаде, исколесил добрую половину американских штатов, а также немало помотался по родной стране. И хотя гастрольный образ жизни трудно назвать здоровым, мой вновь окрепший организм прекрасно справлялся со всеми его невзгодами и лишениями — нерегулярным питанием, постоянным недосыпом, многочасовыми перелетами и переездами, а главное, с абсолютно неизбежным в таком деле злоупотреблением спиртным предметом. При этом я по мере возможности старался соблюдать предписанные мне ограничения в пище, а также таскал с собой целый аптечный склад всевозможных лечебных препаратов. Вот, к примеру, список медицинского реквизита, который я брал в одну из поездок по Америке: эластичный бинт, глюкометр, тонометр, шприц-ручка, инсулин, тромбоасс, кордарон, аккупро, арифон ретард, ноотропил, курантил, активированный уголь и неизменный анальгин. Как сказалось сочетание соблюдения диетических предписаний и приема многочисленных лекарств с кочевым и богемным образом жизни, покажет опять-таки вскрытие, а мне хотелось бы использовать этот короткий антракт для разговора о диетах и медикаментозном лечении вообще. Сперва о диетах. Имея с отроческих лет, мягко выражаясь, склонность к полноте и будучи крайне недовольным своей фигурой, я тем не менее всегда оставался непримиримым противником любых ограничений в пище и полностью разделял убеждение, прекрасно сформулированное украинской пословицей «що занадто, то не здраво», с которой меня совсем недавно познакомил мой американский друг Леня Вилихин. Помнится, о чем-то в этом роде я вдохновенно витийствовал еще в первых «Больничных арабесках». Хотя, когда у меня обнаружили диабет, я вполне терпимо отнесся к запрету на сладкое — во многом потому, что, как я уже упоминал выше, это не потребовало чрезмерных усилий, — и на заре своей диабетической карьеры никаких других диетических предписаний не соблюдал. Ситуация кардинально изменилась после моего пребывания в 20-й больнице. Приснопамятная заведующая эндокринологическим отделением была не только безусловной антагонисткой применения манинила, но и, находясь на переднем крае медицинской науки, являлась горячей сторонницей новомодной безуглеводной диеты, которая, натурально, выражалась в почти полном отказе от употребления в пищу продуктов, содержащих углеводы, — хлеба, круп (в том числе и гречневой, которую раньше диабетикам выдавали бесплатно), картофеля, макаронных изделий и т. д. Зато безо всяких ограничений можно было жрать белки и жиры — любое мясо, сало, сливочное масло, сыр, сметану и проч. Причем, как объясняла мне заведующая, такая диета не только жизненно необходима для нормализации углеводного обмена, но и, как это ни парадоксально, весьма способствует избавлению от лишнего веса и снижению уровня холестерина, поскольку, когда в организм перестают поступать углеводы, он якобы начинает быстрее «сжигать» жиры. В целом такая диета меня тоже устраивала (я вообще покладистый человек), хотя отказаться от любимых макарон и гречневой каши оказалось уже не так просто. И следует отметить, что поначалу я действительно начал худеть не по дням, а по часам. Правда, как выяснилось позже, это было, по всей видимости, связано с моими раковыми делами, и когда с ними было покончено, я довольно быстро вернулся к прежним габаритам. Что же касается углеводного обмена, то здесь все оказалось не так просто. Первое время сахар в крови у меня на самом деле пришел в норму. Но едва я малость прочухался после всех своих онкологических и кардиологических приключений, он снова неуклонно пополз вверх. На кафедре эндокринологии больницы МПС № 3, куда мне пришлось обратиться ввиду этих неудовлетворительных показателей и где мне в целях снятия чрезмерной нагрузки на единственную почку и печень заменили назначенные в 20-й больнице новонорм и сиофор на инсулин, не рискнули, однако, окончательно дезавуировать безуглеводную диету, хотя и высказали осторожное предположение о том, что полный отказ от углеводов увеличивает мою и без того высокую инсулинорезистентность и, как следствие, повышает уровень глюкозы. Наше дело солдатское — я снова начал (хотя и весьма в умеренных количествах) есть хлеб и макароны, и опять на какое-то время показатели гликемии улучшились. А потом снова ухудшились. И так несколько раз. При этом отследить какую-то периодичность, закономерность или взаимосвязь с нарушением или соблюдением диеты было абсолютно невозможно. Иной раз в застолье позволишь себе три-четыре-пять бокалов «кампари» с апельсиновым соком или даже добрый ломоть пирога — сахар наутро 5,4. А порой неделями «режимишь», кусочка хлеба в рот не берешь, а глюкометр, падла такая, все равно показывает 9–10. Получается прямо как с икотой у Вени Ерофеева. После этих пертурбаций я окончательно и бесповоротно разочаровался в диетолечении и решил на собственный страх и риск похерить все строгие диеты (за исключением отказа от сладкого и мучного) и перейти на режим разумной умеренности. То есть, попросту говоря, не обжираться, но это при моем прекрасном аппетите и при отсутствии жестких регламентаций оказалось нелегко. Бывало, держишься как герой целый день, а часа в три ночи такой нападает жор, что сметаешь все подряд в поистине гомерических количествах. И наконец, когда совсем уже недавно Е.В. Захарова (непревзойденный, кстати сказать, специалист в жанре эпикриза с элементами триллера) диагностировала у меня диабетическую нефропатию, мне был в категорической форме предложен еще один вариант диеты, который достойно увенчал и отчасти подытожил все испытанное мной на этом поприще. Теперь по диабетическим показаниям мне нельзя употреблять углеводов, по кардиологическим — жиров и по нефрологическим — белков. И вдобавок я должен был полностью отказаться от соли. Спрашивается, что же остается бедному еврею? По сути дела, только крепкие напитки. Но очень скоро я обратил внимание на удивительное явление: когда нечем со вкусом закусить, то и выпить не тянет. А в довершение всего по тем же самым показаниям мне необходимо вполне полноценно питаться и ни в коем случае не испытывать чувство голода. Как выражался А.П. Чехов, «с колокольни спрыгни, а в сапоги попади». Но интересней всего, что вот уже почти полгода я эту диету в общих чертах (хотя и без чрезмерного фанатизма) соблюдаю. Каким образом? Спросите у моей бедной жены. Не знаю, как подобный рацион скажется на моем организме в долгосрочной перспективе (если, конечно, таковая у меня еще наличествует) — на эти и многие другие вопросы дать исчерпывающий ответ сможет со временем лишь патологоанатом, — но пока сахар, давление и креатинин у меня более или менее в норме. Словом, по отношению к диетам я оказался в двойственной и противоречивой ситуации — можно сказать, между как минимум двух стульев. С одной стороны, как я уже не раз упоминал, сама идея любого самоограничения и бытового ригоризма мне глубоко чужда и несимпатична. Не потому даже, что это требует самодисциплины и лишает и без того немногочисленных житейских радостей, а потому что, на мой взгляд, человеку не к лицу (да это и бессмысленно) предпринимать какие-то специальные усилия и расходовать душевные силы, ради того чтобы прожить дольше, чем ему предначертано. Хотя, если быть последовательным в этой установке, то тогда по большому счету вообще нет смысла лечиться и обращаться за медицинской помощью, кроме как за избавлением от сиюминутных болезненных ощущений. С другой стороны, у меня никогда не хватало мужества и уверенности в себе противиться доброжелательным, но весьма энергичным настояниям врачей и близких — мне проще соблюдать любую диету, чем вступать по этому поводу в пререкания с окружающими. Тем более что стремление кровь из носу воплощать в жизнь свои идеологические заморочки мне тоже представляется не бог весть какой добродетелью. Опять же и помирать, конечно, пока неохота. Впрочем, тут хрен разберешься, отчего раньше помрешь… В общем, ясности и последовательности в этом вопросе у меня нет никакой — сплошной оппортунизм, соглашательство и приспособленчество. Поговорим лучше о лекарствах, хотя боюсь, что и здесь я едва ли смогу порадовать читателя твердыми убеждениями и активной гражданской позицией. Собственно, проблематика тут во многом схожая и помимо вышеизложенных этических и экзистенциальных соображений вертится вокруг присноактуального софизма post hoc, ergo propter hoc, то есть, переводя сухую латынь в плоскость медицины, если после приема того или иного препарата (или, скажем, после отказа от какого-то вида пищи) больному стало лучше (или хуже), произошло это вследствие упомянутого приема или почему-либо еще? Но сейчас мне бы хотелось поговорить о лекарствах в несколько другом аспекте. Многие мои друзья, глядя, как я стоически колюсь инсулином и горстями жру таблетки, с удручающим постоянством рассуждают о том, насколько вредно, противоестественно и даже безнравственно «глотать всякую химию». Аргументация приводится довольно разнообразная — от примитивных примеров из жизни («моя бабушка никогда не пила лекарств и дожила до 90 лет» или «русский мужик лечился только травами и всегда был здоровым как бык») до высоколобых умствований на всевозможную околонаучную и околофилософскую тематику. Ну, что касается примеров из жизни, то я мог бы заметить, что моя воспетая в песнях и стихах бабушка Ревекка, будучи человеком весьма ипохондрического склада, моментально обнаруживала у себя каждую болезнь, на которую ей жаловались ее родные и знакомые, и со словами «надо а бисэлэ попробовать, наверно, мне тоже поможет» принималась пить все прописанные им лекарства. А в тех редких случаях, когда она почемулибо не находила у себя какой-нибудь болезни, лекарства от нее она все равно пила «на всякий случай» и в качестве профилактики. При этом моя бабушка благополучно и практически никогда не болея дожила до 99 лет — так что делайте выводы. А по поводу разговоров о «противоестественности» мне хотелось бы сказать вот что. Если взглянуть на вопрос шире, то в принципе так называемые синтезированные препараты, по сути дела, ничем не отличаются от натуральных. Натура (в смысле: природа) тоже ведь не стоит на месте, и технический прогресс вполне допустимо рассматривать как продолжение ее естественной эволюции. Поэтому, к примеру, железную дорогу можно с полным основанием считать таким же природным явлением, как, скажем, река, а любой синтезированный препарат, на мой взгляд, — точно такой же продукт эволюции материи, как, допустим, яблоко. Если, конечно, придерживаться материалистических воззрений, а не полагать, что плоды создал Господь, а инсулин — творение грешных и нечистых человеческих рук. Я вовсе не хотел бы выглядеть завзятым «прогрессистом», но стремление «вернуться к истокам и приникнуть к корням», использовать народные средства и рецепты различных целителей и натуропатов мне всегда представлялось своего рода атавизмом и одним из проявлений социальной паранойи. Такой же, как истерия вокруг экологически чистых продуктов и экологии вообще или борьба с курением. Кстати уж о целителях: поистине достойно изумления, почему люди (зачастую вполне здравомыслящие и даже образованные) до такой степени склонны безоглядно доверять всяким, мягко говоря, сомнительным теориям и методам лечения. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что если сейчас объявится учение об исцелении от всех болезней при помощи, скажем, пинков под зад, то при грамотном промоушене оно очень быстро станет не менее популярным, чем уринотерапия, калотерапия, иглоукалывание, лечебное голодание, водолечение и прочие бесчисленные разновидности так называемой нетрадиционной медицины. И более того: найдется немало людей, которых эти пинки под зад действительно исцелят от всевозможных недугов. Как писал Козьма Прутков: «Разгадайте же природу!» Впрочем, развитие такого рода массовой паранойи, наверно, тоже естественно с эволюционной точки зрения… Вот один мой друг и коллега-диабетик напрочь отказывается колоться инсулином, потому что, по его словам, медицине не до конца известно, как этот синтезированный препарат воздействует на психохимию, психофизику и проч. Что тут можно сказать? Разумеется, никто не знает (и, как мне представляется, никогда не узнает) устройства человеческого организма так же точно, как хороший автомеханик знает устройство автомобиля (хотя и здесь до конечного и исчерпывающего знания еще очень далеко, чему каждый автолюбитель может привести немало любопытных примеров). И безусловно, любое вмешательство (как, впрочем, и невмешательство) в работу этого организма — дело темное и во многом непредсказуемое. Медицина не в состоянии в каждом конкретном случае досконально предугадать всех последствий выпитой таблетки, равно как она не может точно предсказать, что произойдет, если эту таблетку не выпить. Все успехи медицины (а список ее благодеяний неблагодарному человечеству мог бы заполнить несколько томов и, вне всяких сомнений, перевесит на беспристрастном безмене истории список ее неудач и преступлений) основываются преимущественно на эмпирическом опыте (который зачастую в прямом смысле слова оказывался «сыном ошибок трупных») и на статистике и достигаются исключительно методом проб и вышеупомянутых ошибок. К примеру, видят медики, что благодаря инсулину подавляющее большинство диабетиков сравнительно благополучно живет десятками лет, а не загибается в три месяца — и слава богу. А уж как это влияет, условно говоря, на генетический код и на прочие тонкие и никому толком не известные материи — дело пока что пятое. И между прочим, кто точно знает, как воздействуют на те же психохимию и генетический код такие, казалось бы, естественные вещи, как съеденное яблоко, ежедневный джоггинг или, допустим, половой акт? Вдруг это еще более вредно? Так что, я считаю, лекарства пить нужно. И нехай, как в моем случае с пресловутым манинилом, это в конце концов может оказаться ошибкой. Во-первых, поди знай заранее, во-вторых, еще неизвестно, что бы со мной было, если бы я его не пил, а в-третьих, пострадать за науку — тоже отчасти благородное дело. Но я, пожалуй, слишком увлекся, и мне давно пора вернуться к своему безрадостному повествованию. Итак, мы остановились на том, что к концу 2002 года я с грехом пополам смог на некоторое время вернуться к активной жизни. Хотя, безусловно, было бы явной натяжкой утверждать, будто бы в этот период у меня не имелось совсем уж никаких проблем со здоровьем. Так, в один из вечеров, вознамерившись по настоянию жены измерить себе давление, я с неприятным удивлением обнаружил, что мой верный тонометр почему-то наотрез отказывается со мной сотрудничать и в качестве результата выдает какую-то невразумительную абракадабру, в то время как проверка аппарата на других членах семьи показала, что он абсолютно исправен и этот отказ применительно ко мне носит избирательный характер. Более того: когда я попытался измерить давление не как обычно, на левой руке, а на правой, он добросовестно и безукоризненно выполнил свои функции. С возрастающим беспокойством я попытался нащупать на своей левой руке пульс, и это тоже окончилось полным фиаско, тогда как на правой он прослушивался вполне отчетливо и недвусмысленно. Через несколько дней по рекомендации и протекции своей старой приятельницы Саши Цой, работающей в отделении функциональной диагностики Боткинской больницы, я отправился на доплерное исследование сосудов, и мой славный послужной список пополнился еще одним неизлечимым заболеванием — окклюзией проксизмального отдела левой подключичной артерии. То есть хирургическими методами (шунтированием артерии) оно в принципе излечимо, но делать такую сложную и небезопасную операцию после всего совсем еще недавно пережитого я не решился. Тем более что органолептически этот недуг не доставлял мне ровным счетом никакого беспокойства — рука не болела, исправно сгибалась и разгибалась, свободно выдерживала нагрузку и т. д., а давление, в конце концов, можно померить и на правой. Опять же и «выраженного обкрадывания левой позвоночной артерии» исследование не обнаружило. Так что это заболевание смело можно отнести к разряду, как сейчас выражаются, виртуальных, чего, к сожалению, совершенно нельзя сказать о тяжелом воспалении легких, которое свалило меня непосредственно во время гастрольной поездки в Киев. Не могу здесь не отметить одного чрезвычайно странного феномена. Разумеется, это никоим образом нельзя считать основной причиной оглушительного провала моего гастрольного проекта, но факт остается фактом: практически в каждой точке земного шара, куда я приезжал с концертом или даже без такового, незамедлительно происходило какое-то крупное (о мелких я уже не упоминаю) неприятное событие — природный катаклизм, серьезная авария или что-либо еще. Причем, как правило, это событие в той или иной форме способствовало срыву намеченного культурного мероприятия. Так, когда я летом 1996 года приехал в Англию на традиционный кембриджский семинар европейских писателей (где, к моему изумлению, почему-то преобладали представители ЮгоВосточной Азии, один из которых каждый раз при встрече обращался ко мне с загадочным приветствием «хай, соль зенидзин», и я далеко не сразу догадался, что он принимает меня за единственного известного ему русского писателя — Солженицына), то там с первого и до последнего дня моего недельного пребывания стояла дикая жара под 40 градусов, каковой не было отмечено за всю историю наблюдений за температурой на Британских островах. В 2003 году в тот самый день, когда я прибыл с концертом в скромный городок Рочестер на севере США, скоропостижно скончался всеми любимый руководитель русской общины, в результате чего число слушателей на моем концерте было чисто символическим. В том же году с датой моего концерта в Кливленде совпало крупнейшее в мировой истории отключение электричества, полностью обесточившее все северо-восточные штаты, и концерт, естественно, был отменен. А осенью этого же года в день моего концерта в Питере на город обрушился такой шторм со снежной бурей, что бóльшая часть публики просто не смогла добраться до концертного зала. Забавный инцидент имел место в 2004 году в весеннем Иркутске, где, между прочим, тоже произошла снежная буря — правда, тут природа слегка промахнулась, и буря пришлась на следующий день после концерта. А сам инцидент оказался, пожалуй, единственным случаем в моей практике, когда непредвиденная неприятность обернулась почти аншлагом. Дело обстояло так. За сутки до концерта, который должен был состояться в помещении иркутского Театра юного зрителя, я в рекламных целях выступал на местном телевидении и на нескромный вопрос ведущего, правда ли, что я употребляю в своих песнях ненормативную лексику, скромно признался, что да, иногда в целях большей художественной выразительности употребляю. Кто ж мог знать, что эту передачу посмотрит живущий в Иркутске знаменитый писатель, хранитель русской старины и блюститель чистоты нравов Валентин Распутин? Разумеется, как почетный гражданин города он не мог допустить, чтобы в стенах Театра юного зрителя (где, кстати сказать, основную часть репертуара составляли его пьесы) звучали нецензурные выражения, да еще и в устах заезжего барда с одиозной внешностью и фамилией. Разгневанный писатель, совсем недавно получивший в Кремле Государственную премию в области литературы и искусства, безотлагательно позвонил домой директору театра, тот взял под козырек, в свою очередь позвонил организатору концерта Володе Демчикову и сказал, что отказывается предоставить помещение. Тут надо отдать Володе должное: за половину следующего дня он не только сумел перенести концерт в зал иркутской филармонии, но и с блеском организовал скандальную пиаркампанию с публикациями в местных газетах, пресс-конференцией, радио- и телеэфирами. Весть о том, что в филармонии выступает «запрещенный» бард с матерными песнями, разнеслась по всему городу, и зал вопреки нашим ожиданиям был почти полон. Эх, так бы везде! Если бы в каждом городе, где я выступал, нашелся свой Валентин Распутин и свой Володя Демчиков… И вот теперь Киев, 2005 год. Опять весна, опять снежная буря и пронизывающий ветер и вдобавок воспаление легких, с которым я провалялся пластом еще две недели после возвращения из «матери русских городов». Впрочем, сам концерт, несмотря ни на что, оказался довольно успешным. Зато пресловутое воспаление не прошло бесследно и стало косвенной причиной очередной занимательной медицинской истории. Началась она чрезвычайно банально: уже ближе к лету я, принимая душ, поскользнулся на кусочке мыла и со всего размаха долбанулся спинозой о край ванны. Ну, долбанулся и долбанулся — дело, в сущности, житейское. Это, как говорится, «многих славных путь», и мужчине не пристало придавать таким вещам большого значения. Конечно, болит зверски, можно сказать, ни встать, ни сесть, ни даже лечь невозможно, но ничего, поболит — пройдет. Однако не проходит. Встревоженная Мариша говорит: надо ехать в травмопункт, сделать снимок. Ехать решили поздно ночью, чтобы было поменьше народу. Но, увидев на месте нескончаемую очередь из людей с переломанными руками и ногами и вдребезги разбитыми мордами, я понял, что пробиться к травматологу в обозримом будущем едва ли удастся, и приватным порядком договорился в рентгеновском кабинете, чтобы мне просто сделали снимок. С этим снимком и обнадеживающим заключением рентгенолога «у вас там нехорошо» мы наутро отправились в больницу им. Боткина, где Саша Цой устроила мне консультацию с местным травматологом, который, будучи чрезвычайно занятым, смог уделить мне буквально три минуты. Мельком взглянув на снимок и крайне нелестно отозвавшись о его качестве, он уверенно сказал: «Компрессионный перелом 8-го позвонка. Необходима срочная госпитализация. Не вставать с постели как минимум два месяца. Лежать только на животе. В противном случае не исключен паралич и полная неподвижность». Такое развитие событий меня никоим образом устроить не могло, поскольку через три недели я должен был отправляться в очередное гастрольное турне по США. Уже были получены визы, куплены билеты, назначено и объявлено больше десятка концертов. Поэтому от госпитализации я твердо отказался, но для страховки мы решили сделать более качественный снимок в «хорошей» платной поликлинике и сдуру обратились в клинику «МераМед», специализирующуюся, как утверждалось в интернет-рекламе, на болезнях опорно-двигательного аппарата. Как сейчас помню, было это в пятницу. Конечно, по сравнению с убогими интерьерами государственных лечебных учреждений помещение клиники производило сильное впечатление: сплошные зеркала, ковры, мрамор, кожаные кресла и вообще бонтон и обстановка. У самых дверей мы были встречены бойкой и обходительной девушкой, которая, представившись и сообщив, что ее обязанностью является сопровождение клиентов на протяжении всего времени их пребывания в клинике, осведомилась о цели нашего визита и первым делом провела нас к кассе, где мы выложили изрядную сумму. Затем со словами «посидите минуточку, я за вами вернусь» она исчезла из нашей жизни навсегда. Около часа мы как идиоты ждали ее напротив кассы, а потом, проклиная все на свете, потащились самостоятельно искать рентгеновский кабинет. Помыкавшись по всем пяти этажам, мы наконец его нашли, и после сравнительно недолгого сидения в очереди мне там сделали снимок грудного отдела позвоночника и снова вежливо предложили «посидеть минуточку». Кстати сказать, именно в эти минуты мне впервые пришло в голову, что в российских медицинских учреждениях каждый этап обслуживания непременно сопровождается продолжительным ожиданием не только из-за организационной бездарности и извечного нашего неуважения к человеку, но отчасти и для того, чтобы у него было время подумать о бренности своего существования и хрупкости своего организма. Словом, прошло еще около часа, пока ко мне не подошла девушка, очень похожая на ту, что встретила нас у входа, но все-таки другая, и сказала, что со мной хочет побеседовать заведующий отделением. Я даже обрадовался, потому что, честно говоря, уже и сам испытывал горячее желание с ним побеседовать, дабы нелицеприятно высказать этому руководящему работнику все, что думаю по поводу соотношения цены и качества услуг в клинике «МераМед» — и, сардонически улыбаясь, вошел к нему в кабинет. При взгляде на этого долговязого и нескладного парня мне сразу же бросилась в глаза его не вполне соответствующая должности молодость, каковая сама по себе, разумеется, не порок, но в отдельных случаях все же вызывает некоторые опасения. Ему было от силы лет 25, а скорей всего и того меньше. Держался он, впрочем, невероятно солидно и с каким-то, я бы даже сказал, скорбным апломбом. И не успел я разразиться своими филиппиками и сарказмами, как он монотонным голосом поведал мне примерно следующее: да, имеет место компрессионный перелом 8-го позвонка, но это сущие пустяки — гораздо хуже, что рентгеновское обследование показало обширные метастазы в обоих легких, и он как врач не считает себя вправе это от меня скрывать. Первой моей реакцией на такое интересное и обнадеживающее сообщение было то, что боль в спине моментально исчезла (и, замечу в скобках, не возвращалась на протяжении двух лет) — словно рукой сняло. Как ни крути, а шоковая терапия — великая вещь. Второй, более естественной реакцией была фраза: «Вы уверены?» «К сожалению, ни малейших сомнений тут быть не может, — твердо промолвил юноша, — и, по всей видимости, это четвертая стадия». Не буду описывать, с каким приподнятым настроением прошли у нас выходные. Достаточно сказать, что Мариша, незадолго до того с таким трудом бросившая курить, немедленно закурила снова и с остервенением продолжает это делать до сих пор. А в понедельник мы, натурально, ринулись в родной институт им. Герцена и, потрясая снимками, прорвались к нашему доктору Алексееву, который, посмотрев на них, сказал, что никаких метастаз он тут не видит, но от греха подальше лучше сделать новые, уже в институте, так как качество принесенных нами не выдерживает никакой критики. Разумеется, мы (заплатив бешеные деньги) их сделали, после чего окончательно стало ясно, что рака легких у меня пока еще нет, а то, что в «МераМеде» столь однозначно приняли за метастазы, было рубцом от недавно перенесенного воспаления легких. Такие дела, как в подобных случаях говаривал К. Воннегут. Усталые, но довольные, мы вернулись домой… Вся эта история несколько напоминает старую и всем известную еврейскую притчу про козу. Сначала заплатить большие деньги за неправильный диагноз, потом еще бóльшие — за его отмену, и жизнь снова прекрасна. Окрыленный, я укатил в свою американскую поездку, которая оказалась рекордной для меня по числу концертов, переездов и количеству выпитого в промежутках. И за все ее время ни один из моих многочисленных недугов, включая и совсем еще свежий перелом позвоночника, ни разу не напомнил о себе. Поэтому я до сих пор толком не знаю, как мне относиться к рекомендациям и прогнозу травматолога из Боткинской больницы. С одной стороны, опытный врач вроде бы не мог так сильно ошибиться, а с другой стороны, факт, что называется, говорит сам за себя. Может, действительно снимки были плохие… Между тем настал незабвенный и еще, к сожалению, не закончившийся 2007 год. К тому времени моя концертная деятельность была уже в общих чертах бесславно завершена, и сам я пребывал в глубоком творческом кризисе и, как выражался Гамлет, «в бесплодье умственного тупика». Собственно говоря, к творческим кризисам у меня отношение в целом здоровое, и я по возможности стараюсь избегать каких-то форс-мажорных мер для их преодоления. Где-то я даже упоминал, что это в принципе штатное и перманентное состояние для любого творческого человека. И более того: если творческий человек почему-либо не считает, что он находится в кризисе, то это выглядит по меньшей мере подозрительно. Вдобавок, сочинив какую-то вещь, я всегда сомневаюсь, смогу ли я сочинить чтонибудь еще. Мне никто не обещал (да и я никому не обещал), что мои безответственные экзерсисы будут продолжаться бесконечно. Когда-то они вполне могут и завершиться, и к этому событию нужно постоянно быть готовым. В общем-то, о грустном уже можно, но все-таки подождем еще немного… Однако рассуждения рассуждениями, а положительных эмоций от такого состояния, как ни крути, не прибавлялось. Паршивое настроение усугублялось еще и тем, что перед самым Новым годом нелепо погиб Колька Страчук, с которым мы дружили 45 с лишним лет — со второго класса. К тому же и чувствовал я себя хреновато: сердце побаливало, давление прыгало, от постоянного сидения за компьютером ноги распухали так, что я с трудом влезал в обувку. Зима тянулась долго, тоскливо и както безыдейно. Поэтому, едва только повеяло первым весенним ветерком, мы с Маришей подумали, что было бы невредно слегка проветриться, для чего в оздоровительных и тонизирующих целях вознамерились провести уик-энд на даче у своей давней подруги. Прибыв на место в пятницу вечером и немного опьянев от свежего воздуха и греющей душу компании друзей юности, я (старый козел) настолько раздухарился и до такой степени возомнил о себе, что отправился с одним из них играть в пинг-понг, стол для которого находился в довольно тесном помещении, где вдобавок стояли еще какие-то посторонние предметы мебели. Надо сказать, в молодости я сравнительно неплохо владел ракеткой и вообще не без успеха подвизался во всевозможных спортивных играх (см. «Искусство первого паса»). Разумеется, я понимал: возраст, отсутствие практики и сидячий образ жизни не могут не сказаться на игровых навыках и координации движений — но все-таки не предполагал, что до такой степени. Словом, через несколько минут игры я чересчур стремительно рванулся за шариком к краю стола, нога моя вылетела из шлепанца и я своими тогдашними почти 100 килограммами со всего размаху грохнулся боком на стоявший неподалеку журнальный столик, который, натурально, рассыпался на фрагменты. Перепало при этом и мне — во всяком случае, когда я с трудом поднялся на ноги, то ни секунды не сомневался, что в очередной раз сломал ребро, а может быть, и не одно. Вся соответствующая симптоматическая картина была налицо: ни встать, ни сесть, ни смеяться, ни даже глубоко вздохнуть я был не в состоянии. Но этим наши семейные оздоровительные мероприятия отнюдь не ограничились. На следующее утро, пока я отлеживался в койке, Мариша пошла прогуляться по поселку, и в процессе этой прогулки ее совершенно неспровоцированно укусила за ягодицу какая-то подозрительная собака, и таким образом на знаменитой любимой попе появился еще один шрам. В общем, с дачи мы оба отправились прямиком в травмопункт, где Марише вкололи укол от бешенства, а мне сделали снимок, который вместо ожидаемого перелома зафиксировал только «обширный ушиб правой стороны грудной клетки». Впрочем, врач сказал, что он на моем месте предпочел бы перелом, и бодрым голосом пообещал, что болеть будет долго и сильно. Опытный хирург не ошибся: болело и вправду долго и достаточно сильно. Особенно проблематичным было в лежачем положении перевернуться с боку на бок, а поскольку я во сне всегда много ворочаюсь, то спать не было никакой возможности из-за острой боли при каждом повороте. Вследствие чего я малодушно и в лошадиных дозах употреблял анальгетики, и это, по всей видимости, сыграло немаловажную роль во всех моих дальнейших злоключениях. Тем более что едва только стали проходить мои боли в правом боку, как непонятно отчего вдруг начались не менее интенсивные боли в левом подреберье, которые Женя Парнес диагностировал как межреберную невралгию и прописал мне еще более сильный анальгетик — кетонал. Это средство действительно прекрасно помогало — боль исчезала через несколько минут после приема, — но действовало очень недолго. Таблетки хватало часа на три-четыре, и можно легко сосчитать, сколько штук мне приходилось сжирать за день. И вот в один из таких дней, когда проклятая невралгия понемногу уходила в прошлое, я с утра вдруг обратил внимание на то, что уже очень давно, пардон, не мочился и даже не испытываю к этому насущному делу ни малейших позывов. Я попытался припомнить, когда справлял малую нужду в последний раз, и не сумел — похоже, это было никак не менее суток назад. Не могу сказать, что я очень сильно обеспокоился по этому поводу, поскольку чувствовал себя абсолютно нормально и никакого дискомфорта в мочеполовой сфере не испытывал. Тем не менее я по настоянию Мариши на всякий случай позвонил Жене Парнесу и Боре Шапиевскому и был чрезвычайно удивлен их категорическими рекомендациями немедленно вызывать «скорую». Приехавшая милая женщина первым делом вставила мне в член катетер, но это ни к чему не привело — мой мочевой пузырь был пуст, как пересохший колодец. Поэтому ей не оставалось ничего другого, как транспортировать меня в 50-ю больницу, на чем, кстати, настаивал и относительно недавно перешедший туда из 20-й больницы Боря. Но, несмотря на то что я не стеснялся всячески афишировать свое хорошее знакомство с ним, это никоим образом не отразилось на отношении к моей скромной персоне в приемном отделении. Достаточно сказать, что меня (поступившего, между прочим, по «скорой») продержали там без преувеличения около восьми часов, и мы с бедной Маришей, которая, конечно, поехала со мной, совершенно дошли до ручки. Нет, конечно, все эти часы я не только бездарно просидел в разных очередях, хотя это времяпрепровождение, безусловно, преобладало, — мне делали всевозможные анализы и обследования, меня осматривали врачи разного профиля, — но дело почему-то не двигалось с места. Насколько я понимаю, докторов сбивало с толку несоответствие моего хорошего самочувствия и объективных показателей (остановка единственной почки) вкупе с весьма плохими анализами (креатинин — за 700, мочевина — за 30), и вдобавок они никак не могли разобраться, по какому ведомству меня пристроить. Урологи от меня отказывались на том резонном основании, что урология — это по определению наука о моче, а если мочи в мочевом пузыре нет, то им остается только для очистки совести слазить по своей профессиональной привычке пальцем мне в анальное отверстие и, как говорится, умыть руки в прямом и переносном смысле. Кардиолог вообще расценил происходящее как последствие якобы перенесенного мной когда-то инфаркта, следы которого он углядел на моей кардиограмме, хотя ни до, ни после него еще ни одному из его коллег этого сделать не удалось. А грамотного нефролога скорей всего просто под рукой не оказалось. Наконец около восьми часов вечера (!) было найдено соломоново решение, и меня доставили во 2-е терапевтическое отделение. Не знаю уж, по счастливому или несчастному стечению обстоятельств, но дежурным врачом в тот вечер была сама заведующая, которая, поговорив со мной и ознакомившись с моими сопроводительными бумагами, заявила, что не может под свою ответственность оставить меня на ночь, и предложила альтернативу: либо отправляться домой, либо — в реанимацию. По-прежнему чувствуя себя абсолютно нормально и к тому же ужасно проголодавшись, я склонялся к первому варианту, но под давлением Мариши все-таки согласился на второй, о чем очень скоро горько пожалел, поскольку не успел я обосноваться в отделении реанимации и съесть выпрошенный у санитарки кусок черного хлеба, как на меня набросились три молодых и горячих уролога (один из которых так энергично отказывался от меня в приемном отделении) и с каким-то, я бы сказал, садистическим азартом, с нецензурными криками и кровью вонзили в мой многострадальный член катетер, раза в три больший по диаметру, чем тот, что мне вставляла врач скорой помощи. Боюсь, у меня не хватит художественного дарования описать, до какой степени это было болезненно и неприятно. После того как я стоически вынес эту зверскую процедуру, меня принудили выпить два литра воды, поставили капельницу и бросили на произвол судьбы. Слегка придя в себя после перенесенного насилия над моей гордой личностью, я, чтобы отвлечься от болезненных ощущений и некоторого душевного потрясения, со свойственным художнику любопытством начал глазеть по сторонам. На койке слева лежал маленький сморщенный старичок. Он был в беспамятстве и, судя по всему, умирал. Из оскаленного беззубого рта вырывались невнятные хрипы и стоны, время от времени все тело передергивала судорога. Ни врачи, ни медицинский персонал к нему даже не подходили, да и скорей всего едва ли могли бедняге чем-то помочь. В противоположность ему мой ровесник, лежавший на койке справа, на первый взгляд производил впечатление вполне здорового человека, если бы не его ужасная, неестественная бледность. Он был в полном сознании, и мы с ним перекинулись несколькими словами. Похоже, он не испытывал особых физических страданий, но по всему его телу из-под кожи непрерывно сочилась кровь, хотя никаких ран не было видно. Каждый час сестра приходила менять ему насквозь мокрую красную простыню. Я не осмелился спросить, как называется его болезнь. Какой же невероятной изобретательностью должен был обладать Создатель, чтобы придумать для несчастных тварей своих такое количество страшных и мучительных недугов! Поневоле в голову закрадывается крамольная мысль: не лучше ли было употребить эту изобретательность на что-нибудь, как сейчас говорят, более креативное? Простите, больше не буду — вырвалось… Мироустройство ему, засранцу, видите ли, не нравится… Между тем ближе к утру чувство голода стало уже совсем нестерпимым — все-таки почти сутки не жрамши, а нам, диабетикам, это не полезно. Зато примерно в это же время появились результаты проделанных надо мной врачебных манипуляций. Я наконец почувствовал уже слегка подзабытые позывы к мочеиспусканию, и моча пошла — причем настолько интенсивно, что в очень короткий срок я без особых усилий выдал на-гора и, как выразился один из пресловутых урологов, «в закрома родины» литра три. Немного, правда, смущал ее рыжевато-розоватый оттенок, но я сообразил, что это там все расцарапали во время вышеописанного насилия. Часам к десяти мне наконец дали перекусить и, главное, освободили от причинявшего неизъяснимые мучения катетера, после чего я окончательно воспрял духом и стал активно проситься на выписку, не слишком понимая, за каким, собственно, тут нахожусь. Врачи в принципе не возражали, но попросили немного подождать — меня должен был осмотреть специально вызванный заведующий урологическим отделением, и вскоре он действительно появился. Это оказался превосходно выбритый, благоухающий дорогим одеколоном, тщательнейшим образом одетый и причесанный джентльмен очень, надо сказать, преклонных лет. После того как он с явным удовольствием и знанием дела провел мне ректальное обследование, между нами произошел нижеследующий весьма интересный диалог: — Ну-с, Анатолий Александрович, — внушительно произнес он, присев на койку, — я ознакомился с вашей историей болезни… — Простите, но меня зовут не Анатолий Александрович, — слегка оторопев, попытался вставить я. — Анатолий Александрович, вы производите впечатление интеллигентного человека, имейте же терпение не спорить и выслушать того, кто гораздо старше вас… — Ради бога извините, но мне все-таки кажется, что вы принимаете меня за кого-то другого… — Я не привык, чтобы меня перебивали, — еще спокойно, но уже начиная раздражаться, сказал он. — Послушайте. Многие думают, что доброкачественная гиперплазия предстательной железы — это пустяки. Тогда как на самом деле это чрезвычайно опасное заболевание, чреватое самыми серьезными последствиями… — Абсолютно с вами согласен, но, по-моему, произошла какая-то путаница. Я — не Анатолий Александрович … — Не могу понять причин вашего упрямства и не намерен продолжать разговор в таком тоне, — не выдержал он. — Если вы не хотите слушать меня и собираетесь устраивать балаган из врачебного осмотра, то мне и подавно есть чем заняться. Будьте здоровы. Он с негодованием встал с моей кровати, одернул белоснежный халат и оскорбленно удалился. Я до сих пор не могу взять в толк, каким образом произошло это загадочное qui pro quo: может быть, уважаемому урологу в спешке дали чью-то другую историю болезни или у него не все в порядке со слухом, а он (опять же в спешке) забыл свой слуховой аппарат, — но в любом случае его гипертрофированное чувство собственного достоинства вызывает глубокое восхищение. А меня тем временем перевели обратно во 2-е терапевтическое отделение, где, похоже, не очень хорошо себе представляли, что со мной делать дальше. То есть мне исправно давали какие-то лекарства, ставили капельницы, регулярно делали анализы (результаты которых день ото дня стремительно улучшались), однако установить точный диагноз явно затруднялись. Молоденькая и очень хорошенькая докторша, чьему попечению я был вверен, при каждом разговоре со мной выдвигала новые гипотезы, но выражалась настолько туманно, уклончиво и неопределенно, что понять ход ее врачебной мысли не было никакой возможности. Ясно было только одно: она считала, что я очень серьезно болен, и выписывать меня в обозримом будущем не собиралась. При этом я по-прежнему чувствовал себя прекрасно (в частности, немало приятных минут доставляла вновь обретенная способность к мочеиспусканию), а моя невралгия уже совсем к тому времени меня не беспокоила. Маясь от вынужденного безделья и имея нездоровую склонность к систематизации, я бессонными ночами составил своего рода мартиролог — список около 100 моих родственников, друзей и знакомых, перешедших к тому моменту в мир иной. Одно время я даже хотел включить его целиком в данное произведение, но потом решил, что это все-таки будет стилистическим излишеством. По завершении сего титанического труда я окончательно осознал, что мое пребывание здесь лишено всякого смысла, и, подписав бумажку об отказе от дальнейшего лечения, без сожаления покинул гостеприимные стены 50-й больницы, тем более что дома меня с нетерпением ждала очередная редакторская халтура, которую я должен был срочно сдавать. Однако Мариша, крайне напуганная всем произошедшим, а также невнятными, но многозначительными опасениями врачей, безусловно, не могла оставить это дело без последствий. Мы стали в экстренном порядке искать «хорошего нефролога» и довольно быстро (через отца подруги нашей дочери — моего собрата по литературным штудиям и удаленной почке) нашли. Им оказалась заведующая нефрологическим отделением больницы им. Боткина и, как выяснилось позже, дочь знаменитого переводчика «Улисса» В. Хинкиса Елена Викторона Захарова. Надо сказать, самое начало нашего знакомства с ней никоим образом не предвещало тех дружеских отношений, в которые оно очень скоро переросло. Нас приняла в своем кабинете суровая и чрезвычайно уверенная в себе женщина, с первых слов заявившая, что ввиду чрезвычайной занятости может нам уделить не больше пяти минут (позже, проведя в ее отделении в общей сложности около месяца, я имел возможность убедиться, что нагрузка у Елены Викторовны и впрямь сумасшедшая). Будучи несколько задет таким нелюбезным приемом, я начал мямлить что-то невразумительное и даже, как всегда в подобных случаях, позволил себе какие-то не совсем уместные юмористические замечания на отвлеченные темы, но был резко прерван многозначительным взглядом на часы. Тогда я окончательно решил обидеться и со словами «здесь все написано» протянул свою выписку из 50-й больницы. К моему несказанному удивлению, едва только Елена Викторовна (в дальнейшем для краткости ЕВ) взглянула на мое скромное имя, как в ней произошла разительная перемена. На лице появилась приветливая улыбка, и уже совершенно другим тоном она сказала: «А ведь я знала, Марк Иехиельевич, что рано или поздно вы ко мне придете, — я жду вас уже несколько лет». И тут выяснилось, что ЕВ — большая поклонница моих переводов из Брассенса, с которыми познакомилась благодаря своей дочери, живущей в Канаде и побывавшей на моем концерте в Монреале. Я смутно припомнил, что действительно после этого концерта ко мне в кулуарах подходила какая-то милая девушка и советовала обратиться со своими болячками к ее матери — наверно, я что-то ляпнул со сцены про диабет и удаленную почку. Кажется, она даже дала мне бумажку с именем и телефоном, но я, разумеется, пропустил это мимо ушей, а бумажку в гастрольной суматохе потерял. И вот надо же — такое совпадение. Конечно, теперь, когда идентификация состоялась, о пяти минутах речи уже не шло. Мы славно провели около часа, и я помимо прочего был подробно выслушан и подвергнут тщательному осмотру. Тем не менее первоначальное заключение ЕВ о моем состоянии было крайне неутешительным. Весьма неодобрительно отозвавшись о своих коллегах из 50-й больницы, она однозначно диагностировала у меня одну из последних стадий очередной неизлечимой болезни — диабетической нефропатии и как ее следствие так называемую ХПН (хроническую почечную недостаточность), которую нефрологи цинично окрестили «хэппи-энд» ввиду того, что она довольно быстро и неотвратимо приводит к упомянутому концу, каковой только, наверно, от безысходности можно считать счастливым. И перспективы мои в ее, как я сразу понял, смягченном изложении выглядели примерно так: ну, мы постараемся по мере сил замедлить этот процесс, но наши возможности здесь очень ограничены, то, что сморщено (имелись в виду почечные сосуды), уже не распрямить, а потом — диализ, если удастся — пересадка почки, хотя у диабетиков они плохо приживаются и т. д. В любом случае необходимо капитальное обследование в условиях стационара, которое ЕВ (разумеется, безвозмездно) берется осуществить в своем отделении, но в силу различных причин административного характера это может произойти только через месяц. А пока мне была назначена уже описанная жесткая бессолевая диета, а также заменены на престариум все мои прежние гипотензивные препараты. Следует, впрочем, отметить, что это сочетание оказалось в моем случае не слишком удачным. На фоне бессолевой диеты престариум чересчур резко качнул маятник моего давления в противоположную сторону, а при пониженном давлении я чувствую себя значительно хуже, чем при повышенном, — мутит, кружится голова, начинается аритмия и вообще на душе скверно и жить не хочется. Словом, от престариума пришлось вскоре отказаться, тем более что диета и сама по себе превосходно поддерживала мое давление в рамках нормативных значений. Вдобавок благодаря ей я стал стремительно худеть и за месяц легко и непринужденно сбросил около 10 килограммов. По непонятным для меня причинам начали также приходить в норму и капризные показатели гликемии. Конечно, что скрывать, жрать все несоленое, мягко говоря, невкусно, но, по безапелляционному утверждению Ф.М. Достоевского, «ко всему-то подлец человек привыкает», и я, в полной мере будучи таковым, тоже постепенно привык, хотя особого удовольствия в этом не нахожу до сих пор. Правда, были и отдельные неприятные моменты. Не знаю, можно ли это напрямую связывать с отказом от употребления соли, но как раз в то время очнулся от двухлетней спячки мой сломанный позвоночник, про который я уже начал благополучно забывать. Выявилось это при следующих обстоятельствах: как-то прекрасным весенним днем Марише в кои-то веки удалось вытащить меня прогуляться в Ботанический сад. Признаться, я в последние годы стал ужасным домоседом и на улицу выбираюсь крайне редко и неохотно. Но в тот день погода была так хороша, Мариша так настаивала и никаких отмазок вроде бы не подворачивалось, что я подумал: «Пес с ним, пойду действительно проветрюсь немножко» — и согласился. Но уже через пятнадцать минут неспешной ходьбы по тенистым аллеям парка я почувствовал, что спина у меня не то чтобы очень сильно болит, но как-то подозрительно ноет и немеет, а кроме того, слегка кружится голова и ненавязчиво отнимаются ноги. И вообще тянет присесть, а еще лучше — прилечь. Нет, все это было в принципе терпимо, но назвать удовольствием такую прогулку, как ни крути, уже довольно трудно. К сожалению, с того дня подобные симптомы стали возникать у меня уже практически после каждого получаса, проведенного на ногах, и, чтобы разобраться с этим делом, мы отправились в Институт неврологии, где за огромные деньги сделали компьютерную томографию позвоночника и за гораздо более скромную сумму получили консультацию местного специалиста, которая свелась к хорошо мне знакомым выводам о том, что перелом двух позвонков наличествует, что поделать с ним ничего нельзя (то есть можно, конечно, попринимать такие-то и такие-то безумно дорогие лекарства, поделать массаж, поносить реклинатор, но существенных изменений это скорей всего не принесет) и что мне нужно непременно обратиться за экстренной помощью, как только наступит ухудшение. Вот в таком состоянии я и поступил летом 2007 года в отделение нефрологии больницы им. Боткина. И скажу честно: знай я заранее, через какие жестокие испытания мне придется там пройти, я бы очень и очень подумал, стоит ли решаться на этот шаг, и в итоге скорей всего не решился бы. Разумеется, как и предупреждала меня ЕВ, бытовые условия в ее отделении были совковыми в полном смысле этого слова, но нас, людей с устоявшимися демократическими традициями, такими вещами не испугаешь. Опять же отчасти примиряло с язвами действительности то, что я кое в чем мог рассчитывать на неформальное отношение к себе, которое выразилось главным образом в амбулаторном характере моего пребывания — то есть я не проводил в больнице больше времени, чем требовалось для разнообразных обследований, анализов и лечебных мероприятий, и ночевать каждый день отправлялся домой. Тем более что дома было гораздо комфортней собирать суточную мочу и вести пресловутый «Дневник мочеиспускания», каковые захватывающие и, на мой взгляд, весьма располагающие к нарциссизму развлечения занимали теперь изрядную часть моего досуга. А в остальном обстановка в отделении нефрологии ничем существенным не отличалась от того, что я уже не раз описывал на страницах этого произведения. Были, однако, и некоторые характерные особенности. В частности, незабываемые ощущения мне довелось испытать, когда процедурный медбрат Ваня однажды утром ставил мне капельницу, находясь в состоянии тяжелого похмелья и вдобавок со сломанной и загипсованной правой рукой. Вообще, аккуратно и безболезненно «войти в вену» даже на трезвую голову и с двумя здоровыми руками — высокое искусство, которым владеют не многие. Я, например, не стал бы и пробовать. А сделать это трясущейся с бодуна, одной и к тому же «нерабочей» рукой — уже до такой степени эксцентричный tour de force, что его вполне можно показывать за очень хорошие деньги. Конечно, по справедливости следовало бы еще хоть немного приплачивать и тем страдальцам, на ком он проводится, но это уже, как выражался С. Довлатов, «антимарксистская утопия». Словом, не проявив излишней виртуозности и истыкав мне иглой всю руку, Ваня попал в вену раза примерно с пятнадцатого, после чего, раскаянно пробормотав «за такую работу Ивану в анус сунуть вантуз», покачиваясь, направился к следующей жертве. Запомнился мне еще и сосед по койке — совсем молодой парнишка, которого с трудом возвратили к жизни после передозировки героина. Когда на третий или четвертый день он малость пришел в себя и перестал каждые полчаса спрашивать, какое сегодня число и где он находится, выяснилось, что он, по его собственным словам, работает топ-менеджером в одной строительной конторе. И на самом деле: в своих непрерывных разговорах по мобильнику он постоянно упоминал какие-то поставки, консоли, вагоны и авансовые платежи. Все остальное время он посвящал разгадыванию кроссвордов, и постоянство в этом занятии не могло не удивлять, поскольку степень его эрудиции был так феноменальна низка, что я не понимал, как он может отгадать хоть что-то и какое удовольствие в этом находит. Вопросы вроде «великий испанский писатель, автор романа “Дон Кихот”» (из девяти букв, начинается на «с») или «столица европейского государства (из трех букв, начинается на “р”)» повергали его в глубокую и, как правило, безрезультатную задумчивость, а мои подсказки вызывали такое неподдельное восхищение и такой искренний взрыв добродушной самокритики («есть же на свете умные люди, а я мудаком родился, мудаком и помру!»), что становилось даже как-то неловко. Мне бы вовсе не хотелось выглядеть в глазах читателя старым занудой, которого хлебом не корми, а дай смешать с дерьмом «эту пустоголовую юность, идущую нам на смену». Но в последнее время я настолько часто сталкивался с таким удручающим уровнем ее общего развития и с такими, мягко говоря, ограниченными представлениями о мироустройстве и историческом процессе, что огульные инвективы сами просятся на язык. Вот, скажем, недавно отправлял я в своем почтовом отделении небольшую бандерольку в Штаты, а застенчивая юная девушка, сидевшая на приемке, спрашивает: «Каким видом транспорта вы хотите ее отправить — воздушным, морским или наземным?» Я шутки ради говорю, что вроде бы в США наземным транспортом добраться нельзя, а девушка, покраснев и робко потупив глаза, отвечает: «Вы, наверно, смеетесь надо мной — таких мест на свете нет». Или как-то тоже недавно пошел я на Савеловский рынок прикупить дисочек своего любимого Д. Скарлатти. Долго искал по всем лоткам и наконец нашел то, что нужно — замечательный мп3-шник со всеми 83 фортепьянными и клавесинными сонатами. Плохо только, что жулики и аферисты, выпускающие такие мп3-шники, не имеют, сукины дети, обыкновения указывать исполнителей, в то время как продвинутому меломану завсегда интересно, кого он покупает, Владимира Горовица или, напротив того, Артуро Бенедетти Микеланджели. И я, неизвестно на что надеясь, спрашиваю у мужественного юнца, стоящего за прилавком: а как бы, мол, узнать, кто все это исполняет? Тот повертел диск в руках и равнодушно пробасил: «А хрен его знает, сам, наверно, и исполняет». Тут я, совсем уж как дурак, начинаю лепетать: мол, этого не может быть, семнадцатыйвосемнадцатый век, звукозаписи еще не существовало… Но парень уверенно и авторитетно прервал мои досужие разглагольствования: «Не пизди, мужик. Как это — не существовало? А подо что же они тогда зажигали?» Впрочем, справедливости для надо заметить, что эрудиция многих представителей старшего поколения недалеко ушла от их наследников. К примеру, несколько дней назад довелось мне услышать в маршрутке такой разговор двух женщин уже более чем зрелого возраста: — А моя-то дочка, — говорит одна, — совсем срам потеряла. Хахаля себе завела иностранного. Говорит, англичанин. — Ох, — всполошилась другая, — это ж такая бесстыжая нация! Я по радио слыхала, у них праздник есть — всем народом отмечают. Называется, — тут она, округлив глаза, испуганно зыркнула по сторонам и наклонилась к уху своей собеседницы, — «хер вынь». Вроде сейчас и у нас уже его начали отмечать. Слегка обалдев от услышанного, я попытался, как выражаются наши дети, «догнать», какой же из праздников мог дать повод к подобной интерпретации. Мне даже сперва по аналогии с поговоркой «пришел май — хер вынимай», подумалось, не идет ли часом речь о Международном дне солидарности трудящихся. И только потом я сообразил, что здесь, вероятней всего, имелся в виду Хеллоуин. Я от всей души расположен надеяться, что приведенные эпизоды не слишком показательны и не отражают основных тенденций нашего времени. Я в принципе не склонен соглашаться с его незаслуженно суровой оценкой, которую то и дело приходится слышать там и сям: оно, мол, и меркантильное, и бездуховное, и аморальное и все такое. На мой глаз, время как время, и нет в нем ничего особо уж вопиющего к небу. Все, в целом, в пределах нормы. Бывали, как говорится, и хуже времена — слава богу, за примерами далеко в прошлое ходить не приходится. Больше того: я считаю, что людям моего поколения на время жаловаться просто грех. Достаточно сравнить наше относительно безбедное (во всех смыслах) существование хотя бы с тем, что пришлось поиметь нашим родителям или дедам. А мы как-то проскочили… Ну а если жизнь не всю дорогу текла молоком и медом, то в какие ж времена такое было? Да и кто вообще бывал доволен своим временем и считал, что живет в эпоху «века златого»? Разве что комсомольцы 20-х годов по своей непроходимой дури и безграмотности. А между тем обследования двигались своим чередом, мой изможденный творческими неудачами организм изучали вдоль и поперек, и понемногу стало неожиданно выясняться, что дела мои — во всяком случае по линии нефрологии — совсем не так плохи, как предполагалось изначально. В частности, тщательное УЗИ сосудов моей единственной почки не показало практически никакой патологии, и, таким образом, причина ее остановки рассматривалась теперь преимущественно как результат злоупотребления анальгетиками — то есть это скорей всего было разовым эпизодом, а не системным проявлением страшной ХПН. Правда, ЕВ по-прежнему считала, что этот недуг фигурирует в моем анамнезе, но, по крайней мере, до терминальной стадии у меня еще оставалось немного времени. В общем, все были довольны и счастливы, самочувствие мое не оставляло желать лучшего (даже спиноза уже не до такой степени мешала отправлять основные жизненные функции), и недвусмысленно забрезжило впереди скорое возвращение к нормальной жизни. И вот в четверг с утра пораньше мне напоследок предстояло пройти обследование на эластичность мочевого пузыря. После этого я мог с чистой совестью отправляться домой, а в понедельник полагалось уже только приехать за выпиской. Честно говоря, в этом обследовании и особой нужды-то по большому счету не было — проблем с мочеиспусканием (при работающей почке) я не испытывал. Конечно, у меня, как почти у каждого мужчины в моем климактерическом возрасте, имелась аденомка простаты и по ночам раза два-три-четыре приходилось вставать, но вопреки запугиваниям телерекламы это меня совершенно не тяготило. Однако обследоваться — так обследоваться. В назначенный час я приперся в отделение урологии, где мне снова (очень хотелось бы верить, что в последний раз, но этому, увы, едва ли суждено сбыться) ввели в член злосчастный катетер, что буквально в течение суток спровоцировало развитие острейшего простатита. Разумеется, почувствовал я это не сразу и после обследования как ни в чем не бывало отправился нах гауз, но уже к утру следующего дня буквально лез на стенку, а ближе к вечеру Мариша повезла меня обратно в больницу, причем за 15 минут дороги нам пришлось трижды останавливаться по моей неотложной малой нужде. Как правило, я не имею обыкновения бить читателя ниже пояса, хотя иной раз душа так и горит, но при описании острого простатита этого избежать, очевидно, не удастся. Упомянутое весьма тяжелое и мучительное заболевание, носящее, я бы сказал, несколько садо-мазохистический характер, выражается в непрерывном (без преувеличения каждые три-четыре минуты) и нестерпимом желании помочиться, тогда как сам этот процесс сопровождается такой дикой болью, что темнеет в глазах и подкашиваются ноги. К тому же выдавить из себя с огромным напряжением всех душевных и физических сил удается какие-то жалкие капли. Ну и в придачу температура 38-39, озноб, жуткая слабость, выпадение прямой кишки от постоянного напряжения мышц таза и прочие удовольствия. Словом, в должной мере понять мои страдания сможет только тот, кто сам их испытал, хотя, видит бог, я никому этого не желаю. Ситуация усугубилась еще и тем, что, приехав под вечер в больницу, я из ложно понимаемой брутальности постарался по мере сил не обнаруживать, насколько мне хреново, и поэтому уставшая после трудового дня ЕВ ушла домой, не успев оценить всей тяжести моего состояния и оставить соответствующие назначения персоналу. А ближе к ночи терпежу уже не стало никакого, и я начал попросту давать дуба. Сестры вызвали дежурного врача, но пришедший молодой человек с романом Пелевина под мышкой меланхолично сказал, что сам он ничего сделать не может — нужно вызывать уролога, а его сейчас нет, и не будет до понедельника. Так что следующие полтора дня я, находясь в больнице, оставался, по сути дела, без медицинской помощи, и они прошли в безостановочном курсировании между койкой и писсуаром, поскольку не успевал я вернуться в палату из сортира и малость перевести дух после очередного пыточного сеанса, как мне уже снова надо было туда бежать за новой порцией. В воскресенье утром, окончательно дойдя до ручки от непрекращающейся боли, высокой температуры и трех бессонных ночей, я не выдержал и, позвонив ЕВ по мобильнику, вкратце описал свое отчаянное положение. Не предвещавшим ничего хорошего голосом ЕВ сказала: «Бляди, сэр. Сейчас я им позвоню». И тут же, как по мановению волшебной палочки, на меня словно из рога изобилия посыпались капельницы с антибиотиками, обезболивающие уколы, жаропонижающие таблетки. Неизвестно откуда появился дежурный уролог, который, оказывается, существовал в природе. Но самым ценным было то, что одна из сестер наконец принесла мне утку, и я уже мог не бегать ежеминутно в сортир и обратно. В общем, жизнь понемногу налаживалась, хотя частота позывов к мочеиспусканию стала спадать лишь дня через три-четыре, а более или менее сносно я начал себя чувствовать еще позже — когда меня перевели в одноместный бокс. Там я уже до такой степени оклемался, что позволил себе вернуться к умственному труду и в весьма сжатые сроки успел сделать на ноутбуке перевод одной статейки, посвященной чрезвычайно актуальной для меня теме — стратегии и тактике игры в техасский холдэм (это, если кто не знает, одна из основных разновидностей покера). Однако этот бесценный опус был, к сожалению, безвозвратно утрачен вместе с ноутбуком, который неизвестные злоумышленники сперли прямо из моего бокса, пока я выходил покурить. С трудом представляю себе, кто и из каких побуждений мог позариться на этого десятилетнего ветерана и инвалида (красная цена ему была от силы баксов 100) — жалел я, в общем, только о работе, стоившей куда дороже. Но, как вскоре выяснилось, эта мелкая кража оказалась лишь первым звеном в цепи тяжелых материальных потерь, постигших нашу семью в тот и без того трудный период. Спустя всего пару дней на ровном месте и очень капитально сломался Маришин автомобиль (у него полетел электронный блок управления двигателем), ремонт которого, о чем, без сомнения, можно написать отдельную книгу, длился в общей сложности больше трех месяцев и обошелся около 2000 долларов. А еще через пару недель скоропостижно и безвременно скончался и Маришин компьютер — относительно новый, отнюдь уже не дешевый, а главное, абсолютно необходимый для ее профессиональной деятельности агрегат. И в довершение всего (мелочь, конечно, но все равно обидно) сдала Мариша подшить несколько пар своих брюк в какой-то лоток по соседству с домом, назавтра приходит за ними — а лотка-то уже нет, снесли. Но всему приходит конец (кстати, довольно скоро придет он и этому явно затянувшемуся повествованию — осталось потерпеть уже совсем немного): заткнули мы кое-как зияющие прорехи в нашем скромном бюджете, выкарабкался я с грехом пополам из своего незабвенного простатита. Однако злокозненная фортуна никоим образом не собиралась отказываться от своих коварных планов на мой счет. Дело уже снова прямым ходом двигалось к выписке, я долеживал последние дни в боксе и заканчивал помаленьку курс лечения, помимо прочего включавшего препарат под названием «омник», который мне прописал один из лучших урологов больницы доктор Колбасин в целях более интенсивного воздействия на мою поврежденную простату. Среди возможных побочных действий этого препарата фигурирует резкое падение давления, чего, принимая во внимание бессолевую диету, ЕВ на первых порах весьма опасалась. Но все вроде бы, тьфу-тьфу, шло благополучно, и, как и в прошлый раз, она в пятницу отпустила меня домой, с тем чтобы в понедельник уже окончательно и бесповоротно выписать. А между тем в это время в Москве гостил мой американский друг и тезка, замечательный фотограф Марк Копелев, в гостеприимном доме которого я не раз живал во время своих заокеанских гастролей. Узнав, что я наконец на свободе, он пригласил нас с Маришей и нашего общего приятеля, популярного барда и, кстати говоря, бывшего врача, Тимура Шаова отметить это событие в летнем ресторанчике. Опрометчиво полагая себя уже почти здоровым, я с понятным каждому энтузиазмом принял приглашение старого друга. Мне и в голову не могло прийти, что последствия этого культурного мероприятия окажутся такими непредсказуемыми и неприятными, чтобы не сказать сильней. Свидетели не дадут соврать: я выпил всего три маленьких рюмки водки, то есть самое большое грамм сто. Казалось бы, что такое сто грамм для человека, чья толерантность к спиртным напиткам, можно сказать, вошла в пословицу и вполне способного в светлые минуты выжрать литр? Впрочем, все это, конечно, очень относительно, и тут, пожалуй, будет уместным рассказать, как мой хороший друг Томас Вебер, преподаватель русской литературы Франкфуртского университета, консультировался со мной по поводу своих переводов на немецкий уже упоминавшегося Евгения Попова. «Посмотри, Марк, — сказал мне Томас, — вот у него здесь такая фраза: “Он и выпил-то всегонавсего четвертинку водки”. Ведь четвертинка — это 250 грамм. Правильно?» «Правильно», — сказал я. «А “всего-навсего” — это значит “очень мало”. Так?» «Так», — согласился я. «Тогда я совсем ничего не понимаю, — огорчился Томас, — ведь 250 грамм водки — это очень много». Но, как бы то ни было, именно эти жалкие три рюмки на фоне приема пресловутого «омника» и бессолевой диеты стали причиной тяжелого гипотонического коллапса, разбившего меня непосредственно после их принятия внутрь и едва не спровадившего на тот свет. Сперва я просто «почувствовал себя нехорошо» — стало мутить, закружилась голова, прошиб холодный пот. Прекрасно зная свои «питейные» возможности, я не мог расценивать это как проявление опьянения и сразу заподозрил неладное, хотя поначалу старался не обращать внимания. Но с каждой минутой состояние мое ухудшалось — началась сильная одышка и, что паршивей всего, стали отниматься руки и ноги. Плюнув на приличия, я прилег на скамейку, но облегчения это не принесло. Скорей наоборот, дышать стало совсем невозможно, и вдобавок я уже вообще не мог пошевелить конечностями, которые к тому же начали холодеть. Видя, что дело плохо, Тимка (все-таки бывший врач) сгонял за тонометром, благо ресторанчик находился по соседству с его домом. Тонометр нелицеприятно показал 80 на 50, и Тимка решил, что пора вызывать «скорую». Приехавшая немолодая, очень симпатичная и разговорчивая армянка сразу же развила бурную деятельность. Меня общими усилиями перетащили в реанимобиль и там взяли в работу по-настоящему: сделали кардиограмму, что-то несколько раз вкололи в вену и дали кислородную маску — но лучше мне не становилось. При этом я оставался в полном сознании, членораздельно отвечал на вопросы и по своему обыкновению пытался острить, хотя, признаться, особого воодушевления в связи с происходящим не испытывал. Короче говоря, опять привезли меня болезного в родную Боткинскую больницу в отделение кардиореанимации, которым руководит однокурсник ЕВ и мой давний знакомый Борис Марленович Танхилевич, еще несколько лет назад с подачи Саши Цой консультировавший меня по поводу моих сердечных дел. Самого его, впрочем, в это позднее время на месте не было, но Мариша позвонила ЕВ, та позвонила Борису Марленовичу домой, а он — своим подчиненным, и те, прямо как в американском сериале «Скорая помощь», чрезвычайно деловито и профессионально засуетились вокруг моего остывающего тела. А я между тем до такой степени ослаб и замерз, что даже не смог самостоятельно перевалиться с каталки на койку — руки и ноги совершенно вышли из повиновения. Интенсивная терапия пошла полным ходом: тут снова были и уколы, и капельницы, и кислородная маска, и даже грелки, которыми обложили мое уже совсем похолодевшее тело. В один из моментов — когда из обступавшего тумана вдруг вырисовался и склонился надо мной настоящий индус в чалме — я подумал, что уже перехожу в мир иной. Позже оказалось, что это меня осматривал невролог-практикант. Словом, к трем часам ночи я был еще жив и, удивляясь таковому факту, даже не сразу заметил, что стало малость полегче дышать, прошел озноб, согрелись и понемногу зашевелились конечности. И вообще горизонты начали проясняться в прямом и переносном смысле. Светало… Чтобы не томить читателя, признаюсь сразу: фатальный диагноз не подтвердился. Более того, экспресс-исследования и анализы не выявили никаких причин, кроме резко упавшего давления, которые могли бы вызвать подобное критическое состояние. И если при поступлении в больницу № 50 врачей удивляло несоответствие моего хорошего самочувствия и плохих показателей, то теперь ситуация повторилась зеркально: я, можно сказать, помирал, а показатели были в принципе вполне удовлетворительными. Все у меня не как у людей… Хотя в обоих случаях дело кончилось реанимацией, так что в общем и целом справедливость восторжествовала. Причем я и в этот раз не изменил своей достойной, на мой взгляд, всяческого подражания привычке не задерживаться в отделении реанимации более чем на сутки, и наутро меня перевели обратно в нефрологию под крылышко к ЕВ, но поскольку мой бокс был уже занят, поместили в обычную палату. Там, кажется, не произошло ничего, заслуживающего упоминания, если не считать того, что на тумбочке одного из своих соседей, косившего от армии юного красавца и атлета лет 18, целыми днями слушавшего (к счастью, в наушниках) рейв и разговаривавшего исключительно о пописполнителях и «клевых телках», я среди кучи глянцевых «журналов для мужчин» с изумлением углядел «La Divina Commedia» в подлиннике. Несмотря на некоторую слабость в членах, я, как это ни удивительно, чувствовал себя неплохо, но о скорой выписке теперь и сам не помышлял. Мне вообще стало казаться, что провидение по какимто своим тайным соображениям этому противится — не зря же оно с таким упорством каждый раз возвращало меня обратно. Но жизнь брала свое, и, для очистки совести продержав еще с недельку и отменив от греха подальше предательский «омник», ЕВ все-таки отправила меня домой. На прощание она помимо медицинских назначений и диетических рекомендаций выдала мне на руки выписной эпикриз на шести страницах. Признаться, у меня было очень сильное искушение поместить здесь целиком этот леденящий душу документ, который, несомненно, производит значительно более сильное катартическое воздействие, чем любые стилистические изыски и художественные выкрутасы, но я, пожалуй, ограничусь только клиническим диагнозом: «Сахарный диабет II типа, инсулинопотребный, тяжелого течения, субкомпенсация. Диабетическая нефропатия V стадии. Состояние после нефрэктомии справа в 2002 году по поводу cr правой почки. ХПН, консервативно-курабельная стадия. Вторичная гиперурикемия. Диабетическая ретинопатия, ангиопатия. Артериальная гипертензия II стадии, высокого риска. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия II ФК. Мерцательная аритмия, пароксизмальная форма. Атеросклероз аорты клапанного аппарата сердца, сосудов нижних конечностей. Окклюзия левой подключичной артерии. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, острый простатит в стадии обратного развития. Остеохондроз позвоночника, остеопороз. Старый перелом Th-8 и Th-6 позвонков. HCVинфекция вне цитологической активности. Варикозная болезнь нижних конечностей». Уф! Замучился перепечатывать, не говоря уже о тягостных мыслях и предощущениях, которые поневоле вызывает этот скорбный перечень. И вот, стройный как тополь и ломкий как стебель, я вышел из больницы. Будущее и сам факт его наличия представлялись мне по меньшей мере смутно. Я плохо понимал, чего хочу и хочу ли чегонибудь. С одной стороны, мне 54 года и у меня целый букет (см. выше) различных неизлечимых заболеваний, причем непонятно от которого из них и в какой момент ждать фатальной подлянки. С другой стороны, жить вроде бы пока можно, хотя общая усталость от жизни и некоторая апатия безусловно наличествуют, и в принципе я, наверно, не возражал бы «тихо угаснуть», тем более что моя творческая потенция тоже иссякает прямо на глазах. Но удастся это едва ли — «мне и рубля не накопили строчки», а значит, до последних дней придется шустрить и суетиться ради куска хлеба. История настолько тривиальная, что даже не хочется о ней говорить. В общем, все эти более или менее бессмысленные рассуждения, как обычно, свелись к тому, что «жить надо сегодняшним днем», и я по мере сил попытался начать это делать. Первые недели после выписки прошли довольно спокойно. Перепуганная моими летними эскападами Мариша старалась по возможности не оставлять меня одного и каждые два часа заставляла мерить давление и сахар в крови. Да и сам я после всего пережитого и отчасти под влиянием вышеприведенного диагноза особо не рыпался и старался избегать сколько-нибудь резких телодвижений в любом направлении. Но постепенно жизнь входила в прежнюю колею, я понемногу возвращался к трудовой деятельности и помимо редакторской и переводческой халтуры начал исподволь набрасывать в уме наметки этого уже, очевидно, изрядно поднадоевшего читателю произведения. Как-то вечером мы даже пригласили в гости ЕВ с мужем и славно выпили, в процессе чего я с удовлетворением отметил, что моя толерантность к спиртному восстановилась в полном объеме. Все это до определенной степени усыпило нашу бдительность, и к середине сентября мы решили, что после такого тяжелого лета (которое, замечу в скобках, далось Марише не намного легче, чем мне) надо слегка расслабиться и съездить дней на десять на Байкал к нашему другу, уже упоминавшемуся Володе Демчикову. Помимо культурного отдыха я также собирался там вплотную приступить к реализации своих упомянутых творческих планов, для чего мы даже взяли с собой новый Маришин ноутбук, в экстренном порядке купленный взамен почившего. Володя нашел для нас недорогой пансионат на самом берегу знаменитого озера в живописном поселке Листвянка, и первые два дня мы в полной мере наслаждались свежим воздухом, здоровым сном, замечательными осенними пейзажами и dolce far niente. А на третий день мощным фортиссимо грянул завершающий (на текущий момент — ведь проклятый год, напоминаю, еще не закончился) аккорд моих медицинских злоключений. Проснувшись с утра в прекрасном настроении, я неожиданно почувствовал, что у меня слегка побаливает, пардон, левое яйцо. Произведя поверхностную пальпацию, я обнаружил, что оно к тому же затвердело и значительно увеличилось в размерах. По своему обыкновению я сперва попытался не придавать этому значения, но не тут-то было. Болезнь развивалась стремительно и неотвратимо — поднялась температура, боль становилась все сильней, а яйцо распухало прямо на глазах. К обеду я уже не мог ни сидеть, ни стоять, ни тем более ходить. Да и лежать мог только на спине, широко раскинув ноги и высоко подняв колени, а при каждом неосторожном движении испытывал хорошо знакомое каждому игравшему в футбол ощущение, когда тебе по яйцам со всей дури попадают мячом. Ближайший уролог был только в Иркутске, а 60 километров дороги туда я в таком состоянии вынес бы едва ли. Вдобавок наши купленные по льготному тарифу авиабилеты нельзя было поменять, и мысль о том, что придется как-то добираться за те же 60 километров до аэропорта, а потом еще шесть часов сидеть в тесном, как «испанский сапог», кресле эконом-класса, где не представлялось ни малейшей возможности принять единственную доступную мне позу, приводила меня в содрогание. Что делать и чем лечиться, было непонятно. К счастью, у Мариши в мобильнике был телефон незаменимого в таких ситуациях Жени Парнеса. Я позвонил ему и в нескольких прочувствованных выражениях описал свою жуткую симптоматику. Не задумавшись даже на секунду, Женя сказал: «Это у тебя орхоэпидидемит». «При чем тут орфоэпия? — не понял я. — Я же говорю, яйцо распухло!» Теперь не понял Женя, но вскоре недоразумение было устранено. Женя велел пить «таривид» (который мне в тот же день привез из Иркутска Володя), но честно предупредил, что на скорое улучшение рассчитывать не стоит. Как всегда, он оказался прав — все оставшееся время нашего короткого отпуска я, раскорячившись, провалялся в койке и до находившегося в трех шагах сортира добирался чуть ли не ползком. Даже курить не хотелось, а те, кто со мной знакомы, могут подтвердить, что это для меня уже, можно сказать, терминальная стадия. Но спасительный антибиотик делал свое дело, и ближе к отъезду мне все-таки стало чуть полегче — по крайней мере, до такой степени, что, собрав волю в кулак, я смог перенести все испытания и тяготы обратной дороги. В общем, отпуск удался на славу. Кстати уж об антибиотиках и их изобретателях. Какая же, едрена мама, несправедливость! Имена убийц и маньяков, уничтожавших целые народы, знает каждая собака, их биографии подробно изучаются, о них пишут книги, снимают кинофильмы. По каким-нибудь смазливым мальчишкам или девчонкам, умеющим только вульгарно кривляться под фонограмму, сходит с ума полсвета. А имен тех, кто облегчил страдания и спас жизни миллионов людей, не знает ни одна живая душа за исключением специалистов и коллег. И в этом «прекрасном и яростном» мире мы живем и не тужим. Да и где ж другой-то взять?.. Стоп, стоп. Опять повело кота на блядки. Когда все было нормально, сидел и не чирикал, а чуть яйцо у него распухло, так сразу про справедливость вспомнил… И вот я снова дома. Размеры яйца постепенно вернулись к нормативным значениям. Середина ноября. Я сижу за компьютером и без особого энтузиазма дописываю эту книгу. Собственно говоря, она уже совсем подошла к концу, но почему-то это не приносит мне настоящей радости или хотя бы удовлетворения. Вроде бы добавить уже нечего, все или почти все рассказано, но как-то скомкано, неловко, неглубоко и не совсем точно. Впрочем, у меня редко получается по-другому — так что чего уж там… В конце концов, в недовоплощенности тоже есть что-то симпатичное, а на большее мы и не замахиваемся. Ну, и под занавес, наконец, можно о грустном. Хотелось бы ошибиться, но скорей всего я буду уже не в состоянии поведать миру о своих грядущих болезнях и госпитализациях, которые, судя по всему, не за горами. Так что данное произведение при желании можно считать своего рода прощанием с читателем — со слушателем я простился уже давно. А если паче чаяния это прощание почему-либо окажется несколько преждевременным, я уверен, читателю не потребуется чересчур много усилий, чтобы меня извинить. Как ни печально, но жизнь (в том числе и творческая), похоже, все-таки завершается. Но, несмотря на ничтожность сделанного мной, у меня нет ощущения, что я чего-то не успел, хотя многое, конечно, вполне можно было исполнить получше и почище. Жалею я, пожалуй, только о том, что, по всей видимости, едва ли смогу поделиться с читателем впечатлениями о своих последних минутах. Вот это на самом деле было бы интересно и поучительно.