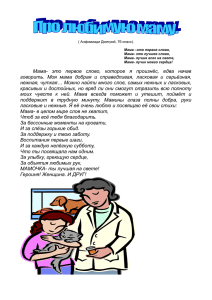Рождение бабушки. Когда дочка становится мамой
advertisement
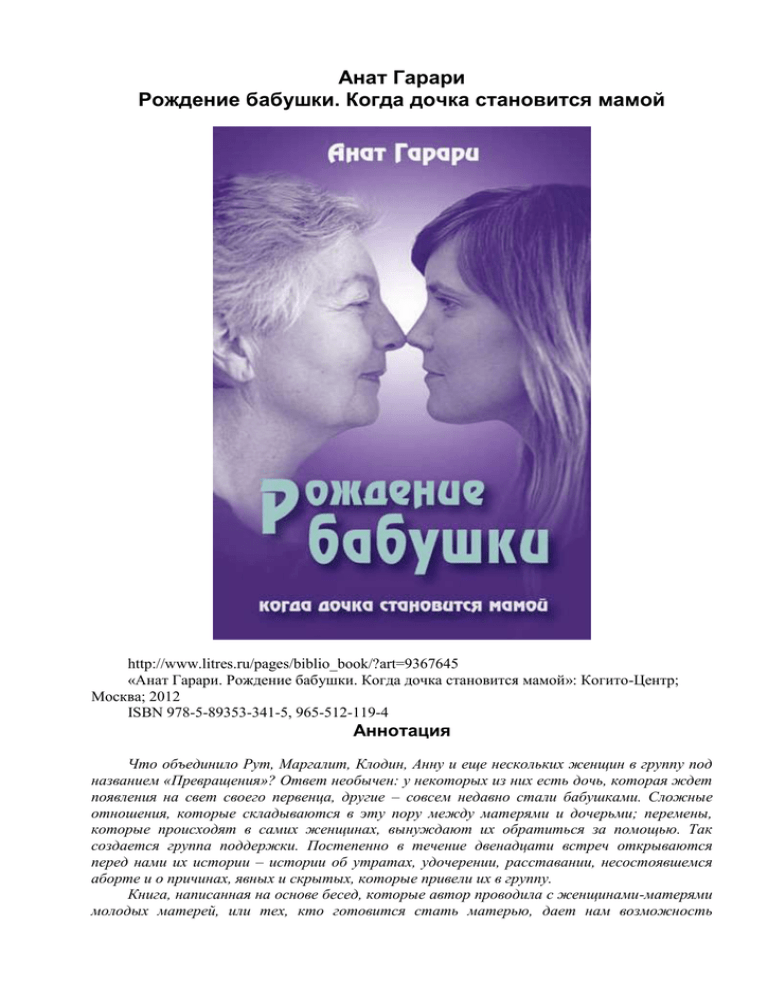
Анат Гарари Рождение бабушки. Когда дочка становится мамой http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9367645 «Анат Гарари. Рождение бабушки. Когда дочка становится мамой»: Когито-Центр; Москва; 2012 ISBN 978-5-89353-341-5, 965-512-119-4 Аннотация Что объединило Рут, Маргалит, Клодин, Анну и еще нескольких женщин в группу под названием «Превращения»? Ответ необычен: у некоторых из них есть дочь, которая ждет появления на свет своего первенца, другие – совсем недавно стали бабушками. Сложные отношения, которые складываются в эту пору между матерями и дочерьми; перемены, которые происходят в самих женщинах, вынуждают их обратиться за помощью. Так создается группа поддержки. Постепенно в течение двенадцати встреч открываются перед нами их истории – истории об утратах, удочерении, расставании, несостоявшемся аборте и о причинах, явных и скрытых, которые привели их в группу. Книга, написанная на основе бесед, которые автор проводила с женщинами-матерями молодых матерей, или тех, кто готовится стать матерью, дает нам возможность заглянуть в мир современной женщины в современной семье. Анат Гарари Рождение бабушки. Когда дочка становится мамой © Anat Harari, 2006 © «Когито-Центр», перевод на русский язык, 2012 Элла и Нири Элла Элла стояла у входной двери и рылась в сумке, пытаясь найти ключ, как вдруг раздался телефонный звонок. – Какого черта я опять поменяла сумку? – пробурчала она, вытаскивая записную книжку и кошелек, чтобы облегчить задачу шарящим в бездонных глубинах пальцам. – Элла, тебе помочь? Ты не можешь найти ключи? – услышала она знакомый голос. – В этой сумке никогда ничего нельзя найти, – отозвалась Элла, не поднимая глаз и не поворачиваясь к Далье, соседке из квартиры напротив, – а тут еще телефон звонит. Далья, растерянная от неожиданной встречи, заметила: – Я слышала, что твоя Эйнав родила, – и замолкла, смутившись, словно мать, ребенок которой только что пролил какао на новое кресло соседей. Элла замерла, чувствуя, как вопрос подруги, которая давно перестала быть подругой, проходит через все слои одежды и впивается прямо в сердце; но уже через мгновение продолжила поиски и, наконец-то, вытащила ключ, который зацепился за красную расческу, лежавшую на дне бокового кармашка. Она, не задерживаясь, открыла дверь, еле слышно бросила «до свиданья» и вошла в квартиру, понимая, что от себя, как от Дальи, не спрячешься и что впереди еще один унылый, бесполезный вечер. Вот уже несколько лет, как Элла избегает любой, даже мимолетной, встречи с Дальей, пытаясь уберечь себя от ее недоумевающего взгляда, никчемных расспросов, мучительных упреков и обоюдных обвинений. «Она вечно взирала на нас с высоты своего семейного счастья, – думает Элла. – Она живет в мире, где царят порядок, надежность и покой: папа – мама – сын – дочка. Не то что моя жизнь: одни углы да выступы». Дети Дальи старше ее Эйнав и давно оставили родительский дом, у каждого свои интересы, но при этом святость субботнего семейного ужина соблюдается беспрекословно. Еще сравнительно недавно каждую неделю Далья приглашала ее присоединиться к ним, и каждый раз она находила для себя какие-то неотложные дела или ссылалась на усталость, так что в конце концов ее оставили в покое. «А может, мне все это показалось, – продолжает мысленный диалог сама с собой Элла, ополоснув усталое лицо и разглядывая себя в зеркале. – Может, нет в ее взгляде укора, а только сожаление и сочувствие, которые я не готова принять? Память о том дне, когда она оказалась со мной в больнице, на родах, и который связал нас, как мне казалось, на всю жизнь, растаяла. Да и вся моя жизнь растаяла, не оставив от меня той, прежней, и следа». Ближе к вечеру Элла вышла на улицу подышать прохладой, навеянной морским бризом. Она и не заметила, как оказалась возле здания Дома матери и ребенка, мимо которого проходила сегодня уже дважды: по дороге на работу и с работы. Как обычно по вечерам, во дворе было людно и шумно. «Может, и они сейчас здесь? Может, Эйнав заметит, что я ищу их, и окликнет, словно ничего не произошло: „Мам, привет! Что ты здесь делаешь?!“ – И я абсолютно спокойно отвечу: „Да так, вышла прогуляться перед ужином“. А она скажет мне: „Вот, мам, познакомься: это Ротэм, мы дружим; ее сын и наша Инбаль одного возраста… Инбаль, иди сюда, солнышко, поздоровайся с бабушкой!“ И я прижму ее к себе, мою малышку, и все будет так обыденно и просто…» Элла входит во двор, всматривается в лица. Она ищет темные волосы, собранные на затылке в хвост, но вдруг пугается: а что, если Эйнав подстриглась? И вот она уже переключилась на короткие стрижки, изучает каре, рассматривает распущенные волосы. Теперь она сосредоточилась на глазах, выискивает черные миндалевидные… И опять страх – страх наткнуться на такой знакомый ей взгляд… Нет, лучше уйти!.. На выходе она задерживается у доски объявлений, где выделяется одно – напечатанное на бланке ярко-голубого цвета: Превращения Дорогая мама! Если ваша дочь готовиться стать матерью и вы хотите знать, что переживают другие в этот сложный период; если ваша дочь уже родила и вы только что стали бабушкой и хотите поделиться с другими вашими переживаниями, вы приглашаетесь принять участие в занятиях группы «Мамы мам». Встречи будут проходить по вторникам с 20:00 до 21:30 в течение трех месяцев (12 недель ). Первое занятие – 1-го июля. Для участия в занятиях группы необходимо пройти собеседование. Информация по телефону… Нири Бар, психолог – Мама мамы, – повторяет Элла вполголоса. Невидимая рука как будто тянется к ней из объявления, зазывая ее. И Элла поддается, мысленно протягивает свою бледную руку и беззвучно проскальзывает на отведенное ей место. Она хочет быть частью этой группы, знает, что должна быть с ними, матерямибабушками, которые встречаются, обсуждают новости, обмениваются впечатлениями, фотографиями, рецептами. Она еще раз перечитывает текст. Первое июля было позавчера, какая жалость! А ей так захотелось быть среди них, в их жизнерадостной компании, вновь стать частью того особого женского мира, о существовании которого она сама же и предпочла забыть. «Я хочу быть мамой… хочу маму… до чего я докатилась?» Мысли путаются: кто она, мама, дочка? Оторвав часть листка, где был написан номер телефона, Элла заспешила домой. Нири Нири испуганно шарит руками среди подушек, пытаясь как можно скорее найти телефон и «обезвредить» его прежде, чем он разбудит только что уснувшего Тома. – Алло? – раздается из трубки неуверенный голос. – Я хотела бы поговорить с Нири. – Да, я слушаю, – отвечает Нири. Что-то в этом незнакомом голосе заставляет ее произнести уже ставшую привычной фразу: – Чем могу помочь? – Помочь? – повторяет незнакомка со вздохом, но более свободно. – Не знаю. Меня зовут Элла, и я звоню по поводу группы. – Группы? – на этот раз повторяет Нири, пытаясь по голосу угадать, к какой именно группе может относиться его хозяйка; и та поспешно добавляет: – Я знаю, что первое занятие было позавчера, но я увидела объявление только сегодня. Я недавно стала бабушкой, как там и написано, и очень хотела бы присоединиться, мне это очень нужно… Группа мам! Нири вспоминает уютную комнату на верхнем этаже Дома матери и ребенка, стены, окрашенные бледно-желтой и бледно-фиолетовой краской, и развешанные на них фотографии беременных женщин и младенцев, взволнованные лица женщин, сидящих кругом, их изучающие взгляды. Она ощущает румянец, который обычно покрывает ее щеки в минуты волнения, пока она ждет подходящего момента для начала беседы. Затем все идет гладко: каждая по очереди рассказывает о себе, как обычно на первой встрече, кратко и довольно скованно. – Меня сюда записала моя дочка, – первой представилась Маргалит, смеясь и привстав со стула. Анна же взглянула с улыбкой на Рут и провозгласила: – Она затащила меня сюда. А Рут, рассмеявшись, ответила: – Ты еще скажешь мне за это спасибо! Одна за одной они говорили о том, что привело их в группу, повторяя уже сказанное однажды две недели тому назад на собеседовании, – любопытство, желание поделиться, внутренний голос, который заставил позвонить. – Я вас очень прошу, давайте встретимся. Я вам все расскажу, – не отступает Элла. Что-то подсказывает Нири, что эта женщина отличается от всех остальных матерей в группе; она чувствует к ней какую-то особую, еще не объяснимую симпатию, даже близость. – Элла, – начинает она, мысленно анализируя происходящее. Уже не раз она убеждалась, что иногда можно и даже нужно принимать решения, опираясь на интуицию, обходя правила и выходя за общепринятые рамки. Но пойти на это не так-то легко. – Я не знаю, что вам сказать, ведь мы уже начали. И как обычно, после первой встречи запись прекращается. Думаю, мы откроем еще одну группу, вам стоит подождать. – Да, но тогда я уже не буду «ставшей только что бабушкой»! – настаивает Элла. – Мне очень важно участвовать в этой группе. Я хочу слушать, сопереживать, делиться! Она как будто цитирует текст объявления, и Нири уже не сомневается в правильности того, что через секунду услышит от нее Элла: – Ладно, раз уж вы так просите! И кроме того, одна из записавшихся передумала в последний момент. Приходите во вторник ровно к восьми. – Спасибо! – взволнованно благодарит Элла и добавляет, сама удивляясь своей смелости: – Я хотела бы вас спросить, сколько вам лет? То есть, у вас тоже есть внуки? Просто у вас очень молодой голос, примерно как у моей дочки. Так я подумала, как вам пришла в голову идея открыть такую группу? И тут же испугалась, что вот она опять разрушает только что сложившиеся, еще такие ранимые отношения. – Нет, до бабушки мне еще далеко, но я уже мама, – смеясь, отвечает Нири. Когда разговор заходит о родах, Нири всегда вспоминает о трех. Сама она рожала дважды, но были и еще одни, третьи роды, которые она видела восьмилетней девочкой и запо мнила до мельчайших подробностей. Тетя Ханна стояла между широко раздвинутыми ногами роженицы в зале с кроватями, отделенными друг от друга бледно-розовыми матерчатыми перегородками. Нири стояла сбоку и не сводила глаз с младенца, которого только что извлекли из невидимого ей влажного пространства оголенные выше локтей руки акушерки. Мама в тот день очень сердилась и говорила, что родильное отделение – это не место для детей и что еще неизвестно, как все эти крики и вопли повлияют на нее в будущем. Но мама зря волновалась: вместо страха появилось чувство причастности, желание поддержать, утешить и успокоить. Нири не возвращалась к этой истории до того самого воскресного утра, когда проводила свою подругу Шир до родильного зала и вместе с ее мамой и сестрой простояла несколько часов, прислушиваясь к происходящему за окрашенной в серый цвет автоматической дверью. Наконец-то раздался плач новорожденного, и группка женщин, объединенная общим напряжением, с облегчением начала распадаться, расползаться по углам, растроганно вздыхая и всхлипывая в сотовые телефоны. Все, кроме одной: мама Шир осталась стоять, нервно обнимая себя за плечи (Нири тогда подумала, что она в буквальном смысле держит себя в руках), и по-прежнему не сводила глаз с дверей до тех пор, пока вышедшая акушерка объявила, что Шир переводят в комнату, а это значило, что все в порядке. Этот эпизод неожиданно всплыл в памяти Нири, когда она сама была беременна, он как бы предупреждал о том, что ждет ее впереди. Узнав о своей беременности, Нири не бросилась немедленно звонить маме. Правда, эта сознательная задержка длилась всего лишь пару часов, но этого оказалось достаточно, чтобы провести между ними границу тем мысленным карандашом, которым она отделила от всех ее саму, Офера и невидимый плод, очертив свою новую семью. Позже она поняла, что это было начало новых, очень непростых отношений. Все последующие месяцы Нири провела в бескомпромиссной борьбе со своей мамой. Каждая их встреча превращалась в поединок: Нири сердилась, высказывала упреки и требования, рыдая оттого, что ее не понимают. – Объясни, чего ты от меня хочешь! – в отчаянии просила мама, и Нири, сознавая, что у нее нет ответа, в бессилии хлопала дверью или бросала трубку, исчезая на несколько дней до следующей ссоры. Она горько жаловалась подругам, что мама ее разочаровала, что устала от бесконечных пререканий, но при этом продолжала испытывать ее, считая, что хорошая мать не нуждается в подсказках; и вновь обижалась. – Да, я хочу, чтобы она меня баловала, пока это еще возможно! – как-то сказала она Оферу, привлекая его на свою сторону. – Чтобы покупала мне подарки, книги, чтобы ее попрежнему волновала я, а не только моя беременность. Намного позже, вспоминая это время, она поняла, что всего лишь навсего, хотела опять ощутить себя маленькой девочкой, беззаботной и обласканной, рядом с мамой, готовой ради нее на все. Не только для Нири, но и для ее мамы это была нелегкая пора, когда переполнявшие ее, иногда противоречивые чувства мешали сосредоточиться днем и не давали уснуть по ночам. Постепенно все наладилось. Интуитивно, сама того не замечая, мама отошла на второй план, воздерживаясь от советов и категоричных замечаний, вынуждая Нири полагаться на Офера и заставляя ее поверить в себя. На девятом месяце возникло подозрение на инфекцию, и Нири срочно направили в больницу. Там, в приемном покое, между тонкими матерчатыми перегородками она вслушивалась в напряженные голоса, всматривалась во взволнованные лица, пытаясь разгадать по выражению глаз, что испытывает мать, когда она не просто рядом с дочерью, а вся как будто растворилась, слилась с ней, оставив за собой одно-единственное право и однуединственную обязанность – быть матерью. Вот тогда-то вдруг и всплыл в памяти силуэт мамы Шир, не сводящей глаз с дверей родильного зала; и Нири поняла, что момент родов – это вершина того пути, который проходят мать и дочь – обе вместе и каждая по-отдельности. Вернувшись домой с малышкой на руках, Нири все еще оставалась во власти пережитого ею потрясения. Как солдат после боя, она пыталась восстановить детали, возможно, ускользнувшие от нее в минуты боли и величайшего напряжения. Она приставала с расспросами к Оферу, выспрашивала тех, кто провел эти часы возле двери родильного зала, но они довольно быстро отказались от «дачи показаний» в проводимом ею «следствии». Единственная, кто осталась ее верной собеседницей, была мама, готовая вновь и вновь рассказывать, как стояла у дверей и слышала стоны, а затем раздался такой долгожданный и все равно неожиданный плач, возвестивший о рождении Тамар. И с каким неописуемым, ни с чем не сравнимым чувством облегчения и радости она сообщила всем: «Я бабушка!» Слушая это уже в который раз, Нири с жадностью впитывала каждое слово, согреваясь от маминой любви и тревоги и поражаясь, насколько переплетены их с мамой жизни и чувства. После родов их отношения вновь изменились: теперь они разместились на семейном древе одна под другой: бабушка – мама – дочь, питая и дополняя друг друга, – еще один цветок в соцветии поколений. После нескольких месяцев переходного периода, можно сказать, периода созревания каждой из них появилось новое ощущение – ощущение единства, результатом которого стал новый союз, новая связь между мамой и дочкой, которая и сама теперь мама. И еще одно чувство испытала Нири – чувство вины перед мамой, оказавшейся невольной жертвой болезненного процесса ее, Нири, взросления. А затем у нее возник вопрос, был ли путь, который они прошли, неизбежным, предписанным свыше и единым для всех, или каждые мать и дочь строят свои взаимоотношения по отдельному, отличному от всех остальных сценарию. И вот Нири создала для себя «салон» и сидит в кругу матерей – иногда как дочь, а иногда как мать. Встреча вторая Родовые схватки Перила лестницы, ведущей на последний этаж Дома матери и ребенка, были окрашены в белый цвет и приятно холодили ладонь. – Только бы не быть первой, – думала Элла, поднимаясь по лестнице. – Терпеть не могу опаздывать, – повторяла она в уме заранее заготовленную фразу, которую произносила уже не раз, преодолевая смущение оттого, что пришла раньше назначенного времени. Но, поднявшись, она с облегчением обнаружила, что на этот раз ей не придется оправдываться: в коридоре у окна, напротив единственных раскрытых дверей стояла высокая черноволосая женщина, одетая – явно не по сезону – в жакет оливкового цвета, короткую облегающую юбку и высокие черные сапоги. Она говорила низким, скрипучим от курения голосом, прижимая к уху крохотный серебристый телефон и энергично жестикулируя второй, свободной рукой. Элле даже показалось, что она уловила несколько знакомых имен, связанных с телевидением. – Я на это не пойду, так ему и передай, и нечего меня пугать. И вообще, скажи, что не стоит ему связываться с Мики! – резко закончила она и бросила телефон в большую кожаную сумку, лежавшую возле нее на полу. Не обращая внимания на Эллу, все еще стоявшую на лестничной клетке, она вошла в комнату и тут же принялась готовить себе кофе. Элла неслышно последовала за ней. У нее была осторожная походка, как у человека, который, сломав ногу, только что освободился от гипса и вот теперь заново учится ходить: неуверенно ставит ногу на пол, сомневаясь в ее надежности. Тускло-карие опущенные глаза придавали ее лицу извиняющееся или, возможно, настороженное выражение. Перед выходом Элла перебрала несколько вариантов одежды и наконец остановилась на светло-голубом платье, которое делало ее выше и несколько скрадывало угловатые формы ее худощавой фигуры, а также на зеленоватой шали, с которой почти никогда не расставалась. Войдя в комнату, она на миг почувствовала себя маленькой девочкой, случайно заглянувшей в залу, где в кругу приятельниц сидела за чаем мать ее подружки Оры. В углу комнаты возле кофейного автомата спиной к дверям стояли несколько женщин и тихо переговаривались, отпивая из одноразовых стаканов. – Жаль, что тут нет ничего сладенького, – произнесла полная коротко остриженная рыжеволосая женщина, руки и шея которой были усыпаны веснушками. Она была одета в белое платье, которое странным образом придавало ее крупной фигуре неожиданную легкость. – Очень мне захотелось чего-нибудь вкусненького, – пояснила она, обращаясь к обладательнице темной курчавой копны волос, которая стояла возле нее и улыбалась, как улыбаются друг другу только давно знакомые люди. – Да, Рут, а потом будешь мне плакаться, что опять располнела, – проговорила хозяйка кудрей и отошла, чтобы приготовить себе черный кофе. На ней были светлые джинсы и мужского покроя расстегнутая рубашка, из-под которой виднелась красная майка. Элла подумала, что они выглядят, как две противоположности: одна светлокожая, другая – цвета шоколада; первая – маленькая и кругленькая, вторая – высокая и худая. – Ах, Анна, Анна, тебе-то хорошо: ты никогда не толстеешь, – вздохнула в ответ рыженькая и направилась к расставленным по кругу стульям. – Может, и вправду надо в следующий раз принести чего-нибудь съестного? – присоединилась к ним миловидная полноватая женщина в красной шляпке, которая подходила по цвету к большой сумке, висящей у нее на плече. – Я бы тоже не отказалась от сладкого. Меня зовут Маргалит, – добавила она, улыбаясь. Голубые глаза и улыбка придавали ее лицу наивное детское выражение. Элла заметила, как Маргалит, вынув из рукава бумажную салфетку, вытерла руку, на которую пролилось несколько капель кофе, и второй раз за те несколько минут, что она находится в комнате, вернулась в детство: именно так, в рукав, прятала носовой платок ее бабушка Рахель. Заранее расставленные, обитые фиолетовой тканью стулья образовывали замкнутый круг в центре комнаты. На одном из стульев лицом к распахнутой двери сидела седая стриженная под мальчика женщина, одетая в бежевые льняные брюки и белую блузку. Она поправила золотистый поясок на брюках и тщательно разгладила складки. Даже глядя на нее сидящую, было ясно, что она здесь самая высокая. Еще одна женщина, с короткими красновато-коричневыми волосами и крепкой широкой фигурой, приблизилась к кругу. На ней были разноцветные шаровары и черная трикотажная футболка, а руки были заняты простыми полиэтиленовыми пакетами, которые она неуклюже положила на пол, чтобы пододвинуть к себе стул. Большая пестрая сумка соскользнула у нее с плеча и задела рядом сидящую женщину, которая вздрогнула от неожиданности и резко отодвинулась. – Извините! – сконфузилась владелица сумки. – Я случайно, простите, ради бога! Пострадавшая сухо кивнула: – Ничего страшного. – Меня зовут Орна, – представилась хозяйка сумки, пытаясь загладить неловкость. – Напомните мне ваше имя? – Това, – коротко ответила ей соседка и отвернулась в сторону низкой полноватой женщины в белой юбке и широкой красной блузке, которая только что заняла свое место в кругу и громко поздоровалась со всеми. Элла обернулась на этот громкий приветливый голос и отметила про себя черные волосы, собранные на затылке, и многочисленные золотые браслеты на правой руке, которые слегка позванивали при движении. Глядя на нее, Элла вдруг повеселела. – Я – Клодин, – продолжила женщина. – Ну и денек был у меня сегодня! На шоссе Тель-Авив – Беер-Шева была авария, и его перекрыли на целый час. Из-за этого я не успела встретиться с дочкой – мы собирались вместе пообедать. Я, конечно, встречусь с ней позже, но все равно жаль. Она заметила стоящий в углу кофейный автомат и поднялась со стула, направляясь к нему: – Есть желающие пить? Лично я хочу кофе. Орна и Това, поблагодарив, отказались. Элла по-прежнему стояла в стороне, все еще решая, к какой из групп примкнуть, когда почувствовала на себе чей-то взгляд, и, обернувшись, почти столкнулась с улыбающейся зеленоглазой молодой женщиной. – Вы, наверное, Элла? Элла тут же узнала ее голос. – А вы, конечно, Нири, – улыбнулась она с облегчением. Перед ней стояла обаятельная шатенка; густые вьющиеся волосы придавали ей чуть наивный, почти юношеский вид, который естественно сочетался со звонким энергичным голосом. – Рада вас видеть, – несмотря на молодой возраст, Нири вела себя очень уверенно. – Займите себе место в кругу, мы начинаем. Нири отошла от Эллы и, подойдя к женщинам, которые все еще стояли у автомата, молча, слегка касаясь, будто обнимая за плечи каждую из них, взглядом указала на свободные стулья, приглашая их переместиться в центр комнаты. Элла все еще стояла вне круга, хотя незанятыми остались всего-лишь два стула. Женщина в красной шляпке не спеша подошла к одному из них и, осторожно отпивая из одноразового стакана, указала ей глазами на соседний. Элла ответила ей еле заметной улыбкой и села на краешек стула, нервно теребя бахрому легкой шали, которую она набросила на плечи, несмотря на душный июльский вечер. – Еще раз добрый вечер, – вступает Нири, обводя всех взглядом. – Итак, мы опять вместе – теперь уже на второй встрече группы «Мамы мам». Обратите внимание, каждая из вас заняла то же самое место, на котором сидела в прошлый раз. И она делает короткую паузу, давая возможность присутствующим убедиться в справедливости ее наблюдения. – На прошлой неделе мы познакомились друг с другом и начали строить нашу группу. Сегодня к нам присоединяется еще одна участница. Нири обращается к Элле: – Сейчас вы сможете представиться. Элла увидела объявление слишком поздно, – продолжает Нири, – и хотя это против общепринятых правил, я уступила ее просьбе примкнуть к группе. Но теперь, все: «Двери закрываются». Ну что ж, Элла, давайте знакомиться! Элла скрещивает руки, будто сама себя обнимает, подается несколько вперед, и произносит тихим голосом: – Мне неудобно, что я так… вроде как напросилась. Нири мне рассказала вкратце о группе, и вот я здесь… Спасибо! Я не особо представляю, о чем вы говорили в прошлый раз, – она сконфуженно ерзает на стуле, пытаясь устроиться поудобней. – Может, расскажете немного о себе, как и почему вы попали к нам, чем вы занимаетесь? – подсказывает Нири. – А-а, извините, – поспешно продолжает Элла. – Меня зовут Элла, мне сорок девять лет, и у меня есть двадцатисемилетняя дочь Эйнав. Нири ободряюще улыбается, и Элла замечает у нее маленькую ямочку, которая образуется почему-то только на правой щеке. – Я – секретарь в медицинской клинике, живу в Тель-Авиве, недалеко отсюда; здесь же и родилась, я имею в виду в Тель-Авиве. На прошлой неделе, возвращаясь с работы, наткнулась на ваше объявление, позвонила Нири, мы поговорили. Она явно чувствует себя неуютно под изучающими взглядами мам, опять старается поудобнее устроиться на стуле, заново поправляет шаль. Все молчат, паузу нарушает Нири: – Очень непросто присоединиться к группе с опозданием, да и, вообще, начало новой встречи, хоть и второй, – дело нелегкое. Элла сказала, что не знает, о чем вы говорили на прошлой встрече; я думаю, что нам всем не помешает слегка вернуться назад. Я предлагаю вам еще раз коротко представиться, а заодно и рассказать, что вам запомнилось от нашей предыдущей встречи и что вы чувствуете здесь сейчас. В комнате тишина. Наконец, примерно через минуту, раздается приятный мелодичный голос: – Будем знакомы, Элла, я – Маргалит, – говорит женщина в красной шляпке. – Я – социальный работник из Реховота, мне пятьдесят один год. Я замужем и мать четверых детей, а также бабушка одномесячного внука. Она допивает содержимое стакана и ставит его на пол возле себя. – На прошлой неделе я много думала о нашей группе. Маргалит смотрит на Нири. – Само занятие мне показалось очень коротким. Я помню, что каждая из нас представилась, коротко рассказала о себе, и – все. Обстановка была очень приятная, я с нетерпением ждала сегодняшней встречи, – заканчивает Маргалит, облокотившись на спинку стула, и с выжиданием смотрит на свою соседку слева. – Я – Това, – принимает та немой вызов и продолжает в темпе радиорепортажа: – Шестьдесят лет, мать троих, врач-окулист, живу в Тель-Авиве. Това поворачивается влево, поддерживая новый порядок – передавать слово соседке по кругу. – Я – Орна, замужем и мать сына и дочки; еще не бабушка, но скоро буду. Я библиотекарь в Тель-Авивском университете, живу в пригороде, – Орна пожимает плечами, взвешивая, что еще она может добавить. – Я пришла сюда с удовольствием, хотя и безумно устала. Она прикрывает рот рукой, скрывая зевок; и Элла, которая сидит рядом с ней, а значит, пришла ее очередь говорить, кашлянув в кулак, коротко произносит тихим голосом: – Элла. – Добрый вечер всем, я – Клодин, – раздается громкий, еще более энергичный на фоне предыдущего, еле различимого, голос любительницы браслетов. – Мне сорок пять лет, я мать семерых детей и, к великому сожалению, вдова. Живу в Сдерот, но по вторникам всегда приезжаю к моей дочке Лиат, которая живет здесь, в Тель-Авиве. Я не работаю, мне достаточно работы дома, – смеется она, забавно щуря глаза. – Я тоже еще не бабушка, но жду не дождусь рождения внука. Главное, чтобы был здоров! Клодин целует сложенные щепоткой кончики пальцев и стучит по ножке стула. Сидящая по соседству Нири перенимает эстафету: – Я – Нири, – представляется она, – замужем и мать двоих детей – девочки и мальчика. Мне тридцать пять лет, и я психолог, живу в Тель-Авиве. Я тоже с нетерпением ждала сегодняшней встречи. Прошлое занятие пролетело для меня как один миг, и мне очень любопытно, что же будет сегодня. Она скрещивает руки на груди и вопросительно смотрит на Мики, сидящую слева от нее, которая не заставляет себя ждать и подхватывает громким голосом: – Я – Мики, пятидесяти двух лет, редактор на телевидении, на втором канале. Замужем, есть сын и дочь, живу на севере Тель-Авива. Она замолкает, но вдруг, вспомнив, добавляет: – И, конечно, у меня есть чудный внук. Ему полтора месяца. Между прочим, у меня на телефоне есть его фотография, – она протягивает аппарат Нири, – можете передать по кругу, пусть все посмотрят. Женщины с любопытством и умилением всматриваются в крошечный экран, передавая телефон из рук в руки. – Ой, какой сладкий! Так и хочется погладить его пухленькие щечки, – говорит темненькая из двух подружек, когда аппарат, сделав полный круг, оказывается у нее. – Я – Анна, – представляется она, возвращая аппарат сидящей справа Мики. Элла с удивлением замечает у нее серебряное кольцо на одном из пальцев ноги. – По мнению врачей, моя дочь Наама должна родить за день до моего пятидесятилетия. Кроме Наамы, у меня еще трое детей и муж. По специальности я архитектор и живу тут недалеко, в Кирьят-Оно. Мне тоже показалось, что наша первая встреча прошла как-то уж слишком быстро. Она смотрит на подругу, которая осталась последней. – Мне нечего больше добавить, – завершает Анна, разводя руками, как будто извиняясь. – Ничего страшного, – отвечает ей подруга. Элла отмечает про себя, какой у нее приятный мелодичный голос. – Меня зовут Рут, мать троих детей и бабушка двухмесячного внука. Я занимаюсь альтернативной медициной, в частности, кристаллами, и, кроме того, преподаю йогу. Всю жизнь прожила в Иерусалиме. Мне пятьдесят семь лет. Я помню, что на прошлом занятии каждая из нас рассказала коротко о своей дочке, а затем Нири раздала нам листы бумаги, на которых мы должны были что-то написать, но я не запомнила – что. Она машинально поглаживает большой зеленый камень на кольце, а Мики спешит дополнить: – Я помню: Нири просила, чтобы каждая из нас написала, какие ассоциации у нее возникают, когда она думает о родах ее дочки. Рут согласно кивает головой. Нири смотрит на Эллу и поясняет: – После этого я собрала все записки. Сейчас они хранятся у меня, и я принесу их на одну из последующих встреч. Будет хорошо, если вы сегодня чуть-чуть задержитесь и тоже напишете пару слов. Нири продолжает, обращаясь к группе: – На прошлой встрече мы определили цель нашей группы: пройти вместе, делясь и сопереживая, этот непростой период в вашей жизни; а также установили некоторые общие правила: не опаздывать, отключать телефоны и, естественно, все, что говорится здесь, в группе, не подлежит распространению. Она замолкает, мамы молча кивают, а Элла произносит: – Да, конечно. Пауза затягивается, напряженная тишина удручающе действует на Эллу, но тут раздается взволнованный голос Клодин: – Я должна вам кое-что рассказать. В четверг я и Лиат, моя дочка, были на свадьбе ее самой близкой подруги, которую я знаю, можно сказать, с рождения. Они выросли вместе, она была у нас как у себя дома. Естественно, я была очень рада за нее. Лиат уже на седьмом месяце, и невеста у всех на глазах благословила ее и малыша. Клодин замолкает, пытаясь справиться с волнением. – Хоть я и была к этому готова, потому что это очень красивая традиция, и у Лиат в день свадьбы тоже был заготовлен целый список, но когда я увидела, как ее подруга кладет ей руку на голову и все как-то по-особому смотрят на них и на меня, я так разволновалась, что еле удержалась от слез, – глаза Клодин влажнеют, и она отирает их ладонью. – Это было очень трогательно: и потому, что говорят, что благословение невесты имеет особую ценность, и потому, что я вдруг поняла – это уже совсем скоро, вот-вот. Клодин больше не в состоянии удержать слезы. И опять наступает тишина. Това, скрестив ноги и поджав их под стул, смущенно опустила глаза, рассматривая что-то на полу; Анна сконфуженно переводит взгляд на Рут. Все молчат. Выпрямившись на стуле, Нири обращается к группе: – Прошло всего лишь десять минут с начала встречи, мы еще, можно сказать, не закончили разминку, – улыбается она, – как Клодин без всякого предупреждения делает первый шаг и делится с нами настолько глубокими переживаниями, что не может удержаться от слез. Я думаю, что есть события, как, например, эта свадьба, к которым сколько ни готовься, все равно они застают тебя врасплох. Глядя на вас, я думаю, что это именно то, что произошло сейчас с нами: возможно, еще не время для откровенной беседы – мы еще недостаточно знакомы. Мамы облегченно переглядываются – все, кроме Клодин. Она себя чувствует очень неудобно: – Ой, извините, я не предполагала… Маргалит поспешно прерывает ее, стараясь исправить неловкость: – Не надо извиняться. По-видимому, мы действительно не были готовы к слезам, во всяком случае, я. И это притом, что мне, социальному работнику, не привыкать к беседам с людьми на очень личные темы, и я, конечно, представляла себе, что мы не раз коснемся болезненных интимных переживаний. Все равно вначале все чувствуют себя скованно, избегают слишком откровенных разговоров. – Мне, правда, очень неудобно. Если бы я знала, что вот так вот расплачусь, я ни за что не решилась бы заговорить, – продолжает оправдываться Клодин. – Даже на свадьбе я не плакала, а сейчас вдруг расчувствовалась, сама не знаю, почему. Она растерянно пожимает плечами. – Ну так что, это уже совсем близко? – с улыбкой обращается к ней Рут. – Я вспоминаю, как присутствовала на обрезании внука моей лучшей подруги ровно за две недели до того, как родился мой внук, то есть Талья, моя дочка, была на девятом месяце. И вдруг я почувствовала, что в этом жестоком, как мне всегда казалось, ритуале есть что-то завораживающее, сверхъестественное, я не могу определить это словами, но что-то оченьочень важное… – Точно! – перебивает ее Мики. – Этот обряд как-то по-особому действует на всех, возможно, своей особой энергетикой. Рут бросает на нее нетерпеливый взгляд и продолжает: – Застолье меня не волнует – люди приходят, едят и уходят, но сам религиозный обряд вдруг наполнился для меня смыслом, я даже прислушивалась к словам молитвы, чего раньше со мной не случалось. Я, как обычно, пришла с опозданием, уже в середине службы, и это… Я не могу объяснить, – она обращается к Клодин, – меня никогда раньше это так не трогало. Ее сына я помню еще у нее в животе, я помню, как его принесли из больницы. И вдруг, подумать только, он уже отец! Я почувствовала… возможно, это была подготовка к тому, что меня ждет буквально через пару недель. Сейчас мне легко об этом говорить, потому что Талья уже родила, все уже позади, и я знаю, что все в порядке, но тогда это меня потрясло. Мики еле заметно покачивает головой в знак согласия и вступает сразу, как только замолкает Рут: – Я думаю, что тоже испытала подобное чувство близко к концу срока. Как-то на улице я встретила мою знакомую по работе, и вдруг она, подкалывая, спрашивает: «Ну, как себя чувствует будущая бабушка?» – Я хочу вам сказать, – она неожиданно повышает голос, – что в этот миг я почувствовала, будто это я сама беременна. В голову полезли разные мысли, я не могла их остановить. Я думала о том, что меня ждет… совсем скоро… это приближается. Я просто чувствовала, как будто я сама вот-вот рожу! С того момента и днем и ночью я беспрерывно думала о родах. Правда, это произошло в самом конце ее беременности, и дочка ни о чем не догадывалась, но сама я жутко волновалась и боялась. Клодин, еще более волнуясь оттого, что ее все-таки понимают и поддерживают, обращается к Мики: – Да, я думаю, именно в этом все дело: я вдруг испугалась. С одной стороны, это здорово, что роды уже совсем близко и все ждут с нетерпением и поздравляют, а с другой – я испытываю жуткий страх и ни о чем другом думать просто не могу. Она с трудом сдерживает слезы. Маргалит вынимает из рукава неожиданно скоро понадобившуюся ей салфетку, а вторую – из сумки – поспешно протягивает Клодин: – Вы меня заразили! – смеется она, вытирая глаза. Нири обводит взглядом группу и произносит: – Чем ближе назначенный день, тем тревожнее становится на душе. – Да, это так, – соглашается Това. – И я тоже вдруг начала очень волноваться. Позавчера (или за день до этого) я даже приняла снотоворное: какие-то жуткие мысли не давали мне заснуть, и я испугалась, что назавтра не смогу работать. – Какие такие мысли? – переспрашивает Нири. – Какие мысли? – Това старательно разглаживает складки на брюках. – Я даже толком не могу сказать, чего именно я боюсь! Я перебираю в голове все, что только может с ней случиться. И вот что странно: почему меня так пугает то, что я сама прошла совершенно спокойно и естественно? Я уверена, что боюсь этих родов больше, чем моя дочка Ширли. Я пытаюсь рассуждать логично; я говорю себе, что это самый что ни на есть естественный процесс. Правда, случаются несчастные случаи, и, конечно, они запоминаются. Я стараюсь об этом не думать, но у меня не получается. Может, не совсем правильно называть это страхом, скорее, это беспокойные мысли, от которых я не в состоянии избавиться. – Со мной это обычно случается ночью, – тяжело вздыхает Орна. – Самое лучшее время для размышлений! А так как я по характеру пессимистка, то я себе представляю в подробностях, что будет, если, не дай бог… Ну, в общем, ты слышишь о разных случаях и видишь детей с различными дефектами… Когда меня одолевают подобные мысли, я говорю себе, что все будет хорошо, и заставляю себя думать о подругах, у которых есть дети и внуки, и все у них в полном порядке. Понятно, что я никому не рассказываю о моих переживаниях: ни мужу, ни, естественно, дочке. Зачем их волновать?! – Значит, вы все переживаете внутри, – поддерживает ее Нири. – Все! Потому что, если что-то, не дай бог, должно случиться, оно произойдет независимо от того, думала ли я об этом или нет! Они делают все, чтобы избежать этого – все анализы, проверки. Так к чему еще прибавлять переживаний?! Яэль и сама боится и, естественно, обращается ко мне за поддержкой, ждет от меня, чтобы я ее успокоила. От этого мне еще тяжелее. Страх – он постоянный напарник радости и ожидания! Рут кладет ногу на ногу и вступает в разговор спокойным негромким голосом: – Мне тоже очень знакомо то, о чем вы все говорите. К примеру, Талья водила машину, даже когда была уже на девятом месяце. Пару раз я пробовала ей сказать, что, может, не стоит, что есть автобус. Но в ответ получила «Мама!» таким тоном, что заткнулась на месте. Я себе представляла, как у нее за рулем начинаются схватки или как кто-нибудь врезается в нее сзади, и от удара о руль у нее лопается живот. И еще, знаете, что мне очень мешало в конце ее беременности? Что наша жизнь стала очень неспокойной. Я не имею в виду только безопасность на дорогах, но и все, что окружает нас: нигде нет покоя, все бегом, наскоком; в глазах пестрит от красного, желтого. Если бы я только могла огородить ее от всего этого! Я все время волновалась за нее, словно она опять маленькая девочка и я наблюдаю за ней из окна в то время, как она перебегает дорогу. Она, естественно, и слышать ни о чем не хотела, а я находилась в постоянной тревоге, пока она наконец-то родила. Рут, улыбаясь, обводит взглядом всю группу: – Все в этой жизни проходит, я вас уверяю! – И только живот остается, – со смехом добавляет Клодин. В ответ раздается дружный смех. Нири облегченно улыбается и обращается к мамам, которые явно чувствуют себя намного свободней: – Конечно, вы сознаете, что рано или поздно этому придет конец, но покамест вас одолевают беспокойные мысли, с которыми вы зачастую остаетесь один на один. В данный момент кажется, что вы чуть-чуть приоткрыли клапаны, чтобы выпустить пар из котла, и то, что выходит сейчас из котла, это, в первую очередь, страх перед «медицинскими опасностями», связанными с беременностью и родами – что будет с дочкой, что будет с младенцем. Естественно, что тем, у кого это уже позади, говорить об этом намного легче. Она смотрит на Рут, и та, соглашаясь, молча кивает ей в ответ. – Не знаю, как это будет у моей дочки, – говорит Клодин, поглаживая браслеты на запястье, – но я рожала очень легко. Лиат, моя дочка, расспрашивает всех женщин в нашей семье о том, какими были их роды. Всех, кроме меня, – со мной она на эту тему почти не говорит. Странно, ведь я рожала шесть раз, часть из родов она, наверное, помнит, ведь она – старшая. Но, по-моему, невозможно по-настоящему подготовиться к родам и невозможно заранее знать, как это будет. И что интересно, я как будто заразилась от нее и вдруг начала расспрашивать мою маму. Никогда раньше со мной такого не было. Оказывается, мой отец не был с ней ни на одних родах, он работал. Я удивилась и спросила, не было ли ей тяжело находиться там одной, а она ответила, что в те времена на роды никого не пускали, да никто и не просил: это не было принято. Я бы… Если бы мой муж не был со мной на всех родах, не знаю, как бы я справилась, но мы другое поколение. Роды – это… Это не похоже ни на что! Нет! Каждый раз, когда я рожала, я думала, как это может быть, что из моего живота вдруг вылезает ребенок? И в следующий раз это по-прежнему оставалось для меня тайной! Сегодня все иначе: есть УЗИ, и можно видеть, как плод развивается из месяца в месяц, и всетаки для меня это загадка! Она повышает голос: – По-моему, это настоящее чудо! Клодин тяжело вздыхает и продолжает еле слышно, дрожащим от слез голосом: – В последнее время я беспрерывно думаю о родах. Моего мужа уже нет: он умер год назад, вернее, погиб в аварии по дороге домой. Женщины смотрят на нее с сочувствием, но на этот раз ее слезы уже никого не смущают. Элла, сидящая возле Клодин, осторожно дотрагивается до ее плеча, в то время как Нири тихо обращается к ней: – И вы говорите себе, что должны быть там ради дочки, но спрашиваете себя, а кто же будет там ради вас? Клодин утвердительно кивает головой. – И вообще, на меня вдруг столько всего навалилось: Лиат, старшая, должна вот-вот родить, один сын в армии, двое – в колледжах, тоже вне дома, а дома еще близнецы и самая младшая. Правда, младшей как раз вчера исполнилось двенадцать, так что и она уже не маленькая, но у меня уже просто нет сил… И мне так больно, что именно сейчас я осталась одна. Мне тяжело, мне больно, все должно было быть совсем не так… – с горечью добавляет она, сокрушенно качая головой. Мики обращается к Клодин, повернувшись к ней всем корпусом и глядя прямо на нее: – Возможно, это оттого что приближение родов делает вас еще более ранимой. Так было со мной. Я вам говорю, – она скользит взглядом по кругу, теперь уже обращаясь ко всем, – вы не можете себе представить, как я нервничала. Я думаю, вокруг меня не было ни одного, кто бы не знал, что моя дочь скоро рожает. Все были в курсе, я ни о чем другом просто не говорила, я у них у всех уже вот где была, – смеется она, проводя ребром ладони поперек шеи. – Да, наверное, в этом все дело, – отвечает ей Клодин сквозь слезы. – Когда я сама была беременна, я тоже нервничала и перед каждой проверкой молилась, чтобы врач сказал, что все в порядке. Но при всем при этом, я очень любила быть беременной. Шесть раз я была в положении, один раз близнецами, и ни разу мне не было тяжело. Наша младшенькая родилась на два месяца раньше срока, и мне было жаль, что у меня забрали эти два месяца. Она улыбается, но недолго, веселые морщинки возле глаз исчезают, и Клодин задумчиво продолжает: – Знаете, сейчас, когда я говорю с вами, мне вдруг пришло в голову, что, может, это тоже сидит во мне, я как-то никогда об этом не думала. Она замолкает на мгновение, остальные с любопытством ждут продолжения. – Моя младшая дочка Зоар родилась на восьмом месяце. Роды начались страшно тяжело. У меня вдруг пошли схватки, и когда в больнице меня подсоединили к монитору, оказалось, что у меня полное открытие и что ребенок лежит поперек. Ее пробовали повернуть, но безрезультатно, и тут же меня спустили в операционную. Хорошо, что я понятия не имела, что такое кесарево. Муж остался снаружи, ему не разрешили зайти. Дочку вытащили быстро, мне ее показали, но не дали, потому что я была подсоединена ко всяким аппаратам. Счастье, что мой врач специально приехал прямо из дома, он спас мне матку. Операция длилась три часа, я думаю, что я была между жизнью и смертью. Муж говорил, что в тот раз я сама дала жизнь и сама же получила жизнь. С тех пор я очень боялась забеременеть, несмотря на то, что все у меня было в порядке. Клодин замолкает, слышно только ее громкое тяжелое дыхание. – И вот на фоне этих воспоминаний приближаются роды вашей дочки, – Нири смотрит на нее с нескрываемым сочувствием. – Совершенно верно, – Клодин поднимает глаза на Нири. – Я как будто абсолютно об этом забыла! И как же я вам сказала, что все мои роды были легкими?! Это было как вчера, ровно двенадцать лет тому назад, мои последние роды. И это было очень страшно! – Я так боюсь за Лиат! – вдруг вскрикивает она, прикрывая рот рукой. – Это вовсе не значит, что у нее будет то же самое, – спешит успокоить ее Това, – подумайте логично. И медицина ушла намного вперед, теперь делают такое количество анализов. – Слишком много анализов! – раздраженно говорит Рут. – В наше время к этому относились совершенно спокойно, что уж там надо так проверять? Ведь каждая кошка, каждая собака рожает. Проверяют, и проверяют, и проверяют; это только вызывает панику. Я не говорю, что вообще не надо проверять и что не надо читать книги, но ведь нельзя же все время только об этом и думать! Со всем этим балаганом вокруг женщине не дают жить спокойно, самой прочувствовать, что для нее подходит, разговаривать с малышом, петь ему. Так я вела себя, когда была беременна. А потом удивляются, почему дети уже рождаются нервными. Ведь на них действует настроение матери, сегодня это подтверждают ученые. Я много работаю с детьми, у меня есть группы йоги для детей, в том числе и гиперактивных. Их просто невозможно успокоить. – Это правда, – откликается Това, – но с другой стороны, благодаря развитию биологии находят еще и еще данные, которые надо проверить. С одной стороны, я рада, что дочка делает все возможные анализы. Если есть такая возможность, то как же этим не воспользоваться? Но с другой стороны, это прибавляет забот. Я тоже с удивлением заметила, что переживаю за ее беременность больше, чем волновалась за свои. Но, может, это еще связано и с возрастом: когда я была моложе, я ко многому относилась иначе. Орна снимает очки, протирает их краем рукава и произносит: – Я иногда думаю о том, как она перенесет боль. Она мне все время твердит: «Мама, я – не ты! Я попрошу эпидуральную анестезию и не буду мучиться». Но когда я это слышу, то вместо того, чтобы успокоиться, я покрываюсь гусиной кожей! Я боюсь этой анестезии! От нее бывают страшные осложнения! Я настолько сопереживаю вместе с ней все, что происходит, что иногда мне хочется поменяться с ней местами, чтобы избавить ее от этого! – Что вы имеете в виду, когда говорите «сопереживаю»? – спрашивает ее Нири. Орна опять надевает очки. – Мужчина не может знать, что такое роды. Ни ее муж, ни ее отец! Но я-то это прошла! Можно читать книги, смотреть фильмы – все это не то! Я помню свои роды до мельчайших подробностей, и я бы рожала вместо нее, если бы только могла! – Орна готова рожать вместо Яэль, но она, естественно, не может этого сделать, – Нири обводит взглядом сидящих в комнате мам, на миг останавливаясь на каждой из них. – И все остальные, которые рассказывали здесь о своих опасениях и переживаниях, ничем не могут помочь ни себе, ни своим дочкам. Если я правильно поняла, вы чувствуете себя беспомощными по отношению к дочерям. – Я хочу вам сказать, что быть матерью – это значит всегда, беспрерывно волноваться за своих детей, – Мики оставляет без внимания последнее замечание Нири. – Тем более, если ваша дочь ждет ребенка. Я тоже переживала за свою дочку намного больше, чем волновалась за себя, когда была в положении. Ведь я ее мама, и это ответственность совсем другого рода. Когда я сама была беременна первый раз, я вела себя обычно, как будто ничего не изменилось. Ее же я опекала, словно тяжелобольную: «Ты достаточно кушала, спала?» Мики держит у уха невидимый телефон. – Каждый день я звонила ей, проверяя, что она ела: «Поешь мяса, возьми овощи!» А два раза в неделю я привозила ей еду, чтобы поела домашнего, еще горяченького. За собой я так не следила ни когда была беременна ею, ни второй раз, когда родился ее брат. К примеру, когда твой ребенок упал и ударился, ты сразу бросаешься к нему, чтобы пожалеть, обнять, а когда упадешь сама, сразу встаешь и продолжаешь идти, как будто ничего не случилось. И я считаю, что все начинается с беременности. Я вам говорю, – она протягивает руку, призывая всех ко вниманию, – связь матери с ребенком начинается, когда он еще зародыш. То же самое я говорю и своей дочке. Как только женщина чувствует шевеление плода, она начинает волноваться за него и не прекращает уже никогда. Я все время говорила ей: «Вот ты увидишь: как только почувствуешь, что он двигается, сразу ощутишь себя мамой». Анна открывает рот, но Мики делает ей знак, чтобы подождала, и продолжает: – Когда она была маленькой, я помню, как наблюдала за движением ее руки или ноги, и просто чувствовала, что они знакомы мне изнутри. Я помнила это ощущение, когда она била меня изнутри. Иногда я по-прежнему чувствую, что она все еще у меня в животе. Она улыбается, но голос ее дрожит: – А когда она родилась… Я никогда не забуду этого момента, какое это было счастье, – и добавляет, все еще сияя улыбкой, – и какое облегчение! Матери одобрительно кивают, а Мики, вдруг посерьезнев, повышает голос: – Но при этом я считаю, что роды являются травмой как для матери, так и для ребенка и что это еще больше сближает их. Я никогда не забуду этот миг, когда ее вытащили. Как я смотрела на нее; она кричала, а я мысленно говорила ей: «Ну, привет! Я твоя мама, я дала тебе жизнь! Это я кормила тебя овощами и мороженым целых девять месяцев! И это я пела тебе песни». Мики опять смеется. – Но если серьезно, из-за того, что я вынашивала ее внутри себя, кормила ее всем тем, что ела сама; из-за того, что она дышала воздухом, который давала ей я, и, в конце концов, пришла в этот мир из меня, где бы она ни была, мы связаны навсегда: я всегда буду волноваться за нее и оберегать ее. И то же самое происходит с ней с тех пор, как у нее появился ребенок, – Мики обращается к Нири. – Он для нее теперь важнее всего: она будет умирать от усталости, но сделает все, что необходимо, и только после этого пойдет спать. Мики наклоняется к сумке и вынимает оттуда пачку сигарет, но, вспомнив, что курить в комнате запрещено, тут же кладет ее назад. Анна спешит воспользоваться паузой и сразу берет слово: – По-моему, это абсолютно естественно, когда мать заботится о детях всю свою жизнь. Я тоже думаю о Нааме и о том, что ей скоро рожать, но не с точки зрения, какая она бедненькая и как бы ей помочь. Я как раз очень рада за нее, потому что считаю, что роды – это первая вершина, которую ты покоряешь как мать. После этого испытания ты превращаешься из девочки в женщину. Это потрясающее событие, которое доступно только женщинам, и мне жаль тех, кто этого не пережил. Я рожала четыре раза и каждый раз чувствовала, будто я касаюсь бога, будто я сама богиня! Анна вытягивает руки в стороны, изображая то ли распятье, то ли парящую птицу. – Честно говоря, я ей даже завидую, – улыбается она. – Вот уж чего не могу себе представить, так это, как можно думать о предстоящих родах и при этом завидовать! – Това аж привстала от недоумения. – Для меня лично роды – это жуткие страдания, и когда я представляю, что ей предстоит перенести, мне становится страшно. Я согласна с Мики, что легче перенести свою боль, чем когда болит у твоего ребенка. В первые месяцы после рождения у нее часто болел животик, и я начинала плакать вместе с ней, глядя как она сучит ножками от боли. При этом я сама себя уговаривала, что, возможно, она страдает намного меньше, чем мне кажется. Вот и теперь, когда я представляю себе муки, которые Ширли должна будет пройти, мне становится тяжело дышать, но на этот раз я точно знаю, что это действительно страшно больно. Невыносимо больно! И если честно, мне нечем ей помочь, – с отчаяньем в голосе добавляет она. – Когда Яэль была маленькой и боялась темноты, я брала ее к себе в кровать и прижимала к себе, – опять вступает в беседу Орна. – Но на этот раз, если, не дай бог, возникнут какие-то осложнения во время родов, я не смогу ей помочь! Она машинально снимает очки и так же, как несколько минут тому назад, нервно протирает их краешком рукава. – Вам надо было видеть, как я себя вела, когда она была в родильном отделении! – громко обращается ко всем Мики. Затем ее взгляд останавливается на Элле. – Вы запомнили, кто из нас уже бабушка, а кто – нет? Интересно, помню ли я… Рут, Маргалит… Я кого-то забыла? Элла поворачивается в ее сторону, высвобождая одну руку из-под шали: – И я тоже бабушка. Рут, не поднимаясь со стула, отвешивает поклон в ее сторону. – Мы здесь в меньшинстве, но это временно, – смеется она. Элла отвечает ей легким наклоном головы. Замечание Рут она принимает как знак того, что принята в группу наравне со всеми. – Да, – прерывает их Мики, – вам надо было видеть меня в больнице. Я рычала на всех, кто только находился возле меня. Я не могла совладать с собой. Меня раздирала ее боль, а она – ей было больно, да – но она не кричала, она держала себя в руках. Мики остается сидеть на стуле, но напряженно наклоняется вперед. – Она страшно мучилась до того, как ей сделали эпидуральную анестезию, всего за пять часов до того как она родила. Значит, тринадцать часов до этого она страдала и умоляла: «Мамочка, помоги!» Счастье, что моя подруга была с нею там внутри, а не я. Потому что нечего делать, нечем помочь! Но даже если бы и было чем, я бы не смогла: я бы стояла возле нее и плакала. Я и так сидела по ту сторону дверей и рыдала так, что сестры подходили ко мне, пытаясь успокоить. Мне было так тяжело! Я почти не заходила к ней, потому что знала, что не смогу справиться с собой и начну опять плакать. И она начнет, глядя на меня. Я просто не могла вынести ее страданий, и моя беспомощность меня убивала! – Мики в больнице, и ее дочь умоляет о помощи, – заключает Нири. – Это картина, которая, возможно, пугает вас больше всего: дочь нуждается в вашей помощи, а мать – не только не в состоянии ей помочь, но и сама расклеивается. Мики, привстав от возбуждения, вступает, не дожидаясь паузы: – Только подумайте, что́ каждый из нас независимо от возраста кричит в момент испуга, какое первое слово вырывается у нас непроизвольно? Мамочка! – Правильно, – громко произносит Това. – Так какая же я мать, если моя дочь будет просить о помощи, а я – и я в этом совершенно уверена – буду хотеть только одного: как можно скорее сбежать оттуда? Я просто обязана преодолеть страх и быть там ради нее. Я даже боюсь представить этот день; откуда у меня появятся силы стоять там и слушать, как она стонет?! У меня есть подруга, которая была на родах ее дочки прямо там, внутри. Я прихожу в ужас только от одной мысли, что она была рядом с ней все эти часы. – Ну так вам совсем не обязательно быть там, – говорит ей Рут и вынимает из сумки небольшую бутылочку минеральной воды. Маргалит, которая все это время сидит и молча слушает, произносит еле слышно, не отрывая взгляда от пола перед собой: – Я была со своей дочкой во время родов. Все мгновенно оборачиваются в ее сторону. – Да, я была с Михаль, когда она рожала, – продолжает она, обращаясь ко всем сразу. – Это потрясающе! Я была с ней в родильной палате, мы болтали и смеялись, и акушерка была просто отличная. Я вам очень советую, если, конечно, они разрешают. И эпидуральная – это просто благодать! А когда я увидела головку ребенка, я чуть не сошла с ума! Сначала я не поняла… Когда ты сама рожаешь, это иначе: ты часть этого. А тут, когда ты видишь роды, это совсем другое состояние. Вот она тужится, и у тебя на глазах появляется ребенок! Маргалит даже раскраснелась от возбуждения. – Нам очень повезло с акушеркой: она позвала меня держать голову новорожденного, я сама… вытащила его, и я сама положила его дочке на живот! Это было, – она смеется, – я не могу вам описать… Я еще ухитрилась второй рукой держать видеокамеру. Держала его и снимала! Невероятно, но – факт! – Вот уж точно, невероятно! – соглашается Това. – Вне всякого сомнения, это незабываемое событие, но все эти долгие часы, пока, наконец, ребенок выходит… Видеть это все вблизи? Мне такое даже в голову не приходит! Я не думаю, что могла бы видеть все эти страдания. Это же ужасные страдания! Нет, не думаю, что я в состоянии это видеть. А еще хуже то, что мой страх передался бы и ей. – Я тоже не представляла себе такого, – объясняет Маргалит. – Но у мужа Михаль поднялась высокая температура. Мы отправили его ко мне спать, и я пообещала ему, что если что-то изменится, я его сразу вызову. В душе я была рада, что так получилось и что у меня есть возможность побыть с дочкой. До вечера ничего не продвинулось. Ее муж вернулся, и я могла уйти, но Михаль попросила меня остаться. Мы решили, что мой муж и вторая дочка уедут, а я останусь. Через короткое время после этого ей сделали стимуляцию, и все начало развиваться с дикой скоростью. Я опять спросила, хочет ли она, чтобы я осталась. Мне было важно, чтобы это было ее желание; я ни в коем случае не хотела навязываться. Она ответила: «Оставайся, ты мне помогаешь». Я осталась. И не забуду этого никогда! – Я каждый раз говорю моему зятю: «Смотри, я тебя предупреждаю, – говорит Клодин. – Как только появятся самые что ни на есть маленькие признаки, ты меня сразу вызываешь! Пусть это будет в два часа ночи, неважно, даже в субботу». Я, правда, надеюсь, что Господь Бог этого не сделает – с тех пор, как умер муж, я соблюдаю субботу. – Так вы тоже хотите присутствовать на родах? – спрашивает Това. – Что значит, хочу присутствовать?! Хочу – это не то слово! И я тоже, несмотря на то, что рожала не один раз в своей жизни, я тоже, как точно подметила Маргалит, ничего об этом не знаю. Потому что, когда ты рожаешь, ты вся погружена в свою боль, в то, что происходит с тобой; ты абсолютно не в курсе того, что делается вокруг тебя. Мой муж был рядом со мной, вот он-то видел все. Поэтому, когда я думаю о том, что ей предстоит, все, что я чувствую, – это страх, и я хочу быть возле нее, поддержать ее, насколько смогу. Я только надеюсь, что мне позволят, что не оставят меня сходить с ума по ту сторону дверей! – Может, это вас удивит, – добавляет Това, – но я тоже, несмотря на мой страх перед родами, надеюсь быть рядом с ней в больнице. То есть, что у меня будет достаточно сил, чтобы остаться, а она, в свою очередь, не будет так сильно страдать, что я не выдержу и убегу. С другой стороны, я не могу себе представить, что смогу сидеть за дверями, зная, что она мучается там, внутри. Так, может, самое правильное – вообще остаться дома. Снаружи, внутри – и так, и так тяжело! – Так что же вы будете делать? – интересуется Клодин. – Не знаю. В зависимости от того, где меня это застанет. Мне кажется, лучше всего быть дома. Сидеть и ничего не делать. Мне даже не мешает быть одной. Если я буду одна, то, верно, буду сидеть возле телефона. Возможно, я буду с друзьями. Да. Это не значит, что я не хочу быть там, я имею в виду за дверями, не внутри. Я была бы рада быть в больнице, но она этого не хочет. Она не разрешает. Она мне сказала: «Мы договорились, что я сообщу тебе, когда буду по дороге в больницу, а потом Хагай позвонит тебе, как только я рожу». Мне кажется, это он, отец ребенка, не хочет, чтобы я была с ними. Она как раз хотела бы. Он как-то мне сказал: «Вы будете дергать меня каждую минуту: я ведь буду внутри. И я буду чувствовать себя обязанным выходить, чтобы держать вас в курсе того, что происходит, и это будет меня раздражать. А я не хочу нервничать из-за вас». Я всегда нахожусь в напряжении, и это, по-видимому, действует на окружающих. А они нуждаются в спокойствии. Я не знаю, как это объяснить, но даже когда мне кажется, что я спокойна, люди вокруг меня нервничают, и не только мои дети, но и другие. Вот они и не хотят, чтобы я была с ними. Логично, не так ли? Я это понимаю. Как я могу сказать – нет. А если и скажу, то – что? – Но вы бы предпочли быть там? – полуспрашивает, полуутверждает Рут. – Да, – вздыхает Това. – Я бы хотела быть рядом. Я не вижу себя сидящей и держащей ее за руку. Я не думаю, что буду в состоянии, хотя, если бы она просила, я бы это сделала. Я уверена, что в конце концов пересилила бы себя. Я не такая уж слабая. Я боюсь, но мне в равной степени важно перебороть страх. Одно несомненно: я уже не дождусь того, чтобы все это было позади. На каждый телефонный звонок я бегу в надежде, что, возможно… Мики, не дожидаясь, когда Това закончит, хватает Нири за руку: – Послушайте! Когда она позвонила, сказать мне, что едет в больницу, первое, что я закричала, было: «Что случилось?!» – А она отвечает: «Ничего, я просто еду рожать!» Мики так заразительно смеется, что и остальные сначала неуверенно, а затем с большим облегчением присоединяются к ней. – Я вам клянусь, я совсем забыла, что она уже вот-вот должна родить, – возбужденно продолжает Мики. – Как-то она меня спросила, хочу ли я, чтобы мне позвонили уже после родов или все-таки до того. Первая моя мысль была, как было бы хорошо, если бы меня избавили от переживаний и сообщили бы, что она уже родила, но тут же я подумала: как же я могу пропустить роды моей дочки. Сегодня я точно знаю, что этим лишила бы себя многого. То, что я была там, видела все, что происходило минуту за минутой, и слышала изза двери первый крик ребенка, очень укрепило связь между нами. И знаете, что я еще сделала? Пока моя подруга была там внутри вместе с дочкой, я не могла найти себе места от напряжения и чувства своего бессилия. Дошло до того, что мне стало тяжело дышать… Я побежала в магазин рядом с больницей и купила ей подарок, что-то от меня, что бы было бы рядом с ней, такую маленькую матерчатую куколку. Потом она мне рассказала, что каждый раз, когда схватка казалась особенно сильной, она сжимала эту куклу изо всех сил. Я же все эти долгие часы родов думала только о ней и, когда вошла в комнату и увидела у нее на руках ребенка, в первый миг даже опешила: что это? Откуда это у нее? В комнате опять раздается смех. Нири обращается к Мики: – Вы говорили о том, что роды – это травма как для матери, так и для ребенка, следствием которой является особенная связь между ними. После того, как вы описали роды вашей дочери, я думаю, что это еще один очень значительный этап в ваших взаимоотношениях; и не важно, находится ли мать непосредственно рядом с дочкой или за дверью родильной палаты, это событие, пренебрегать которым не стоит. Она делает короткую паузу и продолжает: – Плюс к этому, мне кажется, что сознание того, что ваша дочь у вас на глазах вступает в новый, незнакомый ей мир материнства, является потрясением и для вас. – Я часто думаю о том, что, родив сына, она родит мне внука, – звенящим от волнения голосом вступает Клодин. – В тот момент, когда она становится матерью, я становлюсь бабушкой. И вы не представляете, как я этого жду! На смену Клодин приходит Рут: – Мне кажется, меня не так взволновало то, что я вдруг превратилась в бабушку, как то, что Талья стала матерью и что она держит на руках своего сына, что у моей дочки есть ребенок! – А я все еще не могу привыкнуть к мысли, что Михаль уже родила, и это притом, что я не только видела, но и участвовала во всем, – вдруг посерьезнев, замечает Маргалит. – Послушайте, – произносит Мики громким, полным драматизма голосом, – у меня было два кесаревых сечения, поэтому я никогда не видела, что у новорожденных синюшный цвет кожи. Когда его вынесли к нам, я зашептала своей подруге: «Он синий, он синий!». А она мне в ответ: «Он не синий, он нормальный». А я как сумасшедшая начинаю кричать: «Вы что, не видите, что он синий, вы что, ослепли?!» Тогда она, моя подруга, хватает меня, смотрит мне прямо в глаза… Мики наклоняется к Анне, сидящей рядом с ней, смотрит ей в глаза и произносит тихим, уверенным голосом: – Что ты кричишь, у тебя тут маленький ребенок! Мики выпрямляется и произносит, обращаясь к группе: – В ту же секунду я успокоилась. У меня тут маленький ребенок. Мне нельзя кричать. Это был потрясающий момент, который я запомню надолго. Сквозь общий смех пробивается голос Рут: – Я не поняла, про чьи роды вы сейчас рассказывали: про ваши или роды вашей дочки? – Моей дочки, естественно, – отвечает Мики, – когда моя дочка родила моего внука. – А-а… А то я не поняла, – тянет Рут. Мики смотрит на нее и приподнимается, будто желая выйти, но переводит взгляд на часы и остается на месте. – С прибавлением! – иронически усмехается Това, глядя на Мики. – Если вам не хватало забот, то теперь вам точно есть о ком беспокоиться. Она обводит взглядом сидящих в комнате женщин: – Скажите, как можно еще раз перенести этот беспрерывный страх, в котором ты находишься, пока твой ребенок, наконец, вырастет, особенно в наше время? Ты не знаешь, куда он зашел, на какой автобус он сел, кто преподает ему в школе и что с ним происходит в течение дня. Пока ты мать и ты сама часть этого, ты не особенно раздумываешь по каждому поводу: ты просто делаешь то, что необходимо, иногда почти автоматически, да у тебя и нет времени на долгие размышления. Но сейчас, когда я смотрю на все это со стороны, я не понимаю, как у меня хватало смелости позволить им выходить одним из дома, ехать самостоятельно в автобусе. Я вообще не понимаю, как у меня хватило смелости родить! Знаете, что я думаю? – она повышает голос, чтобы пересилить дрожь, которая предательски выдает ее волнение. – Я пришла к выводу, что в период беременности у нас вырабатывается иммунитет против страха. Это своего рода защита от страха, которую дает нам природа, иначе никто бы не согласился ни рожать, ни растить детей. В настоящее время у меня такое чувство, что период действия моего иммунитета уже закончился, линия защиты прорвана. Я точно знаю, что предстоит моей дочке, и поэтому боюсь больше, чем боится она сама. Това задумывается ненадолго и затем продолжает: – И еще кое-что не дает мне покоя в последнее время. Я познакомилась с моим мужем в Вене, когда училась на медицинском факультете. Мне кажется, что выключили кондиционер, – она привстает со своего места, чтобы лучше разглядеть, работает он или нет, и, убедившись, что работает, продолжает. – И я уговорила его переехать со мной в Израиль после окончания учебы. Не могу объяснить толком, почему, но я чувствовала, что не хочу жить и растить своих детей в другой стране. Кроме того, мои родители были здесь, и я чувствовала себя виноватой за то, что оставила их одних. Еще до моего рождения у меня была сестра, которая умерла от воспаления легких. Это было страшное горе, о котором никогда не говорили, но которым дышало все в нашем доме. Так это у выходцев из Германии: они ни о чем не говорят. В любом случае у меня была возможность жить в Европе и растить детей там, но я сказала – нет! Мой муж очень хотел там остаться, а я настаивала – нет, нет, и нет… По-видимому, мне было неудобно оставить здесь родителей. Так что мои дети родились здесь, я вынудила их жить в этой опасной и нелегкой стране. А ведь они могли жить в любом другом месте! Я не знаю, было бы это лучше или хуже, не знаю. Но видеть моих внуков растущими здесь, в обстановке террора и всего, что тут происходит! Они могли расти в любом другом месте, так почему надо страдать именно здесь?! И все это практически из-за меня: это был мой выбор. – Значит, в вашем паровом котле варится еще и чувство вины. Появилось еще одно поколение, которое, возможно, должно будет заплатить за принятые вами решения, – обращается к ней Нири. – Я не уверена, это к лучшему или к худшему: что, за границей не погибают? По логике, это то же самое, это все дело случая. Но столько лет жить в беспрерывном напряжении! Это вовсе не значит, что что-то случится, в девяносто девяти процентах ничего не случается. Но ты волнуешься изо дня в день. Начиная новый день, ты никогда не знаешь, чем этот день закончится. Даже если ты не едешь в автобусе, то ты находишься рядом с автобусом, и ты никогда не знаешь, что может случиться… – заканчивает Това еле слышно. Матери молчат, задумавшись под впечатлением сказанного, но тут по-прежнему непредсказуемая Клодин резко меняет тему: – Кто-нибудь из вас видела УЗИ внука? Не думаю, что кто-то при этом может остаться равнодушным. Нири просит ее рассказать об этом поподробнее. – Это было здорово! Представляете, я видела его ручки! У меня было желание залезть вовнутрь… – смеется она. – Я говорю: «Ой, я сейчас помру!» А моя дочь мне отвечает: «Ты что, он же еще даже не родился!»… Клодин от волнения размахивает руками; браслеты звенят, глаза блестят. – Я просто не могла успокоиться: это такое чудо, ну прямо чудо! Все дети столпились возле телевизора – она принесла кассету ко мне домой – и кричали, а вот ножки, а вот… Мы уже представляем его таким кругленьким, чем-то похожим на нее, чем-то – на него… Нет, это просто потрясающе! – А знаете, от чего я имею самое большое удовольствие? – спрашивает Рут, широко улыбаясь. – Когда я прижимаю малыша к себе, я чувствую… Она закрывает глаза. – У меня возникает желание его кормить. Да-да, прижать к груди, и чтобы он сосал! Когда я вижу, как моя дочка его кормит, я тут же вспоминаю, как это было у меня, это ведь незабываемое ощущение. То же самое я чувствовала, когда Талья была беременна. Я клала руку ей на живот и ощущала движения, как будто это происходило во мне. Это было абсолютно физическое ощущение беременности. Она кладет одну руку себе на живот, а вторую прижимает к сердцу. Анна не сводит с нее глаз: – Вне всякого сомнения, что как только ты видишь УЗИ и чувствуешь движения ребенка, ты начинаешь осознавать, свыкаться с мыслью о нем, вживаться в новую роль. – Я думаю, что даже обычные разговоры о беременности и о будущем внуке уже являются подготовкой к тем переменам, которые должны произойти у вас в семье в ближайшее время, – говорит Нири. – Большую часть нашей встречи сегодня вы говорили о страхе. Судя по тому, с какой готовностью вы подхватили эту тему, как взволнованно, иногда до слез, обсуждали поднятые здесь вопросы, чувство тревоги не оставляет вас; и я искренне надеюсь, что вам стало, пусть не намного, но легче. Возможно, благодаря тем из вас, которые говорят о родах уже в прошедшем времени и порой даже с улыбкой вспоминают свои переживания. – Правильно. Когда Талья была в положении, я даже сама себе не позволяла признаться, насколько я боюсь. Сейчас, когда все уже позади, я говорю об этом совершенно открыто, – соглашается Рут. Нири согласно кивает головой и добавляет: – Мне кажется, есть еще одна причина того, что вы именно сегодня заговорили о своих опасениях: возможно, с той же неуверенностью и настороженностью вы относитесь и к нашей группе. Она ловит на себе недоумевающие взгляды и поясняет: – На прошлой неделе вы говорили, что пришли сюда, чтобы избежать одиночества, чтобы оказаться среди тех, кто готов вас выслушать, в надежде получить поддержку от других женщин, которые понимают, что с вами происходит. Возможно, сегодня вы задаетесь вопросом, а что вы сможете предоставить взамен. Когда вы думаете о том, каковой будет (или была) ваша роль во время родов, вы спрашиваете себя и о том, в чем же ваша функция здесь, что вы сможете дать и какую пользу извлечь из этих встреч. И это, естественно, вызывает у вас неуверенность или, скажем, настороженность по отношению к группе. Женщины стараются не глядеть друг на друга: кто-то сосредоточенно разглядывает пол, кто-то пытается рассмотреть что-то за окном. Орна нервно перебирает содержимое бездонной сумки. Только Элла не сводит глаз с Нири, с благодарностью думая, что последние слова, обращенные ко всей группе, на самом деле были адресованы ей. Нири, со свойственным ей тактом, не выдала, хотя точно угадала, что кроется за пойманным ею растерянным взглядом Эллы. «Что я здесь делаю? – безмолвно спрашивала она. – Какое отношение имеют их слова ко мне? Что они могут мне дать? И что могу предложить им я? Я не подхожу к этой группе», – с грустью заключает она свой мысленный диалог и опускает глаза. Пауза явно затягивается. – Я пытаюсь понять, что кроется за вашим молчанием, – нарушает тишину Нири, – и я думаю, что оно скрывает многое, чего мы так и не коснулись сегодня в группе: тревожные мысли, которые не оставляют вас, проблемы, которые, возможно, кажутся вам неразрешимыми. Когда вы говорили о своих переживаниях, то все единогласно указали на дочерей и внуков – вот он, объект и источник наших тревог. У меня же возникло предположение, что где-то в глубине, возможно, отодвинутые на второй план предстоящими или только что происшедшими в вашей жизни переменами, вас тревожат другие проблемы, не связанные напрямую с вашими дочерьми или новорожденными, а касающиеся непосредственно вас самих. Быть может, если нам удастся высветить этот, так тщательно затемненный второй план, мы обнаружим там совсем другие мысли и заботы. Женщины молчат, вероятно, обдумывая услышанное. Элла внезапно выпрямляется, как будто последнее замечание Нири наполнило ее энергией. Первой не выдерживает Орна: – Мы действительно не вполне представляем, что нас ждет в ближайшем будущем! Но сегодня, как и все последнее время, я все-таки думаю больше о Яэль – ведь это она беременна, а не я! И ей совсем нелегко, так что я стараюсь помочь ей, чем только могу. И если честно, в настоящее время, до тех пор, пока у меня родится внучка, я не могу думать ни о чем другом. Я действительно не представляю, как это будет! И что на самом деле означает быть бабушкой. – Вы совершенно правы! – подхватывает Мики. – Я хочу вам сказать, что только став бабушкой, можно понять, что это такое! Я, к примеру, просто ненормальная! Что же касается страха, я скажу вам то, что говорила своей дочке каждый раз, когда она впадала в панику. Я говорила ей: «Не надо волноваться. У тебя еще есть два-три спокойных месяца. Так что незачем переживать раньше времени. Через два-три месяца ты будешь знать, все ли у него в порядке. А пока что пожалей себя!» Мики замолкает на миг, ее лицо становится серьезным, и она продолжает, но теперь уже медленно, обдумывая каждое слово: – Вот что мне приходит в голову: и сейчас, уже после родов, дочка по-прежнему занимает все мои мысли, я все время стараюсь ей чем-либо помочь. Но, вспоминая сами роды, я заставляю себя смотреть правде в глаза – как мать я этого экзамена не выдержала. Может, Нири, вы это имели в виду, говоря о непосредственно наших личных проблемах? Она вновь замолкает и, глубоко вздохнув, будто пересилив себя, говорит незнакомым для окружающих тихим голосом: – Действительно, есть что-то, что не дает мне покоя. Я ведь вам рассказывала, что мне было ужасно тяжело во время родов. Я чувствовала, что еще немного, и я этого не выдержу, что силы буквально оставляют меня… И все это на глазах у дочки, в то время как она всю жизнь была уверена, что ее мама – супергерой, эдакая супермама! И вот впервые в жизни она увидела меня практически беспомощной и абсолютно бесполезной. Последние слова Мики произносит еле слышно, не поднимая глаз. Рут, слушавшая ее, подавшись вперед от напряжения, переводит взгляд на Анну. – Вы чувствовали, что вот оно, настоящее испытание вашего материнства, а вы, возможно, впервые не в состоянии помочь нуждающейся в вас дочери, – тихо произносит Нири, и Мики кивает ей в ответ. По-прежнему не отрывая взгляда от пола, она пытается вытащить лежащую под стулом сумку. На лицах женщин заметна усталость. В беседу вступает Клодин: – Я сегодня говорила очень много; в других местах я обычно молчу – мне тяжело говорить о своих переживаниях или о вещах, которые меня пугают. Если честно, я никогда раньше не говорила об этом. Я дико боюсь! Каждый раз, когда я думаю об этом, я говорю, что удавлюсь, если, не дай бог… Я так жду этого дня, что боюсь сглазить и заставляю себя не думать о нем. И каждый раз сплевываю три раза, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Я лично страшно волнуюсь! И вновь в группе тишина; все сидят, опустив глаза, не в состоянии взглянуть друг на друга. Нири обводит всех взглядом, а затем произносит: – То, что пугает, это не столько беспомощность по отношению к нуждающейся в вас дочке, о которой говорила Мики, сколько возможность, что что-то случится, и никто не сможет помочь не только ей, Клодин, – теперь Нири смотрит только на нее, – но и вам. Когда вы думаете об этом, вы знаете наверняка, что вам этого не вынести и что вы не сможете жить дальше. Это страшные мысли! Клодин молча опускает голову. Рут смотрит на Клодин и небрежно бросает: – В любом случае ее жизнь изменится! И не только, если, не дай бог, что-то случится. Затем, она обращается к Нири: – Я вспоминаю, что я чувствовала, когда Талья уже дохаживала последние недели; чувство, похожее на то, с которым я ходила незадолго до того, как она родилась, что жизнь уже никогда не будет такой, какой она была до этого. Есть такая точка, когда – все: назад дороги нет. Так я себя чувствовала и в этот раз. Должно произойти что-то, чего изменить нельзя. Я много думала о том, как все устроится, какие будут между нами отношения. До сегодняшнего дня я все еще привыкаю к новым обстоятельствам. Что касается меня, то мне это прибавило уверенности в себе; я знаю, что мне еще есть, куда стремиться, чему учиться. Что еще есть потрясающие вещи, которые мне до этого были незнакомы, например, быть с внуком, петь ему, касаться его, да и просто смотреть на него! Что-то, что в принципе не ново, но я для себя открываю это впервые; мое место в жизни теперь изменилось. Как это повлияет на меня? Как это повлияет на нас, на меня и на мужа? Мне это добавляет энергии, добавляет интереса к жизни, – заключает она и опять привычно ищет глазами Анну. – Как обычно, так и сейчас, – вздыхает Това, – я не в состоянии радоваться всему тому счастью, которое ждет меня впереди. Я полна забот, и мне абсолютно ясно, что они не прекратятся с наступлением родов. Я всегда найду из-за чего беспокоиться. Уже сейчас, еще не став бабушкой, я иногда думаю о том, а что будет, если мой внук меня обидит? Я очень ранимая, меня очень легко обидеть. Я знаю, что на детей не надо обижаться, что это неправильно, но я – да – обижаюсь. А внуки могут обидеть, особенно современные дети. И все почему? Потому что есть ситуации, на которые я реагирую как маленький ребенок. Так что, мы поменяемся ролями? Это то, что, по словам моей дочки, я сделала с ней – превратила ее в мою маму. Анна задумчиво смотрит на Рут и произносит: – А я не умею думать впрок, что будет и как будет, – Рут меня знает. Я просто радуюсь, глядя как Наама теперь выглядит, такая женственная, с большой грудью, полными губами… Она всегда старалась скрыть свою женственность, а сейчас ей просто некуда деться: она прет из нее наружу во всей своей красе! – голос ее звенит от еле сдерживаемого смеха. – Я понастоящему кайфую, смотря на нее, такую кругленькую! Для пущей наглядности она складывает руки полукругом перед собой. Затем, посерьезнев, опускает руки на колени и продолжает: – Что же касается меня, я не стараюсь предугадать то, что будет; я занята своей жизнью, кстати, очень насыщенной, и терпеливо жду. Вы меня не увидите сидящей и нервно грызущей ногти в ожидании родов. Я живу с чувством, что вот-вот произойдет что-то замечательное. Кстати, что это за шум? – она прислушивается к смеху, который раздается во дворе за окном. Това, которой до замечания Анны ничего не мешало, теперь всматривается в темное пространство за окном и прислушивается. Только после того, как голоса стихают, она вновь вступает в беседу: – Возможно, я несколько преувеличила. У страха, знаете ли, глаза велики. Я терпеть не могу перемен, но жизнь есть жизнь, и я с ними смирилась. Умом я понимаю, что периодически наступают изменения, в том числе и спады. И что эти спады нас закаляют. Поэтому я говорю себе, что беременность Ширли – это положительный жизненный процесс, абсолютно естественный, развивающийся в строгой последовательности, без скачков и неожиданностей, что меня и успокаивает. Только бы уже поскорее все закончилось и, конечно же, без осложнений! Рут обращается к Нири: – Я обратила внимание, что мы вновь говорим о наших дочках, а ведь вы спрашивали непосредственно о нас. Я думаю, из всего здесь сказанного ясно, что все, что происходит у дочки и с дочкой, прямым образом влияет на нашу жизнь. У меня же по этому поводу есть свое положительное или, скажем, оптимистичное замечание. В течение ее беременности, которая, кстати, протекала не совсем гладко, я видела ее отношения с мужем. И что касается меня, я испытываю ну, может, не облегчение, но радость, что все в порядке, что она не одна, что они подходят друг другу, что он заботится о ней, что ей хорошо и хорошо их ребенку. И если быть честной до конца, мне было очень важно знать, что рядом с ней есть кто-то, настоящий мужчина, который поддерживает и опекает ее. Вот и я опять говорю о ней. Говорю и думаю, насколько действительно все, что происходит с ней, влияет на мою жизнь и в хорошую, и в плохую сторону. По-моему, в этом и состоит секрет материнства: связь между мамой и дочкой настолько глубокая и сильная, что вроде мы существуем в отдельности, но мы и одно целое. В этом, по-моему, вся суть: с одной стороны, желание оставаться связанными, а с другой – сохранить свою независимость друг от друга. Последние слова Рут заставляют женщин задуматься. Нири обводит взглядом притихшую группу и объявляет, что пришло время заканчивать. Клодин откликается первой: – Как быстро прошла встреча! Нири отвечает ей улыбкой: – Наша встреча, которая началась с рассказа о том, как невеста благословила вашу дочку, почти вся была посвящена тревожному ожиданию родов. В то время, когда дочь оказывается в эпицентре бури, мать не в состоянии сосредоточиться на своих переживаниях, прислушаться к своим мыслям и чувствам – она вся поглощена заботами о дочери. Последнее замечание Рут об особых взаимоотношениях между мамой и дочкой, да и сам факт того, что вы находитесь здесь, подтверждают, насколько все-таки важно для вас поделиться тем, что происходит лично с вами. Я предлагаю сложить воедино опыт, накопленный каждой из вас, чтобы помочь друг другу по возможности разобраться в себе. Наша группа находится еще только «в начале срока», и у нас будет достаточно времени коснуться всего, что вас волнует. Нири Распрощавшись с матерями, я еще на некоторое время задержалась в комнате – навела порядок возле кофейного автомата, собрала свои вещи и выключила свет. «Вот и еще одна встреча прошла», – думала я, спускаясь по лестнице. Мне кажется, что сегодня затрагивались темы более личного характера; у меня на глазах группа как бы начинает прорисовываться: тени исчезают, и каждая из женщин приобретает свои резко очерченные контуры. У каждой – своя характерная реакция, свойственные только ей стиль и язык, которые я уже начинаю узнавать. Группа еще периодически теряет равновесие, как малое дитя, делающее свои первые шаги, но тут же пытается выровняться, чтобы общими силами преодолеть путь, который приведет их к одной общей цели. Мои мысли возвращаются в недалекое прошлое. Когда я рассказала друзьям, что собираюсь создать группу для матерей, дочки которых беременны, многие из них даже не пытались скрыть своего удивления: «Что с ними обсуждать? Это же не их беременность, и рожать не им! У них это уже позади!» Интересно! Я вспомнила их слова сегодня, когда женщины в комнате упорно продолжали говорить о своих переживаниях, связанных с тем, что происходит и должно произойти у их дочерей. По всей вероятности, их нежелание заняться собой отражает ту роль, которую, по их мнению, они вправе исполнять сегодня. И они тоже считают, что главный герой тут – дочь. Мне надо запастись терпением и уступить место времени: оно хорошо знает свое дело. Динамика в группе будет развиваться, скованность пропадет, и в комнату проникнут новые чувства, о которых почти не говорят, а, возможно, и не догадываются. Период перемен, который начинается с беременности и заканчивается через несколько месяцев после родов, откроется перед нами во всей его сложности и многогранности во многом благодаря своеобразному составу группы, где у каждой женщины свой характер, свой жизненный опыт и своя судьба. Я выхожу во двор, смотрю на окружающих. Я чувствую себя очень хорошо среди женщин из своей группы – маленькая девочка среди больших мам. Я всегда любила находиться среди женщин, слушать их разговоры, наслаждаться их вниманием ко мне, младшей. Только по отношению к Элле я чувствую себя иначе. Ее хрупкая внешность в сочетании со слабым, робким голосом просит защиты. Ее глаза ищут меня, и мне хочется протянуть ей руку и не покидать ее. Что есть в тебе, Элла, такого, что вызывает во мне желание помочь тебе, прижаться к тебе, стать твоей дочкой? И в то же время я ощущаю себя старшей среди них. У меня возникает мысль: если бы моя мама участвовала в такой группе, когда я была беременна, возможно, нам было бы проще понять, что происходит, а значит, и легче друг с другом. И тут же понимаю, что опять перекладываю всю ответственность на маму. «Но понимание не всегда приводит к немедленным переменам», – продолжаю я мысленный поединок, пытаясь сбросить с себя чувство вины, которое вновь атакует меня, – дочь, которая весь свой путь взросления проделала, вцепившись в мать мертвой хваткой. А может, это всегда так: дочь ищет в матери понимание и поддержку, но ведь и мать, особенно когда дочь уже выросла, ждет от нее того же. Значит ли это, что во взрослой жизни наши роли смешались, а границы стерлись? И опять эта потребность немедленно позвонить маме и рассказать, что все пришли, и услышать в ее голосе то же, что переполняет меня – гордость и надежду. Я всегда спешила поделиться с мамой своими успехами или просто рассказать о каком-то хорошем событии, так как знала, что ее радость всегда будет равна, а то и сильнее моей; и ее реакция зачастую ломала стены неверия в себя, которые я, к сожалению, так упорно возводила. Но по той же причине я избегала посвящать ее в свои неудачи и трудности, так как ее взгляд обнажал именно то, что я боялась увидеть. Почему я до сих пор так нуждаюсь в ее похвале? Что есть такого в этой связи с матерью, что ею невозможно пресытиться? Элла Сидеть одной в кафе или кинотеатре, а тем более есть в одиночестве в ресторане когдато являлось для меня той красной чертой, переступить которую я решалась разве что мысленно, и то лишь для того, чтобы прийти к заключению, что это невозможно. Мне казалось, что одна я буду чувствовать себя ужасно, и все, что мне останется, – это исподтишка разглядывать окружающих, ну а это – дурной тон. Я представляла себя сидящей в полуосвещенном зале, уничтожающей порцию с огромной скоростью, не поднимая глаз от тарелки. Чем больше я об этом думала, тем более увеличивалась воображаемая скорость поедания, так что довольно скоро я видела себя обедающей в столовке для неимущих с одним лишь желанием – неприметно и быстро насытиться и исчезнуть. Поэтому, оберегая себя от расстройства, я чаще всего отказывалась от этого сомнительного удовольствия. Но с тех пор кое-что изменилось – такого сорта вопросы меня просто больше не занимают. Теперь у меня новая привычка: кофе и свежая булочка каждую пятницу в кафе на моей улице, рядом с домом. Каждую неделю примерно в девять я захожу в кафе и усаживаюсь за одним и тем же столиком в углу, греясь в мягком тепле неназойливого утреннего солнца. Сижу одна, поставив сумку на соседний незанятый стул, отгородившись от других, таких же, как я, постоянных посетителей – то ли приезжая, то ли туристка – и наслаждаюсь бездельем. Пятница. Я сижу в кафе и мысленно переношусь на несколько дней назад, во вторник, на встречу матерей; вспоминаю, как вышла оттуда в полном смятении, удрученная, взволнованная, переполненная мыслями и воспоминаниями. Я вновь возвращаюсь ко дню твоего, Эйнав, рождения. В этот день, можно сказать, и я родилась заново – стала матерью. С тех пор материнство стало моей второй кожей, моей одеждой, оно всегда при мне. Куда бы я ни подалась, я – мать. Я растворяюсь в своих мыслях, даю им плыть в любом направлении, терпеливо жду, когда они причалят к берегу. И вот я вижу тебя, моя девочка, в детском садике, во время завтрака, твои крохотные ручки сжимают кусочек хлеба, смазанный творогом, вся мордашка покрыта белым снегом. Скоро ты нарисуешь картинку, которую позже протянешь мне, вся светясь от гордости. На работе в обед я шептала про себя: «Спи спокойно, мое счастье». Словно читая твое время по внутренним часам, я знала каждую твою минуту. А затем всплывает еще одна картинка – назойливая; я пытаюсь ее прогнать, но в конце концов сдаюсь и вижу себя по дороге в садик, вспотевшую, спешащую, опаздывающую; и мою Эйнав, стоящую у ворот с ожиданием и обидой во взгляде, которые сменяются радостью в ответ на мой виноватый, молящий о прощении вид. И вновь всплывает во мне мгновенно подавленное разочарование: не меня ты ждала, а мороженое – награду, которую я приносила всегда, когда опаздывала. Или вот еще: вечер, мы сидим на кровати в твоей комнате; я уже прочла тебе две сказки и обняла, и поцеловала, и выключила свет, а ты все не даешь мне уйти… Я отпиваю свой кофе, который уже успел остыть, жду продолжения воспоминаний на экране моего воображения, и оно усаживает тебя, Эйнав, возле меня здесь, в кафе, как когдато. Ты помнишь, как когда ты была маленькой, – шепчу я тебе с улыбкой, – вечером, когда я укладывала тебя спать, ты просила, чтобы я не уходила? Ты помнишь, как ты упрашивала, и требовала, и кричала, чтобы я осталась? «Ты любишь меня?» – спрашивала ты. «Ты любишь меня? – не успокаивалась моя девочка. – Скажи мне, что ты любишь меня!» Сто тысяч раз я повторяла тебе, – говорю я ей, – повторяла, и повторяла, и повторяла, пока уже начинала хрипеть, повторяла и повторяла, пока уже переставала замечать, что я говорю, а рука гладила твой лобик, твои волосики: «Я люблю тебя, я люблю, я люблю…» Вот мы уже превратились в живой ком, руки и ноги сплетены; ком раскачивается, как в молитве, и мелодия не прекращается: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя…» И так до тех пор, пока я останавливалась, разжимала осторожно твои руки, целовала один за одним тонкие пальчики и клала твою кудрявую головку на подушку. Я оставалась еще на минуточку и еще на минуточку возле тебя, вдыхая остатки младенческого аромата, не в состоянии расстаться. Иногда я просыпалась по ночам и бежала в твою голубую комнату убедиться, что ты дышишь. За короткое расстояние, которое разделяло наши комнаты, я успевала помолиться, чтобы все было в порядке, потому что если – нет, то мне лучше не жить; и еще успевала за два оставшихся шага обдумать, как умру: таблетки, безболезненная смерть, мгновенное ныряние в бездну, а ты уже там, тянешь ко мне ручки… Я клала мизинец тебе под носик, как кассирша, которая проводит индексом под лучиком считывающего устройства, и, получив подтверждение, что все хорошо, возвращалась в кровать. Моя девочка – мама! Я – бабушка! Я внезапно вернулась в «здесь и сейчас», рассматриваю соседний столик, который незаметно для меня успели занять четверо мужчин. И вот я в группе таких же, как я, матерей. Таких же? – пугаюсь я. – Разве они такие же? А как же ты, Эйнав? Я еле сдерживаю слезы. Девушка в военной форме проходит по тротуару; одной рукой прижимает к уху телефон, другой – тащит по земле огромную походную сумку. Помнишь ли ты, Эйнав, тот наш разговор, один из многих за время твоего путешествия? Это была длинная поездка, где ты только ни побывала… Длинная и тяжелая. «Мама! – кричала ты. – Мама! Здесь просто здорово!» А я пыталась вставить предложение, добавить слово в непрерывную лавину фраз; спросить, когда ты возвращаешься, сказать, что я соскучилась; рассказать, что упала и сильно ударилась, но волноваться не надо – все уже почти прошло; и почему ты так редко звонишь, и что я каждый вечер жду звонка и поэтому никуда не выхожу, чтобы ты не волновалась, не застав меня дома. А ты все говоришь и рассказываешь о природе и о друзьях, которых встретила, и о еде, которую пробовала; и о том, что купила мне подарок и послала его по почте. «Почему по почте, – испугалась я, – разве ты не должна скоро вернуться?» И вдруг – конец, ты исчезла в моей трубке. И снова будни, одиночество, ожидание. А, вернувшись, ты неожиданно возникла в дверях, застала меня врасплох. «Эйнав! Доченька! Я не могу поверить, как это ты не сказала мне, что возвращаешься? Я бы приехала тебя встретить!» Все, достаточно! Я прошу счет у молодой официантки. Ком в горле никак не проглатывается. Все это время, что тебя не было, я держала в замораживателе коробки с твоими любимыми блюдами; и ты ела с жадностью и наслаждением. Потом ты вынула из сумки вышитые салфеточки, купленные специально для меня, и подставочки для стаканов, правда, очень красивые. И я сидела там, напротив тебя, счастливая оттого, что вижу тебя, вижу, как ты похудела. Но вдруг я спохватилась, а где же твой большой рюкзак? И ты рассказала мне, что познакомилась с одним парнем и оставила рюкзак у него дома, чтобы не тащить все сюда. Я выхожу из кафе, иду домой, еле переставляя ноги. Как правы были женщины. Они выразили абсолютно точно то, что я чувствую. Никогда. Никогда не смогу существовать отдельно от тебя, Эйнав, мы навсегда две составляющие одного целого, моя девочка, мы соединены между собой на веки вечные. Встреча третья Бабушки Элла шла по аллее не спеша, будто прогуливаясь, наперекор назойливому голосу, который нашептывал ей, что, если она продолжит в том же темпе, то непременно опоздает и что куда лучше прийти первой, чем оказаться мишенью для одновременно нацеленных на тебя восьми пар глаз. Уже в который раз она думала о том, что, может, ей вообще незачем туда идти; что надо было, как она это делала не раз, не противоречить себе и остаться дома; но тут же вспоминала взгляд Маргалит, с которой ей очень хотелось встретиться вновь, и Рут, Анну, и Орну, и, конечно, Клодин. Мики – нет, она ее вроде как боится. А Тову? Она еще точно не решила. И с Нири ей тоже хочется встретиться. Удивительно, несмотря на то, что по возрасту Нири ближе к Эйнав, Элла не всегда могла определить, кто из них старше: иногда ей казалось, что Нири – мать, а она, Элла, чувствует себя рядом с ней как дочь. От этих мыслей ей стало как-то веселее. А иногда – совсем наоборот: она – дочь, а я волнуюсь за нее, пытаюсь угадать, что она чувствует; мне важно, чтобы она была довольна, чтобы все у нее было хорошо. Элла подошла к зданию, опять поднялась по лестнице и вошла в уже знакомую комнату. «Ну вот, успела как раз вовремя, – подумала она, – все уже в сборе, но встреча еще не началась». Нири уже сидит, и матери потихоньку рассаживаются по местам. Элла садится там же, где сидела в прошлый раз: между Клодин и Орной. Рут, одетая опять во все белое, и Анна в сером спортивном костюме и кроссовках, оживленно беседуя, продвигаются к своим стульям. Сев, Рут обращается к Нири: – Я как раз рассказала Анне, что вчера наш приятель сказал моему мужу: «А ведь ты спишь с бабушкой», на что Ицик, мой муж, ему ответил: «Нет, я сплю со студенткой»… Рут заливается довольным смехом, вызывая улыбки у окружающих. Мики выключает свой серебристый телефон, небрежно кидает его в сумку и спрашивает: – Что именно вы изучаете? – Альтернативные методы психотерапии, – отвечает Рут, машинально потирая большой зеленый камень на кольце, – и делаю это с огромным удовольствием. Во-первых, то, что я приезжаю раз в неделю из Иерусалима в Тель-Авив. Я уж заодно использую этот день, чтобы погулять по городу, обязательно встретиться с подругами, ну а теперь еще и наша группа. Кроме того, я самая старшая в классе, все там в возрасте моих детей. Я возвращаюсь на тридцать лет назад, разве это не кайф?! Если вы меня спросите, что меня больше радует – то, что я студентка, или то, что я бабушка – честное слово, я не знаю, что вам ответить. И к тому и к другому мне тяжело привыкнуть. Хотя учеба для меня – дело более знакомое: начав однажды, я уже больше не прекращала; все время были какие-то курсы, семинары. Но вот бабушка? Я? Рут, улыбаясь, качает головой и разводит руками. – Вы прямо читаете мои мысли! – присоединяется к ней Това, выпрямляясь на стуле и приглаживая за ухом непослушную прядку волос. – Я абсолютно не вижу себя бабушкой, это не укладывается у меня в голове. У меня такое чувство, будто я сама только недавно родила! – Это действительно непостижимо, – энергично кивая головой, соглашается с ней Рут. – Прошло уже три месяца, как родился Гайчик, а мне все еще странно, что я – бабушка. Мне не совсем понятно, как это объяснить; ведь вот я сделала мою маму бабушкой, когда ей было сорок три, а мне уже пятьдесят семь, вроде вполне нормальный возраст, не так ли? И все равно мне тяжело с этим свыкнуться. Может, потому, что я полна сил и планов и у меня масса дел… Она замолкает и переводит взгляд на Клодин. – Как у вас дела? Как вы себя чувствуете? – Я, слава богу, в полном порядке, – отвечает ей Клодин, широко улыбаясь, – успокоилась. Не знаю, что это напало на меня в прошлый раз, как будто навалилось все разом. Это бывает. Наступает короткая пауза, во время которой женщины, словно заново здороваясь, обмениваются взглядами и улыбками. Элла поднимает глаза на Маргалит, и та замечает, обращаясь ко всей группе: – Как мы сегодня быстро начали. – Да, – отвечает Нири, – вам даже не понадобилась моя помощь, чтобы начать встречу. Ваше состояние сегодня напоминает мне реку перед половодьем: если не открыть вовремя шлюзы, она выйдет из берегов и затопит всю округу. У меня такое впечатление, что вы уже определили и тему, которой мы коснемся сегодня, – это ваше отношение к новой графе, появившейся в вашем титульном списке. В комнате вновь воцарилась тишина – никто не спешит быть первой – но на этот раз она не давит. Волнение, которое испытывала Элла в течение всего дня, думая о группе, исчезло без следа; она абсолютно спокойна. – Интересно, – вступает Маргалит, – как раз на этой неделе я думала о том же, о чем только что рассказала Рут. Несколько месяцев тому назад у меня на работе я записалась на короткий семинар под названием «Этапы в нашей жизни»; записалась и – забыла. Он состоялся на этой неделе; если бы моя подруга мне не напомнила, я бы его пропустила. Так что получается, что на этой неделе я участвую в двух похожих группах. Маргалит привычным жестом поправляет шляпку. – Ведущая группы попросила каждого участника рассказать об одном событии, которое резко изменило его жизнь. И я не могла выбрать между тем днем, когда я осиротела, и «днем рождения бабушки» – как я называю мое последнее превращение – двумя событиями, казалось бы, несравнимыми. В обоих, на мой взгляд, есть парадокс. С одной стороны, эти перемены очень резкие и происходят мгновенно, с другой – они тянутся долгое время. Моя мама внезапно скончалась два года назад, а моему внуку чуть больше месяца, но в обоих случаях я все еще в процессе привыкания, перехода из одного состояния в другое. Поэтому я не могу сказать, которое из них потрясло меня больше; ни с одним из них я еще окончательно не свыклась. – Я тоже это пережила, – еле слышно произносит Элла, слегка откашлявшись. – Я потеряла родителей уже давно. Моя мама умерла, когда мне было тринадцать, а папа – двадцать четыре. И вот сейчас – я вдруг бабушка. Мне потребовалось много времени, чтобы свыкнуться с тем, что я сирота, но к мысли, что я бабушка, я привыкла чик-чак. Элла замолкает на миг, прежде чем продолжает с полуулыбкой: – Иногда я подхожу к зеркалу и сама к себе обращаюсь: «Баба, бабуля…» В комнате раздается смех; Элла продолжает улыбаться, машинально перебирая бахрому все той же зеленоватой шали. Това ободряюще смотрит на нее, понимая, как тяжело она переносит всеобщее внимание. – Мои родители еще по-прежнему со мной, – говорит она, обращаясь к Элле. – Правда, папа уже нуждается в постоянном уходе, но мама еще полна сил. Она необыкновенная женщина, моя мама… Всю свою жизнь, еще совсем маленькой, я думала о том дне, когда их не станет. Я готовлю себя к этому уже долгие годы, то есть думаю об этом, боюсь этого. И с годами это происходит со всеми вокруг меня, но не со мной… Она смеется, но затем резко осекается и серьезно продолжает: – И о том, что когда-нибудь стану бабушкой, я думаю уже давно. Мне кажется, что первый раз я подумала об этом в мою первую беременность. Как-то у меня появилась мысль, а что будет, когда я окажусь в положении моей мамы; что я буду чуствовать, когда моя дочь будет беременна? Длительное время я к этому не возвращалась, и эта тема начала занимать меня вновь, когда, повзрослев, я почувствовала, что уже готова стать бабушкой, что уже пора; когда у всех подруг, одной за другой, рождались внуки, а у меня все – нет… Я не могу объяснить до конца, но у меня появилось такое чувство, что должна быть причина, оправдание тому, что я все еще существую. Мне кажется, мы можем прожить долгое время, вообще не задумываясь о подобных вещах, как вдруг, в один прекрасный день, в нас начинает зреть неясное чувство, что «что-то надвигается»; и в голове начинают крутиться мысли, от которых невозможно избавиться. Словно в нас вселилось сознание, что что-то обязательно должно произойти; что так предусмотрено природой, и мы начинаем думать об этом беспрерывно. Страх потерять родителей сопровождает меня всю жизнь; иногда я думала об этом больше, иногда – меньше. Но мысли о внуках начали появляться только в последнее время, когда это уже вроде как стало напрашиваться. Будто в нас заложен специальный часовой механизм, который сверяет свой режим с жизненным циклом в природе, и подготавливает человека к плавному переходу в следующий этап. – Я в точности знаю, о чем вы говорите, – соглашается с ней Рут. – Я тоже несколько лет назад начала вдруг чувствовать, что во мне просыпаются «гормоны бабушки». Эдакое внутреннее состояние, что уже пора, что это мне сейчас очень подходит… Возможно, и на меня повлияло то, что большинство моих подруг уже нянчат своих внуков. – А я ничего подобного не испытывала, – говорит Анна как будто сама себе и поднимает глаза на Нири. – Не то что заранее, но даже, когда Наама позвонила мне сообщить, что она беременна, это прозвучало для меня как гром среди ясного неба. Мало того что она беременна, так еще в первый раз и – двойня! Это было так неожиданно! И первое, что мне пришло в голову, что она, Наама, будет матерью и какой именно матерью она будет. О себе, о том, что я стану бабушкой, я вообще не думала; да и сейчас эта тема меня не особо занимает. Элла смотрит на Анну и думает про себя, что она действительно совершенно не похожа на бабушку. У нее стройная тонкая фигура, блестящие густые волосы и гладкое ненакрашенное лицо. «Хотя и я тоже не выгляжу бабушкой, и никто не верит, что у меня такая взрослая дочь», – невесело заключает она. Клодин, слушавшая всех с большим вниманием, замечает: – Я тоже никогда не думала о том, как стану бабушкой, – у меня были другие заботы. Когда у тебя семеро детей, тебе некогда мечтать. Но как только Лиат объявила, что она выходит замуж, я только об этом и стала думать. Я не предполагала, что у нее это займет столько времени; они женаты уже четыре года. Я была готова к этому намного раньше, хотя мне сейчас только сорок пять. Я не могла себе представить, что мой муж не разделит со мной эту радость, но, к сожалению, это случилось слишком поздно. Голос Клодин становится еле слышным, она смотрит в пол. После короткой паузы она продолжает уже более уверенно: – В тот день, когда я узнала об этом, я была самым счастливым человеком на земле. Ее лицо розовеет, в глазах появляется блеск; она выпрямляется, и от этого движения еле различимо звенят ее многочисленные браслеты. – Я начала прыгать от радости – прыгать, плакать, – я не могу вам описать, что я чувствовала, когда она сообщила, что беременна. Вы не можете себе представить, что дома творилось… Все мне говорили: «Подожди, вот ты узнаешь, что это! Это совсем иначе, чем с ребенком!» Так что я уже давно ждала, когда у меня в доме, наконец-то, появится внук или внучка. Я вообще не думаю о том, что буду бабушкой, я думаю о том, что у меня будет внук. И уже сейчас, хотя он еще не родился, я только подумаю об этом, а у меня в сердце уже чтото екает. И это, когда я его еще не видела! Я себе представляю, что будет, когда я его увижу! – Клодин от возбуждения хлопает в ладоши. – Все меня предупреждают: «Ты даже не представляешь, как это, когда ты берешь его на руки». И я… я больше не могу терпеть! Я уже хочу его видеть! Я его обожаю! Она счастливо улыбается, приглашая всех разделить с ней ее огромную радость. Маргалит подается вперед и открывает рот, но Мики останавливает ее нетерпеливым движением руки: – Я очень хорошо помню это «подожди, подожди», как я это ненавидела! Откуда они знают, как это будет у меня? Может, у меня это будет иначе? Но сегодня я точно знаю, что все они были правы. Если я не увижу его хотя бы один день, я сойду с ума! Я вам говорю, у меня налицо все признаки влюбленности, я себя чувствую, как в старые добрые времена! Я смотрю на часы, когда же, наконец, будет пять, и я увижу мою лапочку. А самый кайф я ловлю, когда остаюсь с ним: я могу с ним делать все, что хочу; он не сопротивляется и не огрызается. Все в группе смеются, только Това остается по-прежнему серьезной. – У меня такое впечатление, что из-за рассказов все тех же подружек, которые говорят: «Ты не понимаешь, что это, и не представляешь, как в одно мгновение изменится твоя жизнь», я не могу понять, что я чувствую по правде, а что – потому, что мне говорят, что это то, что я должна чувствовать. – Это точно, – соглашается с ней Мики. – У меня, правда, все в порядке, можно сказать, отлично; я, что называется, счастливая бабушка, но я вижу, что творится вокруг. Я недавно слышала об одной с моей работы, очень известной, но я не буду называть ее имени, неважно, так вот, ее невестка не дает ей видеть внука. Они не ладят, и таким образом она ей мстит. Далеко не во всех семьях существуют такие хорошие отношения между всеми, как у меня, но никто не бежит об этом рассказывать, большинство держат это в секрете. Вот и эту историю я услышала через кого-то, из вторых рук. – Я начинаю понимать, откуда взялось выражение «бабушкины сказки», – улыбаясь, добавляет Анна, а затем, перейдя на серьезный тон, продолжает. – Я думаю, что действительно к «бабушкиным сказкам» надо относиться снисходительно: они не всегда отражают настоящую картину. По-моему, можно их слушать, но не принимать на веру каждое слово. Мы сами увидим, как это будет у нас. По-моему, всему свое время: вот когда мы испытаем это на себе, тогда мы по-настоящему поймем, что это значит – быть бабушкой. Она переводит взгляд на одну из картин на стене, но тут же поворачивается в сторону Клодин, которая резко вскакивает со своего места то ли от волнения, то ли из страха, что ее кто-нибудь опередит. – Вы знаете, почему я записалась в группу? – говорит она взволнованно. – Потому что я чувствую, что скоро лопну, а поговорить мне не с кем. Иногда я пытаюсь заговорить с моими подругами; но стоит мне заикнуться о том, что Лиат беременна, как они сразу начинают рассказывать о своих внуках и о том, как изменилась их жизнь. Ну и что мне остается? Как только я открываю рот, чтобы рассказать, что я чувствую и с каким нетерпением жду, как они опять за свое: «Подожди, подожди, вот он родится!» – и вновь начинаются истории, которые я уже знаю наизусть. Их не особенно волнуют мои сегодняшние переживания; вот и получается, что мне не с кем поделиться. Поэтому, наверное, на прошлой неделе меня как будто прорвало: просто у меня нет другого места, где бы я могла говорить о себе. «И у меня тоже нет такого места», – отмечает про себя Элла, погружаясь в уже ставшее привычным чувство одиночества, которое окутывает ее, скрывая от непрошенных глаз, как накинутая на плечи любимая зеленоватая шаль. «Но ведь я и не пыталась его найти, – обрывает она себя, но сразу добавляет с надеждой. – А может, здесь, в группе, меня наконец-то услышат?» – Вы правы, – вступает в беседу Това. Она снимает с себя легкую вязаную кофточку и тщательно складывает ее на коленях. – И вокруг меня тоже никто не интересуется тем, что происходит со мной; все меня спрашивают только, как моя дочка, а после родов, наверное, будут спрашивать, как мой внук. Я вместе с Мики уверена, что есть бабушки, которые мне сейчас рассказывают, как у них все замечательно, только потому, что знают, что иначе быть не должно. Вне всякого сомнения, и это вполне логично, что существуют женщины, которые не испытывают огромного удовольствия от своего нового положения, но и они надевают на себя маски счастливых и гордых, обожаемых всеми бабуль. Что касается меня, то на сегодняшний день, до того как Ширли родила, я не особо вникаю в проблемы бабушек и не задумываюсь над тем, какой именно бабушкой стану. И у меня нет никакого желания следовать общепринятым правилам – такой я должна быть, так я должна себя вести. Есть бабушки такие, и есть бабушки другие: есть, которые переживают больше, а есть, которые – меньше. Откуда мне знать, какой из них я стану. Я постараюсь принять себя такой, какой я буду, и не заниматься самобичеванием. Я постараюсь почувствовать. Покамест я абсолютно ничего не чувствую по отношению к внуку, который будет. Ничего. Только по отношению к дочке. Я боюсь за нее еще больше, чем это было на нашей прошлой встрече. Может, со мной что-то не в порядке, если меня совершенно не занимает мое скорое превращение в бабушку? – обращается она к Нири. – Но что меня, да, волнует, так это, буду ли я, что называется, настоящей бабушкой. – Настоящей бабушкой? – переспрашивает Нири. – Ну да, – поясняет Това, – настоящая бабушка, как мать моей невестки, жены брата. Которая все время что-то варит, все время рассказывает о своих детях и внуках – в них вся ее жизнь. У нее, как у вас, Клодин, их семеро, чтоб не сглазить. А я не такая и никогда не была такой. Я, кстати, считаю это моим плюсом, а вот моя дочка меня иногда этим попрекает. – У меня была «настоящая» бабушка, – взволнованно вступает Орна, – всем бабушкам – бабушка! Мы так любили друг друга! Я любила ее совсем иначе, чем маму; и связь между нами тоже была иной. В отношениях с бабушкой меня ничто не напрягало: бабушка есть бабушка, это не мама. Даже когда она на меня сердилась (а она умела сердиться), я всегда знала, что все закончится объятиями и поцелуями. С мамой было не так: когда она сердилась, она наказывала. Правда, она ни разу не подняла на меня руки, не дай бог, но с ней все было совершенно иначе. Бабушке я могла рассказать все, абсолютно все. Но это зависит еще и от человека; я, к примеру, на нее не похожа. И моя мама, когда уже стала бабушкой, не была такой. Моя бабушка действительно была особенной, я таких больше не встречала. Я бы очень хотела, чтобы мои внуки смогли это сказать обо мне, – грустно заключает она, задумчиво поглаживая себя по плечам. Маргалит тяжело вздыхает. – Если говорить о бабушке, которая может служить примером, так у меня была потрясающая бабушка, не похожая ни на кого. Я просто преклонялась перед ней. Она пережила катастрофу, потеряла во время войны все, но самое страшное – она потеряла двух дочерей. Меня назвали в честь одной из них, а мою сестру – в честь другой. Им было семнадцать и восемнадцать, когда их забрали. Они были старшими, за ними были еще пятеро сыновей и дочка. По своему поведению она была настоящая аристократка. Я уверена, что адские муки пережитого не оставляли ее до последнего дня, но я никогда не видела ее подавленной, желчной или озлобленной. Удивительно! Что я видела в ней? Благородство и красоту. Она всегда была очень эстетична и ухожена, я не помню ее неопрятной, как бабушки моих… Всегда чистая, аккуратная; мне всегда хотелось к ней прижаться. Особенно я любила трогать мизинец на ее ноге, он был таким гладким. Она была такая чистая, аккуратная, мягкая и приятная. Маргалит останавливается. Она сидит неподвижно, устремив взгляд поверх голов, затем, сделав еще один глубокий вдох, продолжает, по-прежнему не отводя глаз от стены напротив: – Она меня называла «моя Маргушечка». Из двадцати пяти внуков я была «ее внучкой», и я всегда об этом знала. Наклонившись вперед и обведя всех взглядом, Маргалит продолжает с грустной улыбкой: – Я обожала бывать у нее. Когда я приходила туда, меня всегда ждали книги, приготовленные специально для меня. Но ей было очень важно, чтобы никто не был обижен; этому я учусь у нее. Каждую субботу она приготавливала мешочки с подарками для всех внуков, раскладывая: две конфетки – две конфетки, жвачку – жвачку… Не дай бог, чтобы в одном мешочке было на конфетку больше. Только чтобы не было обид. Вместо подарков она придумала еще кое-что интересное: мы получали от нее деньги соответственно возрасту. Когда мне было десять лет, я получила десять лир. И это очень мудро, потому что один внук хотел часы, другой – что-то другое… Главное, чтобы не было обид. Это великая вещь! А как она готовила! Я научилась у нее всем законам кашрута; я была еще девочкой, но она научила меня всему. И она шила, и вышивала, и вязала; и этому я тоже научилась у нее. Поразительно! Это была моя школа жизни, до сегодняшнего дня я пользуюсь этими знаниями. Она была необыкновенная женщина. И когда она умерла, она умерла на мне. Она попрощалась со мной, – добавляет Маргалит трясущимися губами. – То есть, как это – на вас? – удивленно переспрашивает Клодин. – Это случилось в войну Судного дня. Вся семья была дома, так как папу отпустили на сутки. Утром он пошел в синагогу. В шесть утра бабушка проснулась и пошла в туалет. Я тоже проснулась, так как спала с ней в одной комнате. Всегда, когда она оставалась у нас ночевать, мы сдвигали наши кровати, чтобы быть как можно ближе. Она вернулась в комнату, села на кровать и вдруг упала прямо на меня. Я помню, что страшно испугалась и начала кричать: «Бабушка упала!». На мой крик прибежала мама. Все это случилось в одно мгновение. Маргалит начинает говорить быстро, как репортер, спешащий донести до слушателей развивающиеся с нарастающей скоростью невидимые для них события. – Мы послали брата за отцом в синагогу; он помчался босиком. Я помню, как ее отвезли в больницу на такси (машин скорой помощи не было из-за войны); папа нес ее до машины на стуле. Так я с ней рассталась. Все, больше я ее не видела… Глаза Маргалит наливаются слезами. – Позже я на себя очень сердилась: почему не молилась, почему не читала псалмы? Но ведь я была еще ребенком, мне было всего лишь пятнадцать с половиной. Все случилось так внезапно, я просто растерялась. Через какое-то время позвонил папа и сказал: «Бабушки нет». – И я спросила: «А куда она пошла?» – Он повторил: «Бабушки нет». – И я помню, как бросила трубку и страшно закричала. Маргалит подносит руки ко рту, затем опускает их перед собой, разглаживает на коленях синюю юбку и снимает с нее прилипший волосок. – Это была травма, от которой я не могла отойти очень долгое время. Мне нужен был психолог, помощь, но кто об этом тогда думал. Я помню, как мы пришли к ней в дом, и я открыла шкаф и начала нюхать ее вещи. Помню сложенные стопкой кухонные полотенца, перевязанные ленточкой. Я не хотела оттуда уходить, понимаете, я не могла вернуться домой. Моей маме тоже было очень тяжело, она была младшей в семье. Долгое время, по меньшей мере два года, все в доме жили в глубоком трауре: мы перестали слушать радио, перестали многое… Рут, сидящая возле Маргалит, протягивает ей руку, и та, не глядя, отвечает ей легким пожатием. – Она была со мной тогда, и она осталась со мной до сих пор. Воспоминания и тоска по ней вновь вернулись ко мне, когда умерла моя мама. Когда мама заболела, я и сестра поехали к бабушке на могилу, и там просили ее спасти маму. Я до сих пор отношусь к ней поособенному. Маргалит поднимает с пола свою синюю сумку, достает оттуда кожаную косметичку с зеркалом, а из нее вынимает бумажную салфетку. Она осторожно утирает глаза, прячет салфетку в рукав блузки и продолжает: – Я всю жизнь помню ее слова: «Всегда улыбайся; следи, чтобы волосы не закрывали твоего лица». Она любила повторять: «Не в одежде дело! Ты можешь надеть самое дорогое платье, но если у тебя будет сердитое лицо, на тебя никто даже не посмотрит. Ты можешь быть одета очень просто, но начищенные туфли и собранные волосы сделают из тебя красавицу». Она называла меня «ди шёне» – красавица – она говорила со мной по-немецки, и благодаря ей я знаю язык. Английский я не знаю так хорошо, хотя и учила его в школе. Она была главным человеком в моей жизни. Это удивительно, как я помню все, чему она меня учила, и очень многое передала дальше моим детям. Это мне уже неподвластно, это укоренилось во мне, это уже часть моей жизни. Она часто говорила, что я очень похожа на ее дочку. Возможно, она пыталась найти во мне ее замену. Она же во многом заменила мне мать. Я делилась с ней секретами, советовалась, могла говорить с ней на любые темы – то, чего я не могла со своей мамой. Когда я шла с мамой по улице, я никогда не брала ее за руку или под руку; с бабушкой это было автоматически: мы всегда шли с ней под руку. До сих пор я часто говорю с ней; ее фотография стоит у меня в спальне, и я всегда смотрю на нее перед сном. Одну из фотографий я держу в моем молитвеннике. Мне ее очень не хватает, очень-очень… Ее глаза блестят от слез. – Она действительно была необыкновенным человеком, не просто бабушка. Она была… У нас были удивительные отношения… Маргалит замолкает; вместе с ней молчат и остальные, каждая наедине со своей памятью. Нарушает затянувшуюся на несколько минут паузу Това. – Обратите внимание, что, несмотря на то, что, по вашим словам, вашей бабушке было очень важно, чтобы все внуки чувствовали себя на равных, вам было отведено особое место. Она даже «избрала» вас из всех служить «заменой» дочки, которая исчезла. Наверное, поэтому между вами установилась связь, которая обычно характерна для мамы и дочки. Маргалит молча кивает. Видно, что ей по-прежнему тяжело говорить. В разговор вступает Нири: – До сих пор вы все еще оплакиваете свое место, которое потеряли со смертью бабушки, – она с состраданием смотрит на Маргалит, – особое и важное для вас место бабушкиной любимицы-внучки или маминой любимицы-дочки. Вместо него осталось зияющее пустотой пространство. Вам тяжело смириться с тем, что больше никогда вы не будете ее избранницей. Маргалит больше не в силах удержать слезы. Повернув голову на голос Товы, она продолжает беззвучно плакать. – Я хочу вам сказать, – говорит Това, – что несмотря на боль и тоску, которые вы испытываете до сих пор, вам можно только позавидовать. Вам повезло, что у вас была такая бабушка, и вообще, что в вашей жизни был такой значимый для вас человек. У меня не было бабушки, потеряв которую я бы «осиротела». У меня была бабушка, которая не говорила на иврите, только на идиш, и она умерла, когда мне было четыре года. Я ничего не чувствовала по отношению к ней, и она была равнодушна ко мне. Так что я не храню воспоминаний о легендарной бабушке, мне не перед кем преклоняться и не с кого брать пример. Кстати, как вам известно, таких, как я, много; большинство детей послевоенного поколения в нашей стране не знают своих бабушек. Рут, стараясь не слишком шуметь, чуть-чуть отодвигается от Маргалит. – У меня тоже не было бабушки. Единственная бабушка, которую я наблюдала вблизи, – это бабушка моих детей, моя мама. Но для меня она, в первую очередь, мама. Честно говоря, я никогда не чувствовала себя ущемленной из-за того, что у меня нет бабушки, для меня это была норма. Как правильно подметила Това, ни у кого в моем классе не было бабушек, и я не помню, чтобы нам это мешало. Только сейчас, когда я сама стала бабушкой, мне вдруг стало себя жалко. Только сейчас, когда я беру на руки своего внука, обнимаю его, прижимаю его к себе, я говорю, какое это счастье! Как жаль, что мне некого было назвать бабулей, что никто вот так не держал меня на руках! Я, можно сказать, купалась в любви моих родителей, но это что-то совсем другое, – добавляет она еле слышно. Нири, не сводившая глаз с Рут, беззвучно вздыхает и выпрямляется. – Сегодня вы подошли к нашей теме, обратившись к рассказам о бабушках, которые у вас были или которых у вас не было. Похоже, что в настоящее время вы обращаетесь к этим воспоминаниям для того, чтобы определить для себя, какими бабушками хотите (или не хотите) быть вы сами. Мысленно возвращаясь назад, в детство, и рассказывая друг другу о бабушках, которых вы знали, вы, в принципе, составляете обобщающую характеристику, словно актер, изучающий все доступные ему материалы в процессе подготовки к новой роли. Возможно, вы спрашиваете себя, сможете ли вы быть такими бабушками, достаточно ли у вас необходимых «способностей». Элла, которая слушала всех с большим вниманием, использует наступившую после слов Нири паузу и задумчиво произносит: – Когда говорят о бабушках, я вспоминаю Рахель, бабушку моей лучшей подруги Оры. С тех пор как умерла моя мама – мне было тринадцать, когда это случилось, – я проводила у них массу времени; можно сказать, я выросла в их семье. Какая бабушка была у Оры! Я никогда не забуду, как однажды они пошли гулять – Ора и вся ее семья, в том числе и бабушка, – и я тоже присоединилась к ним. Мы гуляли по центру города; это было в субботу, и мы шли туда пешком. Нам купили мороженое, мы были счастливы! И вдруг я увидела в витрине магазина игрушек набор для рисования. Чего только там не было: фломастеры, карандаши, акварель, гуашь и даже кисточки и альбом. Я помню, как стояла там как загипнотизированная. Как я хотела такую коробку! – Элла сильно, до побеления сжимает переплетенные пальцы. – Хотела, но не произнесла ни слова! Элла переводит взгляд на Нири. – Примерно через месяц был мой день рождения. Ора пригласила меня к ним домой; я помню, она была в приподнятом настроении; ей было очень важно, чтобы я пришла. И там меня ожидал подарок: тот самый набор красок! Его купила ее бабушка. Я была так рада! Я этого никогда не забуду. Даже сейчас, когда я вам это рассказываю, у меня мороз по коже. Она зябко передергивает плечами, поправляет накинутую на них шаль и выпрямляется. – Как она заметила?! Она действительно была необыкновенная женщина; и, когда она умерла, я переживала, будто потеряла свою родную бабушку. С тех пор, – продолжает Элла еле слышно, – я всегда знала, что и я буду такой же. Что и я буду прислушиваться к желаниям моего внука и даже стараться их предугадать, и, конечно, выполнять. Потому что у бабушек есть особый глаз, и широкое сердце, и готовность баловать. Есть любовь, которую они хранят специально для внуков; и это совершенно иначе, чем с детьми. Да и к тому же у нас есть для них свободное время. – Точно так ведет себя моя мама со своими внуками, – говорит Клодин. – Она всегда говорила нам, ее детям: «Вы – скорлупка от ореха, а вот ваши дети – ядрышки». Това хихикает от неожиданности, когда слышит это сравнение; и Клодин, улыбаясь, обращается к ней: – Да, мы – скорлупа от ореха! Мы никогда не могли понять, как такое может быть: ведь для нас дети – это самое дорогое в жизни. Зато теперь – и я еще по-настоящему не знаю, что это, – он ведь все еще внутри – я уже чувствую, насколько моя мама права, потому что я вижу, как я его жду… как не знаю чего. Это ни на что не похоже, я никогда такого не испытывала. Когда моя мама звонит узнать, что слышно, она не спрашивает меня, как я себя чувствую, а сразу спрашивает о внуках, о каждом, не забывает никого. Эта любовь – особенная. Так что только оттого, с каким чувством я его жду, я уже могу вам сказать, что внуки – это совсем другое дело. Това по-прежнему смотрит на раскрасневшуюся от возбуждения Клодин. – Дочка – это не внучка, а бабушка – не мать. Та же самая женщина может по-разному вести себя со своими детьми и внуками. К примеру, моя мама. Она человек очень требовательный и, я бы сказала, черствый. У нее немецкий педантичный характер; находиться рядом с таким человеком совсем нелегко. И несмотря на это, моя дочка к ней очень привязана и очень ее любит. Так казалось бы, живи и радуйся, но – нет, ей постоянно что-то мешает. Недавно она пришла ко мне с новыми претензиями: как это Ширли позволяет себе рожать от него детей, не поженившись? Она переводит дух и поясняет: – Они решили не жениться. Мне это тоже мешает, но я не говорю ни слова. Может, потому что мои отношения с отцом Ширли не могут служить для нее примером удачного брачного союза. В любом случае я не пыталась на них как-то повлиять; это они должны решить сами. Короче, когда мама мне это сказала, я подумала, – Това повышает голос и переводит взгляд на Нири, – она знает ее парня и хорошо к нему относится; там уже есть ребенок в животе, так зачем вообще, об этом говорить?! Где ее логика? Мне тяжело ее понять. Но в основном она намного мягче по отношению к моей дочке, чем ко мне. Даже сейчас. С Ширли она совсем другой человек. Кстати, мне иногда кажется, что мой папа должен был сделаться больным и беспомощным для того, чтобы она до него дотронулась. Зато теперь она преданно за ним ухаживает; она всегда делает то, что положено. Това тяжело вздыхает. – Когда я была ребенком, я много чего от нее наслышалась. Я понятия не имею, говорит ли она что-то подобное Ширли, я предпочитаю этого не знать. Главным ее высказыванием в моей жизни было: «Если не будешь хорошей девочкой, мы не будем тебя любить». – Что?! – в один голос вскрикивают Рут и Маргалит. Мики, которая все это время рассматривала что-то за окном, вздрагивает от неожиданности и испуганно озирается. – Да, – сухо подтверждает Това. – Однажды она сказала это Ширли, когда той было лет пять. Я отвела ее в сторону и предупредила: «Если ты еще раз скажешь это моему ребенку, считай, что у тебя больше нет дочери». Насколько мне известно, она прекратила. Я не знаю, что она говорит ей, когда меня нет рядом. Мама – тяжелый человек, не зря она дожила уже до девяноста. И все-таки с годами, мне кажется, она стала мягче, по крайней мере, по отношению к внукам. Я, к примеру, как-то слышала, как она говорила моей дочке, когда та была в плохом настроении – у нее периодически случаются спады: «Посмотри, сколько вокруг тебя хорошего, а если тебе тяжело, если у тебя что-то не ладится, я готова тебе помочь!» Никогда в жизни она мне такого не говорила! Никогда! Вы меня спросите, что я чувствую по этому поводу? Я не завидую, а, наоборот, рада: моя дочка получит то, чем была обделена я. Логично, нет?! Мики, оторвавшись от созерцания темного пространства за окном, откликается уже привычным для всех громким, «командирским» голосом: – А вот моя мама категорически отличается от вашей. Она очень добрая и жизнерадостная. И очень преданная, готовая отдать всю себя. Во время детских каникул я не должна была звонить и спрашивать, может ли она остаться с детьми; я просто привозила их – и все, будьте здоровы. Такой она человек! Если мне надо, чтобы мне сшили занавески, я – к маме; и если мне надо, чтобы меня выслушали, потому что на душе паскудно, это тоже – к маме. Я делюсь с ней всем, почти всем. Мой папа был очень добрым, но он этого не показывал: ему было важно выглядеть «настоящим» мужчиной, сильным и принципиальным. Но поделиться с ним моими «девичьими» секретами мне даже не приходило в голову. Не в те годы. В последние пару лет его жизни он чуть-чуть изменился, стал больше «папой»; больше с нами советовался и даже прислушивался к нашим советам. А так, всю жизнь он мыслил категориями «да-нет, черное-белое», видел все происходящее только в одной плоскости и не был готов смириться с тем, что кто-то, может быть, с ним не согласен. Она делает глубокий вдох, выпрямляется и, скрестив ноги, вытягивает их перед собой. – Зато моя мама всегда была рядом с нами. А какая она бабушка… Что я вам скажу, я бы очень хотела быть такой, как она. Она сердечная и… уютная, и внуки ее обожают. Но это амплуа не для меня! Я не подхожу ни по внешнему виду, ни по характеру, ни по… Мики запинается, подыскивая нужное слово. Нири приходит ей на помощь: – Вы хотите быть бабушкой подобной вашей маме, но…? – Не то чтобы моя мама слабая, но… Но я буду бабушкой другого типа, молодой. Я и внешне никогда не буду выглядеть, как она. Понимаете, моя мама, она – типичный пример эдакой «бабули», а я не такая, и вряд ли это можно изменить. Я никогда не смогу освободиться от силы, которая заложена во мне, подавить властность, которую унаследовала от отца. Я не могу этого скрыть! И как бы я ни старалась, рано или поздно мой внук это увидит. Но я буду стараться хоть приблизительно походить на маму, потому что именно такой я вижу суть бабушки. Мики замолкает и вытаскивает из сумки пачку сигарет. – То есть, вы пытаетесь создать «модернизированную» бабушку, которая объединит в себе вас и ваших родителей. Взять от всех самое лучшее, но при этом сохранить свое собственное «я»? – спрашивает Нири. – Совершенно верно! Я не могу по-другому, вы понимаете? Для того, чтобы стать точной копией моей мамы, я должна поправиться как минимум на пятьдесят килограмм и стать такой, – Мики раскидывает руки в стороны. – Или, к примеру, я обязательно буду брать моего внука на пляж, но вы никогда не увидите меня в купальнике, подобном тому, что носит моя мама. Мне важно выглядеть современной. Я думаю, что сегодня полно таких бабушек. Я родила в очень молодом возрасте и считаю себя достаточно молодой, чтобы брать моего внука туда, куда обычно родители берут своих детей. Я не буду там слишком выделяться. – Обычно, когда говорят о бабушке, представляют себе эдакую бабуську – старушку с седыми волосами, согнутой спиной и палкой, – Рут смешно опирается на невидимую дрожащую палочку, – но сегодня, посмотрите, как выглядят современные бабушки! Просто – класс! – Сегодня бабушка – это не то, что было раньше! – подхватывает Орна. – Это не наши бабушки и даже не наши мамы! Раньше, когда произносили слово «бабушка», сразу представлялись бабушкины снадобья, что-то старое, грузное, толстое. – Я как раз абсолютно согласна с тем, что только что здесь было сказано, – говорит Анна, потягиваясь и почесывая затылок. – У меня тоже не было бабушки, но я наблюдала за моей мамой в роли бабушки, и я тоже не собираюсь быть… как бы это сказать… классической бабушкой, «всем бабушкам бабушкой», как сказала Орна, если такое вообще существует. По всей вероятности, да, существует, если мы все понимаем, о чем идет речь. Так что я точно знаю, кем я не буду; и знаю, даже уверена, что буду очень хорошей бабушкой, такой, как я умею, – вникающей во все, переживающей за всех, обойтись без которой невозможно. Я буду и баба Анна, со всеми старинными привычками – готовка, стирка – и останусь такой же, как я сегодня. Я и в роли мамы сочетаю дом с внешним миром и, по-моему, вполне удачно. Я никогда не была мамой-карьеристкой, для которой дом – это ругательное слово. Я очень люблю свою работу, но и домашний уют мне тоже очень важен. Я всегда говорю: я просто меньше сплю, и от этого ни одна из заинтересованных сторон не страдает. В комнате – тишина. Нири первой нарушает затянувшуюся паузу: – Мики и Анна предложили, на мой взгляд, очень важную в наше время поправку к роли «традиционной бабушки», которая заключается в том, что этот персонаж уже не вмещается в его классические рамки. Она не только балует и вкусно готовит, она еще и молодо и хорошо выглядит, у нее своя жизнь, карьера, свои интересы и планы. Если мы вернемся к началу сегодняшней беседы, то обнаружим, что как только речь заходит о бабушке, большинство из нас мысленно возвращаются в «старые добрые времена». И мне кажется, этот образ не всем вам по вкусу. Предлагая здесь, в комнате, другие, отличные от общепринятых варианты, вы строите новую, отвечающую вашим сегодняшним требованиям модель. – Вот именно! – возбужденно подхватывает Мики. – Я хочу вам сказать, что я понастоящему рада быть бабушкой и что я безумно люблю этого малыша и отдам ему все, что у меня есть. Но при всем при этом я не могу привыкнуть к этому слову. Я бабушка? Мне еще только не хватает несколько волосков здесь – она дотрагивается пальцами до подбородка и смеется. – Ну так я бабушка, но только другая. Сейчас другие времена. Ее голос становится еще громче. – Я не просто эдакая симпатичная бабуля, к которой приходят в гости. Я собираюсь брать своего внука за границу, мы будем с ним путешествовать по всему миру. А ведь мне бы и в голову не пришло проделать что-либо подобное с моей бабушкой. Я не знаю, как я буду выглядеть в глазах внука; и не знаю, какой в его представлении будет идеальная бабушка, но я постараюсь его не разочаровать. Я надеюсь, что он не будет мечтать о той самой «классической» бабушке. Вполне может быть, что их уже и не существует, что действительно все изменилось. Не знаю. Что я точно знаю, так это то, что я не вписываюсь ни в одну известную мне модель. Сколько вы уже встречали бабушек, которые будут брать внуков на всевозможные телевизионные передачи, знакомить со знаменитостями? Я по своей работе знаю многих из них. Какая еще бабушка сможет сказать своему внуку: «От кого ты хочешь получить автограф? Давай, я устрою вам встречу». Вы встречали такую бабушку? Так вот, я – такая! У меня до сих пор мозги набекрень, я супербабуля! – смеется она. – Мне абсолютно ясно, что я не изменюсь. Поэтому я и придумала для себя такой сценарий, иначе я просто не смогу. Не знаю, возможно, еще рано судить, но покамест я не могу себе представить, как я сижу и жду его с заготовленной заранее шоколадкой. Так что сегодняшние бабушки, они – не те, что были раньше. Клодин все это время не сводит глаз с Нири, как бы пытаясь сверить свои мысли с ее реакцией на сказанное. – Времена меняются, требования тоже изменились. Сегодня все иначе, и каждая может быть такой, какой захочет. Нет больше «принято», «не принято». Я думаю и сегодня есть, как Мики сказала, бабушки с шоколадками, но просто сегодня все можно; для всех найдется место: и для таких, и для иных. И все – бабушки. Вот посмотрите на нас. В нашей группе собрались женщины от сорока пяти – что это я?.. я здесь самая младшая – и до… Клодин обводит всех взглядом. – Кто у нас самая старшая? – Может, я, мне шестьдесят, – отвечает Това. – Вы понимаете, что я имею в виду? Клодин медлит, выжидая подтверждения. – В наше время есть разные бабушки, разных возрастов; нет одного типа бабушек. Это зависит от характера женщины, от того, в каком возрасте она родила; и это зависит от ее дочери, как рано или поздно родила она. Сегодня все возможно. – Бабушка, которой вы представляете себя, несколько отличается от той, которая была у вас, – говорит Нири. – Главное отличие, о котором вы говорите, оно – во внешнем облике, если хотите, в обертке для конфет. Как сказала Клодин, сегодняшние бабушки не все выглядят как прежние. Что же касается самой конфеты, то проведено много исследований для определения роли, которая отведена современным бабушкам. И их результаты во многом сходны с вашим отношением к этому вопросу. Главное значение бабушек сегодня уже не предопределяется тем, что они стоят во главе семейного клана, а зависит от их отношений с внуками, степени их близости. Основной составляющей этих отношений является духовная связь, а на нее наслаиваются совместное времяпровождение и развлечения, общие интересы, соучастие, терпение и терпимость. Кстати, это справедливо и по отношению к «дедам». Бабушки и дедушки во многом стали, что называется, «заместителями», или, если хотите, «заменителями» родителей, и, конечно, остались важным источником жизненной и житейской мудрости. – Да, это уже серьезный список обязанностей, – говорит Това, нервно массируя кончики пальцев. – Послушайте, вы не обязаны быть всем, что Нири здесь перечислила, – отвечает ей с усмешкой Мики, но при этом смотрит на Нири, а не на Тову. Анна, будто раздумывая вслух, привычно обращается к Рут: – Интересно! А, по-моему, давать все, что я могу внучкам, делиться своими знаниями, помогать им познавать мир, объяснять, что такое «хорошо» и что такое «плохо», раскрывать для них новые вкусы и запахи, читать и рассказывать истории, танцевать вместе – все это – да, но быть «заменой» родителей?! – Почему? Что вам мешает? – прерывает ее Орна. – Что вы не наравне с родителями или… – Нет, вовсе не это! – Анна поднимает руку в попытке остановить Орну. – Наоборот, сейчас очередь Наамы и ее мужа; я же предпочитаю, чтобы мои внучки видели во мне бабушку Анну «нетто», а не какой-то «заменитель». Я – это я, то есть Анна. Да и по отношению к моей дочке это невозможно, я не могу быть похожей на нее, мы совершенно разные. Ее это будет только лишь раздражать, и я тоже не собираюсь меняться для того, чтобы быть бабушкой, похожей на маму. В общем, придется моим внучкам привыкать к бабушке Анне такой, какая она есть. По-моему, мама – это мама, а бабушка – это бабушка! Таким образом, обе стороны останутся довольны. – Только представить себе, как я возьму его на руки! – произносит Орна, улыбаясь, но тут же становится серьезной. – Хотя, с другой стороны, меня это пугает. Честно говоря, я не уверена, что помню, как ухаживать за новорожденным. Последнему младенцу, которого я пеленала, недавно исполнилось двадцать четыре! Това подхватывает ее на полуслове: – Точно! Я тоже боюсь. И чего удивительного: когда у нас в последний раз были маленькие дети? Орна, воодушевленная неожиданной поддержкой, продолжает теперь уже звонким, уверенным голосом: – К тому же я абсолютно не в курсе того, что сегодня принято. Если честно, я никогда не следила за новшествами. В то время, когда росли мои дети, не было ни одноразовых пеленок, ни многого другого, что есть сегодня. Я чувствую себя заржавевшей рухлядью, и это не прибавляет мне уверенности. Я не сомневаюсь, что я должна помогать дочке, поддерживать ее, но сейчас мне говорят, что я должна служить еще и заменой для родителей?! Она вопросительно смотрит на Нири, а затем обращается к Тове. – Я, правда, боюсь! Я уже не могу дождаться… Но как я буду знать, что правильно, что неправильно? Чтоб я, не дай бог… Орна переводит взгляд на Рут. – И тут же у меня возникают другие мысли. Что, я не вырастила двоих детей? Зачем зря волноваться? Но когда Яэль сказала мне: «Мама, я, наверное, в начале буду бояться купать ее, так что первый раз это сделаешь ты», я ей, естественно, ничего не сказала, но про себя подумала: когда ты в последний раз купала маленького ребенка? Сколько времени прошло, а я все еще не забыла, как боялась за нее, сколько раз проверяла температуру воды, чтобы, не дай бог, не обжечь или не простудить! Со вторым ребенком было уже легче. Так что кому как не мне понятны ее опасения! Я думаю, каждая начинающая мама боится и начинающая бабушка – тоже. Что меня удивляет, так это то, что я во многом чувствую себя почти как начинающая мать. Я все забыла! Но я надеюсь, что это – как сесть на велосипед после долгого перерыва: почти моментально возвращаются все навыки, – успокаивающе заключает она. – Я уверена, что с нами произойдет то же, что происходит с большинством мам в тот момент, когда рождается ребенок, – с уверенностью в голосе отвечает ей Анна. – Про себя я знаю точно: я тут же растаю, рассыплюсь на микроскопические молекулы, как только увижу эти малюсенькие пальчики, вдохну этот запах. Как только это произойдет, все мои страхи мгновенно испарятся. Годами я была уверена, что люди смотрят на меня и думают, что у меня нет своих детей – так я обожаю малышей. Где бы я их ни видела, даже в автобусе, я тут же начинаю с ними играть, и они ко мне тянутся. Так что я уверена, что в этом плане у меня все будет в порядке. Та же уверенность, которая появилась у меня, когда я стала мамой, не оставит меня и сейчас, когда я готовлюсь стать бабушкой. – А я солидарна с вами обеими, – отзывается Рут. – Иногда мне кажется, что я не оченьто и знаю, как помочь дочке и ее мужу, что им посоветовать. Мне кажется, что у меня нет достаточных знаний и опыта. Все сегодня иначе – другие пеленки, другое питание; и всюду пропагандируют кормление грудью. Ни одна из моих подруг не кормила целый год, как, к примеру, планирует моя дочь. С какой стати кормить так долго? У них же сегодня, если ты не кормишь достаточно долго, то ты – плохая мать. У нас, слава богу, такого не было. Хотя логично было бы наоборот: у нас не было такого выбора питательных смесей, и готовить их сегодня намного удобнее и быстрее. Но с другой стороны, путь, который проделала я, был намного сложнее. Поэтому сегодня мне значительно легче. Когда я остаюсь у них ночевать, я совершенно спокойно переношу бессонную ночь и не особо нервничаю, когда он плачет. Правда, это не значит, что вначале я не паниковала, – смеясь, добавляет она. – Я тоже часто вспоминаю те годы, – вступает Това. – Свою старшую дочь я родила довольно поздно, мне было тридцать. Я помню, что одна только мысль о материнстве вызывала у меня страх на грани с паникой. Мне было страшно даже просто взять ребенка на руки: а вдруг я его выроню. Мне казалось, что растить ребенка – это слишком большая ответственность. Но как только я родила, меня как будто подменили! Действительно, природа – это великая вещь! Теперь, мне кажется, я боюсь еще больше. Как я возьму его на руки, а вдруг у меня закружится голова; а, может, я слишком старая или больная? А вдруг с ним что-то случится? Эти мысли не оставляют меня ни на минуту. А купать его? – с ужасом произносит она. – Мне кажется, для моих сомнений сегодня есть гораздо больше оснований, чем тогда. Ведь я действительно уже немолодая. А вдруг со мной и вправду что-нибудь случится, когда я останусь с ним?! Правда, никто еще пока и не обещал, что меня оставят с ним одну… Возможно, бабушка относится ко всему намного серьезнее, чем мама, не знаю! Я еще так много чего не знаю, – добавляет она, качая головой. – Вы довольно долго обсуждали мои слова о бабушках, выступающих в роли заместителя мамы, – говорит Нири, подводя итог подходящей к концу встрече. – Пытались выяснить для себя, что осталось в вашей памяти с того далекого времени, когда ваши дети были маленькими; чему вы сможете научить и чем помочь, когда к вам обратятся за помощью. Кстати, понятие «заменитель родителей» относится больше к духовной, эмоциональной стороне отношений. Имеется в виду взрослый любящий человек, постоянно находящийся вблизи внуков, у которого можно найти утешение и покой в раннем детстве, и понимание, и поддержку, спасаясь от претензий и требований родителей в более позднем, юношеском возрасте. Кроме того, я думаю, что вы не зря мысленно возвращаетесь в годы, когда вы были «молодыми мамашами». Возможно, так вам легче сжиться с переменами, которые происходят в вашей жизни в последнее время и в чем-то напоминают те, вызванные материнством. Еще одно предположение: вспоминая себя в тот очень важный и зачастую нелегкий период, вам легче понять и принять ваших дочерей сегодня. Наконец-то, после продолжительного времени, когда даже при самых лучших отношениях вы заметно отдалились друг от друга, кажется, что дистанция между вами начинает сокращаться. И обратите внимание еще вот на что: в нашей сегодняшней беседе мы коснулись практически всех женских ролей в семье – мама, бабушка, дочка и внучка. Я думаю, что этот список отражает те темы, которых необходимо коснуться в этой группе, где собрались «матери матерей». О чем, в принципе, мы здесь говорим? О бабушках? О мамах? А может, о наших дочках или внуках и внучках? Все это, а также другие вопросы, волнующие вас в настоящее время, мы обязательно обсудим на наших следующих встречах. Нири Встреча закончилась. Я сижу на одном из стульев, по-прежнему стоящих кругом, и жду, когда спазм, сжимающий мое горло, как мне кажется, целую вечность, наконец-то пройдет. И у меня тоже была бабушка, – говорю я себе и испытываю зависть к недавно сидевшим здесь мамам, которые не должны были удерживать свои воспоминания только в себе, как я. И у меня тоже была «настоящая бабушка», – рассказываю я им – себе, – с седыми волосами, заколотыми на затылке; с шалью и бусами из жемчуга; с припрятанными сладостями и длинными задушевными беседами. Я сидела у нее на кухне и слушала рассказы о ее детстве в Вене; о танцевальных вечерах и булочках с маслом и вареньем, которые им подавали на полдник. У меня в ушах все еще звучат мелодии из опер, которые мы слушаем в ее столовой; и бабушка, вернувшись в детство, подпевает по-немецки, а я смеюсь, глядя как она кружится по комнате. Как я любила гостить у тебя, особенно одна! Сесть на поезд, идущий в Хайфу, приехать туда к вечеру и уже издалека видеть тебя, радостно машущую мне с балкона. Когда я подходила к дверям, ты уже стояла там, готовая прижать меня к себе. Повзрослев, я попрежнему часто навещала тебя, теперь уже на машине, и гордо вручала тебе пирог, который сама пекла специально для тебя. Но по ночам, лежа на узкой кровати в комнате для гостей, я начинала думать о страшном, но неизбежном дне, который наступит когда-нибудь; и сразу глаза наполнялись слезами и становилось тяжело дышать. Рано утром ты, стараясь не шуметь, заглядывала ко мне в комнату, проверяя, не проснулась ли я, а затем я слышала, как ты накрываешь на стол. Когда я вставала и твое лицо светилось от радости, по мне вдруг опять проползал страх, как ядовитая змея, которая проползла, едва коснувшись, но не заметив меня пока. Мы сидели друг против друга, болтали и смеялись; и все это время я ощущала над нами серое облако, которое наполнялось, темнело и превращалось в черную тучу. Я хотела попросить тебя придумать какой-то тайный знак, известный только нам. Я верила, что любовь между нами настолько велика, что в силах преодолеть любые преграды и что я буду получать от тебя приветы и после твоей смерти. Я, а не мама! Например, мы будем сидеть в комнате, и вдруг пошевелится занавеска, и я буду знать, что это бабушка. И я позову маму и скажу, что это наш тайный знак, что бабушка с нами! И мама будет плакать от радости и благодарить, и попросит меня снова сотворить это чудо, и я соглашусь, и вот – занавеска снова колышется. Однажды моя мечта почти сбылась: я стала связующим звеном между мамой и бабушкой. Как-то я пришла навестить бабушку в Дом престарелых и застала ее в комнате для занятий, когда она пыталась оторвать кусочки пластилина и засунуть их в рот, возможно, представляя, что это ее любимые булочки. Я увела ее оттуда, и она вдруг посмотрела на меня и спросила, где мама? Я начала поспешно набирать номер телефона, путаясь и сбиваясь от волнения, и объявила маме радостным и гордым голосом акушерки: «Бабушка просит тебя! И меня она тоже узнала!» Сразу после этого я протянула бабушке телефон, но чудо уже прошло, и я слышала, как ты, мама, зовешь ее, но, увы, безрезультатно. Как мне было больно за тебя, мама! Ради тебя я была готова отказаться от этого счастливого мгновения, дарованного мне сверху, и подарить его тебе. Когда душа и тело бабушки уже были погружены в предзакатные сумерки, я пришла к ней в больницу. Я увидела ее издали сидящую на инвалидном кресле напротив телевизора, на экране которого сменялись картинки какой-то детской передачи. Я села возле нее, пытаясь вдохнуть остатки ее запаха, хоть еще разочек согреться теплом, исходящим от ее тела. И опять я хотела попросить ее о тайном знаке, но так и не осмелилась. Как можно сказать кому-нибудь «когда ты умрешь…»? А она словно прочла мое заветное желание, уловила его через особые невидимые волокна, которые были протянуты между нами, вдруг посмотрела на меня и сказала: «Я всегда буду тебя любить», и опять погрузилась в никуда. В тот завтрак у бабушки, перед тем как все начало завершаться, у меня пропал аппетит. Я смотрела на тебя, бабушка, еще и еще, молча умоляя тебя не исчезать вот так, вдруг, оставив после себя опустевшую квартиру, шкаф – а в нем свитера с зацепившимися за них твоими седыми волосками, – и маму, твою осиротевшую дочь. Элла И опять меня не оставляют воспоминания о траурной неделе после смерти бабушки Оры. Вместо того, чтобы играть с Орой у нее в комнате, я хотела быть среди взрослых в гостиной и слушать их разговоры. Еще и еще слушать истории из жизни Рахель, бабушки Рахель, как называла ее я. В этих рассказах Рахель носит короткие штаны, работает в поле, делает грядки или надевает одно и то же праздничное платье, у которого для разнообразия периодически меняет длину рукавов. Особенно я любила, когда приходили ее подруги, которые знали ее почти всю жизнь. Когда они говорили о ней, их глаза блестели. Они тоже были бабушками и иногда вынимали из сумки фотографии внуков или внучек; и их глаза опять блестели. А я сидела на одном из стульев и думала, как было бы здорово, если бы она была и моей бабушкой тоже. Входят трое, мужчина и две женщины, подходят к матери Оры, пожимают ей руку. Женщины нагибаются, чтобы ее поцеловать. Она сидит на кресле с поджатыми под себя ногами, очень грустная. Они садятся на расставленные вдоль стен стулья и вздыхают. Одна из женщин вызывается приготовить всем кофе, а мне сок. Все погружены в процесс питья; отпивают из своих кружек длинными медленными глотками, чтобы как-то протянуть время. Только я одним глотком опустошаю свой стакан. – Она долго болела? – спрашивает высокая. И мама Оры уже в тысячный раз рассказывает, как только месяц тому назад она начала плохо себя чувствовать и упала, и как только после этого ее начали обследовать и нашли… И что до этого она была в полном порядке, но как только у нее обнаружили рак, она сразу сдала, как будто не хотела быть никому в тягость, и что в последние дни у нее уже появились боли. – Очень жаль, – говорит толстушка, отпивая кофе, и бросает взгляд на мужчину, намекая, что и ему пора сказать хоть что-нибудь. Он поднимает глаза на маму Оры и начинает рассказывать, что в их отделе планируются изменения, но он введет ее в курс дела, когда она вернется на работу. А сначала пусть она переживет эту неделю, что, конечно, очень нелегко, хотя это и мама, которая умерла в уже очень преклонном возрасте и от тяжелой болезни, а не, не дай бог, ребенок, тогда это намного тяжелее. Тут он спохватывается, что слишком разговорился или сболтнул что-то не то, и замолкает. Высокая женщина опять вздыхает и говорит маме Оры: – Я думаю, мы пойдем; мы только хотели чуть-чуть побыть с тобой. И полноватая женщина говорит «да». Мужчина смотрит на них, но не спешит, и они продолжают сидеть. «Идите уже», – думаю я. Но они не двигаются, прилипнув к своим стульям, но вот наконец встают и медленно направляются к двери, останавливаются еще на секунду, чтобы это не выглядело, как будто они сбегают, и только тогда окончательно исчезают. Люди приходят и уходят, рассказывают, смеются и плачут, а я все жалею, что она не была и моей бабушкой тоже, что никто не смотрит на меня с сочувствием и не спрашивает, как я себя чувствую, и никто не говорит, глядя на меня, как я на нее похожа, и что, конечно, бабушка тобой очень гордилась и очень любила быть с тобой. Столько лет прошло с тех пор, а у меня по-прежнему наворачиваются слезы, когда я думаю о ней. Как бы я хотела заглянуть в гости к бабушке Рахель, чтобы рассказать ей, что и я уже тоже бабушка. Она бы обняла меня, прижала к себе, согревая своим вечным фиолетовым свитером, который она сама вязала неизвестно сколько лет тому назад, и погладила бы мою щеку своей прохладной рукой. Мне хочется плакать, зарыться в складки ее одежды, вдыхать ее запах и выплакать все накопившиеся тяжелые слезы. И чтобы она говорила мне: «Ну хватит, хватит…», а я бы продолжала еще и еще. А потом она посадит меня возле себя и приготовит мне горячий чай и тост с маслом и клубничным вареньем, и нарежет его маленькими кубиками, как она это делала мне и Оре, когда мы были девочками. Мне тебя так не хватает, бабушка Рахель! Нири Посредством этой группы я оживляю память о тебе. Как ты себя чувствовала, когда стала бабушкой? И тебе тоже казалось странным это превращение? А та особенная, превосходная бабушка родилась в тебе в одночасье или росла, развивалась и совершенствовалась со временем? Была ли ты одной и той же для всех твоих внуков, или связь, установившаяся между нами, была особым исключением, подарком, дарованным судьбой именно мне? И еще: ты тоже, как мамы в этой группе, оставаясь наедине с собой, лепила из себя образ бабушки, то убавляя, то прибавляя, переделывая раз за разом отдельные детали, пока не вылепила наконец его окончательные черты? А после того, как ты уже стала бабушкой, что ты видела, глядя в зеркало? Неожиданно я вспоминаю про Эллу. Что ты видишь, когда смотришь в зеркало и обращаешься к своему отражению: «Бабуленька»? Оказывается ли при этом на твоем лице грустная улыбка, или это – картина, нарисованная в моем воображении? С того момента, как я услышала твой голос по телефону, меня не оставляет образ девочки, заключенной в тело взрослой женщины. Девочки, которая в жаркий июльский вечер кутается в шаль, обнимая себя, как мама обнимает дочку. Дочка и мама в одном лице. «Почему в твоих глазах навсегда поселилась грусть?» – спрашиваю я, и у меня тоже возникает желание по-матерински обнять тебя, руками обхватить твою хрупкую фигурку, теплом человеческого тела вернуть румянец твоей бледной прозрачной коже, отогреть тебя в лучах весеннего солнца, чтобы ты наконец ожила. Почему мне так важно утешить грусть, которая струится из твоих глаз? Чем ты приворожила меня, вызывая во мне желание быть тебе и дочкой и матерью одновременно? Я чувствую укол совести, словно мать, обделившая своим вниманием остальных детей, и спешу мысленно вернуться к группе матерей-бабушек. Каждая из них пытается найти ту единственно правильную для себя тропинку, на которой чьей-то невидимой рукой разбросаны камешки: внучка – дочь – мать – бабушка – и которая в конце концов выведет ее из путаницы живого лабиринта, в котором она заблудилась. Группа женщин, объединенных волею случая, пытается сотворить образ новой бабушки; а может, они и не создают новую бабушку, а заново перестраивают себя, а бабушка в данном случае – это всего лишь одна из множества фигурок в постоянно меняющемся жизненном калейдоскопе женщины. Является ли любая новая должность в нашем послужном списке причиной сначала смятения, а затем полной реорганизации наших будней? Элла Выйдя из здания, я заметила, как Рут и Анна, оживленно беседуя, заходят в соседнее кафе. Клодин, конечно, спешит к своей дочке. Нири возвращается в свой уютный дом, целует спящих детей и рассказывает мужу о группе. У всех есть кто-то, кто их ждет. А вот я – одна. На меня накатываются воспоминания. Я сижу в классе. Учительница вызывает детей по очереди читать вслух отрывки из Ветхого Завета. Только бы она не вызвала меня, я ненавижу читать вслух – у меня почему-то буквы часто меняются местами, особенно, когда в предложении появляется Бог. Проблема в том, что он появляется всегда. Я вижу его: длинные густые волосы; весь в белом, похожем на бесформенные клочки шерсти, которые обычно перекатываются по пыльному полу. Может, нельзя так говорить о Боге? Он рассердится и накажет меня. Мама говорит, что она вообщето не верит, но чтобы я об этом никому не рассказывала. Наша учительница ведет себя очень смешно: сидит, не двигаясь, на своем стуле и читает нам из своей тетрадки, а мы записываем. Дан сказал, что его старший брат сохранил все свои тетради, и если он упускает слово или два, то всегда может списать оттуда. Я вообще не понимаю, зачем тогда он пишет вместо того, чтобы принести в класс старые тетрадки своего брата. Я бы обязательно это сделала и могла бы заниматься другими вещами в то время как она читает. Например, смотреть на ее ноги, обутые в открытые сандалии. Я обожаю рассматривать пальцы на ногах у людей и гадать, похожи ли они на своих хозяев. Иногда бывает, что тонкие нежные пальцы прикреплены к тяжелому толстому телу, как у Арона, хозяина продуктовой лавки возле нашего дома. Зато у моего папы – пальцы, которые ему очень подходят: длинные, прямые с одним – двумя волосками на каждом из них. А есть люди, у которых пальцы на ногах совсем другого типа, чем пальцы на руках, и, по-моему, это очень странно. Мне нравятся мои пальцы, расположенные аккуратным полукругом. «У тебя очень женственные пальчики», – говорит моя мама; она тоже обращает на это внимание. У нашей учительницы пальчики совсем малюсенькие – она сама малюсенькая. Ора и я как-то чуть не лопнули со смеху, представляя, как мы ее кладем в выдвижной ящичек музыкальной шкатулки – у нас есть одинаковые и мы храним в них миниатюрные фигурки. На каждый праздник мы просим, чтоб нам подарили новые фигурки. Ее бабушка подарила мне одну, совсем старинную, она сама получила ее в подарок еще до войны. Я смотрю на пальцы учительницы, как она ими двигает вверх-вниз. Сегодня очень жарко, и она, наверное, так их проветривает. Галия читает свой отрывок, как вдруг раздается стук в дверь; секретарша заходит в класс и, не поздоровавшись с нами, сразу начинает шептать что-то на ухо учительнице. Учительница делает «большие глаза» и спрашивает о чем-то секретаршу. Выслушав ответ, она испуганно отодвигается и смотрит на меня. Прежде чем я успеваю вспомнить, что же такого я успела натворить, она обращается ко мне мягким тихим голосом: «Элла, выйди, пожалуйста, с секретаршей». Взгляды всех детей обращены ко мне, и я чувствую себя такой важной, почти королевой. Ора спрашивает меня глазами: «В чем дело?» – И я отвечаю ей взглядом: «Я тоже не знаю». Мы выходим из класса, секретарша аккуратно прикрывает дверь. Она берет меня за руку, и мы приближаемся по коридору к кабинету директора. Сердце мое бьется бум-бум, и дальше я ничего не помню. Позже – я в доме у Оры, и ее мама сидит возле меня. Когда я просыпаюсь, она дает мне сок. Бабушка Оры тоже там, и я слышу, как она говорит на идиш «Бедная девочка!» Я хочу вернуться к себе домой, в свою комнату, чтобы мама положила мне ладонь на лоб и прошептала: «Доченька». Много лет спустя я спросила у папы, что же все-таки там произошло. «Я толком не знаю, – ответил он мне коротко. – В полиции сказали, что она выпрыгнула в окно, но я не верю. Я думаю, что она просто упала. Ты знаешь, у нее были сильные головные боли, наверное, у нее закружилась голова, но какое это имеет значение – ее нет». Для меня это имеет значение. Ее нет. Встреча четвертая Замена мамы Приближаясь к Дому матери и ребенка, Элла обратила внимание на женщину, которая быстро шла впереди, но, подходя к воротам, замедлила шаги и слегка приподняла соломенную шляпку, вытирая потный лоб белой салфеткой. Ее коричневые туфли совпадали по цвету с сумкой, которую она по старинке держала в руке, а они, в свою очередь, сочетались с ее зеленоватым костюмом. – Маргалит! – радостно окликнула Элла, и та, обернувшись, в первый момент не узнала ее вне привычной желто-фиолетовой декорации комнаты, но затем ответила ей широкой улыбкой. – Элла! Рада вас видеть! Здравствуйте! Они вместе поднялись по лестнице, вошли в комнату и поздоровались со всеми. Маргалит сразу направилась к своему месту в круге, и Элла последовала за ней. Все стулья уже были заняты, за исключением одного, на котором обычно сидела Рут. «Надеюсь, она придет, – подумала Элла и с удивлением отметила, что она будет разочарована, если группа сегодня окажется в неполном составе; при этом неважно, будет ли не хватать Рут, или кого-то другого. – Интересно, мешает ли это другим женщинам? А если не приду я, они тоже обратят на это внимание?» Радость и волнение, которые она испытывала, предвкушая сегодняшний вечер, сменились уже привычным чувством неуверенности и беспокойства. Чтобы успокоить внезапно накатившееся сердцебиение, она проделала выручавшее ее не раз упражнение: глубокий вдох, а затем – длинный спокойный выдох. И все равно она была не в силах оторвать глаз от пола и так и сидела, не глядя ни на кого, пока Нири не начала говорить. Нири, как обычно, приветствует всех и смотрит на Анну, отмечая, что в группе не хватает Рут. Анна небрежным жестом останавливает Нири и спокойно поясняет, что Рут несомненно появится, так как она всюду и всегда опаздывает: Рут вечно встречает кого-то по дороге. – На прошлой неделе, – напоминает Нири, – мы пытались дать как можно более широкое определение понятию бабушка. И пришли к заключению, что роль бабушки напрямую зависит от семьи, ее традиций и отношений, которые связывают всех ее членов. Она переводит взгляд с одной женщины на другую, пока не задерживается на Маргалит. – На прошлой встрече, – говорит та, повернувшись к Нири с серьезным выражением лица, – вы затронули тему, которая не давала мне покоя всю неделю. В конце занятия вы сказали, что мы «зацепились» за предложенный вами термин «замена мамы», будто бы бабушка является «заменой». И это слово, «замена», засело у меня в мозгу, не отпускало меня ни на миг: замена, замещение, поменять пеленку, заменить материнское молоко, заменить маму, занять ее место. И главное, что я чувствую сегодня… Маргалит замолкает, стараясь вдохнуть поглубже. В этот момент открывается дверь, и в комнату влетает Рут. Проходя к своему месту возле Анны, она успевает попросить прощения за опоздание и поздороваться со всеми. Разместившись на стуле, она достает из сумки бутылочку минеральной воды и пьет из нее большими жадными глотками. Маргалит с улыбкой следит за ней, но нервно постукивающая по полу нога выдает ее нетерпение. После того как Рут вытягивает ноги, громко вздыхает и делает знак рукой, приглашая возобновить беседу, Маргалит продолжает: – Я вам уже рассказывала, что моя мама умерла два года тому назад. Это произошло внезапно – за две недели ее не стало – и я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Все смешалось одно за другим: ее похороны, свадьба дочки, роды дочки; до меня ли тут?! В комнате напряженная тишина. – Свадьба дочки была первым семейным торжеством после смерти мамы, и это было страшно тяжело; просто – страшно. А теперь еще и роды. Она говорит через силу, еле слышно, но по всему видно, что ей необходимо высказаться. – Я вам уже говорила, что была с Михаль на родах. Точно так же моя мама была со мной, и я никогда этого не забуду. Роды Михаль были для меня тяжелым испытанием; мне самой было очень тяжело, и вдобавок мне не с кем было поделиться. Мне так не хватало моей мамы! Вне всякого сомнения, если бы мама была жива, я бы немедленно ей позвонила. А так, мы даже никому не сообщили, что Михаль в больнице. Мне было очень больно; самый близкий мне человек, моя лучшая подруга, и – не со мной. То есть у меня есть сестры, золовки и невестки, мы все очень дружим, но… но мне не хватало настоящей близости. Она опять замолкает, тяжело вздыхая и глотая слезы. Все слушают ее с огромным вниманием, боясь вспугнуть неосторожным движением или звуком. Справившись с предательски дрожащим голосом, Маргалит продолжает свой рассказ. – Столько лет я представляла себе, как я кричу ей: «Мама! Ты бабушка!.. А-а, мама! Я бабушка!» Когда Михаль была беременна, ко мне возвращался один и тот же сон, и я просыпалась в слезах оттого, что упустила эту возможность, эту особую возможность быть с мамой в такой важный для меня момент. Маргалит больше не пытается удержать слезы и утирает глаза заготовленной заранее салфеткой. Нири обводит взглядом женщин – у некоторых из них в глазах стоят слезы – и обращается к Маргалит: – Каким вам вспоминается период ее беременности? Я имею в виду, кроме того, что вы нам рассказали. – Мне было тяжело. Я даже не могу объяснить… Когда моя сестра была беременна, я все время гладила ее по животу, а тут мне было не по себе. Когда я сама была беременна, я тоже все время клала руки на живот, а в этот раз… Нет, конечно, я была рада, что там, внутри, зарождается новая жизнь, но я не могла до нее дотронуться. Я массировала ей спину, потому что чувствовала, что должна это делать, что от меня, наверное, этого ждут, но мне было очень тяжело себя пересилить. В самом начале, когда они – она с мужем – пришли чтобы сообщить нам, я ни о чем не подозревала. Они пришли к нам домой и сказали: «Мама и папа, мы хотим с вами поговорить». Я почувствовала, как у меня сжимается сердце; я сразу поняла, что это – то самое. И я выскочила из комнаты и стала звать мужа, а затем вернулась в комнату уже с ним и даже не стала дожидаться, пока она скажет, а сразу бросилась ее обнимать и целовать. Я была будто в угаре: я помню, что подняла ее, приподняла над полом и начала прыгать. И муж тоже был очень растроган. Я была так взволнована, что не могла понять, о чем они говорят. Они попросили никому пока не рассказывать, и, естественно, мы обещали, и это тоже было очень тяжело. Я была переполнена эмоциями, а поделиться было не с кем; и я опять почувствовала, как мне не хватает мамы. Я спросила у Михаль, могу ли я рассказать своему папе, и, получив разрешение, рассказала. А затем, не удержавшись, поехала на кладбище и там рассказала маме. Она продолжает говорить, не обращая внимания на текущие по щекам слезы. – Я переживала очень трудные дни и ничего не могла с собой поделать: то меня распирало от радости, то вдруг накатывала тоска, и я ходила подавленная и никого не хотела видеть. Ну а затем сами роды, мне было не так тяжело физически, как морально. Не знаю точно, сколько часов я провела там. Я выходила в коридор, смотрела телевизор, потом возвращалась. В принципе, я не спала сутки, я прибежала туда прямо с работы. Все было таким… Я очень волновалась, как будет и что будет. Все время мне не давали покоя мысли, что я должна делать и как себя вести после того, как Михаль родит. Как я приду домой и что надо купить – эти мысли сводили меня с ума. И еще я думала, что, если бы мама была здесь, она бы точно знала, что делать, и все было бы готово. А я как будто одеревенела и даже не знала, с чего начать. У нас принято, что дочка прямо из больницы на несколько дней переезжает к маме, и я никогда не забуду, какую шикарную комнату устроила мне моя мама. Я чувствовала себя настоящей принцессой. Я тоже очень старалась, хотела, чтобы все было как тогда. Но так, как тогда, не получилось, нет, совсем не получилось. Так что на первый взгляд я все делаю, как надо и что надо, но на самом деле там, внутри, я все еще в глубоком трауре. Маргалит вынимает из сумки чистую бумажную салфетку и поднимает голову, больше не стесняясь ни красных заплаканных глаз, ни припухшего от слез носа. – Вы хотите рассказать нам о своей маме? – спрашивает Нири, выждав паузу и давая Маргалит возможность успокоиться. Маргалит отвечает ей грустной улыбкой. – Моя мама была молодой бабушкой, намного моложе меня – в сорок лет она уже стала бабушкой. И она была классной бабушкой, просто необыкновенной. Моя бабушка брала нас на пляж, а моя мама брала внуков в Луна-Парк. Для моих детей до сих пор Луна-Парк – это место, куда они всегда ходили с бабушкой; так же как для меня бабушка – это море. Я помню, как мы были с ней в воде, особенно помню волны. У меня в памяти остались всякие мелочи, многих из которых я стараюсь придерживаться. К примеру, я готовлю ту же пищу, а иногда делаю те же замечания. Я вдруг слышу себя, повторяющую фразы, которые говорила моя мама, например, я говорю детям: «Вот вы на меня сердитесь, когда я вам подсказываю, а ведь я хочу, как лучше!» Я тоже часто сердилась на маму, а сегодня я вижу это совершенно иначе. Я сама повторяю те же слова, которые любила повторять она, и очень по ней скучаю. Очень. Это как рана, которая никогда до конца не закроется. Я никогда не выходила из ее дома без полных сумок. И я помню, что и моя мама всегда возвращалась от моей бабушки с сумками, набитыми едой. Я помню мамины фирменные блюда, ее необыкновенный яблочный пирог. Вечно она что-то приносила, делила, раздавала. Так что и сегодня, слава богу, моя дочка не выйдет от меня с пустыми руками – этого просто не может быть. Она была у меня в эти выходные, и я дала им полную сумку овощей. Мой зять, конечно, говорит: «Не надо, дома есть овощи, я все купил». А я ему отвечаю: «Ничего, бери; если мама дает, надо брать!» Так всегда говорила моя мама, и так говорила моя бабушка. Но даже притом что я их копирую и стараюсь все делать, как они, я все равно не могу с ними сравниться. Я не чувствую себя настоящей бабушкой, – добавляет она окрепшим звонким голосом. – Что значит, вы не чувствуете, что вы бабушка? Раз у вас есть внук, значит, вы бабушка! – назидательно говорит Клодин. – Правильно, я – бабушка, – отвечает ей Маргалит, – но внутри я еще с этим не свыклась. То, что я веду себя подобно моей бабушке или подобно маме, когда она была бабушкой, – это только снаружи, а внутри у меня пустота. Когда у меня родился внук, все говорили: «Ну вот, теперь у тебя новая должность»… Маргалит запинается и смотрит на Нири. В глазах у нее опять стоят слезы. – А вы все еще не там, – произносит Нири успокаивающим тоном. – Я еще не там, – шепчет Маргалит, теребя кромку блузки. – Совсем не там. И я совсем не спешу к дочке и не особенно скучаю по внуку. Нет, я, конечно, навещаю его, но я еще не… И я думаю, что это потому, что я еще по-прежнему в трауре, я все еще никак не могу оправиться. Я чувствую, что я так и не пришла в себя. Я вообще-то по натуре – живчик, но не сейчас. Я, да, все время занята, но я чувствую, будто меня постоянно что-то тормозит. Я все еще – не «настоящая» я; и это потому, что внутри у меня пустота. Может, когда внук назовет меня бабушкой, может, тогда, но пока – совершенно ничего. – А вот я как раз не могу дождаться, когда внук начнет называть меня бабушкой! – с нарочитой веселостью прерывает ее Мики, обращаясь к Нири. – Представляю, как люди будут говорить: «Что? Вы – бабушка?!» Рут возмущенно смотрит на Мики, заключая немой союз с Товой, которая приоткрыла от неожиданности рот, будто собираясь что-то сказать. Анна, не заметившая возмущенных взглядов, нацеленных на Мики, спешит ее поддержать. – У меня тоже недавно появилась мысль, что это будет, наверное, очень странно услышать, как мои внучки в первый раз назовут меня бабушкой. Я помню, как меня первый раз назвали мамой, Наама назвала меня «мам-м-м». Как я радовалась! Я подбрасывала ее в воздух и пела: «Да, я твоя мама!» Она обращается к Маргалит. – Я думаю, это действительно особые слова «мама» и «бабушка». Хотя, что касается меня лично, то кроме слова «мама», к которому я привыкла, я не признаю больше никаких «титулов» и прошу всех называть меня только по имени. Я в первую очередь Анна! Думаю, что и в этот раз будет лучше, если мои внучки станут называть меня по имени, просто Анна, а не бабушка. Может, со временем мы сойдемся на золотой серединке, например, бабушка Анна. Между прочим, это одна из причин, почему я решила не выходить замуж за Шауля, хотя мы уже давно вместе: не хочу, чтобы государство наклеило на меня ярлык «замужем». Для него я – его Анна, для внучек я буду их Анна, а для себя я – моя собственная Анна. В комнате опять наступает тишина, и Маргалит использует эту паузу для того, чтобы вернуть группу к предыдущей теме. По всему видно, что для нее она осталась все еще незаконченной. – А я как раз хочу, чтобы меня называли бабушкой. Для меня это комплимент. Я надеюсь, что до тех пор, пока это произойдет, я уже приду в себя. Она закрывает лицо руками, но продолжает говорить, не заботясь о том, кто и как ее слышит. – Но пока что мне очень тяжело, все еще слишком свежо. Подумайте сами – перенести столько потрясений всего за два-три года. Все произошло слишком быстро. Болезнь моей мамы, две недели, и – смерть. Я держала ее руку в моей, когда она умерла. Это был шок. И не прошло и тридцати дней, как моя дочка обручилась, а затем – свадьба… Маргалит отнимает руки от лица, но продолжает сидеть с закрытыми глазами. – Я помню, как мы делали покупки к свадьбе, и Михаль наконец-то нашла белые туфли, которые ей понравились. Я на радостях вынула свой телефон, а дочка спрашивает: «Кому ты собираешься звонить?» И я ей отвечаю: «Я хочу рассказать бабушке, что мы, наконец-то, купили». Михаль посмотрела на меня, – Маргалит широко раскрывает глаза и грустно улыбается, – и так тихо мне говорит: «Мама…» Она коротко вздыхает и спешит продолжить, будто не в силах остановиться. – То же самое происходило со мной в день, когда я стала бабушкой, когда Михаль родила. Первым делом я поехала на кладбище, несмотря на дикую усталость, села там возле могилы и все ей рассказала. Я страшно плакала. Все мне звонили и поздравляли; и всем я говорила: как жаль, что мама не здесь. И знаете, что я слышала в ответ? «Да, но ты-то здесь!» В устремленных на нее глазах Маргалит читает внимание и сочувствие. – Внимание близких вам людей, их добрые и правильные слова не в состоянии вас утешить, – обращается к ней Нири. – Вам по-прежнему нелегко быть «здесь», вам все еще очень больно. Маргалит молча, плотно сжимая губы, дабы не заплакать, согласно кивает головой. Нири складывает руки замком и продолжает тем же тихим, но уверенным голосом: – Слушая ваш рассказ, я вижу, что, потеряв маму, вы, кроме всего прочего, потеряли связующее звено между вами и окружающим вас миром. Маргалит не сводит с нее глаз. – Вы привыкли делиться с мамой любыми новостями, и разговор с ней давал вам возможность «переварить» происходящее. Сейчас, когда в вашей жизни произошло столько новых событий, вы особенно тяжело переносите ее утрату. – Да, это так, – тяжело вздыхает Маргалит. – Мне ее очень не хватает. И не только мне, ее не хватает нам всем, всей нашей семье. Моя мама, а до нее моя бабушка стояли у руля нашего семейного корабля. Она была главой нашего рода. Нам тоже очень важно его сохранить; и мы, конечно, продолжаем встречаться и отмечаем вместе все семейные торжества и праздники, но корабль не может долго оставаться на плаву без рулевого. И опять все молчат. Наконец, Орна спрашивает у Нири, может ли она обратиться к Маргалит. – Конечно! – отвечает ей Нири. – Я помню, Маргалит, как вы делились с нами в прошлый раз тем, что вы до сих пор не смирились со смертью бабушки, тем, что вы никогда больше не будете чьей-либо самой любимой внучкой. Маргалит согласно кивает головой, и Орна продолжает: – В дополнение к тому, что сказала Нири, я хочу добавить, что, возможно, вам так тяжела роль бабушки потому, что вы все еще не в состоянии «отпустить» ваше прошлое. Вы все еще цепляетесь за то, что утеряно, вместо того чтобы протянуть руку настоящему! Маргалит закрывает лицо руками, ее голова почти касается колен, но ей не удается ни подавить, ни скрыть новый беззвучный приступ плача. Рут гладит ее по плечу. – Ну все, все, – говорит она, – вот увидите, все у вас будет хорошо. Ее слова складываются в мелодию, и рука движется в такт словам. Маргалит вытирает нос и поднимает голову. Она коротко благодарно улыбается Рут и устало обращается к Нири: – Мне очень тяжело. Может, и вправду я все еще хочу быть их маленькой девочкой. Я действительно очень тоскую по прошлому; я не могу смириться, не могу согласиться расстаться навсегда. Я росла в любви и ласке, наверное, моя мама избаловала меня своим вниманием. Каждый день она звонила мне узнать, как я себя чувствую и что со мной происходит; поела ли я и когда я уже перестану бегать. Я слышу ее слова: «Ты опять куда-то бежишь… Таких социальных работников, как ты, больше нет, ты отдаешь им всю душу…» Иногда меня это даже раздражало, я говорила ей: «Хватит! Я уже большая девочка! Я сама знаю, когда мне надо кушать, и надо ли вообще!» Но сегодня, когда этого нет, я чувствую, как мне это необходимо! Она мне нужна, я скучаю по ней, по нашим с ней разговорам; мне странно, что она не знает, что со мной происходит. Мне ее очень не достает. Вот что такое мама, ничто не может ее заменить! – Если серьезно, это – правда: маму нельзя заменить ничем! – соглашается с ней Мики. «Ничто не может заменить маму», – думает про себя Элла и вспоминает, как мама Оры уехала на неделю к родственникам, которые жили в небольшом городке на севере страны, а она переехала жить к Оре, чтобы той было веселее. Бабушка Рахель тоже вызвалась помочь, и они жили целую неделю втроем как одна семья. Вечерами перед сном, когда Ора особенно скучала по маме, скучала по ней и Элла. Они вместе вычеркивали в календаре каждый прошедший день и считали дни, которые остались до ее возвращения. Бабушка Рахель пела им колыбельные песни и рассказывала истории, которые слышала еще от своей бабушки. В тот день, когда мама Оры должна была приехать, они вернулись из школы бегом. Украсили гостиную бумажными гирляндами и вместе с бабушкой Рахель испекли творожный торт. Мама Оры вошла в дом вечером, взволнованная и растроганная, обняла и даже поцеловала каждую из них. Затем она села и начала вынимать подарки из сумки, каждому по баночке знаменитого местного меда. Оре она протянула еще и мешочек с грецкими орехами, которые ее дядя собрал у себя на плантации специально для нее, и белую блузку, которую она купила к приближающемуся дню рождения. А затем пришел отец Эллы, сказал спасибо бабушке Рахель и увел ее оттуда. Они вернулись в пустой дом, каждый в свою комнату. Элла вздыхает, ощутив вновь, как сжимается сердце от обиды и разочарования. Целую неделю я была твоей дочкой, – мысленно обращается она к маме Оры, – но для тебя существовала только одна дочка, Ора. Я никогда не прекращала искать себе маму. Нири обращается к Маргалит уже ставшим всем привычным мягким, спокойным и успокаивающим тоном. – Нет замены маме. Мы возвращаемся к этому заключению неоднократно в разные времена и в различных ситуациях – в том числе и сейчас, когда вы понимаете, что пришло время взять бразды правления в свои руки и продолжить путь, но все еще – не в состоянии это сделать. Чисто внешне вы вполне функционируете, делаете все, что положено делать маме и бабушке, но вы делаете это с разбитым сердцем, и вам тяжело отдаться полностью дочке и внуку. От вас ждут, чтобы вы вышли на новый жизненный виток, а вы спрашиваете себя, как вы можете это сделать, если вы еще не завершили предыдущего. Нири обводит взглядом всех сидящих кругом женщин. – Я представляю себе вас стоящими на беговой дорожке и получающими из рук своих матерей вымышленную эстафетную палочку, означающую, что на следующем отрезке дистанции ведущими в забеге являетесь вы. В семьях, где мать уже покинула этот мир, помимо боли и тоски по близкому, возможно, самому близкому вам человеку, вам предстоит свыкнуться с еще одним жизненным фактом – находясь на вершине пирамиды, вы уже никогда не будете маминой дочкой или бабушкиной внучкой, и они больше не смогут вас защитить. – Что я могу вам на это сказать? – говорит Мики. – Я как раз чувствую себя абсолютно готовой перенять эстафету, несмотря на то, что моя мама жива. Может, потому что я всегда была самая сильная в семье – и среди моих братьев, и, уж точно, по отношению к моей маме. С тех пор как умер папа, все собираются только у меня, и я задаю тон, а не моя мама. Никто не спешит возразить или поддержать Мики, все молчат, обдумывая услышанное. Тишину нарушает Орна. – Я хочу вам сказать, – взволнованно обращается она к Маргалит, – что я нахожусь под впечатлением от вашего рассказа, как прошлого, так и сегодняшнего. Моя мама умерла полтора года тому назад в день рождения моей дочки Яэль. И я вас очень хорошо понимаю, когда вы вспоминаете себя счастливой от сознания, что вы любимая дочка и любимая внучка. У меня было то же самое, и с этим тяжело расстаться! Отказаться от мысли, что есть человек, который любит тебя больше всего на свете, что есть человек, который всегда думает о тебе и готов на все ради того, чтобы тебе было хорошо, на все! Очень тяжело расстаться с этой согревающей тебя заботой, оставить ее позади! В моем доме я та, которая волнуется за всех; и когда мама ушла, она забрала с собой ту особую тревогу, которую испытывают матери по отношению к дочерям. Я не особенно верю в мистику, но с тех пор как она умерла, меня часто охватывает чувство, что она там, наверху, устраивает мои дела. Я вдруг почувствовала себя уверенной и защищенной… Но от этого я не стала меньше скучать по ней, – еле слышно, почти шепотом добавляет она. – Моя мама умерла в возрасте девяноста восьми лет, и я была очень, очень к ней привязана. Может, поэтому я живу с чувством, что она оберегает меня, меня и всю семью, что она направляет мою жизнь, что она где-то попрежнему существует, и… такая абсурдная мысль, что она заботится каким-то образом о том, чтобы все у нас было в порядке. Орна вытирает глаза, остерегаясь размазать синюю тушь на ресницах. – Таким образом, вы сохраняете вашу с ней связь, равно как и Маргалит, которая и в трудные, и в радостные минуты спешит на могилу матери, чтобы рассказать там обо всем, что с ней происходит, – замечает Мики. – Да, мне ее очень не хватает, – подтверждает Орна. Ее глаза блестят от слез; по всему видно, что она очень взволнована, – но она продолжает жить во мне, в моих мыслях. Если честно, то уже несколько последних лет она не могла говорить. Последние годы она была больна и нуждалась в моей помощи, а я, со своей стороны, чувствовала, что должна быть рядом с ней. Затем был короткий перерыв, а сейчас во мне опять нуждаются, только теперь в качестве бабушки. Действительно, это как движение по спирали: один круг пройден, и теперь я выхожу на следующий виток. – Вот именно так и должно быть! – вступает в беседу Рут. Она складывает руки перед собой в характерном буддистском жесте – ладони лодочками обращены одна к другой. – На этой неделе я не раз возвращалась к услышанному на прошлом занятии, и мне пришла в голову мысль, что не зря генеалогические схемы называют семейным деревом. И тогда я подумала: чем искать в кроне то, чего уже нет, не лучше ли опустить взгляд к земле, туда, где пробиваются молодые ростки, и радоваться сегодняшнему дню и новой зарождающейся жизни?! Хотя, возможно, мне легко говорить, потому что моя мама по-прежнему со мной. Клодин задумчиво поглаживает браслеты на руке. – Я тоже пережила очень тяжелый год, когда умер мой муж, – говорит она, поворачиваясь всем корпусом к Маргалит. – Страшно тяжелый! Когда я узнала, что дочка беременна, это стало для меня утешением, что вот, хотя бы у меня есть теперь что-то… не знаю, как это объяснить… У меня ведь есть еще маленькие дети, и все равно я чувствовала себя очень одинокой. Мой муж был для меня всем. Он ни на минуту не оставлял меня одну, заботился обо всем. И вдруг я совсем одна – одна, даже когда все дети в доме, например, в субботу или в праздники. Когда Лиат сообщила мне, что она в положении, у меня было такое чувство, будто мой муж вернулся. И она собирается дать малышу его имя! Для меня это огромное утешение, в доме опять будет звучать это имя! С этих пор я даже меньше плачу. Я жду не дождусь, когда она уже родит! Я только об этом и думаю; и все в доме только об этом и говорят: когда он уже родится, когда его уже, наконец, принесут к нам в дом… – Да, это, действительно, утешение, – соглашается Маргалит. Ее голос больше не звенит от слез. – Наверное, и мой внук заполнит образовавшуюся пустоту, но, как видно, пройдет время, прежде чем я свыкнусь, а главное, смирюсь с переменами, которые происходят в моей жизни. – На прошлой неделе вы рассказывали про семинар, на котором вас попросили назвать одно событие, которое изменило вашу жизнь. По всему видно, что Рут действительно неоднократно возвращалась к услышанному на предыдущей встрече; она помнит ее в деталях. – Если я не ошибаюсь, у вас их было два: день смерти вашей мамы и, как вы выразились, день рождения бабушки. Какое в конце концов вы выбрали? – Я выбрала рождение бабушки, – гордо улыбаясь, отвечает ей Маргалит. – Я думаю, что сделала свой выбор, благодаря тому, что присутствовала на родах. Я вряд ли смогу это объяснить, но я этого никогда не забуду, это потрясло меня до глубины души. Я чувствую, что что-то во мне сдвинулось; я думаю, что я «на правильном пути». Она опять улыбается; вне всякого сомнения, ей стало намного легче. – Скорее всего, именно поэтому моя дочка и записала меня в эту группу. Я ведь рассказывала на первом занятии, что это она увидела объявление, а я тут же согласилась. Повидимому, она пытается мне сказать, что хватит, пора браться за дело. – Наверное, наши дочки это чувствуют, они точно знают, готовы ли мы уже или нет, – неожиданно вступает в беседу Анна, так и не отрывая глаз от пола. – Несколько лет я переживала, что моя дочка и думать не хочет о беременности. Не то чтобы я действительно знала, о чем она думает, но сам факт, что время идет, Наама выходит замуж, а о детях – ни слова. Может, это из-за того, что она, возможно, подсознательно уловила, что я еще не созрела, не освободилась для бабушки. Анна наконец-то переводит взгляд на сидящих рядом с ней женщин и продолжает: – Вы должны понять, что я просто дико занята, все держится на мне, у меня масса дел. Я не тот человек, который каждое утро отправляется в одно и то же место. Так это длится много лет, и этому нет конца. У меня нет ни минуты покоя. Но я это люблю. Честно говоря, – она заправляет за ухо непослушный локон, – ничего и не изменилось. Я не стала свободней. Мне пятьдесят лет, но если судить по тому, сколько часов в сутки я работаю и что успеваю, то мне двадцать восемь. Недавно в компании с еще одной коллегой-архитектором мы открыли новую контору, кроме того, я пою в хоре, и мы разъезжаем по всей стране. Иногда я смотрю на моих подруг и не могу понять, как они живут. Я понимаю, что это может звучать нескромно с моей стороны, и вообще, нехорошо судить, но как можно жить в одном месте двадцать лет и все это время делать одно и то же?! Вот так я и живу – молодая – старая – и это порой сводит меня с ума… но ничего не могу с собой поделать; наверное, я без этого завяну. Рут ласково дотрагивается до ее колена. – Я знаю тебя много лет, и ты всегда совершала поступки, которые не давали тебе состариться. Например, ушла от Амуса к Шаулю и родила от него еще двоих детей. Естественно, что тебе не горит стать бабушкой, ты хочешь оставаться молодой! Она улыбается и поясняет: – Муж Анны – латиноамериканец, такой же горячий, как и она – моложе ее на десять лет. – Я тоже старше мужа на целый год! – гордо объявляет Мики. – Сколько лет вашим детям? – спрашивает Анну Клодин, но Мики, решившая, что вопрос обращен к ней, отвечает: – Моей дочке – тридцать, а сыну – двадцать семь. Все вокруг улыбаются, и она, поняв, что произошло, начинает поспешно искать что-то в сумке, пока наконец не вытаскивает оттуда мятную карамель. Анна же, возбужденная от собственной смелости (она не привыкла к такого рода откровенностям) и общего внимания, не заметила наступившей заминки. – Наама самая старшая, ей – тридцать; Тамаре – двадцать пять, Майе – тринадцать и Адаму – одиннадцать, – перечисляет она. – Я не могу представить себя старой. Может, потому, что мои братья и родители намного старше меня, я всю жизнь чувствую себя маленькой. Один из моих братьев старше меня на двадцать лет, ровно на столько же я старше моей дочки. Так что я для всех – самая маленькая. Даже, когда мне будет восемьдесят, если я доживу, для себя я по-прежнему останусь самой маленькой. Настоящий возраст не имеет тут никакого значения. Я все начала очень рано: работу, материнство. Когда росли младшие дети, родители их сверстников в своем большинстве были младше меня, но и рядом с ними я часто ощущала себя девочкой. Это никак не связано с паспортом, по всей вероятности, я застряла где-то в шестидесятых. Анна, смеясь, разводит руками. – Что же касается Наамы и того, что я сказала раньше, скорее всего, я себя несколько переоценила. Возможно, я придаю собственной персоне слишком большое значение: кто вообще думает о тебе в такие минуты?! Хотя недавно у меня промельк нула мысль: может, она ждала все эти годы, когда, наконец, я повзрослею? Нири обращается к Анне: – Вы только что подняли новую для нас тему: готовы ли вы к переменам, которые происходят в вашей жизни в целом, и к вашей новой роли бабушки в частности. По вашим словам, вы не чувствуете себя достаточно свободной или готовой, чтобы соответствовать вашему новому статусу; и объясняете это, во-первых, тем, что вы вечно заняты, а во-вторых, тем, что вы все еще не ощущаете себя достаточно взрослой. Поэтому я хочу вас спросить: здесь, в группе, вы тоже ощущаете себя самой маленькой, в чем, по-вашему, это проявляется? Анна смотрит на Нири и не спешит с ответом, поэтому Рут приходит ей на помощь. – Что вы имеете в виду? – спрашивает она. – Я думаю, – говорит Нири, улыбаясь Анне, – что чувствовать себя маленькой в группе матерей, которые готовятся стать бабушками и являются, соответственно, женщинами взрослыми, а не «маленькими», это значит соблюдать некоторую дистанцию – в первую очередь эмоционально – от всего, что здесь происходит. Голос Нири звучит очень доброжелательно, она продолжает: – К примеру, я обратила внимание, что вы очень внимательно слушали Маргалит, но при этом я прочла на вашем лице любопытство, с которым внимают рассказам о дальних странах или незнакомых племенах; а иногда мне казалось, что вы не совсем «с нами», возможно, думаете о чем-то другом? Это вам знакомо? Рут, опустив на пол бутылочку с минеральной водой, которую она все это время держала в руках, с интересом смотрит на Анну. – Не знаю, – отвечает Анна, пожимая плечами. – Мне, правда, было интересно то, о чем говорила Маргалит, но откуда мне знать, с каким выражением лица я ее слушала? Да, действительно, в муках рожденная бабушка – это не про меня; и возможно, я периодически отключаюсь, сама не знаю почему, но не думаю, что это связано с тем, что я и здесь чувствую себя маленькой. А может – да? Последние слова Анна произносит, подавшись вперед, словно отфутболивая их от себя в центр комнаты. – Нет, не знаю. Я вообще не слишком копаюсь в своих собственных чувствах. Я сейчас не говорю о группе, – поясняет она. – Я просто живу; стараюсь радоваться как можно больше и страдать как можно меньше. Можете назвать это моей жизненной философией, если хотите. Я не зацикливаюсь на прошлом и не загадываю, что будет в будущем, а живу в конкретном настоящем и без излишних сантиментов. Может, вы это имели в виду, когда говорили о соблюдении дистанции? – С одной стороны, – замечает Нири, – вы человек прагматичный, избегающий, как вы выразились, копаться в собственных чувствах; но при этом вы рассказываете нам, что интуитивно чувствуете, угадываете седьмым чувством то, что ваша дочь не готова выразить словами. Я думаю, что не вы одна ведете со своей дочерью такого рода немые, понятные только вам диалоги. Нири обводит взглядом всех присутствующих. – Давайте остановимся на этих диалогах; посмотрим, какого рода беседы вы ведете. Первый из них ради эксперимента готова предложить я, идет? Она ждет ответа от Анны, и та молча кивает головой. – Уже несколько лет, – продолжает Нири, – вы ведете скрытый диалог с вашей дочкой, в котором Наама «спрашивает» вас: «Ну, уже можно?» А вы «отвечаете» ей: «Нет», так как вы еще не готовы, или вы еще маленькая, или вы слишком заняты в вашей новой конторе и с младшими детьми, или летом у вас запланированы выступления с хором. Пока в один прекрасный день вы, вероятно, говорите ей: «Слушай, хватит меня спрашивать! Это твоя жизнь, тебе решать, а я буду с тобой независимо от того, что ты решишь». И Наама решает рожать. – Это звучит совсем неплохо, – говорит, улыбаясь, Анна и закидывает ногу на ногу. – Предположим, что я начну эту вымышленную беседу. Но если вам интересно мое мнение, ситуация должна была быть иной. Она уже давно не спрашивает моего согласия, прежде чем принимает какое-либо решение. Она в лучшем случае сверяет его со моим мнением. Так что это должно было бы звучать примерно так: «Мама, если я рожу, ты согласишься быть бабушкой?» Не думаю, что несколько месяцев тому назад она заключила из моего «ответа», что я буду более свободна; но, скорее всего, просто пришла к выводу, что меня нечего ждать. Меня нужно бросить в воду, ну а я уж как-нибудь выплыву. Потому что, насколько я себя знаю, я всегда нахожусь в поисках новой цели, нового занятия. И это новое занятие я начну с нуля и не успокоюсь, пока не усвою его до конца. Исходя из этого, я никогда не буду готова, но когда это произойдет, я уверена, уйду в это вся без остатка, на сто процентов. – Так что же получается, – смеясь, замечает Клодин, – что Наама определила, чему вы посвятите себя в ближайшие годы? – Возможно. Или она просто поняла, что я здесь ни при чем. Я всегда говорила Нааме, что у нас у каждой своя жизнь и каждая выбирает для себя, как ее прожить. Этот диалог, в принципе, должен состояться между Наамой и ее мужем, а я уж пристроюсь. Хотя сейчас, когда я об этом думаю, я вообще пришла к заключению, что в нашем случае Наама в первую очередь должна решить все для себя сама. Потому что и у нее, как у меня, есть эта черта – всегда искать что-то новое, ставить перед собой новые задачи, не успокаиваться на достигнутом. Может, ей было тяжело самой поменять свой образ жизни – гораздо легче свалить все на меня… Вы понимаете? – обращается она к группе. Рут пытается понять и уточняет: – Значит, по-твоему, она видит в тебе ту свою сторону, с которой ей тяжело мириться, и поэтому «перекладывает все на тебя»? – Совершенно верно! Она, можно сказать, использовала меня. Но мне это не мешает, зато теперь она по-настоящему созрела. – Слушайте, все это представление с диалогами тут абсолютно не по делу! – Раздраженно прерывает их Мики, поднимая руку, будто пытаясь их остановить. – Что за психологическая галиматья?! Вы берете совершенно простые вещи и делаете из них черт знает что – какой-то салат! Как будто самое главное здесь: готова – не готова, созрела – не созрела? Она попеременно протягивает то одну руку, то другую. – Что за болтовня?! – Эй, Мики, успокойтесь! – одергивает ее Орна. – Вы можете говорить все, что думаете, но выбирайте слова! – Мне это не мешает, – равнодушно отзывается Анна, – она может говорить все, что она хочет. – Это не «что», а «как»! – взволнованно настаивает Орна, ее длинные серебряные серьги раскачиваются в такт словам. – Да я от ваших разговоров чуть не взвыла! – упрямо продолжает Мики. – А мне, наоборот, очень понравилась идея диалогов, – спокойно реагирует на последнее замечание Рут. – По-моему, нет человека, который не разговаривает мысленно сам с собой. Кроме того, я думаю, что это очень близко к тому, чем мы занимаемся здесь, в группе: мы тоже беседуем одна с другой, слушаем других и прислушиваемся к самим себе; пытаемся разобраться в своих мыслях, сформулировать их и соединить воедино чувства, мысли и поступки. Для этого мы здесь и собрались, чтобы наконец-то сосредоточиться на проблемах, которые нас тревожат и вне группы, но по разным причинам мы относим их к разряду второстепенных и не придаем им нужного значения. – Тут, по крайней мере, мы разговариваем друг с дружкой, а не сами с собой и слышим, а не стараемся угадать, что каждая из нас думает, как это происходит у Анны, – смеясь, подытоживает Клодин. – Что касается диалогов, – говорит Нири, – я думаю, что и у нас в группе они продолжают существовать в обеих своих формах: есть слова, произнести которые не составляет особого труда, например, выражая поддержку и сочувствие; а есть вещи, говорить о которых тяжело, и поэтому о них умалчивают или прибегают к намекам. Это обычно касается негативных чувств или личного мнения, которое отличается от мнения большинства. Вот и вопрос, как и что говорить, вы в открытую обсудили только сейчас, на четвертой встрече, а до этого осторожно нащупывали его, обходя острые углы и боясь приблизиться вплотную. Мне даже интересно, что заставило вас сделать это именно сегодня. Все молчат. Орна, прочищая горло, смотрит на Маргалит, которая нервно передвигает стул. Рут не выдерживает первой: – По-моему, то, что мы повысили голос и осмелились высказаться в открытую, – это признак сближения. Это значит, что мы чувствуем себя здесь более комфортно, свободно, как у себя дома, а значит, можно позволить себе высказать и менее приятные вещи. – Я в любом месте предпочитаю быть сама собой и говорить то, что думаю, – спокойно произносит Мики. – Вы уже меня немного знаете, я не умею сдерживаться. Даже если мне это на какое-то время удается, все равно, все знают, что я думаю. Так что нет смысла молчать. – Я согласна, что очень важно не кривить душой, но для меня не менее важно, чтобы мы уважали друг друга! Незачем обижать! Орна с трудом заставляет себя перевести взгляд с Маргалит на Мики. – Мы и так слишком ранимы в последнее время, – добавляет она. – Не говорите за всех! – набрасывается на нее Мики. – Я вовсе не чувствую себя ранимой ни сейчас, ни в последнее время! Я могу вам показаться не слишком вежливой, но это потому, что терпеть не могу, когда кто-то говорит за меня! И опять в комнате тишина, которую на этот раз нарушает Нири. – Я чувствую, что что-то у нас сегодня здесь изменилось. Возможно, это связано с тем, что Рут назвала «чувствовать себя как дома». Давайте обсудим, что же это, по-вашему, значит. – Дом – это безопасность! – говорит Орна. – Это твоя территория, там ты можешь быть сама собой, там тебя все хорошо знают. – Да, – говорит Рут, – и для меня дом значит то же самое. Остальные матери молча кивают в знак согласия. «Дом, – думает Элла про себя, – дом – это место, куда ты спешишь, чтобы укрыться от внешнего мира, но при этом убеждаешься, что он не может защитить тебя от твоих собственных воспоминаний; и начинаешь понимать, что от боли не спрячешься, что она разъедает тебя изнутри». – Тогда у меня возникает вопрос, – продолжает Нири. – Как можно здесь, в комнате, оставаться искренней, говорить открыто и свободно и при этом чувствовать себя уверенной и защищенной? Я думаю, что параллельно вы можете спросить себя, как на самом деле протекает у вас диалог с вашей дочкой. Удается ли вам в вашем «настоящем» доме говорить все, что у вас на душе, или вы предпочитаете иногда промолчать, лишь бы не вызвать осложнений? «А что если есть вещи, о которых нельзя говорить? И если ты их затронешь, ты можешь оказаться на улице – тебя попросту выгонят?» – вопросом на вопрос мысленно отвечает ей Элла. Мамы молча переглядываются. Орна первой нарушает тишину, при этом, оставляя вопрос Нири без ответа: – Я думаю, требуется немало времени, чтобы почувствовать себя где бы то ни было как дома. И не меньше времени пройдет, прежде чем человек позволит себе говорить с другими открыто, высказывая все, что он думает. – Попробуйте это сформулировать относительно себя, – предлагает ей Нири. – На что вам потребуется время? Орна не спешит с ответом. – Ну, к примеру, чтобы начать спорить или выяснять отношения. А самое тяжелое для меня – это высказывать кому-то что-то неприятное или выслушивать неприятные вещи в свой собственный адрес. Я не скоро сближаюсь с людьми и даже с близкими избегаю споров и сделаю все, чтобы не дойти до ссоры. Мне очень тяжело привыкнуть к чему-то новому, и необходимо время, чтобы я это переварила и усвоила! – Значит, – подводит итог Нири, – возможно, и сейчас есть вещи – чувства, переживания, о которых вы еще не в состоянии говорить, вам еще нужно время. – Возможно, – задумчиво отвечает Орна. – Я еще должна это обдумать. – А я вам вот что скажу, – громко заявляет Мики. – Кто держит все в себе, обязательно наживет язву, честное слово! Я уже давно решила, что это не про меня! Почему я одна должна страдать?! Пусть и вторая сторона знает, что это такое! – Я с вами полностью согласна! – говорит Орна. – Но, к сожалению, у меня не всегда хватает смелости высказать все, что я думаю. – У вас есть прекрасная возможность поупражняться, – с улыбкой обращается к ней Нири. – Я предлагаю попробовать прямо сейчас: скажите, что вас раздражает, и посмотрим, что из этого получится. Орна опять не спешит с ответом, по ней видно, что она колеблется; наконец, сделав выбор, она неуверенно произносит: – Нет, я еще подожду. Кроме того, я и не знаю, что сказать! Анна, отступившая под натиском Мики, опять вступает в беседу. – Несомненно, есть люди, которым нужно набраться смелости, чтобы высказать то или иное мнение или совершить тот или иной поступок. И многие так и не осмелятся на решительный шаг, все выжидая и откладывая, и загонят себя в тупик, из которого, скорее всего, так никогда и не выберутся. – Это точно, – соглашается с ней Това. – Я тоже считаю, что нельзя трусить и нечего держать все в себе, даже если это может привести к осложнениям. Я говорю это из собственного опыта. Моим детям часто не нравится, что и как я им говорю; сами же они не пытаются смягчить каким-то образом свои высказывания в мой адрес, особенно это касается дочек. Зачастую это очень обидно. – Интересно, что то, что говорят тебе абсолютно посторонние люди, обычно воспринимается легче, – замечает Маргалит и обводит взглядом сидящих рядом с ней женщин. – Но мы уже не посторонние. Это уже что-то другое. С одной стороны, это, конечно, не дом, но это и не чужое место. Возможно, это дом, который мы еще должны обустроить, а пока мы медленно-медленно привыкаем. – Это то, о чем мы уже говорили раньше, – вступает в разговор Клодин. – Людям нужно время, чтобы привыкнуть к… да ко всему! Поэтому, когда у нас внезапно что-то случается, да еще и одно за другим, как у Маргалит, нам очень тяжело к этому привыкнуть. То же самое мы чувствуем в группе – пройдет время, пока мы по-настоящему сблизимся; и точно так же пройдет время, пока мы почувствуем себя готовыми стать бабушками! «Тяжело говорить, тяжело решиться и рассказать про себя всю правду – все тяжело! – думает Элла, по-прежнему не вступая в беседу. – Может, надо было встретиться с Нири частным образом, поговорить обо всем только с ней. Ей я могла бы рассказать, она умеет слушать. И, кроме того, она высказывает интересные мысли. Она принимает меня такой, какая я есть, я это чувствую. И я ей интересна, я читаю это в ее взгляде, когда она смотрит на меня. И она по-настоящему видит меня, я для нее не пустое место». Элла переводит взгляд на сидящих в комнате женщин. «Вы мне совершенно чужие. С какой стати я буду рассказывать вам вещи, о которых я не рассказывала даже тем, кто были мне близки?!» – Я полностью с вами согласна, – разговор в группе продолжается, и Рут обращается к Клодин. – Есть процессы, как, к примеру, сближение, для которых необходимо время. Когда вы говорили о том, как чувствовали себя готовыми или не готовыми стать бабушками, я хотела сказать, что, судя по моему опыту, период подготовки, или, если угодно, созревания, длится очень долго. Талья уже была беременна, а я все еще только присматривалась, примеривалась. Сначала все было очень неопределенно, как будто в тумане, и только постепенно я начала осознавать реальность происходящего. Как свет в конце туннеля: сначала ты медленно движешься в темноте, чутьем угадываешь направление, но вот туннель расширяется и светлеет, и ты шаг за шагом приближаешься к спасительному источнику света. Меня это завораживает! В начале ее беременности я как будто наблюдала за всем со стороны: я спешила сообщить всем, что Талья ждет ребенка, но совершенно не чувствовала, что это касается непосредственно меня – просто информация, новости, которыми я делюсь, когда меня спрашивают, что новенького. Сегодня это уже не так, хотя я все еще в процессе… Может, для этого я оказалась здесь, в группе: закончить, наконец, все приготовления и, как положено, засучив рукава, заступить на вахту?! Я ни разу не обсуждала эту тему с дочкой, но я уверена, что и она не сразу привыкла к своему новому положению. Сегодня мне совершенно ясно, что беременность касается нас обеих: она – часть меня, и ее ребенок – это тоже часть меня; поэтому все месяцы беременности мать и дочь проходят параллельно, у каждой из них своя дистанция, которую она обязана преодолеть. Я вдруг вспомнила, как мы встретились с родителями зятя, уже после того как нам сообщили о будущем ребенке. Отец зятя сказал мне что-то – неважно что, – а в конце добавил: «Правда, бабушка?» Я помню, как почти оттолкнула его рукой, как раздраженно ответила ему: «Я еще не бабушка!» Потом мне стало очень неудобно. – Почему, правда, вы его толкнули? – спрашивает Нири. – Потому! Потому что тогда я действительно еще не была бабушкой. Он тоже очень удивился, а я сказала ему: «Я пока что только мама Тальи, и – все!» Как видно, всему свое время. То же самое я чувствовала, когда вдруг стала мамой. Рут выпрямляется. – Когда родился Рони, мой старший, я посмотрела на него, потом на себя и подумала: «Я? Я его мама? Вот моя мама, она – мама! А при чем тут я?» Я даже чуть-чуть его пожалела: ведь он, бедненький, наверное, думает, что я умею быть мамой! То же самое происходит со мной и сейчас: что это значит, быть бабушкой? Мне необходимо время, чтобы этому научиться! Я тогда сказала отцу зятя: «Подожди, не спеши! Есть еще семь месяцев, куда ты бежишь?! В первую очередь, я – мама!» Звонкий заразительный смех Рут вызывает улыбки у слушающих ее женщин. – Я все еще не знаю, как это – быть бабушкой, – улыбаясь, продолжает она. – Правда, сейчас меня это уже не так пугает. Счастье, что беременность длится девять месяцев! «К любым изменениям в жизни тяжело привыкнуть, – думает про себя Элла, – а еще тяжелее привыкнуть к тому, как поменялась я сама». И тут же исправляется: «Нет, все-таки самое тяжелое – это признать, что все изменилось и то, что было раньше, кончилось и не вернется никогда. А может, – вновь возражает она себе, – если не опускать руки и не терять надежды, а терпеливо переждать, пройдет время, и все образуется. Пусть будет не совсем так, как было, но похоже», – не сдается она. – Предположение Рут, на мой взгляд, звучит вполне логично, – говорит Това. – Мама наравне с дочкой нуждается в этих девяти месяцах, чтобы созреть; для нее это тоже своего рода беременность. Но странно, я ничего подобного не испытываю. Может, потому что я боюсь и подсознательно избегаю думать о том, что еще не свершилось, потому что неизвестность меня очень пугает. Ведь то, что это естественно, вовсе не значит, что это просто! – Совершенно верно! – поддерживает ее Орна. – Как мама, так и дочка, а вернее, бабушка и мама должны привыкнуть к своему новому статусу. Ребенок – это совсем не просто! Кроме всего прочего, это ведь огромная ответственность! Что касается меня, мне кажется, что я быстрее привыкла к новой ситуации, чем моя дочь. Иногда я смотрю на нее, и мне кажется, что, несмотря на то, что роды уже, можно сказать, на носу, она все еще не сознает, что вот-вот станет матерью. Может, это потому, что она изначально не была к этому готова. Она не хотела этой беременности и готова была сделать аборт. – Серьезно?! – откликается Рут. – Абсолютно! Первые три года после свадьбы они предохранялись и, думаю, продолжали бы и дальше, но Яэль наслушалась от подружек обо всяких осложнениях, о том, что многие годами не могут забеременеть, и испугалась. Когда ей стало ясно, что она беременна, она очень обрадовалась. Да мы все очень обрадовались, в первую очередь тому, что с ней все в порядке. Мы на какое-то время забыли, что Яэль еще не закончила учебу, и вопрос, а как это все будет, нас не тревожил. Я даже не представляла, какую роль во всем этом буду играть я. Мне все время приходится ее подбадривать; я снова и снова обещаю ей, что буду помогать чем только смогу. Сначала все было спокойно, но когда она начала плохо себя чувствовать, до нее начало доходить, что значит беременность и роды. Все чаще мы слышали от нее: «Что будет с моей учебой? Как я смогу ухаживать за ребенком? Как я со всем этим справлюсь?» Пока однажды она не заявила, что ей все это опостылело, и она идет делать аборт. Вы не представляете, чего мне стоило ее отговорить! До сих пор я не вижу, чтобы она радовалась, хотя она очень следит за собой, делает все анализы, не курит, хорошо питается, в общем, ей очень важно, чтобы беременность протекала нормально. Орна тяжело вздыхает. – К сожалению, мне кажется, что она все еще не готова ни морально, ни физически к рождению ребенка. Я, честно говоря, надеялась, что со временем она привыкнет, но, как видно, ошиблась. Ведь она уже на девятом месяце! И видит бог, она старается, но, наверное, одного желания тут мало. Мне вообще кажется, что она еще недостаточно повзрослела, даже просто для семейной жизни. Недавно она мне сказала очень простую вещь: «Если бы я подождала еще год – два, я была бы самым счастливым человеком, мне бы и в голову не пришло делать аборт! А сегодня я не могу через силу радоваться тому, что вот-вот у меня будет ребенок». – А как вы сейчас относитесь к тому, что она согласилась оставить ребенка? – спрашивает Това. – С одной стороны, мне больно за нее, но, с другой стороны – я ее понимаю! Я тоже не хотела и не думала, что это будет так! Я представляла себе, какой она будет счастливой, когда забеременеет, ведь это такая радость! Но, к сожалению, эта беременность ей радости не принесла. Иногда я чувствую такую безысходность… И она… Раньше, когда она видела маленького ребенка, она вся загоралась: «Ой, какая прелесть! Когда-нибудь и у нас будет такой же!» А сейчас проходит мимо беременных или детей и даже не смотрит в их сторону. Даже я стараюсь не затрагивать эту тему или отвлечь ее внимание, чтобы не обострять ситуацию лишний раз и не расстраивать ее и себя. Она чувствует, что теряет свою независимость, и в этом она права: в момент, когда у женщины появляется семья и дети, – прощай свобода! И навсегда! Так было и со мной. Я первый раз забеременела в двадцать два с половиной года и тоже хотела сделать аборт, но мама мне категорически запретила! – Так для вас это повторение истории, – прерывает ее Нири. – Да, но у меня это было иначе! Мне было тяжело, но я не вела себя так, как она! Моя дочка мне говорит: «У тебя была другая жизнь, другие цели. Ты вышла замуж, училась, родила; твой муж не был таким молодым». Мой муж старше меня на двенадцать лет и… я уже работала. Может, я была другой, другое поколение! Тогда рано женились, рано рожали – все делали рано… Если честно, то и для меня беременность Яэль пришлась не ко времени! Я, конечно, надеюсь, что все наладится, дай бог! Разве мне приятно вот так тащить ее на своих плечах и еще думать, что в такой ненормальной обстановке должна родиться моя внучка! И знаете, что странно? Когда я узнала, что Яэль беременна, первой реакцией была огромная радость, но почти сразу я стала думать, что, в принципе, я еще не готова. И это несмотря на то, что за пару месяцев до этого я кому-то сказала, что уже созрела стать бабушкой! Я помню, что бросила эту фразу за несколько месяцев до того, как Яэль забеременела. – Что означало для вас тогда быть готовой стать бабушкой? – спрашивает Нири. – Тогда я подразумевала совсем другое. Сегодня все выглядит иначе: сегодня это значит полностью посвятить себя новой роли. Я ведь обещала ей, что буду помогать! Даже сама беременность – это не так-то просто, ну а ребенок!.. Это же какая ответственность! И это на всю жизнь! – Для бабушки? – осторожно переспрашивает Нири. – Ну и для родителей, конечно, тоже, – отвечает Орна. – Я же вижу, что происходит с Яэль. Так что, когда я говорила – и ей тоже – что мне уже пора стать бабушкой, я имела в виду совсем другое. Я имела в виду обычную бабушку, а не такую, которая занимается только этим с утра до вечера. А теперь я понимаю, что она ждет от меня именно этого. Я, конечно, согласна помочь, но у меня есть и своя жизнь, от которой я не собиралась отказываться! – А что еще вы думаете на этот счет? – задает очередной вопрос Нири. – Просчет? – недоуменно уточняет Орна, и Нири тут же исправляет: – Я спрашиваю, что еще вы думаете насчет вашей новой роли. Орна смущенно улыбается, а затем добавляет: – Только то, что с того момента, как родится моя внучка, мне придется распрощаться со свободой. Учитывая всю сложность сложившейся ситуации, я в этом абсолютно уверена. Я знаю, что жизнь Яэль уже никогда не будет такой, какой была до этого, и моя жизнь тоже станет совершенно другой. На массу вещей у меня уже просто не будет хватать времени. У большинства бабушек это выглядит совсем иначе. И, поверьте, мне очень нелегко! Может, еще и потому, что я как будто вернулась в то время, когда мне самой было двадцать, и я опять не могу делать то, что мне хочется. – Вы находитесь в положении, когда вы, можно сказать, через силу берете на себя новые обязанности, потому что ваша дочь не в состоянии их выполнить, а, значит, вся ответственность падает на вас, – замечает Нири. – По всей вероятности, разговаривая с дочкой, а затем, обдумывая сложившуюся обстановку, вы составили для себя тот образ бабушки, к которому вам надо подготовиться. Как вы сами выразились, вы должны будете посвятить себя всю до конца. Вы готовите себя к тому, что опять потеряете свободу и, возможно, какое-то время даже будете вместо дочки нянчить малышку. – Да, это так! Потому что я все время помню, что она не хотела этой беременности. Даже сейчас ей очень нелегко, хотя прошло уже достаточно времени с тех пор, как она решила сохранить ребенка. И сейчас бывают дни, когда она очень подавлена или жалуется, что у нее ни на что нет сил, и я спрашиваю себя, как она сможет смотреть за маленьким ребенком?! Вот так обстоят дела… И ей нелегко, и мне тяжело, хотя я ей этого не показываю. Она и так все время себя обвиняет. На этой неделе она мне говорит: «Я знаю, насколько важна связь между матерью и ребенком и как важно, чтобы ребенок родился желанным, но что поделаешь, если я не в состоянии это прочувствовать?! Счастье, что есть ты; и ты сможешь за ней ухаживать и дать ей все, что необходимо». Вот такие у нас дела!.. Я обещала ей, что помогу с ребенком, но за это время и с учебой у нее не все гладко: она сильно устает, легко раздражается и переживает из-за любого пустяка. Естественно, что в этом году у нее резко снизились оценки. До этого она была отличницей и планировала сразу пойти на вторую степень. Я ее успокаиваю: «Сделаешь ты и вторую степень, подожди! Ты увидишь: ты успеешь все! Ты увидишь: ты сделаешь все, что не сделала я, и даже больше! Я тебе помогу!» Элла, которая сидит по соседству с Орной, поворачивается к ней всем корпусом; на лице ее добрая улыбка, глаза неожиданно блестят. – Я надеюсь, вы все-таки будете той самой бабушкой, о которой мечтали! Это именно та бабушка, которой хотела бы быть и я! Я бы тоже хотела быть бабушкой «нетто», без всяких добавок – бабушкой, которая балует, которой не надо оставаться с внуками, когда они болеют, и успокаивать их, когда они плачут. В общем, которая получает от них только удовольствие! Ведь со своими детьми ты занята беспрерывно! Я помню, когда Эйнав была маленькая, у меня иногда возникало желание, чтобы ее кто-нибудь забрал, чтобы я могла хоть чуть-чуть отдохнуть! Когда ты бабушка, ведь это уже возможно?! Улыбка исчезает с ее лица так же внезапно, как и появилась, глаза потухли, руки привычно потянулись к бахроме накинутой на плечи зеленоватой шали. – Знаете, о чем я думала сегодня по дороге к моей дочке? – вступает в разговор Клодин. – Каждый вторник я приезжаю к Лиат посмотреть, как она себя чувствует, достаточно ли ест и спит, короче, побаловать ее немножко. И вот сегодня я подумала, что мне будет обидно, если они не дадут мне нянчиться с внуком или я им что-то подскажу, а их это будет раздражать. Потому что я знаю свой характер, мне до всего есть дело. Что если я увижу, как его папа на него сердится, и буду с ним не согласна. Я надеюсь, что смогу сдержаться, потому что не хочу слишком вмешиваться. Я уверена, что если это не будет мешать моей дочке, так как он – все-таки мой внук, то обязательно будет раздражать моего зятя. Так что лучше быть немножко в стороне! Я надеюсь, что научусь сдерживаться и быть просто бабушкой. – Что это значит «быть просто бабушкой», как вы себе это представляете? – задает очередной вопрос Нири. – Быть бабушкой? – Клодин разводит руками. – Любить его, нянчить, когда это необходимо, не особенно вмешиваться. Я боюсь, что захочу быть мамой, вы понимаете? Что я захочу, например, чтобы он делал именно то, что я считаю нужным. Или, если моя дочка сделает ему что-то, с чем я буду не согласна, я не удержусь и сделаю ей замечание. И тогда наступит момент, когда ее муж не выдержит и решит «поставить меня на место». И, как обычно в таких случаях, скажет: «Это мой сын!», хотя у нее отличный муж, и у нас прекрасные отношения; он меня очень уважает, мы с ним настоящие друзья. Видите, я все понимаю, но все равно боюсь, что начну слишком вмешиваться. Я очень надеюсь, что буду обычной бабушкой: буду любить своего внука, буду, когда нужно, покупать ему подарки, буду нянчить его, когда это будет необходимо, но не более того. Я буду очень стараться не влезать в их жизнь. Меня вполне устраивает роль просто бабушки, которая любит своих внуков, балует их, приходит к ним, а они приходят к ней. И все… А то есть такие бабушки, которые всюду суют свой нос… Мики встает со своего места и направляется к мусорной корзине, чтобы что-то выбросить. При этом она замечает: – Это точно! Вот я, я часто себя останавливаю и не высказываю дочке своего мнения, хотя она очень мне доверяет, и ей всегда важно знать, что я думаю. Това следит за Мики, даже не пытаясь скрыть своего возмущения, а Рут возмущенно бросает: – Может, вы все-таки дадите Клодин закончить предложение?! Мики спокойно усаживается на место, а Клодин смущенно улыбается: – Ничего, ничего, здесь каждый имеет право высказаться. Она замолкает, выжидая. Мики как будто не слышит высказанного в ее адрес замечания, и Клодин продолжает: – У меня была тетя; она была очень привязана к своей младшей дочке и ее семье. Даже слишком привязана. И ее отношения с внуками уже дошли до того, что она ругалась на них, а они грубили ей. Я не могла видеть, как эти дети относятся к своей бабушке! Но я раньше никогда не думала, что во многом виновата сама тетя, потому, что она слишком вмешивалась в их жизнь, совала свой нос во все их дела. Для этого у детей есть мама. Если она разрешает что-то своему ребенку, то кто я такая, чтобы запретить? Клодин шумно втягивает в себя воздух, поправляет волосы и переводит взгляд на Орну, которая пытается высвободить серьгу, зацепившуюся за нитку от блузки. – Сегодня, когда я вспоминаю отношения между тетей и ее внуками, я точно знаю, что не хотела бы оказаться на ее месте. Я смогу пожалеть внука, если его мама будет на него сердиться; если она его накажет, я смогу сесть и поговорить с ним, объяснить ему. Но влезть и сказать дочке: «Зачем ты его наказываешь?» или сказать внуку: «Почему ты поздно пришел и почему…» Нет, это уже не мое дело! Она кладет руку на спинку стула, на котором сидит Орна. – Вы понимаете, почему я говорю вам, что я боюсь? Я боюсь, что начну вести себя, как будто я его мама. Я знаю, что моя дочка мне ничего не скажет, она привыкла. У нас дома все держалось на мне. Каждый раз, когда они чего-нибудь хотели и обращались к моему мужу, он говорил: «Спросите у мамы». За все отвечала я: воспитание, учеба, уроки, дни рождения – все было на мне. Все – я! Только мама! Хотите выйти, спросите у мамы; нужны деньги – мама! Мои дети никогда не шли прямо к папе. Он был очень хороший человек, с чувством юмора; детям было с ним весело, но поделиться они шли ко мне, и решала все я. Вот этого я и боюсь, что то же самое будет и с внуком, что и здесь я начну устанавливать свои правила. Так что я уже сейчас говорю себе, что должна над собой работать, что я только его бабушка и не более того! Рут, которая все это время согласно кивала головой, протягивает руку, как бы прося разрешения высказаться: – Я тоже иногда думаю о том, что у моего внука есть отец и мать, а значит, мне необходимо научиться отходить несколько в сторону: молчать, не влезать, не лезть с советами. Это совсем другое состояние, другая фаза. У моей дочки есть муж, он мне не сын; надо ладить и с ним тоже и надеяться, что и он будет ладить с нами. Вообще, в последнее время мои отношения с ними стали намного ближе, чем были раньше. До этого в течение последних лет я вообще не знала, что у них происходит. Можно сказать, что связь между нами не развивалась постепенно, а произошел скачок из одной крайности в – другую. Я, как и вы, думаю, что главное, чему я еще должна научиться, – это терпению. Я все время себе напоминаю, что терпение нам просто необходимо в жизни в целом и при воспитании детей в частности. Но, может, это касается отношений с детьми в любом возрасте. Короче, бесконечное терпение! Дать вещам развиваться в своем темпе, не гнать, не форсировать события. Я думаю, это касается и нашего нынешнего состояния, когда мы находимся в процессе становления бабушками: не спешить, понять, что ничего «не горит». У меня есть достаточно времени: всю оставшуюся жизнь я буду бабушкой. – Кроме того, у них тоже должна быть возможность совершать свои ошибки, – бросает Анна и с удивлением смотрит на Клодин, которая неожиданно начала громко смеяться. – Знаете, чем все закончится в конце концов? – говорит она, смеясь. – С нами будет, как в той истории про домкрат! Мы тут сидим и обсуждаем, что будет, а что будет на самом деле, мы узнаем только, когда он родится. – Что это за история? – интересуется Маргалит. – Вы не знаете? – встрепенулась Мики. – Я вам расскажу. Один человек едет по пустыне, и вдруг у него лопается колесо. Тут он выясняет, что у него нет домкрата, а значит, он не может поменять колесо. Но он вспоминает, что по дороге видел большую ферму, и отправляется туда в надежде раздобыть там домкрат. Он идет и думает: «Наверное, они поймут, что у меня нет выхода, и потребуют с меня сто долларов». Он продолжает идти, его донимает жара, и он думает: «Они точно решат на мне нажиться и запросят двести долларов, нет, триста: не так-то часто здесь кто-нибудь останавливается!» И так он идет и все поднимает и поднимает цену, пока не доходит до фермы. Он не успевает постучать, как фермер распахивает дверь и сует ему домкрат: «На, бери и убирайся!» Группа смеется, а Клодин продолжает: – Нет, правда, может, мы слишком преувеличиваем, и все будет гораздо проще – естественно, спокойно. Сами на себя нагоняем страху! Просто станем бабушками, и – все! Нири смеется вместе со всеми и заключает: – Один из вопросов, который мы затронули не только сегодня, но и в наши предыдущие встречи, – это насколько мы можем позволить себе быть самими собой: быть откровенными здесь, в группе, и в беседах с детьми; быть той бабушкой, которой мы мечтали стать; не подавлять свои чувства и не кривить душой. Еще одна тема, которая начала раскрываться только сегодня, это какую цену мы платим, подавляя собственное «я». К примеру, что происходит, когда я не говорю все, что думаю; что я чувствую, когда действительность заставляет меня быть иной бабушкой, чем я себе это представляла. Мы говорили о готовности к переменам и о том, что необходимо время для того, чтобы смириться с переменами и привыкнуть к ним. Очевидно, Рут была права, когда говорила, что, подобно вашим дочерям, вы, мамы – будущие бабушки, вынашиваете свой плод, который зреет и рождается – иногда в муках – и обретает те или иные формы, об особенностях которых мы еще поговорим. Параллельно с этим наблюдаются изменения и здесь, в комнате: группа проходит определенный процесс развития, разговор между вами становится более откровенным, вы сами меняетесь. С каждой встречей мы лучше узнаем друг друга и уже смогли сформулировать для себя, если можно так выразиться, устав группы, к примеру, о чем и как говорить. Наша задача – выявить все эти процессы и постараться их понять; в общем, прожить этот далеко не простой период как можно более эффективно. Нири В жизни случаются события, ожидание которых и подготовка к которым часто оказываются более волнующими и приятными, чем само событие. Взять, к примеру, свадьбу. В течение нескольких месяцев ты ходишь по залам, пробуешь разные блюда и напитки, выбираешь платье и кольцо, представляешь себе нарядных гостей, выстроившихся у входа в ожидании тебя, такой красивой, сверкающей, счастливой. Или, например, роды. Ты видишь себя страдающую, но героически побеждающую боль. И наконец, когда в одно прекрасное мгновение боль прекращается, у тебя на руках оказывается розовощекий младенец, который самым естественным образом прижимается к твоей груди; ты устало смотришь на взволнованного мужа, и у вас обоих от счастья текут слезы. А вот еще картинка, но уже о материнстве. Ты и твоя дочка вместе на кухне печете шоколадное печенье, вылизываете миску от остатков шоколадной смеси и распеваете куплеты, которые только что сочинили. Ну, а теперь очередь бабушки. Ты будешь идти рядом с дочкой, которая с легкостью будет нести свой округлившийся животик, такая гордая и довольная: ты вновь наравне со своими подружками, успевшими стать бабушками раньше тебя. А после родов ты будешь гулять с коляской, неожиданно вспоминать песенки и стишки, которые рассказывала своим детям много-много лет тому назад, и на какое-то мгновение вновь почувствуешь себя молодой мамой. Затем наступает отрезвление. Выясняется, что в мечтах, как, впрочем, и в страшных снах, обычно представляется только часть общей картины. Вспоминаются отдельные предупреждающие сигналы, которые возникали тут и там, но ты предпочла их не замечать. После того, как ты оправилась от приступов эйфории и паники, перед тобой начинает вырисовываться реальность. Почему у меня вдруг испортилось настроение? Из-за чего последняя встреча оставила у меня тяжелое впечатление? Возможно, это напряжение, которое я чувствовала сегодня в группе. Это взгляды, которые я ловила сегодня и в которых наряду с интересом и участием читались горечь и обида. Глубокая обида. Это ощущение невидимых струн, натянутых в комнате, о существовании которых все знают, но никто не говорит. Это мгновение перед взрывом, в результате которого будет разрушена иллюзия, что все есть и будет хорошо. В группе – как в жизни. Однажды, через пару месяцев после своего двенадцатого дня рождения, Нири проснулась со странным чувством: она точно знала, что что-то случилось с нею этой ночью. Знала и боялась откинуть одеяло и встать. В комнате было темно, и только редкие солнечные ниточки тянулись от маленьких отверстий в жалюзи и растворялись где-то на полпути к полу. – Нири, пора вставать! – позвала мама из соседней комнаты. – Уже полвосьмого. Нири знала, что ей надо спешить, если она хочет успеть на «танцевальную перемену», с которой начиналась в школе каждая среда. Может, там будет Эран, и он окажется со мной в одной паре, – подумала она, почувствовала, как краснеет, и спрыгнула с кровати. Большое кровавое пятно расползлось по простыне и пижамным штанам, и она сразу все поняла: у нее началось! Почему это должно было случиться именно сейчас? И почему именно у нее, первой среди всех ее подружек? Ей хотелось плакать. Что делать? И как я смогу танцевать, будто ничего не случилось? Как я смогу притворяться, что я все та же самая Нири; как сделать так, чтобы никто не догадался? Как стыдно! Тем временем мама зашла в комнату и, увидев пятно, радостно засмеялась: – Началось?! Как здорово! Теперь ты женщина! – Не вздумай никому говорить! – сердито зашептала Нири. – Даже папе! Это секрет! – Хорошо, я никому не буду рассказывать, – ответила, улыбаясь, мама, – и вновь начала ее торопить: – Иди, иди быстренько в душ! Под звуки знакомой мелодии ребята выстроились в круг. Она стояла со всеми вместе и боялась поднять глаза, чтобы не встретиться взглядом с Эраном, который часто смотрел на нее исподтишка и всегда мучительно краснел, если она это замечала. После двух танцев она вышла из круга и сказала учительнице, сидевшей в углу, что плохо себя чувствует. Весь день у нее было плохое настроение, она даже не спустилась во двор на большой перемене. Вечером позвонила бабушка. – Скажи, что ты хочешь в подарок, – весело объявила она. В первый момент Нири не поняла, но, подняв глаза на маму, догадалась: ее тайна! Мама рассказала бабушке. Мама взяла ее тайну и бессовестно обнажила ее перед чужими глазами! – Но я рассказал только бабушке, я не могла удержаться, – взволнованно оправдывалась мама. – Даже папа ничего не знает, и бабушка обещала никому не говорить! – Я бы ей сама рассказала, – обиженно заметила Нири. – Ты права, просто… Мама пыталась найти правильные слова, понимая, что совершила непоправимое. – Я прошу прощения. Я не думала, что тебе это так важно. Это же только бабушка, – добавила она в надежде смягчить обиду. – Это моя бабушка, и я сама решаю, когда и что ей рассказывать или не рассказывать вообще! – гневно отрезала Нири и ушла к себе в комнату. Ночью, ворочаясь с боку на бок, Нири горько расплакалась. Она оплакивала этот длинный и грустный день, несостоявшийся танец и всю свою жизнь, которая изменилась в одночасье без ее на то согласия, – жизнь, которая уже никогда не будет той, прежней; а, главное, она плакала от одиночества и от бессилия перед предательством. *** Для меня бабушка была бабушкой, а не заменой мамы, – думает Нири. – И если бы я могла, я бы прервала связь, существовавшую между ними, и построила свои отношения с каждой из них в отдельности. Если бы я могла, я бы изолировала их друг от друга – и точка, – вдруг поняла она, вспоминая маленькую девочку, которая зачастую оказывалась между двумя самыми близкими ей женщинами, вцепившимися одна в другую мертвой хваткой. Где уж ей, с ее силенками, было их расцепить? В принципе, это не я была между ними, а моя мама металась между нами – своей дочкой и своей мамой – и не всегда могла найти точку равновесия. И все-таки бабушка у меня была особенная: во-первых, потому что другой у меня просто не было, а во-вторых, потому что таких людей я больше не встречала. Она любила меня безумно, но маму мою, ее дочку, она любила больше. У моей мамы была особенная мать, единственная в своем роде, о которой она говорила «моя единственная». От одного ее взгляда она становилась сильной и уверенной: она читала в нем безграничную, беззаветную любовь. Обе они несомненно меня очень любили, но маму бабушка любила больше. А ты, мама? Кого больше любила ты? Элла В конце встречи Маргалит легко касается моего плеча и, грустно улыбаясь, спрашивает: – Вы спешите? Может, выпьем кофе? – С удовольствием! – сразу соглашаюсь я. Вот и новая подруга! Мы прощаемся со всеми, и Маргалит уверенно направляется к выходу. Я иду за ней следом, бросаю прощальный взгляд на мам и на Нири, а внутри звенят фанфары: из всех она выбрала именно меня! Она заходит в небольшое кафе тут же, в начале аллеи. – Вы не против разделить со мной пирожное? – спрашивает Маргалит. – Что-то мне вдруг страшно захотелось чего-нибудь сладенького. После того, как поплакали, можно себя и побаловать! Мы заказываем яблочный пирог и два кофе. Маргалит просит вдобавок два стаканы воды и выпивает их залпом один за другим, как бы пополняя свой водный запас, пострадавший от обильных слез. Теперь я могу рассмотреть ее поближе. Темно-коричневые гладкие короткие волосы; нежная кожа, почти прозрачная. Голубоватая оправа очков оттеняет глаза, придавая им глубину. У нее мягкий добрый взгляд, он меня притягивает. «Как естественно она себя ведет, – думаю я. – Даже не пытается скрыть свои чувства. У нее четверо детей, и при этом она находит время еще и для меня. Может, когда-нибудь мы будем сидеть и вспоминать нашу «первую встречу» в кафе и нас, свежих напуганных бабушек – вспоминать и смеяться… И познакомим наших дочек и внучек, и, может, даже проведем вместе короткий отпуск на природе, три женских поколения. Малышки будут играть, а мы будем сидеть с нашими дочками и рассказывать им о тех днях, когда они были такими же маленькими, и вспоминать детские песенки, которые они потом смогут петь своим дочкам. А затем сфотографируемся на память. И каждый год будем фотографироваться все вместе в той же самой позе. А через двадцать лет мы будем перелистывать альбом и улыбаться тому, как мы все изменились». – Вкусно! – говорит Маргалит и слизывает с пальца крем, словно маленькая. Я спешу присоединиться к ней – гулять так гулять! – Расскажите, как это у вас, – просит она. – Как у меня что? – переспрашиваю я. – Как это быть бабушкой! Про себя мне уже больше нечего рассказывать, – смеется она. Я поглаживаю ложечкой кремовую горку, сооружаю из нее что-то вроде клумбы, беру дольку яблока, располагаю ее в центре и улыбаюсь. Маргалит смотрит на улицу, по-прежнему оживленную, несмотря на поздний час, и произносит: – Я еще должна обдумать то, что сегодня услышала. Честно говоря, не ожидала, что в группе будет так интересно. Не знаю, что из этого получится, но это открывает некоторые вещи совсем с другой стороны. Человек не может измениться за одно мгновение, даже если он этого хочет и знает, что ему это необходимо. Она продолжает. – Я все время думаю, что́ заставило Михаль записать меня в эту группу. Если честно, она необыкновенная девочка – и всегда была такой – не по годам взрослая, умница; мне часто кажется, что она старше меня. Бывает, я еще не успеваю подумать, а она уже понимает, что к чему. Иногда мне даже стыдно, что она такая умная и способна анализировать вещи, подходить ко всему с точки зрения логики, а у меня – сплошные эмоции! Можете себе представить, я чувствую себя рядом с ней инфантильной дурочкой?! – Вы боитесь ее разочаровать, – замечаю я. – Да. И именно сейчас, когда я наконец-то на правах старшей могу ей помочь, поддержать ее, кое-что подсказать, оказывается, что я не в состоянии этого сделать. Я опять чувствую себя такой маленькой под ее всепонимающим взглядом, и я уверена, что где-то в глубине души она действительно очень разочарована. Я понимаю, что должна быть сейчас рядом с ней, а я все время занята только собой. А ведь и она потеряла бабушку, об этом тоже нельзя забывать! Хорошо, что хотя бы муж ей помогает. Вы замужем? Вопрос Маргалит застал меня врасплох. – Я? Нет. Интересно, что за последнюю неделю это уже второй раз, когда интересуются моим семейным положением. Сначала Яир в кабинете у доктора Машаля, а теперь – Маргалит. – Я никогда не была замужем. Если честно, то мужчина, от которого я забеременела, даже ничего не знает об этом до сегодняшнего дня. – Вы это сделали специально? – Нет, я вообще тогда об этом не думала. Мне было двадцать два года, мы даже с ним по-настоящему не встречались. Так, вышли в один вечер; не знаю, что на меня напало. Короче, случилось то, что случилось, и я решила сохранить беременность. У меня была соседка Далья, в то время она была моей самой близкой подругой; мы мечтали, как будем вместе ее растить. Я была абсолютно уверена, что у меня дочка, и так и оказалось. – И что, вы никогда не хотели выйти за него замуж? – не сдается Маргалит. – Нет. Я получила от него самый дорогой подарок – Эйнав, дальше он меня уже не интересовал. Я родила Эйнав, и нам было хорошо вдвоем. Мы были прекрасной парой! – горько усмехаюсь я, но Маргалит не замечает моего настроения и весело улыбается мне в ответ. – Я не могу представить себя без Мордехая. Мы вместе еще со школы. У меня нет друга ближе его, я за ним как за каменной стеной; и я всегда могу выплакаться ему в жилетку, а ведь это такая редкость для мужчины! А что теперь? На меня смотрят два слегка прищуренных голубых глаза, а я пытаюсь сообразить, о каком «теперь» она говорит. Маргалит улавливает мое недоумение. – Сейчас, когда у Эйнав уже своя семья, вы ведь остались одна! И вы по-прежнему не хотите с кем-нибудь познакомиться? – С кем-нибудь познакомиться? – повторяю я за ней, и у меня такое чувство, будто это не я сижу здесь, в кафе, а какая-то актриса декламирует хорошо заученный текст. Я слышу себя, отвечающую вопросом на вопрос: – А что, у вас есть кто-то на примете? – Надо подумать… Маргалит откидывается на спинку стула, а я изображаю на лице терпеливое ожидание. – Я подумаю и, кроме того, спрошу Мордехая. А сейчас… Маргалит бросает взгляд на часы на запястье. – Мне очень жаль, но я должна идти. Завтра у меня очень напряженный день, и я хочу еще кое-что сделать дома. Маргалит направляется в туалет, а я прошу принести счет и спешу расплатиться. В следующий раз – приглашает она, дописываю я продолжение сценария. *** Из всех дней рабочей недели я предпочитаю понедельник: в этот день клиника закрыта после обеда. Дни становятся все теплее, скоро начнется настоящая жара. Я пытаюсь представить себе лето, но мне не удается ощутить заново душную влажную тяжесть раскаленного тель-авивского воздуха, выносить которую с каждым годом становится все труднее. Когда я была девочкой, первые жаркие дни радостно сообщали мне о приближающемся лете, о долгожданных каникулах; какой это был кайф в той, прежней, жизни, пока не исчезла мама… Аллея полна родителями с колясками. Я неожиданно вспомнила, как как-то ранним утром по дороге в ясли я вдруг остановилась, глядя на тебя, Эйнав, сидящую себе в коляске – такая сладкая, милая, пухленькая, – и ты, поймав мой взгляд, шаловливо заулыбалась мне в ответ, обнажив два белоснежных зуба; и чувство такого безмерного счастья переполнило меня, что я даже вскрикнула. Моя самая любимая, самая красивая, как мне хорошо с тобой! А тебе хорошо со мной? Я помню, как мой отец сидел со мной на кухне и пытался убедить меня уехать в дальний, богом забытый городок и сразу после родов отказаться от тебя, отдать в какую-нибудь семью. А я смотрела ему в глаза и думала, абсолютно уверенная в своем выборе, что я справлюсь там, где он спасовал. Моя девочка будет счастлива, и ей будет достаточно меня одной; нам не нужен никакой папа, мне не нужен папа. И я радовалась своей беременности ему на зло и совершенно не боялась. Я приготовила для тебя маленький уголок рядом со мной в моей квартирке и стала ждать. Каждый вечер я вытягивалась на диване напротив раскрытого окна, гладила живот и пела тебе песни, которые когда-то пела нам бабушка Оры. Мы продолжаем свой путь. Я высвобождаю твое маленькое тельце из коляски и поднимаю тебя высоко над головой – твои глаза напротив моих глаз – и твой ликующий смех звенит надо мной как волшебный колокольчик в руках сказочной феи. Я обнимаю тебя, прижимаю к себе обеими руками и внезапно решаю: я – лошадь, а твои ручки, обхватившие мою шею, – вожжи; и я пускаюсь в галоп, и мы хором визжим от восторга; и все смотрят на нас и думают, как им здорово вместе, какая молодая и красивая мама; и я скачу и скачу, и вдруг – падаю. Мои сандалии зацепились один за другой, и мы растянулись на земле. Как мгновенно сменяется твой смех на плач! Мы лежим на горячем асфальте, и я плачу вместе с тобой. Я поднимаю тебя, но на этот раз, подобно кенгуру, прижимаю к животу, а ты все плачешь и плачешь. Остановившиеся прохожие уходят, подходят другие, с любопытством разглядывают испачканного плачущего ребенка и его беспомощную маму. Я сажаю тебя в коляску и бегу оттуда; твой плач сопровождает нас как сирена, но мне уже все равно. Я не слышу, не слышу, не слышу! Мы заходим в ясли, нянечка протягивает к тебе руки, и я невнятно шепчу что-то в свое оправдание. А кто утешит меня? Нири Дорога в Хайфу. Целая семья набилась в машину по пути на кладбище, расположенное на склоне горы у моря, и мечтает только об одном – чтобы этот путь никогда не кончался. Мама сидит рядом со мной на заднем сиденье будто она одна из нас, детей. Наша боль заполнила все пространство, не оставив воздуха для дыхания. Я смотрю на нее и вижу себя: мы делим одно горе на двоих. Дорога слишком короткая. Мы останавливаемся у одной из бензоколонок, как обычные люди, которые делают остановку на полпути, чтобы передохнуть. Я выхожу из машины и чувствую, как холод обжигает мне щеки и сушит слезы. У меня болит голова, я это знаю, но ничего не чувствую. Все собираются на кладбище, стоят группками, говорят шепотом. Иногда бросают взгляд на море, отвлекаясь на миг от страха смерти, парящего над этим местом. Пара за парой они подходят ко мне, осторожно целуют меня в макушку, тяжело вздыхают. Я как именинница: все толпятся возле меня, пытаются заглянуть мне в глаза. «Ты справишься, вот увидишь, все будет хорошо, – говорят они мне, а потом озабоченно спрашивают: – А вот что будет с мамой? Как она сможет жить дальше?» Я смотрю на тебя, мама, оставшуюся без надежного панциря, и не могу решить, какая ты – старшая или младшая? Моя мама – дочь, только что потерявшая мать. Я смотрю на твои руки и представляю себе их маленькими, детскими, ухватившимися за руку твоей мамы, моей бабушки. Со временем руки взрослеют, обретают форму ногти, и вот уже молодая женщина держит за руку свою стареющую мать. И как кадры в фильме, один год сменяется другим, но рука остается в руке, пока внезапно, в один еле уловимый миг, они разъединяются. Я смотрю на мою маму, замершую над свежей могилой: ее глаза ищут, на чем задержаться, за что удержаться. Наконец-то моя мама принадлежит только мне. Встреча пятая Виртуальная бабушка Элла стояла на другой стороне аллеи напротив Дома матери и ребенка, стояла и никак не могла решить, что же ей делать. Войти? Можно зайти в последнюю минуту, быстренько занять свое место и попросить Клодин сказать всем, что она плохо себя чувствует и что у нее сел голос. Во время встречи она будет тихонько сидеть и молчать, а когда все, наконец, закончится, не задерживаясь, вернется домой и – в кровать. Она видела, как подошла Нири – еще издали она узнала ее по спокойной размеренной походке – каштановые волосы заколоты блестящей заколкой, выбившиеся пряди спускаются на плечи. У входа она остановилась с одной из местных сотрудниц, та оживленно ей что-то рассказывала; и Элле было видно, как Нири обняла женщину, на мгновение прижала ее к себе, а затем, помахав рукой, вошла в здание. «Самое лучшее для меня – это вернуться домой, – заключила для себя Элла, отводя взгляд от того места, где только что стояла Нири. – Я не хочу никого видеть; не хочу, чтобы меня рассматривали; не хочу, чтобы расспрашивали; не хочу, чтобы жалели; не хочу, чтобы на меня обращали внимание. Ведь даже если я буду молча сидеть всю встречу, они все равно догадаются по моему лицу, что у меня что-то случилось. У меня уже нет сил держать все это в себе». Элла решительно зашагала по аллее, – со стороны могло показаться, что она неожиданно вспомнила о чем-то и теперь вынуждена прервать свою вечернюю прогулку, – но внезапно остановилась и неловко опустилась на стоящую под акацией скамейку; закрыла ладонями лицо, будто пыталась остановить, загнать назад рвущийся наружу плач. «Господи, за что же такая боль, – беззвучно плакала она. – Зачем я сюда пришла? На что мне сдалась эта группа бабушек? Нет у меня с ними ничего общего, ничего! Мне надо встать и идти домой», – второй раз подумала она, постепенно успокаиваясь. Вытерев глаза и лицо краем наброшенной на плечи шали, Элла устало поднялась со скамьи. И вновь она стояла перед тем же зданием, рассматривая двор, в котором резвились малыши, витрину кафе, сквозь которую были видны невысокие столики и стулья, предназначенные специально для детей. «У домов, как у людей, есть характер, – думала она. – Вот и у этого есть своя жизнь; я ощущаю его ритм, чувствую энергию красок. Но моей частицы в нем нет, это жизнь других людей, других мам и других бабушек». Несмотря на невеселые мысли, Элла все-таки вошла внутрь и стала медленно подниматься по лестнице. Все, что ей нужно, – это немного сочувствия. Возможно, она и возвращается сюда раз за разом, потому что надеется найти здесь, в кругу женщин, покой. Они по-матерински утешат, отогреют, убаюкают ее; и боль отступит. Часы показывали три минуты девятого, когда Элла вошла в комнату. Нири как раз закончила свое вступительное слово и, улыбаясь, указала на единственный оставшийся не занятым Эллин стул. Было в ее улыбке – так во всяком случае показалось Элле – что-то личное, адресованное только ей; что-то похожее на близость между дочкой и мамой. Она села и, не поднимая глаз на сидящих в кругу женщин, слегка откашлялась, прикрывая рот краешком шали. По-прежнему глядя перед собой, она почувствовала обращенные на нее взгляды и сердито подумала: я же знала, что так будет! Незачем мне было сюда приходить! – Послушайте, что со мной произошло на этой неделе! – говорит Мики, поправляя на пальцах кольца после того, как намазала руки кремом, и не обращая внимания на все еще устраивающуюся Эллу. – Я купила новую стиральную машину и на этот раз решила позвать техника, чтобы он объяснил, как ею пользоваться. У меня никогда не хватает терпения читать инструкции, и в результате я пользуюсь одной и той же программой для всех видов белья. – Но это же неправильно! – вскакивает Клодин и даже протягивает руку в сторону Мики, будто пытаясь предупредить ошибку. – Согласна, поэтому я и решила заранее ознакомиться со всеми программами, тем более что купила последнюю модель, очень продвинутую. Короче, приходит техник, молодой парень, очень приятный – все время улыбается и выглядит хорошо. После того как он все распаковал и установил, я как прилежная ученица спрашиваю его про каждую кнопку, пока мы не доходим до кнопки, на которой написано «pump». И я, наконец-то увидев знакомое слово, – а то до этого я чувствовала себя полной идиоткой – говорю… Тут Мики встает и, высоко задирая голову, со смущенной улыбкой обращается тонким детским голоском к невидимому, но явно высокому, собеседнику: – Это специально для памперсов, для пеленок, правильно? Мики, довольная, хохочет и, садясь на место, обводит мам взглядом, убеждаясь, все ли смеются вместе с ней. И действительно все смеются; все, кроме Эллы. – Что с вами, Элла? – поворачивается к ней Нири. – Я не очень хорошо себя чувствую; может, я уйду сегодня немного пораньше. Элла отвечает почти шепотом, радуясь, что ей не придется больше ничего объяснять. Мне, действительно, нехорошо, – вдруг доходит до нее. – Приготовить вам чаю? – дотрагивается Клодин до ее плеча, уже привстав со стула, готовая к действию. – Нет, нет, спасибо! Элла на мгновение с благодарностью поднимает на нее глаза, но тут же переводит взгляд на пол прямо перед собой. А может, все-таки хорошо, что я здесь? – Ну, что скажете?! – восклицает Мики, глядя на Анну, которая все еще продолжает смеяться. – Хорошо, что он решил, что я шучу. Я потом несколько минут сидела и смеялась в голос сама над собой: «Ну, бабка, ты даешь! Совсем с приветом!» Женщины продолжают пересмеиваться под впечатлением услышанного. Маргалит рассеянно поправляет шляпку и терпеливо выжидает, из приличия сохраняя на лице чуть заметную улыбку. Наконец, она позволяет себе обратиться к Нири: – Я и сегодня хочу поделиться своими мыслями по поводу нашей предыдущей встречи. Если, конечно, нет никого другого, кто хотел бы начать. Она делает паузу и, не получив ответа, продолжает. – На прошлой неделе мы говорили о нашей готовности к новому статусу. О том, как именно мы готовимся, что при этом думаем и чувствуем. По дороге домой я вдруг поняла, что, в принципе, всю жизнь знала, что наступит день, когда я стану бабушкой, но до недавнего времени это меня абсолютно не занимало. То есть, если бы, скажем, тридцать лет тому назад меня бы спросили, какой бабушкой я хочу быть, я уверена, вы получили бы полный ответ! – Ну, конечно! С такой бабушкой, какая была у вас, вы, естественно, хотели быть похожей на нее! – говорит Орна, не отрывая глаз от края юбки, которым она протирает очки. – Не обязательно! Я не уверена, что ожидала от себя быть похожей на бабушку: у нас слишком разные характеры, но не в этом дело, – поворачивается к ней Маргалит, но Орна, по-прежнему, занята очками. – Я хочу сказать, что вдруг мне стало ясно, что где-то в глубине души я всегда знала, что наступит день, и я стану мамой, а затем точно так же бабушкой; это, как… Маргалит устремляет взгляд вверх, подыскивая правильное определение, затем задерживается на Мики. – Это как кнопка в программном управлении! – почти вскрикивает она и продолжает в нарастающем темпе, как человек, спешащий поделиться только что сделанным, важным для него открытием. – Ну да! Это как у вас, Мики! Как в стиральной машине с различными программами, которые включают по мере надобности. Так и у меня: есть во мне разные программы действия – мама, жена, подруга, тетя, социальный работник – и есть отдельная кнопка «бабушка», на которую я должна нажать в нужный момент! Мики смотрит на Маргалит и молча кивает. – Вы хотите сказать, что для каждой роли в нашей жизни отведено определенное время? – переспрашивает Това без особого интереса, одновременно передвигая стул в сторону, подальше от настроенного на холод кондиционера. – Вот именно! И что все эти кнопки встроены в нас с рождения – по крайней мере, у меня это так – и находятся в дремлющем или отключенном состоянии до нужного момента, – воодушевленно продолжает Маргалит. – Но это как раз то, о чем мы говорили на прошлой неделе, – равнодушно замечает Това. – Что определение, какой именно бабушкой мы хотим быть, заготовлено нами уже давно, а теперь пришло время, и мы «нажимаем на кнопку», «получаем» заготовленную нами формулу, и все, что нам остается, это внести дополнения и исправления. Это совпадает с тем, что говорила Орна. По ее словам, если бы жизнь сложилась иначе, она с радостью была бы «приходящей бабушкой», балующей внуков, берущей их на выходные или на праздники, когда ей это удобно, а не занимающейся их воспитанием изо дня в день. То есть с годами в ее воображении уже сложился определенный образ бабушки, а теперь она должна его откорректировать в соответствии с действительностью. Звучит совершенно логично. Так что же, собственно, нового вы здесь открыли?! Това даже не пытается скрыть своего раздражения. – Не знаю, – испуганно отвечает Маргалит. – Ладно, не важно… Она облокачивается на спинку стула и упирается глазами в пол. – Я обратила внимание, – говорит Нири, обращаясь к Маргалит, – на то, что вы очень активно участвуете во всех наших обсуждениях. вы подробно рассказывали о вашей бабушке; вы переживаете по поводу того, что все еще не чувствуете себя причастной к рождению внука. По всему видно, как важна для вас эта тема. Теперь вы еще рассказываете, как вдруг поняли, что изначально в вас был заложен – назовем его условно – «код бабушки». Я, в свою очередь, хочу вас спросить, почему вам так важно сознавать, что в вашем пульте управления существует эта самая специальная кнопка «Бабушка»? Маргалит задумывается. – Почему мне это важно? Я уже сказала Тове, что не знаю; бывает, что у вас вдруг появляется какая-то мысль… Я ведь просила не обращать на это внимания, давайте поменяем тему… Она смущенно скользит взглядом по группе в надежде, что, может, кто-то возьмет слово. Но Нири не сдается: – Вы говорите, не важно, но по всему видно, что вы очень взволнованы. Почему вас так волнует все, что связано с вашим становлением бабушкой? Почему вам так важно доказать самой себе, что природа уже заранее позаботилась заложить в вас все необходимое для этой функции? – Мне кажется, – нерешительно начинает Маргалит, – что я вам всем уже надоела, что вам уже не терпится сменить тему… – Я действительно чувствую, что с меня хватит, – говорит Рут, машинально поглаживая камень, украшающий ее перстень, – но я предлагаю вам ответить на вопрос Нири, и больше мы к этой теме не возвращаемся, согласны? После этих слов группа явно оживляется, и Това спешит поддержать Маргалит: – Ну вот и хорошо! Не стесняйтесь, я, правда, не хотела вас прерывать. – Может, вы все-таки уделите себе еще пару минут? – спрашивает Нири. Маргалит задумывается на мгновение, а затем обращается к группе: – Я обещаю больше к этой теме не возвращаться, я только закончу свою мысль. Она обращается к Нири: – По-моему, сознание того, что во мне уже заранее заложен «код бабушки» успокаивает и прибавляет уверенности в себе. Это подобно тому, как говорили нам в молодости: не бойтесь, что вы не сможете быть мамами; это инстинкт, и когда понадобится, у вас все появится – и чувства и знания, что и как делать. Так вот… я, конечно, не думаю, что инстинкт матери можно сравнить с инстинктом бабушки, но мне совершенно ясно, что мы не становимся бабушками в тот момент, когда мы ими становимся. Мы не начинаем с «нуля». Нири слушает с большим вниманием, и как только Маргалит делает еле заметную паузу, задает свой очередной вопрос: – Вы сказали, что это вас успокаивает; чем же вы так встревожены? – Я не хотела бы сейчас слишком вдаваться в подробности, – улыбается Маргалит. – Я не могу сказать, что я от этого не сплю по ночам, но мне очень важно справиться со своими новыми обязанностями на «отлично», хотя вы знаете, как нелегко мне было взять их на себя. Возможно, это потому, что я перфекционистка; возможно, из-за того, что у меня самой была такая особенная бабушка, а, может быть, потому что я знаю, что, если я в чем-то сплоховала как мать, то сейчас у меня есть шанс это исправить. А вот если я напортачу как бабушка, тогда что? Тогда – конец! Этого уже не исправишь, это – моя последняя обязанность в семье! Я не верю, что доживу до прабабушки, хотя, кто знает?! – Так всю жизнь вы готовитесь к этой роли только для того, чтобы наконец-то отличиться? – иронически переспрашивает Това, но постепенно легкое пренебрежение сменяется на любопытство. – И вы успокаиваете себя тем, что все, что вам необходимо, это всего лишь нажать на нужную кнопку? – Может, для вас всех это выглядит как идея фикс; вам кажется, что я слишком много думаю, но меня действительно напрягает, что это моя последняя возможность быть… – А по-моему, Маргалит права! – объявляет Мики. – Я тоже много думала о нашей прошлой встрече, и я тоже думаю, что сейчас, когда я бабушка, у меня есть возможность вести себя иначе и не повторять ошибок, которые я делала со своими детьми. Я приведу вам пример. Когда дети были маленькими, мы – мой муж и я – были очень заняты. На каком-то этапе моя дочка начала говорить очень-очень торопливо, и я не могла понять почему. Позже до меня дошло, что это из-за меня, из-за того, что у меня не было терпения ее слушать; я все время куда-то спешила. вы понимаете, до чего дошло?! Она научилась излагать все, что хотела донести до меня, кратко и точно для того, чтобы я ее выслушала до конца! Мне стало очень стыдно, когда я это поняла. Будьте уверены, с внуком этого не повторится! Группа молчит, тишину нарушает Анна: – Да! Вот так история! – Как представлю, аж сердце сжимается – присоединяется к ней Орна. Мики отвечает им легкой улыбкой и переводит взгляд на присоединившуюся к ним Рут. – Меня тоже очень тронул ваш рассказ, но я бы хотела сказать вам, Маргалит, вот что, – говорит она. – вы сегодня находитесь совсем в другом положении, чем тогда, когда вы были мамой. Потому что сегодня, кроме той кнопки, которая, возможно, существует, возможно – нет, неважно, у вас еще есть и опыт, и больше свободного времени, и масса других вещей, которых, скорее всего, не было тогда. И кроме того, – она кладет сцепленные пальцами руки перед собой на колени, – по-моему, вы что-то путаете. – Что вы имеете в виду? – спрашивает Маргалит. – Бабушка – это не мама! – серьезно продолжает Рут. Светло-коричневый оттенок ее глаз сильно контрастирует с бледной кожей лица и пастельными цветами блузки. – Вам не предстоит быть снова мамой. И вам, тоже, – она смотрит на Мики. – Вы попрежнему матери своих детей и бабушки своих внуков. Просьба не путать! Она опять переводит взгляд на Маргалит. – Если вы собираетесь исправлять какие-то свои ошибки, то не забывайте, что речь идет о внуках, а не о детях. Если у вас остались какие-то проблемы с детьми, то и решайте их с ними, а не с внуками! – Мне кажется, что и для внука важно – еще как важно! – чтобы он знал разницу, где мама, а где бабушка, – слова Клодин сопровождаются нежным звоном браслетов. – Это два разных мира, и пусть он имеет удовольствие от обоих! А мы будем продолжать быть мамами наших дочек – этого нам хватит на всю нашу жизнь – и станем бабушками для наших внуков. «Мамами дочек и бабушками внуков», – мысленно повторяет Элла слова Клодин, и спазм сжимает ей горло. Еще немного, и плач вырвется наружу. Губы смыкаются в одну тонкую полоску, она прижимает к ним ладони и опускает лицо, пытаясь сосредоточиться на темном пятне на полу, которого она раньше почему-то не замечала. Но голоса все равно доходят до нее, пробивая все защитные стены, которые она построила на их пути. «У меня больше нет сил, – понимает она, чувствуя, как нестерпимая боль сжимает сердце, сушит рот и наполняет слезами глаза». – Подводя итог тому, что мы сейчас услышали, – говорит Нири, обращаясь к группе, – я прихожу к заключению, что, по мнению некоторых из вас, став бабушками, вы получаете возможность кое-что изменить, в том числе исправить и больше не повторять ошибок, сделанных вами по отношению к детям; и это вас в чем-то утешает и даже вселяет надежду. Но с другой стороны, на одной из наших предыдущих встреч мы обнаружили, что среди нас есть бабушки, которые вовсе не так уж и рады своей новой должности. Мне кажется, что нам надо задержаться на этом подольше, чтобы выяснить, что именно вас отпугивает. В комнате воцаряется тишина, никто не спешит с ответом. – Ну вот, опять я, – явно смущаясь, не выдерживает Маргалит и добавляет, оправдываясь, – просто больше никто не желает говорить. Она делает паузу, но, убедившись, что все по-прежнему молчат, робко продолжает: – Есть еще кое-что, что меня смущает и о чем я часто думаю в последнее время. Я все чаще думаю о второй бабушке. – О вашей второй бабушке? – переспрашивает Анна. – Не о моей второй бабушке, – отвечает она уже более уверенным голосом, – а о второй бабушке моего внука. О том, что есть вторые бабушка и дедушка, с которыми я должна буду делить моих внуков, и которые тоже будут стараться изо всех сил быть самыми лучшими. – Это точно! Мама у нас одна-единственная, а вот бабушек может быть и две! – смеется Това и переводит взгляд на Рут, которая сосредоточенно ищет что-то в своей цветной матерчатой сумке; шуршит и постукивает, выуживая и возвращая назад всякую мелочь. – Я понимаю, что ребенок только выигрывает от того, что у него есть еще одна бабушка, – морщит лоб Маргалит, – но я не представляю, как все сложится, когда он подрастет; как все это будет – не знаю! – А что, вы думаете, может быть? – прерывает ее Нири. Маргалит медлит с ответом и нерешительно продолжает: – Я не слишком над этим задумывалась, но иногда у меня возникает мысль: «Подожди, подожди, ты тут не единственная бабушка!» Может, я боюсь конкуренции? – Всегда существует конкуренция, – подает голос Клодин. – Точно так же, как существует борьба между братьями-сестрами или внуками за внимание родителей или бабушек-дедушек. – Возможно, но лично я никогда ни с кем не соперничала, так как была старшей дочкой, и ко мне всегда относились по-особому; и среди внуков я занимала особое место, причем без каких-либо усилий с моей стороны. А вот насчет того, какой матерью я была для Михаль, у меня до сих пор есть сомнения. А теперь к этому прибавляется неуверенность, смогу ли я быть достаточно хорошей бабушкой, особенно если учесть, что у второй бабушки есть больше времени и сил, чем у меня. Кроме того, она очень ждала этого внука, потому что муж моей дочки – ее единственный сын; он давно ушел из родительского дома, и с тех пор она не может дождаться, когда же, наконец, появятся внуки. Может, проблема в том, что я слишком требовательна к себе и слишком много думаю, но я все время боюсь, а вдруг она будет более преданной и хорошей, будет именно такой, какая нужна внукам. Уже сейчас я вижу, что она проводит с ним больше времени, чем я, и это уже сейчас влияет на связь между ними. А вдруг он будет улыбаться ей, а мне – нет; или протянет к ней ручки, а ко мне не пойдет? Если я сравниваю вторую бабушку и себя, мне кажется, что она больше меня… – Послушайте, вы – это вы, и я уверена, что вы будете отличной бабушкой! Может, вам просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть, – прерывает ее Орна. – Есть такая английская пословица, – улыбаясь говорит Мики. – Если тебе кажется, что трава у соседей зеленее твоей, поинтересуйся, как дорого они платят за воду. Женщины смеются, даже Маргалит не может удержаться от улыбки. Рут, успевшая за это время найти в своей бездонной сумке бутылочку с водой, нацеливает ее в сторону Маргалит. – Слушайте, что я вам скажу! Меня тоже вначале занимали мысли о том, какой должна быть настоящая бабушка. Рут говорит громко и уверенно, но в ее голосе заметна ирония. – Что она, конечно, должна стоять на кухне и жарить котлеты. Отпив из бутылки, она ставит ее на пол. – А теперь – серьезно. Вначале я очень старалась. В первый месяц после родов я варила и привозила Талье еду, хотя, вы знаете, это больше часа езды. Оказывается, она была этому рада, очень; ее совсем не смущало, что я вдруг начала заниматься их питанием. Правда, я готовила супы и покупала разные продукты, которые мне казались необходимыми для «укрепления организма». Она опять смеется. – Но постепенно я поняла, что ее свекровь меня в этом превосходит. Знаете, как свекрови ей тоже важно себя проявить. Ну так пусть и проявляет! В комнате раздается дружный смех. Рут продолжает: – Так что теперь, когда я спрашиваю у Тальи, есть ли дома еда, и она мне отвечает: «Да, свекровь позаботилась», – я говорю: «Прекрасно! Какая она молодец!» – и я искренне рада, что мне не надо торчать на кухне. Дайте второй бабушке делать то, что вы не любите, – весело заключает она, обращаясь к Маргалит. – Пусть она меняет пеленки! Особенно обкаканные! – сквозь смех предлагает Мики. Ответом ей служит новый взрыв веселья, Рут даже вытирает влажные от слез глаза. – А затем стирает их на программе «pump», – смеясь добавляет она. – Что касается меня, – уже серьезным тоном продолжает Мики, – я бы не согласилась, чтобы свекровь моей дочки варила бы для нее, особенно когда она только что родила! Я ее мать, и это моя обязанность! С какой стати кто-то другой будет о ней заботиться?! Кроме того, ее свекровь так отвратительно готовит, что они вечно ко мне подлизываются, чтобы я сварила им чего-нибудь вкусненького! – Моя дочка тоже признает только мою еду, но это потому, что она такая избалованная! – замечает Орна, улыбаясь и чуть привстав со стула. – Ей так нравится, как я готовлю! Она любила, когда ее подружки оставались у нас обедать, но бывало, что после этого их мамы были очень недовольны: девочки возвращались домой и просили их приготовить то же самое! – А вот это мне знакомо! – весело откликается Клодин. – По сегодняшний день в выходные дни у меня полный дом: Лиат вечно кого-нибудь приводит с собой. Маргалит хмурится и обращается к Нири: – Интересно, Михаль никогда не просила меня, чтобы я принесла что-нибудь из еды. Если я ей даю, она берет, но это всегда исходит от меня. Но вот что – да, так это книги, она всегда берет у меня что-нибудь почитать. В этом она полностью полагается на мой вкус. – А у меня никто не просит, и я никому не предлагаю, – раздается спокойный голос Анны. – У кого вообще есть на это время? Если у меня остается что-то после выходных, я с удовольствием отдам, но готовить специально для нее в середине недели?! Я в принципе не думаю, что мать должна готовить для дочки после того, как та выросла. Может, только сразу после родов, пока она не окрепла. Наама никогда не просила, чтобы я для нее варила. Обсуждая последнюю тему, женщины явно оживились. Нири с интересом наблюдает за группой. Элла сидит по-прежнему погруженная в свои мысли, кажется, что ни смех, ни громкие голоса до нее просто, не доходят. Това смотрит на Мики и при этом нашептывает что-то Орне. Та усмехается и, в свою очередь, переводит взгляд на Клодин, которая все еще продолжает улыбаться. Рут протирает лицо салфеткой, смочив ее водой из все той же, но уже наполовину пустой бутылки; Анна поправляет красную лямку, выбившуюся из-под серой трикотажной майки. Маргалит выжидательно смотрит то на Нири, то на Эллу. – От темы бабушек мы перешли к разговору о мамах, – замечает Нири. – Я бы хотела вернуться чуть-чуть назад, к тому, что поведала нам Рут о себе и о второй бабушке. Я думаю, что у существующего между бабушками соперничества есть по меньшей мере один положительный результат: каждая из них сможет выявить свои возможности и наклонности и на основе этого определить, в первую очередь для себя самой, свою роль по отношению к внукам и их родителям. Нири хитро улыбается и обращается к Маргалит: – Если использовать предложенный вами пример стиральной машины, то у каждой бабушки есть свой личный «режим», или, как вам, Маргалит, уже сказали, вы есть вы. Вот и сюда, в группу, каждая из вас пришла со своими собственными правилами, а уже здесь мы вырабатываем общую программу пользования, определяя, о чем мы будем говорить и как мы будем говорить, – ее лицо принимает серьезное выражение. – К примеру, одна из программ, которую, как мне кажется, выбрала группа, – это программа, заглушающая то, что вам неприятно, скажем, тяжелые переживания или споры, как это было на прошлой неделе. Ну а теперь, учитывая последнюю тему, я думаю, что есть еще один вопрос, который возник, но не обсуждался, а именно соперничество, которое существует между вами. Женщины с удивлением смотрят на Нири, а Орна растерянно переспрашивает: – Соперничество?! Я не пойму, о чем вы говорите! – Да, соперничество, – спокойно отвечает Нири. – Вспомните, о чем вы говорили. Клодин сказала, что в каждой семье дети борются между собой за внимание родителей; Маргалит говорила о конкуренции, которая в обязательном порядке существует между бабушками. Вы рассуждаете о необходимости быть лучшими, побеждать или уступать. Я предполагаю, что сам факт выбора этой темы, пусть по отношению к происходящему вне группы, намекает на ее актуальность и здесь, в этой комнате. – Это я виновата, – робко произносит Маргалит, в то время как остальные по-прежнему молча, смотрят на Нири. – Я затеяла этот разговор. – Вам не за что себя винить, – улыбаясь, успокаивает ее Нири. – Это вполне естественные чувства, не зря эта тема никого не оставила равнодушной. В любой группе существует элемент соревнования: кто определяет очередную тему, кто будет говорить, кто более популярен, – перечисляет она и продолжает: – А в нашей группе ко всему этому можно еще добавить, кто окажется самой хорошей бабушкой, кто у нас лучшая мама и у кого самая удачная дочь. Есть достаточно предметов соперничества между вами, и это естественно, но вы умудряетесь придать этому шутливую форму или касаетесь этого мимоходом, глядя на себя глазами своих дочерей. вы избегаете говорить о том, что вам неприятно и спешите перейти на следующий «режим работы». Женщины все еще молчат. «Конкуренция, – говорит Элла сама себе. – У меня здесь нет соперников. В самом главном состязании я уже проиграла, эта дистанция уже не для меня! И опять к глазам подступают слезы, просачиваются сквозь пальцы». – Элла плачет. Слезы безостановочно текут по щекам; руки бессильно лежат на коленях, не пытаясь больше преградить путь их потоку. Она не замечает устремленных на нее взглядов, выражающих часть – удивление, часть – любопытство, часть – сострадание. – Что с вами? – Клодин касается ее плеча, а Маргалит, чуть помедлив, приближается к ней, протягивает салфетку и гладит по щеке. Остальные замерли на своих стульях, напряженно наблюдая за происходящим. Элла постепенно успокаивается и вытирает глаза. Маргалит нерешительно смотрит на Клодин, та кивает ей головой, предлагая вернуться на свое место, а сама продолжает привычным материнским жестом поглаживать Эллу по спине. Маргалит садится, присоединяясь к затихшей в ожидании группе. Через несколько минут Элла выпрямляется, все еще не глядя ни на кого, вытирает глаза и нос, еле слышно то ли вздыхает, то ли всхлипывает. – Вы в состоянии говорить? – мягко обращается к ней Нири. – Я… – Элла глубоко вздыхает и поднимает на нее грустные глаза. – Есть что-то важное, очень важное, чего я вам не рассказала. Я сказала вам, что я бабушка, и это правда, но… мой случай… особенный. Моя дочка родила несколько месяцев тому назад – два месяца, если точно – но… Она продолжает еле слышно: – Я ни разу не видела свою внучку. Я знаю, что это внучка, мне рассказали… Я слышала… Но я не знаю ее… А она не знает меня… – Что значит, не знаете? – громко произносит Мики, глядя на Эллу. – Эйнав, моя дочка, она… она, – Элла по-прежнему не сводит глаз с Нири, – она прервала связь со мной три года тому назад, с тех пор я ни разу с ней не говорила. Сначала я пыталась с ней связаться, но безрезультатно: она передала мне через свою подругу, что ей необходимо отдохнуть от меня и чтобы я ее не искала. Я знаю от той же подруги, что она не замужем, но живет с кем-то, и у них родился ребенок. Она останавливается, переводит дух. – Я впервые говорю об этом вот так, открыто. – И вы держали это в тайне целых три года?! – не выдерживает Това. – Я не делала из этого секрета, но и не бежала кому-то рассказывать. Я все время надеялась, что она вернется. Я ждала ее… По лицу Эллы опять текут слезы, но она продолжает говорить: – И вот, вчера она пришла… Я встала вчера утром со странным чувством, не знаю, что это было – слабость, усталость… Вроде и не больная, но все тело такое тяжелое; я решила остаться дома. Я работаю медицинской секретаршей в одном и том же кабинете уже много лет, и вы знаете, эта работа требует от меня быть всегда внимательной к клиентам, улыбаться, интересоваться их здоровьем. Вчера я почувствовала, что у меня нет на это сил, и позвонила сказать, что заболела. Впервые я соврала врачу, с которым работаю. Ну, не совсем соврала, но и не сказала правду, может, потому что и сама не знала, что со мной происходит. Короче, я осталась дома и прилегла в гостиной; был такой приятный ветерок и, наверное, я уснула. В последнее время я что-то плохо сплю. Сквозь сон я почувствовала, что что-то происходит, но у меня не было сил открыть глаза. Я окончательно проснулась оттого что услышала, как хлопнула дверь. Я вскочила с дивана и даже схватила со стола вазу, так я испугалась: все-таки женщина, одна в доме. Я бросилась к окну посмотреть, и вдруг… я вижу Эйнав там, внизу, садится в красную машину; кто-то ее там ждал! – Вы ее позвали? – подавшись вперед и глядя на Эллу широко раскрытыми глазами, спрашивает Анна. – Да нет, не позвала. Я будто онемела. У меня началось такое сердцебиение – мне казалось, что сердце вот-вот выскочит наружу. У меня не было сил даже просто открыть рот. Все, что я могла, – это плакать, я сидела и плакала и не могла остановиться. Я проплакала до позднего вечера, у меня жутко разболелась голова, – Элла не замечает беспрерывно текущих слез. – Она была дома и даже не оставила записки! Понимаете, для нее это была неприятная случайность, что она застала меня дома! Ошибка в программировании – она не собиралась со мной встречаться! Она приходила не ко мне! Поэтому она кралась на цыпочках, чтобы меня не разбудить. Клодин и Орна, сидящие по обе стороны от Эллы, гладят ее по спине, остальные женщины сочувственно смотрят на нее. Маргалит даже не пытается скрыть своих слез. – А зачем она приходила, вы знаете? – спрашивает Това мягким, не характерным для нее участливым тоном. – После того, как машина уехала, я сделала круг по квартире и зашла в ее комнату, в которой я, между прочим, ничего не трогала с тех пор, как она ушла, – все так и оставалось на своих местах. Дурочка, я уже сто раз могла поменять наши комнаты, потому что ее комната большая, а я сплю в маленьком закутке, но я все надеялась, что придет день – и она вернется, – громко плачет Элла. – Какая я дура! Она сбрасывает с себя шаль и резко выпрямляется на стуле. – Она зашла к себе в комнату и забрала оттуда все игрушки и книжки, которые я хранила с тех пор, как она была маленькой. Наверное, для своей малышки. Кто, вы думаете, ей все это покупал? Я! Я и Далья, моя соседка, и Ора, моя подружка; нас было у нее три мамы, мы всегда ее баловали играми, и куклами, и книжками, а она все забрала! Может, у нее нет денег, чтобы покупать игрушки, не знаю. И вообще какое мне дело! – Она, наверное, тоже очень привязана ко всем этим вещам, – робко замечает Маргалит. – А мне совершенно все равно! – уперев глаза в пол, выкрикивает Элла. – Она не сказала мне ни одного слова, даже не поздоровалась! Она видит, что я лежу дома в середине рабочего дня, что я не на работе, и – что? У нее не возникло мысли, что, может, я заболела?! Она ведь знает, что для меня работа – это святое, что я никогда не делаю себе поблажек. Неужто я настолько ей безразлична?! За что она меня так ненавидит?! Что я ей такого сделала, чем заслужила такое к себе отношение?! Элла обнимает себя за плечи и, наконец-то оторвав взгляд от пола, поднимает глаза на Нири, которая за все это время не проронила ни звука. – Я все надеялась, что она вернется; что она поймет, что хватит; что я ей нужна, что она по мне скучает. Я вела себя так, будто она вот-вот вернется. Я даже не стала менять замок в дверях, хотя меня дважды обворовывали, лишь бы она смогла войти. Я не уезжаю в отпуск, даже по стране; никогда не отключаю телефон, чтобы она всегда могла меня найти. Нири сидит, наклонившись вперед, и грустно смотрит на Эллу; ее глаза – обычно зеленоватые – приобрели незнакомый темно-серый оттенок. «Ты, наверное, никогда бы не смогла так поступить, – мысленно обращается к ней Элла, – ты хорошая дочь, это сразу видно». Они молча смотрят друг на друга, пока Мики не врывается в их безмолвное пространство и не провозглашает, возбужденно размахивая руками: – Ну, знаете ли, я таких детей не встречала! Это же чистое издевательство – то, что она с ней делает! – А я удивляюсь и не удивляюсь, – тихо замечает Маргалит. – В каждой избушке – свои игрушки, в каждой семье есть свои тайны. – Но такие! – не отступает Мики, глядя на Маргалит, но та опускает глаза, давая понять, что с ее стороны продолжения не последует. Рут расстегивает пуговицу на белоснежном манжете блузки и, закатывая рукав, спрашивает: – А что бы вы сделали, если бы она захотела помириться? – Помирилась бы, конечно! Пусть даже она меня и обидела, но ведь она моя дочь! А я навсегда остаюсь ее мамой. Когда она была маленькой, я часто ей говорила: «Я твоя мама, и я тебя люблю всегда, даже когда я сержусь!» Элла замолкает, не в силах остановить новый приступ плача. Мики не сводит с нее глаз. – Вот так просто? После всего, что она вам сделала? – Да, так просто. А вы смогли бы не простить свою дочь?! – отвечает ей Элла дрожащим голосом, даже не пытаясь вытереть мокрые от слез щеки. Мики переводит взгляд с лица Эллы на свои пальцы, сосредоточенно исследует темнокрасный лак на ногтях. – Откуда я знаю? Со мной ничего подобного не случалось. Бывает, конечно, что она на меня сердится: я ведь только человек – могу и ошибиться; но чтобы она вела себя по отношению ко мне подобным образом, никогда! Да и я бы этого ни за что не позволила! Существует элементарное уважение – я ее мама! Что значит, вдруг уйти из дома и использовать подругу в качестве связной? Я вам серьезно заявляю, я бы не допустила такого поведения! Я считаю, что моя дочь должна по меньшей мере ценить все то, что я для нее делаю всю жизнь! Какая неблагодарность! – ее последние слова адресованы непосредственно Элле. – Мики! Почему вы говорите так, будто обвиняете во всем Эллу? – подается вперед Орна. – Я не обвиняю, – пожимает плечами Мики, – но… Элла, можно я вам что-то скажу? Она делает паузу, выжидая, но Элла молчит, устало опустив голову на руки. – Говорят, что для танго нужны двое, – продолжает Мики. – Я вот что имею в виду: если дочка относится подобным образом к своей маме, это значит, что между ними обязательно что-то произошло и что каждая из них, скорее всего, не подозревая о последствиях, внесла в это свою долю. У всех бывают ошибки. Я уверена, что если бы это случилось со мной – хотя я не могу себе такого представить, но если бы это все-таки случилось, я вам говорю, я бы серьезно задумалась, что именно я сделала не так. Я не могу сказать, что у моей дочки не бывает ко мне претензий, – она смотрит на Нири, – конечно, бывают, но тогда я, в первую очередь, проверяю себя, в чем я могла ошибиться, и стараюсь, не откладывая, поговорить с ней, выяснить и исправить. Я уверена, что над взаимоотношениями с детьми необходимо работать, все время! – Как, оказывается, все просто! – бросает ей Това и демонстративно отворачивается. Рут пытается поймать взгляд замершей на своем месте Нири и, не скрывая раздражения, обращается к Мики: – Я категорически не согласна с вашим тоном! Вам мало всадить нож, вы еще непременно должны его повернуть! Нельзя же быть такой бестактной! Она тут же отводит глаза в сторону, давая понять, что не заинтересована в ответе. В комнате – тишина. Нири делает глубокий вдох, собираясь нарушить затянувшуюся паузу, но ее опережает Клодин. – Элла, можно вас спросить? – обращается она неожиданно мягким тихим голосом, по которому невозможно угадать, что происходит у нее в душе; но это безошибочно читается в ее взгляде: жалость и страх. – Я не могу понять, как это случилось, потому что то, что вы рассказываете, – это… я не понимаю, как такое вообще может произойти. Она с сочувствием смотрит на Эллу, а та, в свою очередь, отвечает взглядом на взгляд и молча качает головой, ожидая продолжения. – И все-таки, хотя бы вначале вы пробовали с ней поговорить? – возвращается Клодин к уже прозвучавшему в нескольких вариантах, но так и оставшемуся без ответа, вопросу. А Рут добавляет: – Вы ведь спрашивали себя, что же произошло между вами; не может быть, чтоб вы об этом не думали?! – О чем вы говорите? Конечно, думала. Ее опухшие от плача глаза превратились в темные, налитые слезами прорези. – С тех пор не было ни одной ночи, чтобы я не лежала и не пыталась понять, что же тогда случилось. Что я ей сделала?! Я знаю, что не была плохой мамой; я всегда была рядом с ней, чтобы защитить, предостеречь! Всю свою душу я вложила в нее, все свои деньги, все свои силы! Все только для нее! Она была – вся моя жизнь, – еле слышно добавляет Элла. – Вот и сегодня, разве это жизнь? Я часто упрекаю себя, может, это из-за того, что у нее не было отца; я полностью вычеркнула его из нашей жизни. Я вообще не желала иметь дело ни с одним мужчиной и отказывала всем ухажерам, а их у меня было много. Эйнав всегда с такой завистью смотрела на девочек и их отцов… у меня аж сердце сжималось, но все равно я не хотела: по-моему, это глупо выходить замуж только ради ребенка. Вместо отца у нас был сосед, она относилась к нему как к отцу. Одна фраза – и группу как подменили. Первой вскакивает Орна: – Так вот в чем дело! Вы пробовали спросить, может, этот сосед, не дай бог, ну вы понимаете… может, из-за этого она сбежала?! Это случается чаще, чем мы думаем! Элла устало качает головой. – Нет, нет, это совершенно не то. В этом я абсолютно уверена; я знаю его много лет, этот человек и мухи не обидит. Наоборот, все ее очень любили. У нас были чудесные соседи, мы жили одной семьей; и была Ора, которая была моей лучшей подругой, пока не вышла замуж и не уехала за границу почти двадцать лет тому назад. Она нянчила и очень любила ее. И мама Оры была для Эйнав как бабушка, но после того, как Ора уехала, связь с ней както постепенно прекратилась. Там тоже не все было гладко, неважно… короче, я думала, может, все эти расставания, исчезновения… может, они не прошли для нее бесследно; может, она сердится на меня и за это. Но, – говорю я себе, – есть масса людей, которым пришлось пережить подобные или еще более тяжелые вещи, но при этом они себя так не ведут! У меня тоже было очень тяжелое детство! – взволнованно добавляет она, но вдруг осекается. – Почему я сказала «тоже»?! Странно, я вовсе не думаю, что у нее было тяжелое детство. У нее было нормальное детство: теплый дом, друзья, не было недостатка ни в еде, ни в одежде. У нее было намного больше, чем было у меня, – ведь это у меня умерла мама, когда мне только исполнилось тринадцать, и я всю жизнь искала кого-нибудь вместо нее. И все-таки я осталась нормальной и не вдавалась в крайности, как моя дочь. Я никогда никого так не обидела! Мики явно теряет терпение. – Я заранее прошу прощения за то, что собираюсь сказать, так как она все-таки ваша дочь и вы, естественно, ее любите, но я знаю, что просто есть такие дети! Есть дети, которые уже рождаются плохими! Есть дети неблагодарные, которые считают, что им все полагается, и думают только о себе; есть дочки, которые завидуют своим мамам, точно так же, как есть мамы, завидующие своим дочерям; вот я и подумала, может, она вам завидует? Вы красивее ее? Не дожидаясь ответа, она продолжает на одном дыхании: – У меня на работе на телевидении я встречаю много известных женщин и слышу массу рассказов, да и сама иногда вижу вещи, которые можно увидеть только за кулисами; так что, поверьте мне, я видела все! Теперь Мики уже не просто говорит, а вещает: – Есть мамы, от которых дочка слова доброго не дождется, и есть дочки – у меня волосы дыбом становятся, когда я слышу, как они говорят о своих матерях. Ее передергивает. – С каким неуважением, с каким пренебрежением они отзываются о своих мамах! Вы бы слышали, каким высокомерным тоном они говорят с ними по телефону! А, закрыв телефон, мило улыбаются, прямо – сама невинность! Она замолкает на мгновение, а затем возвращается к Элле: – И все же я не могу понять, как это девушка, у которой, по крайней мере внешне, все благополучно, вдруг так резко меняет свое отношение к матери? И моя дочка тоже бывала недовольна; и у нас не всегда все гладко, ну так что, она встает и уходит? Нет! С какой стати?! Мики поднимает с пола сумку и достает оттуда пачку сигарет. – Подумайте, может, да, произошло что-то, но вы предпочли об этом забыть? Постарайтесь припомнить, может, вы ей что-то сказали, и она обиделась; или вы встречались с мужчиной, а она с ним не поладила? А, может, это она встречалась с кем-то, кто вам не понравился? Я и такое слыхала; такое тоже случается! Последнюю фразу она произносит с особым выражением, в ее голосе ясно звучат назидательные нотки. – Да ни с кем я не встречалась! – выкрикивает Элла. – Я же вам сказала, что не подпускала к себе никого; я была занята только ею. Только ею! А она… она даже не нашла нужным познакомить меня со своим парнем. – Ну так тем более стоит основательно задуматься, в чем же там дело! – категорично заявляет Мики, не глядя на Эллу, а переводя взгляд с одной женщины на другую в надежде прочесть в их глазах поддержку и одобрение. Элла, которая, казалось, уже успокоилась, опять начинает плакать и беспомощно смотрит на Нири. Та устало опускает веки, а затем произносит: – Я предлагаю немного успокоиться, и я… Мики прерывает ее на полуслове: – Вы меня, Нири, конечно, извините, но я действительно думаю, что вам этого не понять. Сколько лет вашей дочке? Она ведь еще маленькая? Не зря же говорят, маленькие детки – маленькие бедки… Нири сосредоточенно смотрит на Мики и молчит. Маргалит не может найти себе места от смущения и, сидя на краешке стула, довольно громко шикает, но безрезультатно. – Что?! Я попрошу не затыкать мне рот! – раздраженно бросает ей Мики и вновь обращается к Нири. – Я уверена, что существуют специальные группы для таких матерей, как она! Вам надо было это проверить! Даже у меня достаточно связей, чтобы найти для нее подходящее место, ну а у вас – и подавно! Почему вы не направили ее в подходящую группу? Там бы ей точно помогли лучше, чем здесь. Может, еще не поздно! – И продолжает, повернувшись к Элле. – Вы, что, не проходили собеседования? Вы ничего не рассказали Нири?! Решительным движением руки Нири вынуждает Мики остановиться. – Вы очень сердитесь, – взволнованно произносит она. – Вы сердитесь на Эллу за то, что она, как вам кажется, не смогла удержать свою дочь возле себя; вы сердитесь на Эйнав за ее, на ваш взгляд, неблагодарность и вы сердитесь на меня, – Нири останавливает свой взгляд поочередно на каждой из женщин, – и, как мне кажется, не только вы. – Вы абсолютно правы. Я действительно очень сержусь, потому что Элла не подходит для этой группы, – тихо, сквозь зубы цедит Мики, подавшись в сторону Нири, но не отрывая глаз от пола. – И я действительно сержусь на вас за то, что вы согласились ее записать. К чему нам все эти драмы? – обращается она к группе и замолкает, давая возможность остальным подтвердить ее правоту. Но все сидят, опустив головы. Мики нервно оглядывает притихших женщин и продолжает, обращаясь к Нири: – Но хотя бы в одном вы правы: я тоже уверена, что не я одна так думаю! Я уже привыкла к тому, что все прячутся за мою спину. Ну и пусть, мне это не мешает! В комнате по-прежнему тихо, мамы замерли на своих местах, боясь пошевельнуться. Элла сидит, вся сжавшись, и не сводит глаз с Нири. Нири выпрямляется на своем месте и говорит, не глядя на Эллу: – Как-то я искала слова, близкие по смыслу к слову «гнев». В словаре синонимов, я помню, был длинный список, но то, что мне приходит в голову сейчас, это досада, недовольство или – более сильное – негодование. По-моему, эти слова отражают настроение, которое царит в данный момент здесь в комнате. Сначала было возмущение поведением Мики по отношению к Элле. Затем к жалости и сочувствию, которые вы сами испытываете к Элле, прибавилось еще и раздражение из-за того, что она так и не смогла разрешить проблемы с Эйнав. Есть претензии к самой Эйнав за ее жестокое, на ваш взгляд, отношение к матери. Нири останавливается, усаживается поудобнее и с нарастающей уверенностью продолжает: – Ко всему вышесказанному я добавлю еще разочарование. Разочарование во мне, высказанное Мики от имени всей группы. Вы считаете, что я не справилась, можно сказать, уснула на посту, и в защитную оболочку нашей группы проникло чужеродное тело, вирус, заставивший вас соприкоснуться с вещами, о существовании которых вы предпочитаете не знать. Вам тяжело слушать рассказ Эллы, особенно сейчас. Ведь история Эллы – это страшный сон каждой матери: что будет, если дети ее бросят, отплатят неблагодарностью и жестокостью за ее любовь и преданность? Особенно сейчас, когда меняется ваша жизнь; когда ваши дочки полностью поглощены своей беременностью или только что родившимся ребенком, и вам все еще неясно, как все сложится и какое место отведено вам в этой – новой – жизни, вы, я думаю, не желаете не только думать, но даже слышать о такой возможности; и если вы случайно, как сегодня, сталкиваетесь с чем-то подобным, вы спешите отвести взгляд, говоря себе при этом: «Со мной этого не случится». Нири опять останавливается на мгновение и еле слышно добавляет: – История Эллы не может не пугать. И снова – тишина. Проходит еще несколько минут, прежде чем раздается сдавленный голос Эллы. – Я лучше пойду, – произносит она трясущимися губами, обращаясь к Нири. Никто не произносит ни слова; Маргалит с сочувствием смотрит на Эллу, а Клодин смотрит на Маргалит. Элла поплотнее закутывается во влажную от слез шаль и привстает со стула, но Нири останавливает ее легким движением руки. – Постарайтесь остаться с нами. Я знаю, что вам очень тяжело, и нам тоже тяжело, но я прошу вас остаться. Элла отвечает долгим тяжелым взглядом и остается на месте. На лице Маргалит появляется улыбка; Клодин, незаметно придвинувшись к Элле, поглаживает ее руку. Кажется, что тишина прописалась в этой комнате навечно. – Я знаю, что вы думаете, – после глубокого вдоха выдавливает из себя Элла. – Вы, наверное, думаете, что такие вещи не происходят «вдруг», что я должна была это предвидеть. Но это не так! Женщины смотрят на Эллу, но тут же отводят взгляд, боясь встретиться с ней глазами. Элла продолжает громким окрепшим голосом: – Я тоже никогда не думала, что она способна на такое! Никогда! Мы всегда были лучшими подругами. Она всегда мне все рассказывала, доверяла мне во всем, она была очень ко мне привязана. Представьте, она отказывалась ехать в летний лагерь, потому что боялась, что будет очень скучать. Все было совершенно нормально. Нор-маль-но! Вы слышите? Нормально! И вдруг это свалилось на меня, я не могу понять откуда! Естественно, бывали ссоры, хлопанье дверьми, но покажите мне мать и дочь, у которых такого не случалось! Даже наоборот, если этого не происходит, значит что-то между ними не в порядке, значит это не дом, а гостиница. Тем и страшен был ее уход, что он оказался для меня полной неожиданностью, я была к нему абсолютно не готова. Элла замолкает не в состоянии справиться со слезами. Группа, слушавшая ее в полном молчании, опять замирает. Элла отирает глаза, и Нири, выждав несколько секунд, нарушает тишину. – Попытайтесь объяснить нам и себе, Элла, – мягко произносит она, – почему вам было так важно попасть в эту группу. – Потому что для меня самой я – бабушка, – не задумываясь, отвечает она, обводя взглядом сидящих кругом матерей. – Я такая же бабушка, как все вы. Я в принципе не отличаюсь от вас, – добавляет она уверенным резким голосом, останавливая взгляд поочередно на каждой из них. Никто не спешит с ответом. Орна и Маргалит смущенно ерзают на стуле; Анна сосредоточенно рассматривает фотографию беременной женщины, висящую на стене напротив. Рут старательно трет только ей видимое пятно на рукаве ее белоснежной блузки. Това и Клодин с интересом смотрят на Нири, а Мики качает головой, приподняв уголки рта в еле заметной иронической улыбке. – Я знаю, о чем вы сейчас думаете, – моментально реагирует Элла. – Вы, наверное, думаете, какая я, к черту, бабушка, если ни разу даже не видела внучки?! Представьте себе, я и об этом думала и не раз задавалась вопросом, настоящая ли я бабушка. Иногда я представляю себе, что они просто живут за границей, и поэтому мы не встречаемся. – Но это же абсолютно не то же самое! – откликается Това. – Можно жить за границей и оставаться связанными даже на расстоянии: для этого сегодня существуют телефон и интернет! – Ну да, конечно, и внучка будет говорить со мной по телефону, – язвительно усмехается Элла. – Или, может, она продиктует ее маме электронное письмо для меня? Если учесть, что моя внучка все еще находится в возрасте, когда она полностью зависит от своей мамы, то с моей точки зрения, это совершенно равнозначные ситуации. В настоящий момент для меня они «живут в Австралии». Виртуально у меня есть дочка и внучка, а я – виртуальная бабушка! – Потому что у вас всегда есть надежда, что они вернутся, – ободряюще улыбается Маргалит. – Да, я не теряю надежды. Я, конечно, понимаю, что прошло уже слишком много времени, но все же я надеюсь, что все еще может измениться. – Но почему это должно произойти именно сейчас? – вступает в разговор Рут. Элла выпрямляет спину и вытягивает перед собой скрещенные ноги. Впервые за весь вечер у нее спокойный голос и сухие глаза. – Потому что в чем-то… может, вам покажется это странным, но я сегодня почти счастлива. Когда я узнала, что она беременна, а затем – что родила дочку, во мне как будто что-то проснулось; с тех пор я хожу с радостным чувством, что скоро все наладится. Я не могу объяснить почему, но мне кажется, что сегодня это ближе, чем было когда-либо; что она вот-вот вернется. Моя мечта сбудется – она здесь, совсем рядом, она будет здесь! Вот и все! Даже сейчас, когда я говорю об этом, я чувствую, что в этом нет ничего невозможного, что это должно произойти совсем скоро. И я в это верю! Я очень надеюсь, что именно она… Возможно, это покажется странным, но сейчас наступил подходящий момент, – Элла переводит взгляд на Нири, слушающую ее с большим вниманием. – Я помню мою радость, когда я узнала, что беременна, и как уже через секунду меня всю перевернуло от сознания, что моя мама не со мной и я не могу ей ничего рассказать. На прошлой встрече Маргалит говорила о том же самом. Короче, я побежала к маме Оры, моей подружки; она так разволновалась, когда услышала – я этого никогда не забуду! Не может быть, чтобы моя Эйнав узнала, что она беременна, и не подумала обо мне! Я еще могу поверить, что до этого она не особенно во мне нуждалась, но быть беременной и не подумать, что бы на это сказала мама или что она хочет к маме, – зная мою Эйнав, мне это кажется невероятным. А как можно идти рожать в больницу, не думая о маме?! Без того чтобы она спросила себя, хочет ли она, чтобы я была рядом? Я рожала без мамы и, ох, как мне ее не хватало! – Даже то, что она просто подумала… – говорит Маргалит, ни к кому не обращаясь, будто про себя, глядя в пол. – Да, – поддерживает ее Элла. – Да, но ведь этого не произошло, – осторожно замечает Това, с опаской поглядывая на только что успокоившуюся Эллу. – Ваша дочка не позвонила вам ни когда она шла в больницу, ни после того, как она родила. Элла будто не слышит последнего замечания. – Знаете, что я делала, когда Эйнав, по моим подсчетам, была на девятом месяце? Возможно, вы решите, что я совсем спятила. Я ходила по больницам, каждый вечер после работы, каждый раз – в другую. Я ходила между семьями, которые ждали возле родильного отделения, и искала ее. Я притворялась, что ищу что-то в сумке или останавливалась, как будто о чем-то думаю, а на самом деле прислушивалась к звукам, которые доносились из-за дверей: а вдруг я услышу ее голос. – Если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету, – сочувственно качает головой Клодин. – Да, я даже толком не представляю, что бы я сделала, если бы нашла ее, но меня тянуло туда, как заколдованную, изо дня в день. Мне нужно было находиться среди других мам, которые ждут, как и я, чтобы пережить это вместе с ними. Возможно, поэтому я и здесь, не знаю… я чувствовала себя такой одинокой. Ее глаза опять блестят от слез, но Рут, разъедаемая любопытством, не удержавшись, спрашивает, как ей стало известно, что Эйнав беременна. – Как-то я встретила одну из ее подруг, и она с большой радостью поспешила мне сообщить эту потрясающую новость. «С радостью» в кавычках, я имею в виду – со злорадством. У меня чуть сердце не лопнуло, пока я с ней разговаривала; как я выдержала, не знаю, но я заплакала, только когда она отошла. Матери молчат. Раздражение как-то незаметно растворилось, его место заняли сочувствие и печаль. Нири смотрит на группу, пытаясь поймать чей-либо взгляд, но глаза всех устремлены на Эллу. – Слушая вас, когда вы рассказывали свою нелегкую историю, – говорит Нири, – я видела, насколько вы измучены, как тяжело переживаете свою обиду, но при этом вас не оставляет надежда. Нири пытается привлечь внимание группы, но женщины по-прежнему молчат, замерев в напряженных позах. – Я бы сказала, надеялась до недавнего времени, – неуверенно поправляет ее Элла. – Каждое утро я просыпалась с надеждой. Но теперь я, честно говоря, уже не знаю. – Потому что надеялись, что беременность ее изменит, что она начнет смотреть на вещи иначе, что материнство напомнит ей о вас, что, возможно, в ней что-то проснется, – подхватывает Нири. – Я представляю, какую серьезную внутреннюю работу вы проделали, пока Эйнав ждала ребенка; как готовились стать бабушкой, а самое главное, как готовились к большим переменам, которые наступят в семье после долгих тоскливых трех лет; как ждали новой встречи и примирения. И теперь, когда ничего этого не происходит, ваше разочарование невыносимо. Элла сидит, закутавшись в шаль, она напоминает Нири птенца со сломанным крылом, который безропотно замер, боясь пошевельнуться. Клодин, придвинувшись к ней вплотную, обняла ее за плечи. Нири обводит группу долгим внимательным взглядом, но никто из сидящих кругом женщин не поднимает на нее глаз. – Я чувствую, что в комнате что-то происходит, – произносит она и, не дождавшись ответа, глубоко вдохнув, продолжает. – Точнее, что что-то происходит между нами; у меня такое чувство, что вы не хотите общения со мной. Вы по-прежнему мной недовольны? – Да нет, с какой стати? – поспешно возражает Маргалит, а Орна, соглашаясь с ней, недоуменно пожимает плечами. И опять – тишина. – Это ваше право, – на лице Нири – еле заметная улыбка, – вы вправе на меня сердиться. Вы уже раньше были недовольны тем, что я позволила этой удручающей, гнетущей историей испортить царящее здесь оптимистическое настроение. Тогда вы предпочли этого не обсуждать, а раздражение осталось. Скорее всего, вам не понравилось и то, что я в течение долгого времени оставляла Эллу без моей поддержки; и ей пришлось самой отвечать на ваши вопросы и обвинения. Как первое, так и второе, возможно, лишает вас чувства надежности, вызывает у вас сомнение во мне, ведущей группы, на которую вы, как на старшую в доме, всегда могли бы положиться. – Я уверена, – серьезно продолжает она, – что вы не только сердитесь, но и сильно разочарованы. Группа все также молчит, стараясь не встречаться взглядом как с Нири, так и с друг другом. Нири прочищает горло. – И есть еще кое-что, что пришло мне в голову. С начала нашего разговора вы все плотнее и плотнее сплачиваетесь вокруг Эллы. И я не имею в виду только круг, который сузился, так как промежутки между стульями уменьшились. Женщины оглядываются по сторонам, на их лицах, наконец-то, появляется улыбка. – Если вначале некоторые из вас и пытались выяснить, какова доля ответственности Эллы за сложившуюся ситуацию, то довольно быстро мне стало ясно, что вы заняли свою «позицию», определили, к какой из двух сторон вы принадлежите, и предъявили счет Эйнав. Как заметила Мики, ничего не поделаешь, существуют плохие неблагодарные дети, которые своим поведением вызывают негодование окружающих. Это значит, что возникшее ранее неодобрение сменилось на жалость и сочувствие, и в настоящий момент главной виновницей разрыва, на ваш взгляд, является Эйнав. Слова Нири никого не оставляют безучастной. – Вы сердитесь на Эйнав, но так как Эйнав не находится в этой комнате, вы сердитесь на меня. Ведь я по возрасту близка к Эйнав, а ваши дочки находятся сейчас на том же жизненном этапе, что и я. Вполне естественно, если вы сейчас пытаетесь заново оценить ваши взаимоотношения с ними; стараетесь разобраться в себе и понять, почему те или иные стороны их характера или поведения вызывают у вас раздражение или, скажем, обиду, а возможно, и страх. И снова – тишина, опущенные глаза. Маргалит нервно передвигает стул то вправо, то влево, будто пытается найти золотую середину; Орна снимает очки и кончиками пальцев поглаживает припухшие веки; Анна машинально постукивает ногой по полу и прекращает только после того, как Рут осторожно кладет ей руку на колено. Не выдержав затянувшейся паузы, Това поднимает глаза на Нири, к ней с легкой улыбой присоединяется Клодин, и Нири улыбается им в ответ. Элла поплотнее закутывается в шаль и прикрывает глаза; а Мики вынимает из сумки телефон и со словами: «Извините, мне необходимо позвонить, я сейчас вернусь», – выходит из комнаты. Рут, улыбаясь, провожает ее взглядом, а затем обращается к Нири: – Это вы точно подметили! Я, действительно, иногда смотрю на вас и думаю, что вы и Талья – почти однолетки, а я сижу напротив вас и рассказываю о себе вещи, которые ей никогда не рассказывала. Я, правда, уже привыкла, что авторитет не всегда определяется возрастом; у меня на курсе тоже большинство преподавателей младше меня. Что касается сегодняшней встречи, вы, наверное, обратили внимание, что я сегодня почти не говорила, во всяком случае, намного меньше, чем обычно. Я в основном слушала: ведь нам нечасто приходится сталкиваться с ситуацией, когда дочь не желает знать свою мать. Тут есть чего испугаться! Каждый раз, когда я слышу что-нибудь страшное и стараюсь себя успокоить, что со мной такого не случится, то, наоборот, пугаюсь еще больше. Это то, что произошло со мной сегодня, я испугалась. Не то чтобы я боялась, что что-то подобное может случиться у меня – я, правда, не думаю, что Талья способна дойти до таких крайностей, – но мне хорошо знакомы мысли о том, какую цену мне придется заплатить, если я поступлю с ней так, а не иначе. Это начинается, когда они еще совсем маленькие, когда ты говоришь себе, что если не купишь ему мороженое и именно то, которое он просит, то он будет ныть десять минут. Чем они становятся больше, тем в большую цену может вылиться ваше несогласие выполнить их требования. Нет, правда, мне это очень хорошо знакомо. Часть женщин в знак согласия молча кивают, остальные удерживаются даже от такой, незначительной, реакции. – Я и моя дочь, – в конце концов тяжело вздыхает Това, – это тема для отдельной встречи, сейчас уже поздно. Несомненно, что есть вещи, которые меня раздражают; и как она сердится на меня, так и я, бывает, сержусь на нее. Хотя я, в отличие от нее, стараюсь сдерживаться. Она задумчиво смотрит на Нири. – Это действительно так. Сейчас, когда я пытаюсь проанализировать наши отношения, мне кажется, что последнее слово чаще всего остается за ней, а я будто все время хожу на цыпочках. Как будто у нас право предъявлять претензии и требования принадлежит дочке, а у матери этого права практически нет. Мамы опять молча переглядываются. Орна возвращает очки на место и обращается к Нири: – Мне сегодня несколько раз приходило в голову, что я всю жизнь живу с чувством, что я обязана защищать свою дочь, чтобы с ней, не дай Бог, ничего не случилось. И мне, как и вам, Това, абсолютно ясно, что я думаю о ней гораздо чаще, чем она обо мне, может, потому, что я по-прежнему считаю, что я больше и сильнее ее. Что же касается ситуации, когда дочь отказывается встречаться с матерью… я как-то читала про фантомные боли – когда человеку ампутируют ногу, а он продолжает ее чувствовать, будто она болит. И если я представлю себя на месте Эллы, я думаю, я вела бы себя точно так же. Если бы это, не дай бог, случилось со мной, я бы не теряла надежды и сделала бы все, чтобы ее вернуть! – И я тоже, – присоединяется к ней Маргалит. Клодин поправляет волосы и произносит, глядя на Нири: – Вот так история, я такого еще не встречала! Она все еще держит Эллу за руку. – Не могу себе представить, что Лиат на такое способна; наоборот, она очень меня бережет, особенно после смерти моего мужа. Клодин опускает глаза и замолкает, но затем добавляет: – А я как раз рада, что Элла участвует в нашей группе, хотя мне было очень тяжело слушать ее рассказ. Я не думаю, что здесь надо говорить только о радостных вещах. Мне, например, стало намного легче после того, как я поделилась с вами своими переживаниями и страхами. – Я так надеюсь, что все в конце концов наладится! – говорит Маргалит, глядя на Эллу. – Может, Эйнав сейчас еще слишком слаба; может, у нее еще ни на что нет сил, а через несколько месяцев она окрепнет – и что-то изменится. У меня с моей дочкой тоже бывает поразному: иногда мы очень близки, а потом, вдруг, отдаляемся… и я считаю, что это нормально. Анна беспокойно двигается на стуле. Заметив это, Нири спрашивает, желает ли она поделиться своими мыслями. Анна пожимает плечами. – Я и не знаю, что сказать, – она касается пальцами рта. – И мне тоже было тяжело видеть Эллу в таком состоянии, но я рада, что вы позволили ей присоединиться к группе. Что касается лично меня, я тоже не могу представить, что что-то подобное произойдет в моем доме, хотя наши отношения с Наамой далеко не простые. Я вообще не уверена, что существует такое понятие как простые отношения между мамой и дочкой. Во что я хотела бы верить, так это в то, что Элла, несмотря на то, что с ней случилось, не потеряет интереса к жизни; что сможет радоваться пусть не этим, так другим вещам. Она откидывается на спинку стула, давая понять, что добавить ей больше нечего. – Наша встреча подходит к концу, – объявляет Нири. – Сегодня мы проделали тяжелый путь, но мне кажется, что мы завершаем его с чувством облегчения и даже с долей оптимизма. Мы лишний раз убедились, как разные люди могут по-разному воспринимать одни и те же события или явления, – что называется, сколько людей, столько и мнений. Я наблюдала, с каким вниманием и терпением вы слушали друг друга и как все услышанное пропускали через себя. Наша группа не является исключением из общего правила, поэтому и здесь часть вопросов вызвали одинаковую реакцию, можно сказать, консенсус; но все-таки мы все разные, у каждой – своя история, свои личные отношения и переживания. Эти различия мы видели уже в самом начале встречи, когда коснулись «личного кода» бабушек. Она поворачивается к Элле. – Вы хотели бы еще что-то добавить на прощание, прежде чем мы разойдемся? Как вы себя чувствуете, с каким чувством вы уходите отсюда? Элла, задумавшись, не спешит с ответом. В комнату входит Мики и, заняв свое место, обводит взглядом женщин, которые терпеливо ждут, пока Элла соберется с мыслями. Наконец, Элла поднимает глаза на Мики и громко произносит: – Несмотря на то, что мне было очень тяжело решиться и рассказать вам о моем горе и не менее тяжело видеть и слышать вашу реакцию, мне сейчас стало намного легче. У меня такое чувство, будто я сбросила с себя огромный груз, который давил на меня все то время, пока я молчала. И хотя мне было сегодня нелегко, и на меня даже нападали и обвиняли, в данный момент я чувствую, что это стоило того и что в конце концов вы меня поняли. Мне даже кажется, что каждая из вас где-то в глубине души согласилась, что такое может случиться всегда и везде. Но, возможно, тут я ошибаюсь. Она переводит взгляд на Нири. – Честно говоря, я сейчас совсем запуталась. Я вообще не уверена в том, что я чувствую и чего хочу; я знаю только одно: я очень устала от всего, но больше всего от ожидания. Элла замирает на мгновение, а затем, резко выпрямившись, произносит: – А, в принципе, знаете что, Нири? Я страшно сержусь! – Я приглашаю вас вернуться к этому замечанию на наших последующих встречах, – после длительной паузы мягко обращается к ней Нири и добавляет уже для всей группы: – Я приглашаю всех вас еще раз задуматься о ваших отношениях с дочками; о том, что вас расстраивает, а что радует; и, что не менее важно, каким из этих чувств вы даете свободу, а какие из них запираете в себе за семью замками. Нири Холодный воздух, идущий из кондиционера, бодрит, разглаживает морщинки на лбу, приятно холодит усталые от напряжения глаза. Защита. Сегодня каждая в этой группе искала защиты. И я тоже нуждалась в защите, в том особом успокаивающем прикосновении ласковых материнских рук, когда только они способны прогнать охвативший тебя панический страх. Пока вы говорили, Элла, у меня было желание подойти и обнять вас; но еще больше мне хотелось прижаться к вам вплотную, чтобы впитать в себя всю ту любовь, которой вы способны одарить свою дочь; принять с благодарностью оказавшиеся никому не нужными вашу материнскую теплоту и заботу. Мне кажется, я никогда не смогу насытиться материнской лаской, мне всегда будет ее не хватать. Как бездонный сосуд, как ребенок, у которого забрали мать. Обида, которая обожгла вас, оставила след и на моей коже; разочарование, которое поселилось в вас, болезненными толчками пульсирует и во мне. Я, как и вы, жила по соседству с отчаяньем, пыталась с ним бороться, но скоро поняла, что это безнадежно. Когда-то и у меня была бабушка. У моей мамы была мать, ее дочка была внучкой – это была я – и все было далеко непросто. Цепочка, целиком построенная из женщин одной семьи; каждая тянет в свою сторону, нуждается в остальных, как в кислороде, но никому не готова уступить и твердо требует свою долю. Подростковый возраст – время бунтов и мятежей. Дочь пытается вылупиться из материнского кокона. Мама говорит – вправо, я говорю – влево. А что говорит бабушка? Вправо. И будет вправо! Мама говорит вперед, я говорю – назад, ну а что же бабушка? Вперед. И было – вперед! Почему, бабушка? Почему, мама? Иногда, находясь рядом с бабушкой, мама на время забывала о своих обязанностях матери, но никогда не расставалась со своим положением дочери, как человек, страдающий от удушья, должен всегда иметь при себе источник кислорода. А я всегда хотела быть ее полноправной хозяйкой, иметь ее всю без остатка только для себя, подобно тому, как Эйнав безраздельно владела Эллой. Пока я слушала Эллу, и у меня не раз возникало желание встретиться с Эйнав, понять, что заставило ее уйти. Чего мне как матери надо избегать и бояться? Я хотела разобраться и понять, в чем она так разуверилась, что предпочла все бросить и бежать; чем она была так измучена, что у нее не осталось даже желания объясниться? Что может оказаться сильнее потребности в материнской любви? Элла, Элла! Вместо распахнутого окна, через которое вы должны были увидеть новые светлые горизонты, перед вами оказалось зеркало, в котором отразился безрадостный серый пейзаж. Рождение внучки не стало признаком счастливого выздоровления, а, наоборот, вызвало тяжелое отрезвление. Очень тяжелое. Вы мечтали, что этот ужасный отрезок пути уже вот-вот останется позади, что вы сможете стряхнуть с себя тяжелую липкую дорожную пыль и, наконец-то, вернуться к нормальной жизни, как у всех. Вы очнулись от кошмарного сна и оказались в кошмарном сне. Если бы я могла – это то, что я чувствовала – я бы бросилась к вам, как должна была броситься ваша дочь. Но я не могу: я веду вашу группу и обязана соблюдать дистанцию. *** Я выхожу из здания и направляюсь в сторону аллеи. Я думаю о группе, о том, что сегодняшняя встреча была для них серьезным испытанием. В жизни «дочки-матери» – это не игра; там поджидает опасность, случаются травмы, – сообщил им неожиданно объявившийся посланник темных сил; и вся группа объединилась в борьбе против него, пытаясь избавиться от него, как избавляются от паршивой овцы. Без сомнения, с сегодняшней встречи в группе все изменится. Теплый, уютный женский кружок исчезнет, а вот что придет ему на смену? Элла Встреча закончена, все расходятся; и опять меня останавливает Маргалит, обнимает за плечи и отводит в сторону. Мне приятно касание ее рук, сильных и мягких одновременно. Она стоит напротив меня и, не снимая рук с плеч, смотрит прямо в глаза. Вы в порядке? – встревоженно спрашивает она. Я в порядке, – успокаиваю я ее и понимаю, что больше всего сейчас мне хочется остаться одной. Я прощаюсь с Нири и выхожу. Все как в тумане. Чувство радости и надежды, о которых я говорила совсем недавно, сменяются на плач, который все усиливается. «Почему ты лишаешь меня радости, Эйнав, – плачу я, – простой, полагающейся всем радости? Ты забрала у меня себя, а теперь отбираешь и внучку. Почему ты отнимаешь у меня ее крохотные вещи, пухленькие ножки, ее особенный молочный запах, спрятанный в складочках между плечиком и шейкой? Я тоже хочу ползать с ней по полу, отодвигать мешающие ей предметы, петь ей смешные песенки. Причем тут она, невинное маленькое существо; зачем ты замешиваешь и ее в неразбериху, которая царит между нами?» «Несчастная» – выжгли клеймо у меня на лбу полные жалости глаза женщин; мать, лишенная дочери, бабушка, лишенная внучки. И вдруг я вижу себя, незаметно входящую в салон для новобрачных; как я стою в белом платье перед улыбающейся во все свои тридцать два зуба продавщицей и рассказываю ей о приближающейся свадьбе; и как ложь, скрывающаяся под белым лебединым шлейфом, подбирается к моему горлу, грозит задушить меня, вырваться на свободу. Я поспешно сбрасываю платье и скрываюсь за дверьми так же внезапно, как и появилась, словно тайфун. Заблудшее дитя, ты опять сама себя обманываешь. Бедненькая малютка, одинокая брошенная девочка. И жалость к самой себе окутывает меня, опутывает меня, жалит меня. Я отдаюсь в ее ледяные руки, но затем отрываю их от себя и указываю в твою, Эйнав, сторону: «Нехорошая! Нехорошая! Жестокая! Злая!» «Дьявол! Эгоистка! Дрянь!» У меня нет больше сил, но я продолжаю кричать молча: «Из-за тебя! Из-за тебя я другая, непохожая на всех! Заклейменная! С жалостью они улыбались мне; с упреком они смотрели на меня, уродку, породившую уродку! Избавиться они хотели от меня, изгнать изгнанную! Из-за тебя!» А где ты, Ора? Сбежала от всего и оставила меня одну, брошенную всеми; исчезла навсегда, безвозвратно. Как мы тебя ж да ли, я и Эйнав! Часами мы сиде ли на скамейке под деревом возле твоего дома. Твой вечно сердитый сосед из квартиры напротив умер – и появились новые жильцы; они затеяли ремонт, который длился несколько месяцев. А тебя все не было. Пришел день, и умерла твоя мама – ушла тихо и незаметно, – а ты так и не появилась. Я стояла на кладбище – круглая сирота, оглохшая и ослепшая от боли – но ты не вернулась. А ты, Далья, моя любимая подружка и соседка, от тебя сбежала я сама. Сколько энергии ушло на всевозможные увертки и отговорки, прежде чем ты сдалась и оставила меня в покое. Я помню, как ты в первый раз вошла ко мне и протянула с порога медовый пирог. – Добро пожаловать, – сказала ты, будто бы была хозяйкой всего дома, – меня зовут Далья; ты можешь заходить к нам, когда тебе вздумается, и если тебе нужна помощь в доме – повесить картины или полки, – мой муж всегда будет рад тебе помочь. На твоем лице сияла улыбка, которая начинается в сердце и выплескивается из глаз. Уже в тот же вечер нашелся предлог, и я сидела у тебя на кухне, околдованная запахами, теплом и детскими голосами. Мы привязались одна к другой, как сестры после многолетней разлуки, и оставались такими до тех пор, пока я, повиснув над пропастью, не расцепила пальцы. *** Назавтра я сижу в уголке приемной напротив двери с табличкой «Д-р. Машаль». Я люблю сидеть здесь, в «моей личной канцелярии», которую я так долго обустраивала; все тут продумано, удобно и надежно. Над стопкой бумаг висит фотография Эйнав. Ты тогда сказала, что выбрала для меня свою самую красивую фотографию, и я всматривалась в пейзаж у тебя за спиной, пытаясь разгадать, где и с кем ты могла быть такой счастливой. Сегодня нет большой очереди: доктор Машаль просил по возможности сократить прием – его жена в больнице, и он хочет успеть навестить ее еще и вечером. Я взяла список и разделила его надвое: перед кем врата его кабинета сегодня распахнутся, а перед кем – нет. В первую группу я записала все срочные случаи и добавила одну новенькую, но очень напуганную пациентку. Туда же я внесла и данные Яира. Я люблю, когда он заходит; он всегда приходит пораньше и садится возле меня поболтать. Яир – вдовец, его жена погибла шесть лет тому назад в аварии. С тех пор он почти не выезжает за город. Мне нравится его прямодушие, он – честный. Когда он был здесь в прошлый раз, я заглянула в его карточку. Секретарша, которая работает у одного и того же врача столько лет, – сказала я себе, – должна знать его пациентов не только в лицо. Но я-то знаю правду! Яир страдает псориазом – розовые пятна и шелушащиеся бляшки покрывают его кожу. В этот раз Создатель не промахнулся: дал болезнь, которую невозможно скрыть, человеку, который не страшится чужих глаз. – Как дела, Элла? – спрашивает Яир с порога. – Вы выглядите как-то необычно. Меня разбирает любопытство: – Да? А как именно? – Вы мне кажетесь… как бы это сказать, более четкой. Вы всегда казались мне… чуть приглушенной. Я уже привыкла к его странным образным выражениям, но все-таки на этот раз ему удалось меня удивить. – Попали в точку! – отвечаю я, не совсем понимая, куда мы оба клоним. – Так что же произошло? – подхватывает Яир. – Вы видите фотографию Эйнав? Я хочу вам что-то рассказать, – неожиданно слышу я саму себя и в нескольких словах рассказываю ему нашу историю. – Нелегко, совсем нелегко, Элла. И что вы собираетесь делать? – спрашивает он, когда я замолкаю. – Сейчас – уже ничего. Знаете, что я вдруг представила? Как в один прекрасный день она придет домой, и я буду стоять в дверях и не дам ей войти. Она, конечно, скажет: «Это и мой дом». – А я отвечу: «Уже нет!» – И захлопну дверь. Вот, что я собираюсь сделать. Я смотрю в его добрые глаза и чувствую, как влажнеют мои. – Я хочу покоя: не думать, не прислушиваться, не искать, не ждать. Я смахиваю слезу и твердо продолжаю: – Она не заслуживает того, чтобы я ее ждала! Я очень сержусь на нее. Она плохой ребенок, и всегда была такой! Правда. Мне неприятно говорить об этом сейчас, но всегда в ней была какая-то… недоброта. Еще когда она была маленькой и я просила ее в чем-нибудь мне помочь, сделать какую-нибудь мелочь, ей доставляло удовольствие ответить, этак свысока: «А я сейчас не могу». Может, мне надо было уже тогда не уступать, быть более требовательной, но было в ней что-то такое, что будто бы предупреждало: не начинай со мной, у тебя все равно ничего не получится, и ты еще пожалеешь, что это затеяла. Мне надо было быть внимательней: может, я бы поняла намеки, которые она оставляла – скорее всего подсознательно – уже с раннего детства; и тогда, возможно… Яир внимательно, не прерывая, слушает. – Иногда мы шли к Оре и проводили там целый день; только мы втроем, как маленькая семья, и в конце Эйнав плакала потому, что не хотела идти домой. – Дети часто плачут, когда кончается кайф, – замечает Яир. – Да, но у меня было чувство, что ей доставляет удовольствие уколоть меня. Что не из любви к Оре она это делает, а из желания сделать мне больно. И Ора тоже… они обе… двое против одной. Они, бывало, кувыркались на ковре и изображали передо мной влюбленную парочку, которая наслаждается, когда на нее смотрят другие. Открывается дверь, и доктор Машаль провожает пациентку к выходу. Яир, извинившись, заходит в кабинет. Эйнав, моя девочка, сколько порций боли ты влила в меня взамен молока, которое высасывала из меня до последней капли, а потом так же, до последней капли, тебя вырывало, пока я не прекратила кормить. «Она не прибавляет в весе!» – обвинила меня сестра в детской консультации и велела перейти на детское питание. А мне так нужно было тебя кормить, прижимая тебя к себе и отдаваясь твоим глазам! Теперь у тебя есть новое оружие против меня. Маленький ребенок, твоя дочка – моя внучка. Она всегда будет на твоей стороне, и вы будете стоять против меня и улыбаться. Ты опять победила. Встреча шестая Связи Первое, что увидела Элла, когда переступила порог комнаты, был большой торт, затем – спешащую ей навстречу одетую в цветастую юбку и голубую майку Орну. – Угощайтесь! – она протягивает тарелку с возвышающейся над ней горой шоколада и взбитых сливок. – У меня родилась внучка! Элла заставляет себя улыбнуться. – Поздравляю, Орна! – громким шепотом произносит она, касаясь ее щек в легком ритуальном поцелуе. – Вот и дождались! – Я вижу, что кого-то тут можно поздравить? – радостно спрашивает Това и сразу направляется к собравшимся у кофейной стойки. – Вчера утром у меня родилась внучка! – гордо объявляет ей Орна и спешит воспользоваться поводом, чтобы отойти от Эллы. Това вешает на спинку стула свою сумку с длинными тонкими ремешками, на нее – полупрозрачный бежевый жакет и берет угощение. Элла здоровается с Клодин и Нири и направляется приготовить себе чай. Рут и Анна сразу замечают радостное оживление, которое царит в комнате. – Ну, у кого сегодня праздник? – еще в дверях спрашивает Рут. – У Орны! – откликается стоящая с кружкой черного кофе в руке Клодин. – Со вчерашнего дня и у нее есть внучка, дай бог ей здоровья! – Вот здорово! – несколько шагов – и Орна оказывается у нее в объятьях. – Поздравляю! – широко улыбаясь, присоединяется к ним Анна. – Надо же, только вчера у нее родилась внучка, а она уже успела испечь такой шикарный торт! – восхищается Това, вытирая губы салфеткой. Орна, которая все это время не прекращает суетиться, то предлагая им добавки, то убирая пустые тарелки, весело замечает, что так или иначе из-за волнения не спала всю ночь. – Точно, день после родов – он совершенно особенный, во мне тоже было полно адреналина, – откликается Маргалит. Мики, все это время говорившая по телефону, стоя у окна в коридоре, входит в комнату и идет прямо к кофейному автомату. Она отказывается от предложенной ей порции, объясняя Орне, что вообще не любит сладкое, но тут же отмечает, что торт у нее получился просто классный. Нири, стоящая среди женщин, отставляет в сторонку пустую тарелку и, взглянув на часы, объявляет: – Пора начинать нашу встречу. – Вы имеете в виду продолжить в сидячем положении? – смеется Рут. Нири садится на свое место и, улыбаясь, выжидает, пока женщины неторопливо устраиваются. Прежде чем присоединиться к группе, Орна проворно наводит порядок на кофейной стойке – сметает крошки, выбрасывает салфетки. – Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу с радостной новости, – Нири смотрит на Орну, на лице которой немедленно возникает широкая счастливая улыбка. – Одну минутку! – поднимает руку Това. – У меня тоже есть важное сообщение! И у меня тоже родился внук! – Правда?! Почему же вы не сказали?! – бросается к ней Орна. – А я говорю, – смеется Това, подставляя ей щеку для поцелуя. Матери опять встают со своих мест, поздравляют, посылают ей воздушные поцелуи. Элла остается сидеть, молча наблюдая за радостной суматохой. Това, не покидая своего места, смущенно благодарит их за добрые пожелания, но тут к ней подходит Рут и, протягивая руки, объявляет: – Я хочу обнять и вас тоже! Това привстает и, смеясь, на мгновение прижимает к себе Рут. – Когда были роды? – спрашивает Рут. – В воскресенье. Я тоже хотела принести сегодня торт, но ничего не успела, даже – купить. – Расскажите! Расскажите! Как прошли роды? Как детки? Как ваши дочки? – возбужденно сыплет вопросами Клодин. Орна и Това переглядываются. – Начинайте вы, – предлагает Това, – я уже три дня только и делаю, что рассказываю. – Сейчас вы все расскажете, – останавливает их Нири, – но сначала я бы хотела сказать несколько слов. Она обводит взглядом группу. – Итак, мы начинаем сегодня с двух радостных новостей, а не с одной, и скоро мы узнаем о них поподробнее, но до этого я хочу вернуться к нашей предыдущей встрече, которая, несомненно, была непростой для всех нас, – добавляет она. – Было бы очень хорошо, если бы вы поделились своими мыслями и чувствами, так как я уверена, никто из вас не остался равнодушным к тому, что происходило здесь на прошлой неделе. Элла чувствует себя неуютно оттого, что опять невольно становится центром внимания, и, не поднимая глаз, старательно расправляет бахрому привычно накинутой на плечи зеленовато-голубой шали. – Расскажите, как было на родах, – обращается Мики к Орне. Орна переводит взгляд с Эллы на Нири и снимает очки. – Можно? Элла, молча, кивает головой. – Пожалуйста, – приглашает Нири. – Это произошло раньше предполагаемого срока. Правда, в последние дни было видно, что Яэль очень тяжело, она уже еле двигалась. Я пришла к ним в воскресенье утром, хотя была там и в субботу вечером, и Яэль показалась мне совершенно измученной. Я хотела ее немножко побаловать, приготовила ей ее любимый суп, а она лежала напротив телевизора такая тяжелая, ну точно сидящая на яйцах наседка. Я присела рядом с ней, и вдруг у нее отошли воды! Это было похоже на то, что в свое время происходило со мной, но все равно это случилось совершенно неожиданно! – А у Ширли сначала начались схватки, – говорит Това, – а воды отошли уже в больнице. – Я не знаю, что лучше! Правда, из-за этого ее не мариновали в приемном покое, как это бывает при просто схватках, а сразу перевели в отделение; но роды не продвигались, и они были вынуждены сделать стимуляцию, а вы знаете, какая это боль! Но я расскажу все по порядку, – возбужденно продолжает Орна во все нарастающем темпе. – Как только я поняла, что происходит, я сразу побежала на стоянку за машиной и по дороге позвонила ее мужу, чтобы он ехал прямо в больницу. Короче, я не растерялась. Она так испугалась, и ей было так больно, что я старалась, насколько могла, вселить в нее уверенность, хотя внутри у меня все тряслось от страха! Я чувствовала себя как в кино; я будто видела себя со стороны, действующую как автомат. Я схватила сумку, которую они заготовили заранее, и мы вышли. Мне кажется, что мои старания казаться спокойной подействовали и на меня саму. К вечеру роды по-прежнему не продвигались, несмотря на стимуляцию, и, кроме того, они определили, что плод находится в опасности, и решили срочно делать ей кесарево. Я даже думать боюсь, чем это все могло закончиться! Жаль, конечно, что пришлось прибегнуть к операции, потому что иначе, я думаю, она бы позволила мне быть рядом с ней, но что ж поделаешь… Ладно! Через полчаса мы увидели чудную девочку с огромными глазами, совершенно лысую, а еще через четверть часа вывезли и Яэль. Бедная, она не переставала плакать – от волнения – и все жаловалась: «Они забрали ее так быстро, даже не дали рассмотреть, как следует». Орна вытирает ладонью навернувшиеся слезы и продолжает: – Вы понимаете, она привязалась к ребенку еще во время беременности, несмотря на всякие нехорошие мысли, а тут его у нее забрали! По всей вероятности, врачи решили, что она должна отдохнуть, ведь роды были очень тяжелые и она страшно измучилась. Назавтра я отменила все планы на целую неделю вперед и с утра пораньше прибежала в больницу. Я была с ней целый день! Я и здесь сейчас только потому, что в любом случае вечером выгоняют всех посетителей, да и она, скорее всего, уже спит. Она переводит взгляд на Нири. – С одной стороны, я жутко устала, но при этом совершенно не могу уснуть. Это, очевидно, от волнения и перевозбуждения. Мне кажется, что последний раз я так волновалась, когда сама рожала! Я думала, что это никогда не кончится, время тянулось бесконечно. Мне было страшно тяжело, и я хотела только одного – чтобы это уже закончилось и чтобы я увидела ее живую и здоровую. Чтобы с ней ничего не случилось! – Так что вы делали в ночь после того, как она родила? – спрашивает Маргалит. – Я, например, была так переполнена чувствами, что не спала всю ночь. – После того, как ее перевели в палату, и я знала, что все в порядке, зять остался с ней, а я поехала домой. Всю дорогу я говорила по телефону, в первую очередь – с мужем. Представьте, он не успел вернуться из заграницы, и я все время была с ним на проводе, докладывала ему обо всем! Вообще телефон работал беспрерывно! Я обзвонила всех родственников и подруг и всем сообщила, у меня родилась внучка! Мне кажется, я еще сама не совсем понимала, что именно я говорю. Шай, мой сын, возвращался из больницы вместе со мной и, видя меня, как он выразился, в состоянии легкого помешательства, начал смеяться: «Ты – бабушка?!» И я смеялась вместе с ним. Когда мы пришли домой, я попросила его быть потише, потому что я иду спать. Я еще помню, как я ему сказала: «Теперь у меня начинается со-вер-шен-но новая жизнь! Новая жизнь!». Но, естественно, я, как и вы, Маргалит, не смогла заснуть и занялась домашними делами. Я приготовила еду для них, чтобы им было, что кушать, когда она вернется из больницы; я сварила для нас на целую неделю вперед и испекла торт для вас. Ну вот вроде и все… А дите чудное, ну просто необыкновенное! – Да, что я вам скажу, это незабываемое впечатление, его трудно передать словами, – говорит Мики, подавшись в сторону Орны, – даже когда стоят в коридоре и ждут. Вот и сейчас, Вы рассказываете, как это было у вас, а я опять переживаю. – Вы, действительно, выглядите взволнованной, у вас аж глаза блестят! – замечает Нири. Мики отвечает ей широкой улыбкой. – Я даже толком не пойму отчего. Когда я вспоминаю, как все это было, у меня возникает чувство, что там произошло что-то намного более важное, чем сам факт, что моя дочь родила: что-то, во что трудно поверить. Что в тот бесконечный, тяжелый день родился ребенок, которого я люблю так же, как я люблю моих детей. Он меня сводит с ума, этот малыш, надо видеть его глаза – у него такой серьезный взгляд! Я знаю, что в этом возрасте они еще ничего не видят – так, по крайней мере, говорят – но я уже порасспросила всех моих друзей-врачей, может ли быть, что меня он видит? Потому что я вижу, я чувствую, что он смотрит на меня! – смеется она. – Они, естественно, подтрунивают надо мной, что у меня совсем крыша поехала, но мне все равно! Для меня он, да, видит и реагирует на меня; и строит мне рожицы; и очень обижается, если я занимаюсь чем-нибудь другим. Он совершенно чудное создание! – весело добавляет она. – Я, правда, в это верю! Мики кивает головой и обращается к Орне: – Он замечательный ребенок. Я держу его и говорю себе, этот ребенок – часть меня. Как мне сказала дочка: «Мама, ты понимаешь, что я вышла из тебя, а он вышел из меня, то есть, если бы ты не сделала меня, то и его бы у тебя не было. Ты понимаешь, что бы ты потеряла?» – Вот, что она мне сказала, а я про себя подумала, что это значит, что, в принципе, этот ребенок существует благодаря мне! – Да, это потрясающе! Если подумать, то в нас троих течет примерно одна и та же кровь, – говорит ей Орна. – Но минутку, мне интересно, что расскажет Това! Това берет сумку, достает оттуда белый конверт и вынимает из него фотографии. Она замирает на мгновение, глядя на первую фотографию. – Передайте, чтобы и мы видели! – весело требует Рут, прежде чем Това передумает. Под одобрительные возгласы фотографии переходят из рук в руки. Как же выглядишь ты, моя внученька? – думает Элла, разглядывая фотографию. – Какого цвета у тебя волосики? Черненького? У тебя тоже пухленькие щечки с ямочками, когда ты смеешься? Похожа ли ты на Эйнав, такая же ласковая и доверчивая, какой была она в твоем возрасте? – Какой сладенький! – замечает Рут, улыбаясь. – Ну, так что, вы были на родах? – Я была снаружи, возле дверей, – отвечает Това. – Он родился через тридцать шесть часов; эпидуральную анестезию она получила… я не помню точно, когда, но до этого она много часов очень страдала. В конце концов родился мальчик, как и обещали, крупный, в точности как она; я думаю, это в генах. – Нет уж, расскажите сначала! – протестует Орна, – не скупитесь на подробности! – Вот уж в чем точно не будет недостатка, так это в подробностях, – смеется Това, – я помню каждую минуту! Я не думала о том, что она должна родить. Правда, назначенный срок уже прошел, но я была слишком занята своими делами. Впрочем, почему я говорю «слишком»? Я была занята моей работой, изучала какую-то статью. Это началось между пятницей и субботой, и я вначале обрадовалась, что мне не придется пропускать работу. Они позвонили мне в субботу рано утром, – хотя Ширли мне говорила до этого, что они сообщат только после того, как он родится, – и сказали, что схватки начались примерно в четыре утра и что они – по дороге в больницу. Положив трубку, я поняла что не в состоянии сидеть, сложа руки, и ждать; и что время пройдет быстрее, если я займусь чем-нибудь. Поэтому я продолжила работу над статьей. Через какое-то время они сообщили, что их не оставили в больнице и они возвращаются домой. Я спросила Ширли, хочет ли она, чтобы я пришла, и она ответила, что да, потому что ее муж хочет немного поспать, а она не хочет оставаться одна. Естественно, я все бросила и помчалась к ней. Мы сидели и засекали время между схватками. Внезапно перерывы резко укоротились, а боль резко усилилась. Она очень страдала, и я сказала, что нечего ждать, пусть разбудит мужа и едет в больницу. Это было уже вечером, я поехала домой и пошла спать. Из той ночи я не помню ничего, скорее всего, я в конце концов заснула. Я проснулась очень рано. Естественно, я ничего про нее не знала, но звонить не хотела, а поэтому села и стала ждать. Я ничего не могла делать, а просто сидела, уставясь на телефон, и ждала; даже читать я была не в состоянии. Ее голос звучит громче и жестче, чем вначале; от улыбки не осталось и следа. – Своих ощущений я не помню. Я уже не раз замечала, мой мозг обладает интересным свойством: все события, связанные с паникой или страхом, стираются в моей памяти начисто. Но свои роды я не забуду никогда, хотя прошло уже тридцать три года после первых и девятнадцать после последних. Между прочим, во второй и третий раз я совсем не страдала. Короче, я сидела дома и ждала. В половине девятого позвонила Галь, моя младшая дочка. Оказывается, она получила отпуск из армии – у нее отличный командир – и всю ночь провела с ними в больнице. Честно говоря, меня это сильно задело, почему ей можно быть с Ширли, а мне нельзя?! Но я тут же попыталась себя уговорить, что, несмотря на разницу в возрасте, они настоящие подруги, каждый день говорят по телефону; у них между собой намного больше общего, чем со мной – так, во всяком случае, они думают – и я не должна завидовать. Неважно. Галь сказала мне, что Ширли в родильной палате, что есть открытие на четыре пальца, но ничего не продвигается, что ей сделали анестезию, она нормально себя чувствует и что она просит меня приехать ближе к полудню, потому что, по словам врачей, это займет еще несколько часов. Естественно, я обрадовалась, что она хочет, чтобы я пришла. Забежала на работу отдать что-то срочное и уже в час дня я была в больнице. Когда я зашла в родильную палату, Ширли сидела на кровати и выглядела очень даже хорошо для роженицы, у которой схватки. Все было совершенно иначе, чем когда-то, в мое время. Мы сидели там, и ничего не двигалось. В какой-то момент к нам присоединился Юваль, мой сын; он все это время был на связи с моим мужем, который вернется из заграницы только на следующей неделе. Я, в отличие от Орны, не была в состоянии говорить по телефону ни с кем: ни с ним, ни с моей мамой. Я слишком нервничала. На каком-то этапе мы спустились в кафе перекусить и принести что-нибудь мужу Ширли. В это же время позвонили и вызвали Галь назад на базу. Бедняжка, она так хотела остаться до конца! Честно говоря, я даже не помню, остался ли Юваль или тоже ушел – для меня в тот момент существовала только Ширли! Когда я вернулась в отделение, оказалось, что есть прогресс, и… Това делает глубокий вдох и продолжает в полной тишине: – Палата была заперта, и я поняла, что Ширли рожает. Я прижалась ухом к дверям и слышала, как она стонет. Она очень-очень мучилась. Я тоже мучилась, – улыбаясь, вполголоса добавляет она, а затем, посерьезнев, спешит продолжить. – Это так тяжело стоять одной по ту сторону дверей! Мне кажется, что уж лучше находиться возле роженицы, чем слышать снаружи ее плач и стоны. Я все время колебалась между – стоять, прижавшись ухом, и – отойти подальше, не слушать, не слышать и не знать. Там сидели целые компании, ели, беспрерывно говорили по телефону; и во всем этом семейном тарараме мне одной было еще тяжелее. Его родители живут далеко, они не смогли приехать. Вдруг я услышала ее крик. Это было просто невыносимо – чувство беспомощности, когда моя дочь кричит от боли, а я ничего не могу сделать, мне нечем ей помочь! Наконец, примерно в четыре часа я услышала плач ребенка и поняла, что все закончилось. В первый миг мне показалось, что это в соседней комнате, но буквально через минуту меня впустили и показали новорожденного. Этого я почти не помню – еле-еле. Интересно, я хорошо помню предыдущий вечер, даже утро… а больше – ничего. После того как она родила, я не помню ничего! Това морщит лоб. – …Я пытаюсь вспомнить… Я помню только коридоры. Всякие технические детали я, да, помню. Помню, что позже ходила в отделение для новорожденных и… Не помню… На следующий день в обед, когда Ширли спала, мы с ее мужем и его мамой поехали покупать все необходимое. Вот видите, опять я помню, что мы делали, но я абсолютно не помню, что я чувствовала. Ничего! В больницу приходило полно гостей, а я поехала к ним навести порядок. Моя мама накупила всевозможных продуктов, и мы заполнили им холодильник. Я уже вам говорила, я помню массу подробностей, но – никаких эмоций. Никаких! Это не в моем характере. Галь смогла освободиться к вечеру и очень расчувствовалась – дали себя знать долгое напряжение и нервы – и это было очень трогательно, но я лично так не могу. Я – человек дела. Я не думаю, что я чувствую меньше других, я просто проявляю это подругому, хотя мои дочки считают, что я слишком холодная; и Ширли мне это даже не раз говорила. Но это неважно, главное – она в порядке, он – в порядке. Вот и вся история. – Ну, а что с вами? – улыбается Рут. – И я в порядке. Рада, что все это закончилась. Рада, что была там, в конце концов. Это действительно незабываемый день! – Ну вот и отлично, чтобы было в добрый час! – Орна вытягивает ноги и откидывается на спинку стула, – Это выматывает, все эти переживания! Теперь я начинаю чувствовать усталость. – На кого они похожи? – спрашивает Мики обеих. Това пожимает плечами. – Я даже не могу сказать. Родители зятя говорят, что он копия их сын в этом возрасте. Мне он чем-то напоминает Ширли, что-то во взгляде. Не знаю, пусть немного подрастет. – Я тоже сразу начала разглядывать малышку, – оживленно кивает Орна, выпрямляясь на стуле, – на кого она похожа, на кого не похожа… может, получила что-то… может, у нее наш подбородок, может, наша улыбка?! Все это делают! Это получается непроизвольно, это – инстинкт! – Вы напомнили мне… – смеется Рут, – когда мы пришли в больницу навестить Талью с ее малышом (кстати, мы приехали только на следующий день, так как это два часа езды от нас, а она рожала ночью), его родители уже были там. Я, как вошла, сразу взяла ребенка на руки. Между прочим, его мама была там уже до нас, но не осмелилась даже дотронуться до него, – Рут весело переглядывается с Анной. – Я зашла и сразу спросила Талью: можно? – и вынула ребенка из каталки. Они были в шоке… Я помню, как говорю мужу, посмотри, мол, это не наш ребенок, он совершенно не похож на нас! Просто невероятно! Он – копия их семья! Я уверена, что если бы он был похож на нас, то я бы чувствовала себя совсем иначе. Только намного позже я начала им любоваться, и сегодня он для меня самый-самый! Он как две капли воды похож на своего отца. Было очень странно, когда после девяти месяцев ожидания появился ребенок, в котором абсолютно ничего нет от нас. Талья, когда родилась, была очень похожа на своего отца, и сегодня, когда люди видят нас вместе, они не говорят, что она похожа на меня, а говорят только, что что-то есть… короче, говорят, что она похожа на нас. Мать моего зятя стояла там все это время и удивлялась, насколько он похож на ее сына; и я подумала, что, может, когда она держит его, у нее возникает ощущение, будто это опять она и ее сын. Честно, я ей чуть-чуть завидовала. – Я думаю, что не мне одной более чем знаком этот «тест на принадлежность», который делают новорожденному, когда исследуют каждую часть тела; каждую его черточку, чтобы определить, от кого что получено, – говорит Нири, обращаясь к группе. – Я предполагаю, что это помогает наладить связь с только что появившимся на свет существом, которого не вы растили в животе целых девять месяцев. Рут смотрит на Нири и качает головой. – Дело не только в этом. К примеру, для меня было очень важно увидеть своими глазами, что у моей семьи есть продолжение, что есть еще поколение, и это… я не могу подобрать точные слова, это меня потрясло. Но, кроме того, мне очень хотелось, чтобы это продолжение рода проявилось и внешне… чтобы сразу становилось ясно, что он из нашей семьи… Возможно, это звучит глупо, но это то, что я чувствовала. Орна, взбудораженная событиями последних дней, живо откликается: – Я понимаю, о чем вы говорите! Я всегда считала, что нет ничего лучше большой семьи, детей, внуков. По-моему, это замечательно! Тот, у кого есть семья, никогда не будет чувствовать себя одиноким, он всегда окружен людьми. Семья – это самое дорогое! Вот, к примеру, мой зять. Он – единственный сын, и я стараюсь приглашать его родителей на все праздники, чтобы, не дай бог, они не оказались совсем одни. Поэтому я хочу, чтобы и у моих детей была семья, большая настоящая семья! По-моему, это здорово, когда ребенок видит корни, ствол и ветви: когда у тебя есть корни, ты растешь на надежной основе, и тебе будет намного легче противостоять трудностям, которые поджидают тебя в будущем. Настоящая основа – это надежность! – Несомненно, есть что-то основополагающее, надежное и мощное в связи поколений, – продолжает Рут, – что-то очень значительное; и мне было очень жаль, что мой отец не видел и не увидит моего внука. Кстати, мне до сих пор странно, что у моего внука фамилия не нашей семьи, а зятя. С одной стороны, у меня есть внук, но у него другая фамилия, значит, он не является полным нашим продолжением. И вот что еще интересно: я всегда думала, что буду больше рада девочке, а не мальчику, сама не знаю почему. Может, потому что уже много лет представляла себе такую картину: четыре поколения одной семьи стоят одна возле другой – внучка, Талья, я и моя мама – и обязательно все четверо во всем белом! – улыбаясь, добавляет она. – Поэтому, когда нам сообщили, что будет мальчик, я была несколько разочарована. Но после того как он родился, все изменилось; я даже была рада, что это именно сын. Вы обратили внимание, что, когда рождается мальчик, все говорят, как здорово! На девочек обычно такой реакции нет. А почему? Возможно, потому что считают, что мальчик является продолжателем рода, а девочка – нет. Я так не считаю, но факт – что и у меня, вопреки здравому смыслу, появилось это чувство. Странно, не правда ли? – пожимая плечами, обращается она к Тове. – Почему продолжателем рода считается мужчина? Удивительно, что меня, абсолютно нерелигиозного человека, занимают такие вопросы. – А вы знаете, действительно, обязательным является только благословение мальчиков, а девочек – по желанию родителей, – говорит Маргалит и поправляет волосы, выбившиеся из-под фиолетовой шляпки. – Ну вот видите, я даже этого не знала; это что-то инстинктивное. – А я как раз думаю наоборот! – качает головой Орна, и длинные серебряные серьги раскачиваются в такт ее движениям. – Если это девочка, то придет день – и она родит, а значит, будет продолжение рода! – Я бы тоже предпочла девочку. Как только я услышала, что у нас мальчик, сразу начала думать, что придет день – и ему исполнится восемнадцать, и он пойдет в армию, – вступает в разговор Това. – Сначала я вообще только об этом и думала и даже сожалела. Сколько можно волноваться?! Недостаточно, что мой сын служит в армии?! – А у нас в семье это вообще никого не волнует. Кого бог послал – тому и рады! – взволнованно говорит Клодин. – Но в моем случае, если бы у Лиат была дочка, я была бы, конечно, рада, но когда она сообщила, что у нее сын, честно, я радовалась еще больше. Я бы даже хотела, чтобы у всех моих детей первым родился сын, потому что они все хотят дать ему имя отца. Поэтому я так была рада, когда узнала, что это внук. Маргалит нетерпеливо привстает со своего места, боясь, что кто-нибудь может ее опередить, и обращается к Клодин: – А я дала своей дочке имя, в котором содержатся буквы имени моей бабушки – так ее имя не пропадет. – Правильно, поэтому я так хотела, чтобы у нее был сын, – повторяет Клодин. – Хотела, и с божьей помощью получила! Как будто я искала, чем заполнить черную пустоту в моей душе. Она смотрит на сидящую молча Эллу и протягивает руку, чтобы погладить ее по плечу. Элла отвечает ей еле заметной грустной улыбкой, как бы говоря, как хорошо, что вы здесь; рядом с вами я успокаиваюсь, а ваша боль нас сближает. Я понимаю, что значит потерять близкого; я знаю, что такое чувство утраты, когда все вокруг тебя выглядит иначе после того как он ушел, даже у еды появляется другой вкус. Я бы очень хотела вам помочь, но я знаю, что это невозможно: одиночество слишком жестоко, действительность невыносима, и сердце безутешно. Все, что происходит в комнате, кажется Элле нереальным. Как сквозь стену доносится до нее голос Нири, обращающейся к Клодин: – Вы надеетесь, что внук действительно заполнит пустоту в вашем сердце. Вместе с именем вашего мужа, которое начинает новую жинь, возможно, и вы, пересиливая боль утраты, возвращаетесь на тропу жизни. Нири обводит взглядом группу и останавливается на Элле. – Я бы хотела добавить еще несколько слов. В какой-то степени и нашей группе пришлось кое с чем расстаться. Женщины сосредоточенно смотрят на Нири. – Когда вы говорите о продолжении в общем и о продолжении после утраты в частности, я ловлю себя на мысли, что на прошлой неделе вы, возможно, расстались с фантазией, что все, что здесь будет сказано и прочувствовано, наполнит вас положительными эмоциями и оптимизмом; и теперь вы задаетесь вопросом: как же можно продолжать дальше? Сегодня в группе царят осторожность и настороженность. Я исхожу в первую очередь из того, что вы не желаете коснуться нашей предыдущей встречи. Ответом Нири служит напряженная тишина, которую нарушает сдавленный голос покрасневшей от смущения Эллы. – Я предпочла бы не возвращаться к тому, что произошло здесь неделю тому назад. Если со временем мне будет, что сказать, я скажу. Элла опускает голову, давая понять, что ей больше нечего добавить. На лицах окружающих она читает сочувствие, Клодин опять успокаивающе поглаживает ее по плечу. Неожиданно Элла выпрямляется и, повернувшись всем корпусом к Клодин, еле слышно произносит: – Может, когда родится внук, вам удастся расстаться с образом мужа. – Вы могли бы говорить чуть громче? – обращается к Элле сидящая напротив Рут и, тепло улыбаясь, добавляет: – мне очень жаль, но отсюда не слышно. – Я говорю, – переводит на нее взгляд Элла, – что, может, с рождением внука ей станет легче, – и после короткой паузы продолжает, – я говорю так, потому что мне кажется, что я перестала оплакивать маму только после того, как родилась Эйнав. Ребенок заполняет все наше жизненное пространство не только потому, что уходу за ним посвящено все наше время и все наши мысли, но и потому, что ему удается заполнить пустоту в нашем сердце. Рут согласно кивает головой, на лицах остальных можно прочесть облегчение; по всему видно, что они благодарны Элле за то, что она все-таки осмелилась заговорить. – Вы знаете, еще до того, как Лиат сообщила мне о своей беременности, я видела сон, – с благодарностью глядя на Эллу, продолжает разговор Клодин. – Мне снится, что приходит мой муж и приносит мне кузнечика. Я говорю ему: «Что это, Джек, зачем ты его принес?» А он отвечает: «Послушай, Клодин, когда это появится, я стану за тебя спокоен». Я говорю: «Что – это?» А он говорит: «Не волнуйся, это принесет тебе много радости». Я проснулась и никак не могла понять, что этот сон значит. И представьте, на той же неделе Лиат говорит, что она в положении. Я начала плакать; мама, которая была со мной, тоже начала плакать – от радости. Потом я рассказала Лиат, что видела сон и что даже думаю, что у нее сын. После УЗИ она говорит мне: «Мама, ты права, у меня сын!», а я говорю: «Я знаю, он там наверху тоже радуется, потому что он сказал, что это принесет мне много радости». Что я вам скажу… страшно жаль, что все так получилось. Клодин сокрушенно качает головой. – Возможно, слова Эллы и сон Клодин явятся ответом на вопрос, что будет с группой, сможем ли мы продолжить наши встречи, – обращается Нири к сидящим кругом матерям, – возможно, они говорят нам, что пусть нам было тяжело, но на смену этому придет что-то новое и хорошее. – Возможно – улыбается Клодин. – Точно! – произносит Орна, повернувшись к Элле, – может, в конце концов и у вас все наладится! – Дай бог! – добавляет Маргалит, и Элла отвечает ей еле заметной смущенной улыбкой. Това молча поднимает брови; Мики встает и направляется в угол комнаты приготовить себе кофе, Рут делает несколько глотков из маленькой бутылочки с минеральной водой. – Знаете, что я вспомнила? – Анна приглаживает волосы, старательно заправляя за ухо непослушные локоны. – Как много лет тому назад мы были у моих родителей – вся семья – и мой папа откинулся на спинку кресла и неожиданно сказал: «Здесь, в этой комнате, находятся сейчас все мои гены». Я помню, как я смотрела на него и думала, о чем он говорит?! Сегодня я понимаю это намного лучше. Все хотят, чтобы их род продолжался и чтобы у них рождались внуки; и когда они рождаются, все их рассматривают и проверяют, как проверяют зубы лошадям! – Ну уж извините! – возмущается Орна. – Это совершенно разные вещи, нашли с чем сравнивать! – А может, как раз что-то есть в этом сравнении, – успокаивает Нири, – хотя, на первый взгляд, оно и звучит грубо. Я объясню: когда рождается ребенок, семья смотрит на него и видит себя; он становится зеркалом «запускного устройства», которым является для него семья; по нему судят о качестве семьи, из которой он вышел или в которую он пришел, – какой генетический багаж он несет в себе? Вглядитесь в ребенка, он «раскроет» вам массу секретов! – Совершенно верно! Представьте, что вы сделали пластику носа; ваш отремонтированный нос никогда не перейдет в следующее поколение, – весело откликается Мики, возвращаясь на свое место. Ей отвечают одобрительными смешками. – Но это не только тело, – серьезно замечает Рут, машинально поглаживая большой зеленый камень, выступающий над безымянным пальцем правой руки, – это еще и его карма, судьба его семьи; память, которую он несет в себе. Она поднимает глаза на Орну и продолжает: – Когда я пришла к Талье в больницу и увидела внука, я неожиданно для себя почувствовала, как мне мешает то, что он не похож на моего отца. Я всегда очень интересовалась историей нашей семьи, а теперь – особенно. В свое время я часами сидела с моим папой и слушала рассказы о его маме и бабушке. Кстати, я могу проследить наш род на протяжении семнадцати поколений – мой двоюродный брат, которого это тоже очень занимает, записал все, что он слышал по этому поводу. Рут делает несколько жадных глотков воды из бутылки. – Я часто думаю о нашем прошлом или, наоборот, о нашем будущем; и мне становится намного уютнее от мысли, что во мне есть что-то от «них», а в этом ребенке есть что-то от меня. Это вызывает у меня ощущение, что я не умру… нет, правда! Я не боюсь смерти. Я там уже была – у меня была тяжелая авария, я сильно пострадала – и тогда я очень боялась, но я была молодой, и у меня были маленькие дети. Сегодня я к смерти отношусь иначе – я ощутила это особенно сильно после того, как родился внук – потому что где-то в глубине я знаю, что не умру до конца, что что-то от меня останется в этом ребенке, а затем перейдет и к его детям. Ну а если я буду рассказывать ему всякие истории о бабушке моего отца, представляете, о скольких поколениях нашей семьи он будет знать! Анна поворачивается к ней всем корпусом. – Знаете, что я вспомнила? И продолжает, обращаясь уже ко всей группе: – Это напомнило мне, как я, бывало, смотрела на Майю, когда она была совсем маленькой; и на Тамару, когда она только начала превращаться из девочки в девушку; и на Нааму, которая была чуть постарше, тоже девчонка, но уже сложившаяся; и на себя, цветущую, полную сил… со стороны это было так красиво! И как Наама смущалась от этих моих взглядов: мама, хватит! Как у меня могла получиться такая правильная, скромная дочка? – весело добавляет она. – Короче, мне было потрясающе интересно видеть своими глазами, как жизнь начинается, можно сказать, с головастика; наблюдать за таинством созревания, которое сначала происходит скрытно, глубоко внутри – месячные, овуляция – а затем внезапно вырывается наружу, всем на обозрение. Рут ставит бутылку с водой на пол. – Я часто слышу, как люди говорят, что чувствуют себя ничтожными или никчемными по сравнению со вселенной, – говорит она, глядя на Анну. – Я этого не чувствую. Я, наоборот, чувствую себя частью мира, частью природы. Может вам покажется это странным, но я воспринимаю жизнь именно так. Я, к примеру, смотрю на деревья. Я вижу, как дерево цветет, а затем – отцветает, а еще через некоторое время оно теряет листья, и я отношусь к этому совсем нормально, как к должному. Поэтому, когда Талья была в положении, я говорила себе, что так и должно быть, что моя дочка скоро станет матерью, а я отправлюсь дальше, и это нормально, все идет по правилам. То же самое я чувствовала, когда у меня кончились месячные: что ничего в этом нет страшного, ведь у меня есть продолжение. Я не боюсь смерти, потому что я буду существовать в генах и в тех историях, которые будут обо мне рассказывать. В последнее время я чувствую себя, как роза, которую подвесили для сушки. Было время – и я росла: из семени – в шикарный куст, усыпанный еще нераскрывшимися бутонами, затем – богатое цветение; я была алой и ароматной, и ко мне слетались пчелы… Но придет день – уже в недалеком будущем – и подвесят меня бутоном вниз – так обычно сушат розы – и я останусь такой, а цвести уже будут другие. Это и есть круговорот в природе. В комнате – тишина. Това, сложив руки на груди, мерит Рут долгим, изучающим взглядом. – Вы очень красиво говорите, и не удивительно, что это именно вы. – Что вы имеете в виду? – переспрашивает Рут. – Я не удивляюсь, что именно вы так говорите, – повторяет Това. – Как вам объяснить? Вы кажетесь мне человеком очень простым в хорошем смысле этого слова, вы ничего вокруг себя не усложняете. По-моему, только человек, уверенный в себе, без комплексов, как вы, может надеяться, что о нем будут рассказывать после смерти и даже говорить об этом в открытую! Когда я думаю о продолжении рода, я, в первую очередь, вижу вещи, которые я бы не хотела передавать следующим поколениям. – Ладно! – смеется Рут, – Раз вы говорите! – А что вы думаете по этому поводу? – обращается Нири к Тове. Това пожимает плечами. – Все это очень красиво, но лично я так не чувствую, особенно, когда думаю о самой себе. Я отношусь к себе очень строго и, как уже сказала, точно знаю, что не хочу копировать и видеть потом в своих детях и внуках. На мой взгляд, новое поколение дает нам возможность оставить некоторые вещи в прошлом; избавиться от ненужных привычек, обычаев. Продолжение жизни не заключается только в передаче генов, это не только физиология. Существует преемственность семейных традиций, принципов, мировоззрения, не только у меня – в каждой семье. И это логично: мы все повторяем обычаи, копируем отношения. К примеру, с годами я вижу все больше и больше сходства между мной и моей мамой. Я говорю об этом с сожалением, потому что она очень тяжелый человек. Даже отношения между моими родителями похожи на те, что были у меня. Только мы решили их по-своему: мой муж живет за границей, и мы встречаемся несколько раз в год. Я не уверена, что это такое уж хорошее решение, может, мы просто, боялись развода. Вот и получается, что мы «наполовину женаты». В любом случае я предпочитаю жить так, чем жить вместе, а чувствовать себя одной. Это, как будто я замужем за капитаном, – смеется она, но тут же серьезно добавляет: – Я могу составить целый список из того, что бы не хотела повторить в моих детях. Но я смотрю на вещи реально. Тяжело, а, может, и невозможно выбрать только то, что хочешь сохранить. Я не думаю, что можно стереть то, что всасывается с молоком матери, – рано или поздно оно обязательно проявится. Семьей во многом определяется наша судьба. Все мы – зеркало семьи, в которой выросли, ее генетическое и духовное отражение. Для меня лично семья – это дело сложное, слишком много обид и претензий. Правда, с годами все несколько притупилось – может, и я стала мягче; но когда я смотрю на внука, я желаю ему, чтобы ему было легче с самим собой, чем было мне, хотя я понимаю, что, скорее всего, у этого пожелания нет шансов. – Правда, – спешит вставить слово Анна, – я помню, как несколько недель назад вы сказали, что чувствуете себя виноватой в том, что этому ребенку придется расплачиваться за те решения, которые вы принимали. По-вашему, в жизни, как в Библии, дети платят за поступки их родителей? – Да, и никто не выбирает, в какой семье родиться, – отвечает Това, при этом глядя на Эллу. – А вы могли бы подумать, что бы хотели передать этому малышу? – не отступает Нири. Това задумчиво смотрит на Нири и, наконец, произносит: – Разум. Вот я говорю это и уже сама себя критикую, какое холодное, недушевное качество я выбрала. Ничего не поделаешь, такой я человек. У меня очень умная семья, все очень способные; у нас за столом всегда необыкновенно интересные беседы, и я этим очень горжусь. Она останавливается и глубоко вздыхает. – Вот я еще не успела закончить предложение, а уже подумала, а что будет, если этот ребенок не будет умным? Как я тогда буду себя чувствовать? – добавляет она, нервно передвигая стул. – Вы все время себя контролируете, – резко замечает Рут, – оставьте себя хоть немного в покое! Уж думать-то вы имеете право все, что угодно! – Думать – это одно, – вздыхает Това, – самое главное, что с этим делать потом. Проблема, что эти мысли меня не отпускают; я все время чем-то озабочена, что-то проверяю, взвешиваю, как будто смотрю на все со стороны, на расстоянии, чтобы было лучше видно. Она замолкает и опускает голову. – Ребенок будет, конечно, самим собой, – взволнованно обращается к Тове Клодин, – таким, каким он родился; и вы узнаете его поближе, и обязательно у него будут стороны, которые будут вам нравиться, и стороны, которые будут нравиться меньше. С божьей помощью вы примете его таким, каков он есть, и будете любить его, вот увидите! Я в этом ничуточки не сомневаюсь! К ней присоединяется Маргалит: – Не стоит грызть себя из-за каких-то мыслей, – по-матерински назидательным тоном говорит она, – у всех у нас, Това, есть мысли, которые не дают нам покоя, и очень важно не держать их в себе, а высказать их вслух. Так что незачем себя винить: вы далеко не одиноки! Това смотрит на них с благодарностью и, глубоко вздохнув, произносит: – Я знаю, что вы правы, но ничего не могу с собой поделать, а самое обидное, что это влияет на всех тех, кто находится рядом со мной. В комнате опять устанавливается тишина, но на этот раз, похоже, она не такая тяжелая. Клодин, наклонившись, оттирает пятно, проступившее на светло-коричневой туфле, нарушая тишину веселым позвякиванием браслетов. Еще не подняв головы, она точно знает, что взгляды всех обращены в ее сторону. – Что? – смеется она, выпрямляясь и поудобнее устраиваясь на стуле. – Мне кажется, что вы хотите что-то сказать, – отвечает за всех Маргалит. – Если честно, – соглашается Клодин, – я бы хотела кое о чем спросить у Орны. – Пожалуйста! Спрашивайте, о чем угодно! – повернувшись в ее сторону, с нотками любопытства в голосе откликается Орна. – Знаете, – начинает Клодин, – когда вы говорили о продолжении рода, я подумала, что, может, вы поэтому и уговорили вашу дочку не делать аборт, что испугались, вдруг у вашей семьи не будет продолжения. Вы несколько раз повторяли, как для вас это важно. Орна задумалась, глядя на Клодин. – Я, и правда, тяжело потрудилась, – наконец, говорит она, – пока окончательно отговорила ее от аборта, но в тоже время я сама была… как бы это сказать… словно на распутье… или, точнее, в конфликте сама с собой! С одной стороны, я считала, что надо сделать аборт, потому что ясно представляла, что ждет нас впереди, как нам будет тяжко; и, действительно, беременность была очень тяжелой! И вдобавок к этому, у нее еще было ужасное настроение. Всю ее беременность я тащила на своих плечах! А с другой стороны, я безумно боялась аборта при первой беременности. У меня тоже был аборт, но уже после двух детей. Первый аборт – это страшно, а вдруг потом она не сможет рожать?! Короче, Клодин, вы, наверное, правы: мне было страшно: а вдруг она избавится от этого ребенка и в результате останется вообще без детей? Для меня действительно очень важно все, что связано с семьей и ее продолжением. Пока у тебя есть семья, ты всегда найдешь, с кем и для кого жить! Неожиданно она поднимает с пола сумку и достает ручку и листок какой-то рекламки. Перевернув его белой стороной вверх, она начинает рисовать. – Не знаю, почему, – не отрывая глаз от бумаги, поясняет она, – но я вдруг вспомнила два рисунка, которыми еще в школе, не замечая, часто разрисовывала тетрадки и блокноты. Я прямо вижу их перед глазами. Вот, поглядите… На одном – два дерева… Она продолжает рисовать. – Шишки. Вы видите корни? Еще одно дерево, естественно, с корнями, очень ветвистое. Видите, ветви во все стороны, а на них – яблоки. Да, два дерева, но одно широкое, распахнутое, а другое – строгое, как пирамида, ветки почти прижаты к стволу. А теперь – еще один рисунок, который я вечно чиркаю: дом… дверь и дорожка. Вот и все… Орна поднимает рекламку, чтобы всем было видно, и продолжает рассуждать вслух: – Я смотрю на эти рисунки и вижу себя: я могу быть и скрытной, и открытой, как эти деревья, как дом. Плоды – это мои плоды – мои дети, внуки, которые есть и будут. Дом – это моя семья, что-то устойчивое, постоянное, надежно стоящее на земле. Это мне понятно. Но вот дорожка… Всегда я рисую дорожку и не могу понять почему. Почему я рисую ее именно такой, длинной, на весь лист? В чем смысл дома, я понимаю: мне нужен дом, уютный, чистый, как я люблю. Но что кроется за этой дорожкой? – Чтобы вы всегда могли и войти, и выйти, – предлагает Клодин. – Может, правда, – задумчиво откликается Орна, – эта тропинка ведет как в дом, так и из дома: можно войти, а можно – выйти. – Почему вам так важно сознание, что вы всегда можете и войти, и выйти? – обращается к ней Нири. – Я думаю, – Орна опять внимательно рассматривает рисунок, – чтобы не потерять ощущения свободы; чтобы я всегда могла выйти, когда вдруг мне не хватает воздуха. Возможно, чтобы все могли выйти, если им это будет необходимо. Она берет еще один лист и опять начинает рисовать. – Лицо, – не прерываясь, комментирует она, – вы знаете, как я рисую лица? Обязательно – серьги, бусы; всегда яркие, накрашенные губы и ресницы. Пышные волосы; естественно, шея. Орна заканчивает свой рисунок и опять приподнимает его для лучшего обозрения. Группа молча ждет продолжения. – Что мы можем узнать о вас из этих рисунков? – спрашивает Нири. – Я никогда не задумывалась над этим, – говорит Орна, поправляя очки, – хотя годами рисую одно и то же! По-моему, по ним видно, что я человек прямой, открытый; хотя, с другой стороны, я иногда кое-что недоговариваю, поэтому на лицах есть косметика и украшения, которые обычно что-то прикрывают. Так и я должна быть всегда представительной, аккуратной, или, скорее, педантичной; говорить только то, что другим приятно; и, если честно, меня это начало утомлять! Она обводит взглядом группу и грустно добавляет: – В последнее время у меня такое чувство, что я слишком часто кривлю душой даже перед самой собой, будто существует какая-то маска, отделяющая меня от внешнего мира. Наступившую тишину нарушает голос Рут: – Может, вы поэтому боитесь остаться без воздуха? В маске можно задохнуться! Это ведь касается и того, что вы рассказывали про аборт, не так ли? Когда вы думали одно, а говорили дочке совсем другое. Или, как вы рассказывали нам на прошлой неделе, когда вы еще не чувствовали себя созревшей стать бабушкой, да и вообще хотели быть совсем другой – бабушкой, которая балует, а не растит и воспитывает, но при этом настояли, чтобы она сохранила ребенка. Вы до сих пор еще не совсем смирились с навязанной вам действительностью. – Я думаю, вы правы, – соглашается с ней Орна, – скорее всего, одно связано с другим, тем более, что я бы хотела, чтобы многое сложилось иначе! Она тяжело вздыхает и добавляет: – Но я принимаю все, как есть, у меня нет выбора! Хотя глубоко внутри, я здорово боюсь, как все будет, когда она вернется из больницы. И ко мне опять вернулась неуверенность, которую я испытывала все месяцы ее беременности; ведь я чувствовала, что еще не готова стать бабушкой, а ей говорила, что давно уже жду не дождусь, когда она меня осчастливит. Орна замолкает, но затем, махнув рукой, решительно объявляет: – Все, хватит! От правды не убежишь! Да и малышка просто прелесть! Посмотрим, как это все будет. Яэль возвращается из больницы и берет академический отпуск, а я буду ей помогать. Они живут рядом с нами. Я надеюсь, все устроится. Слава богу, что все закончилось благополучно! – Когда Орна говорит о маске, отделяющей ее от окружающего мира, – обращается к группе Нири, – у меня такое ощущение, что и наша группа предпочитает сегодня оставаться в маске. И конечно, тут же возникает вопрос: а что же за ней прячется; какие чувства и мысли остались сегодня невысказанными? Никто не спешит с ответом, и Нири продолжает: – Судя по тем вопросам, которые были затронуты здесь сегодня, беременность и роды зачастую как-то по-особенному влияют на наши взаимоотношения с семьей, обществом и в целом с окружающим миром; они их укрепляют или, наоборот, подрывают, а иногда вынуждают нас переоценить их заново. К этой же теме можно отнести и то, что нам поведала Элла на прошлой встрече. Ее разрыв с дочкой произошел уже давно, почти три года тому назад, но беременность Эйнав и рождение внучки сделали разлуку невыносимой. Возможно, существуют и другие проблемы, которые вовсе неслучайно возникают с особой остротой именно сейчас. Я буду рада, если мы их обсудим на наших последующих встречах. – Мы начали сегодня с родов, затем коснулись смерти и заканчиваем преемственностью поколений, – после короткой паузы задумчиво перечисляет Нири. – Повидимому, именно на таком особенном этапе жизни у людей возникает потребность убедиться, что после того, как мы уйдем, какая-то часть от нас – как физическая, так и духовная – все же останется. Скорее всего, сознание того, что мы таким образом продолжим свое существование, прибавляет нам уверенности или служит утешением, а возможно, вселяет надежду и помогает нам преодолеть страх смерти или, наоборот, страх жизни. Другая возможность убедиться в своей «живучести» – это расширить круг общения. Ведь связь с другими людьми не только избавляет нас от одиночества, но и дает возможность быть под влиянием и влиять на других даже после того, как наши пути расходятся. Возможно, и сегодня, параллельно с темой, которая здесь обсуждалась, вы спрашивали себя, какой отпечаток вы оставили или хотели бы оставить в сознании подруг по группе. В связи с этим я предлагаю вам на дорожку еще один вопрос: что вам дает наша группа? Нири Я направляюсь к выходу, но меня останавливает Маргалит и просит задержаться еще на несколько минут. Мы располагаемся на двух из по-прежнему стоящих кругом стульях; она наклоняется ко мне и говорит звенящим от волнения голосом, что должна мне что-то рассказать – что-то, про что каждую неделю перед встречей твердит себе, что сегодня обязательно расскажет, но до сих пор так и не смогла заговорить об этом в группе. Она продолжает говорить, устраиваясь поудобнее на стуле, нервно передвигая его с места на место. Не было встречи, на которой мы бы этого не коснулись, и, несмотря на это, она все еще молчит. Я смотрю на нее и лишний раз убеждаюсь, какой силой обладает группа. Общение с людьми, которых объединяют общие переживания, заставляет участников посмотреть на себя другими глазами и обратить внимание на детали, которых раньше они зачастую не замечали. – И вы сейчас хотите мне об этом рассказать? – спрашиваю я после небольшой паузы. Маргалит кивает и делает глубокий вдох. – Я – неродная мать! – громким шепотом выдыхает она. – И вы не смогли заставить себя рассказать это группе? – стараясь не выдать своего удивления, скрывая его за участливым тоном, спрашиваю я; а она отвечает, что ей всегда очень тяжело поведать кому-либо о своей «тайне», хотя во всем остальном она человек открытый и искренний. Да, соглашаюсь я и замечаю, что откровенность, с которой она говорила о ее маме и бабушке; искренность, с которой она поделилась своими переживаниями, во-первых, не оставили равнодушной ни одну из нас, а во-вторых, оказались примером для остальных, показывая, что именно здесь, в группе, можно наконец-то заговорить о самых сокровенных, тщательно скрываемых от других, мыслях и чувствах. Я предлагаю ей все же попытаться рассказать свою историю на нашей следующей встрече, при этом обязательно упомянуть, какого труда ей это стоило. Маргалит, успокоившись, отвечает мне улыбкой, и мы прощаемся. Я смотрю ей вслед: привлекательная женщина в модной шляпке, в тщательно подобранных друг к другу костюме и туфлях фиолетового цвета, отдаляется от меня медленным усталым шагом. Она, наверное, уже в который раз пересказывает себе свою собственную тайну, прежде чем отдаст ее в чужие руки, – думаю я. Собрав вещи, я спускаюсь по лестнице и ловлю себя на мысли, что главное, что привлекает меня в работе с группами, – это взаимное доверие, которое возникает между участниками как со стороны говорящих, так и со стороны слушающих. Я лично предпочитаю быть среди слушающих: выслушивать рассказы и сопровождающие их размышления, учиться на опыте других и, заглянув на мгновение в их внутренний мир, примерять на себя то, что я увидела и услышала. Отношения в группе, как и любые другие близкие, можно сказать, интимные отношения, не проходят бесследно и зачастую приводят иногда к мизерным, еле заметным, а иногда – к явным и значительным изменениям в жизни их участников. Интересно: беседы, которые мы ведем между собой или с самими собой, но в присутствии других, продолжают занимать нас и после того, как закончилась очередная встреча. Я всегда любила слушать женщин, старших меня по возрасту. В основном я встречаюсь с ними на профессиональной почве – они являются моими преподавателями или лекторами, – и под их крылом я набираюсь смелости и уверенности, чтобы «идти и не сдаваться». На этот раз я – та, которая выступает перед ними в роли профессионала, а иногда мне так хочется стать частью их группы, рассказать о том, что я чувствую как дочь, внучка, мать; все эти такие дорогие моему сердцу образы переполняют меня, когда я сижу перед женщинами, и требуют рассказа о себе, но там, в комнате, я обязана нахлобучить на себя мою профессиональную шапку-невидимку. Я выхожу на улицу, но продолжаю думать о женщинах, которые повстречались мне на главных перекрестках моей жизни, и о том, какие маршруты я выбирала благодаря этим встречам. Роль, которую выполняли эти женщины в моей жизни, можно сравнить с дорожным указателем или маяком: они давали мне понять, насколько далек мой путь и чего мне следует остерегаться. «Пришло время приобрести пальто на вырост, чтобы оно тебя не стесняло», – как-то сказала мне Нурит, в лаборатории которой я работала, учась в университете, когда я не могла решиться взять на себя сложное и абсолютно новое для меня задание, – и нажала на единственно правильную кнопку моего запускного механизма. «Ты должна выбрать, что для тебя важнее – быть настоящим профессионалом или быть всеобщей любимицей», – жестко заметила Суламифь после нескольких лет совместной работы в Центре психологической помощи, когда я столкнулась с трудностями, которые приходят к нам наряду с профессиональным опытом. «Спроси себя, что тебе по-настоящему интересно. Прислушайся к своим желаниям, к тому, что тебя действительно притягивает, и следуй за этим», – проникал в меня ласковый голос Ады, когда я сидела у нее на очередной еженедельной консультации и удрученно жаловалась на скуку и подавленность, которые я испытываю от своей работы. Следствием этого совета стало открытие группы для матерей мам. По-видимому, именно в тяжелые периоды жизни, находясь на распутье или оказавшись в тупике, люди особенно остро нуждаются в общении. Тогда же возникает потребность в поддержке и готовность выслушать и воспользоваться советами других. Значит ли это, что группа для бабушек, с которой я работаю именно сейчас, возникла неслучайно; возможно, и у меня наступает время перемен? «Удивительно, – думаю я, – моя бабушка никогда не занимала меня так, как сейчас, хотя прошло уже десять лет после ее смерти. За эти годы ее образ потерял свою четкость; он окутывает и ласкает, не прикасаясь, как белое пушистое облако. И вот, в последнее время я пытаюсь до нее дотронуться; проникнуть в ее всегда казавшийся мне нереальным мир; спустить ее на землю, чтобы разобрать по частям эту сложную структуру, называемую простым и привычным словом «бабушка». Когда я смотрю на нее сегодня, я вижу другую, незнакомую мне женщину, чья внешняя и внутренняя жизнь вовсе не связаны со мной: у нее есть муж, дети, подруги – чего там только нет – она не была только бабушкой…» «Во всем „виновата“ группа, – улыбаюсь я про себя. – Из-за нее я начала тщательнее вглядываться в мою семью; в отношения, которые складываются между нами, и в то, как они меняются под влиянием времени. Вот что испытываю сейчас я; вот что испытывает Маргалит; это же переживают и те, в жизни которых наступает пора тех или иных перемен». Перед тем как зайти домой, я успеваю обдумать еще одну деталь. Интересно, что ни одна из участниц группы так и не коснулась нашей предыдущей встречи; они, будто сговорившись, избегали этой опасной темы, и Элла тоже была с ними заодно. Да и я, честно говоря, – тоже. По-видимому, группа подсознательно остерегалась острых углов, дабы не потерять окончательно чувства уверенности и сплоченности. Да, да, и у вас, Элла, после того, как вы имели неосторожность выделиться среди всех, появилось настойчивое желание вновь оказаться частью общей группы; поэтому вы сделали шаг назад. Какова будет цена вашего отступления? Элла Выйдя из здания, я присоединяюсь к Тове, Анне и Рут, идущим в том же направлении, что и я, и без особого интереса прислушиваюсь к разговору между ними. Това рассказывает, что ее сын Юваль всегда был противником религии и любых, связанных с ней традиций. – При этом, – с гордостью добавляет она, – он отлично ориентируется в этих вопросах, а поэтому грамотно и интересно обосновывает свои взгляды. Вчера как бы между прочим он заметил, что, если у него когда-нибудь родится сын, он ни за что не сделает ему обрезание. Тут Това останавливается – мы останавливаемся вместе с ней – и взволнованно продолжает, что она сама не ожидала от себя такой сильной реакции: ведь все эти годы она вела себя как абсолютная атеистка, а на это его заявление прореагировала как глубоко религиозная женщина. – Я просто себя не узнала, – удивляется она. А я думаю о том, что мне очень хорошо знакомо это чувство, когда слова, выходящие из моей гортани, будто бы произносятся другим человеком. Точно так же я чувствовала себя несколько дней тому назад, разговаривая с новым знакомым, которого «организовала» мне Маргалит. Он позвонил неожиданно – Маргалит меня даже не предупредила. Представился – инженер, шестьдесят лет, разведенный, есть три сына, живет недалеко от Тель-Авива. У него приятный голос; он был очень смущен и даже оправдывался, что впервые после развода осмелился позвонить незнакомой женщине. Я поспешила его успокоить, заметив поматерински мягким голосом, что и для меня это первый раз с… уже и не помню какого времени, но при этом судорожно искала предлог, под которым смогу от него отделаться. В конце концов я не придумала ничего лучше, как сказать, что у меня была связь с мужчиной, но буквально в эти дни мы с ним расстались, и к новым знакомствам я пока еще не готова. Мы быстро распрощались, и в последующие дни я об этом звонке даже не вспоминала. Я слушаю Тову вполуха, выжидая удобный момент, чтобы сбежать, и чувствую себя, подобно маленькой девочке, случайно оказавшейся в компании взрослых женщин. На мое счастье, Рут внезапно закашлялась, и я, пользуясь неожиданной паузой, поспешно удаляюсь. Я вижу в своем воображении все ту же желто-фиолетовую комнату, расставленные кругом стулья, а на них – рассуждающих, смеющихся или просто болтающих женщин, и мне становится скучно. Вдруг мне становится нестерпима вся эта бабская болтовня, все эти «бабушкины сказки». Что общего у меня с вами, женщинами, не знающими недостатка ни в чем, но все равно испуганными, разочарованными и обиженными на всех и вся? Что может быть общего между мной и вами, самодовольными, благополучными, стареющими дамами, поставившими перед собой задачу – во что бы то ни стало сохранить для потомства форму ногтя на мизинце левой ноги? «Поистине великая династия, – горько усмехаюсь я, – моя дочка родила дочь. Если б я могла, я бы высушила семя, вырвала бы с корнем гнилые ростки! Бедная моя внучка, несчастная крошка, ты не выбирала родиться у жестокой неблагодарной матери, у жалкой, покинутой всеми, невыносимо одинокой бабушки. Как жаль, что не нашлись воры, которые бы взломали мою дверь и вынесли бы из квартиры все твои вещи, Эйнав, все, что ты оставила после себя, стерли бы память о тебе и оставили бы меня одну, без воспоминаний. Как я устала! Все, что я хочу в этот жаркий летний вечер, это закутаться в пуховое одеяло, свернуться под ним калачиком. Мне необходимо выпотеть из себя всю горечь, обиду, боль, оставить на пододеяльнике влажные разводы от моих слез, а на наволочке – вдавленные следы от моих кулаков». *** А во сне я встречаю маленькую девочку, совсем воздушную, в легком зеленом платьице. Она улыбается и протягивает ко мне бледные, еще не успевшие покрыться загаром ручки. После работы я направляюсь в ближайший торговый центр и захожу в магазин игрушек. Подошедшую ко мне молодую продавщицу я прошу не беспокоиться и поясняю: «Я зашла только посмотреть». Я внимательно изучаю полки с игрушками: мирно соседствующих друг с другом мяукающих, квакающих и крякающих зверушек; кукол всех размеров и цветов; кубики и «Лего»; пластилин и краски, издающие приятный запах и светящиеся в темноте. Рука тянется к зайцу – бархатная шерстка, белый мягкий животик – милое, наивное существо. Я прижимаю его к себе, беру за оба уха, прячусь за ними, а затем – выглядываю: ку-ку! Я его возьму, улыбаясь, говорю я продавщице и добавляю рамку для фотографии и стержень для ручки Паркер. Дома у меня переворот, я собственноручно нарушила доселе непоколебимый порядок: комната Эйнав стала моей, а моя комната превратилась в комнату для внуков. Я написала ей письмо и положила его в папку, а папку – на полку, рядом с зайцем. Я записываю рассказы, которые уже позабыла, но они притаились во мне и ждали своего часа – рассказы, которые слышала от мамы, бабушки Рахель, от мамы Оры – те, что рассказывала Эйнав, когда она ела или шла спать. Когда внучка подрастет, я расскажу ей о семье, обо мне и о моих маме и отце; о том, как мы ходили на море перед самым закатом и стояли, обнявшись те несколько минут, пока солнце у нас на глазах тонуло в волнах на горизонте. Мы вместе будем разглядывать фотографии из тонкого пожелтевшего альбома, который теперь тоже стоит на полке у нее в комнате. А когда она станет старше, я научу ее печь пирог с маком, и она запишет мой рецепт в тетрадку и выведет заглавие: «Маковый пирог бабушки Эллы». Я дам ей ключи от двери, и она прибежит с блестящими от волнения глазами, чтобы рассказать мне по секрету о своей первой любви. И мы обе будем в восторге от нашего тайного союза и от запретной любви, которая его породила. Вечером, когда она будет прощаться, я обниму и прижму ее к себе; она прильнет ко мне, маленький пугливый олененок, и убежит, самая счастливая на свете. И правда, твое рождение перевернуло мою жизнь. Я вышла из полутемного вокзала на освещенный солнцем перрон и жду тебя с букетом цветов, словно после долгого далекого путешествия. Ты заменишь мне дочь. У меня есть время. *** Сегодня ко мне в клинику опять заходил Яир, и мы немного поболтали. Он рассказал, что в последнее время подумывает о поездке за границу, и я начала его настойчиво уговаривать, чтобы он ни в коем случае не отказывался от этой идеи. Настойчивость, вдруг во мне проснулась настойчивость, которой я не замечала в себе раньше; она будит меня утром и не дает заснуть ночью. Мысли, беспрерывные мысли. Я – бабушка, этого у меня забрать невозможно. Есть в этом мире – и совсем недалеко от меня – девочка, для которой я – ее бабушка. Она часть меня, эта девочка, и я от нее не собираюсь отказываться! Она – плод на дереве, которое нарисовала Орна; я – ствол, а моя мама – корни. Это не исчезает бесследно, даже если очень и очень стараться. Придет день – и она спросит обо мне своим звонким сладким голоском. Встреча седьмая Кровные узы Первой, кого встретила Элла, переступив порог желто-фиолетовой комнаты, было ее собственное отражение в оконном стекле напротив. Смерив себя критическим взглядом, она коротко улыбнулась и направилась к кофейной стойке. Там уже собралась вся группа: женщины окружили Тову, разглядывая большой яблочный торт, который она гордо держала на вытянутых руках. – Это наш фирменный семейный торт, – поясняет она, – без него не проходит ни один праздник в нашем доме. Обычно мы подаем его с взбитыми сливками, но на этот раз придется обойтись без них, так как я пришла прямо с работы. К ним приближается Нири. – Какой замечательный торт! – улыбаясь, обращается она к Тове. – Но уже восемь, и пора начинать. Я предлагаю вернуться к нему в конце нашей встречи. – Да, конечно, – отвечает ей Това и, водрузив торт на стойку возле кофейного автомата, спешит занять свое место. – Я планировала прийти пораньше, но, к сожалению, задержалась. – Я обожаю яблочные пироги, – говорит Маргалит, устраиваясь поудобнее, – ну а этот выглядит просто потрясающе! К ней присоединяется Рут: – Если б я не знала, что вы пекли сами, я была б уверена, что его купили в очень дорогой кондитерской: это ж произведение искусства! – Спасибо, спасибо! – смущенно улыбаясь, благодарит Това. – Вы сегодня выглядите как-то иначе, – замечает Нири пока все рассаживаются, – возможно, потому, что улыбаетесь больше, чем обычно. Улыбка на лице Товы становится еще шире. – А вы, значит, уже привыкли видеть меня измученной?! – Скажите спасибо за комплимент и радуйтесь, – шутливо одергивает ее Анна. – Спасибо! – с легким поклоном отвечает Това. – Не знаю почему, но у меня сегодня действительно какое-то особо радостное настроение. Она откидывается на спинку стула, ее взгляд задерживается на Мики. – Торт и вправду очень красивый, – отзывается та, – но я лично не пеку. У меня не очень любят сладкое, но зато я хорошо готовлю, особенно супы и мясные блюда. Жаль, что сейчас лето и жарко, иначе я бы принесла сюда кастрюлю! – А что, девочки, – встрепенулась Орна, – сейчас самое время для варенья! Может, я сварю к следующему разу?! Ее идею живо подхватывает Анна: – У меня в саду деревья увешаны фруктами; вы можете получить, сколько вам будет угодно. Я каждый год выбрасываю килограммами. – У меня есть идея, – поднимает руку Клодин. – На последнюю встречу каждая из нас приготовит что-нибудь вкусненькое, и устроим пир в честь внуков и их бабушек! «А что же принесу я, – мысленно спрашивает себя Элла, – может, маковый пирог бабушки Рахель? Сколько времени я ничего не пекла…» Нири с улыбкой наблюдает за радостно оживившимися женщинами. – Ну что ж, неплохая идея. У меня впечатление, что лед сломан, – продолжает она, обращаясь к Тове, – и мне кажется, что не только у вас одной возникло желание побаловать чем-нибудь сегодня группу. – Вы правы, – продолжая улыбаться, отвечает Това, – На прошлой неделе я вышла отсюда с удивительно хорошим чувством, как бы это объяснить… нелегко жить, когда уже столько лет тебя беспрерывно одолевают тяжелые мысли. Они, возможно, не мешают жить, но они мешают радоваться жизни. Здесь наконец-то я смогла излить душу, а главное, я чувствую, что меня здесь слушают и понимают. Это, конечно, не заставит меня измениться, – смеется она, подкрепляя свои слова энергичным отрицательным движением головы, и маленькие бриллиантовые сережки озорно сверкают, описывая крошечные радуги, – в моем возрасте люди уже не меняются, но вы меня очень поддержали. Поэтому у меня действительно появилось желание чем-то вас всех отблагодарить. – На прошлой неделе, – Нири переходит на серьезный тон, – мы говорили о преемственности поколений в семье, о продолжении рода; и у меня сложилось впечатление, что группа пытается вернуть несколько пошатнувшуюся ранее уверенность в себе. Мы распрощались, оставив открытыми два вопроса: во-первых, какие еще проблемы занимают вас больше обычного в настоящее время; и, во-вторых, что на данный момент дает вам наша группа. Вот с этих двух вопросов я и предлагаю начать нашу сегодняшнюю встречу. В комнате устанавливается напряженная тишина, женщины обмениваются взглядами, выжидая, кто же будет первой. Това решительно выпрямляется на стуле и произносит: – Я хочу вам рассказать, о чем я подумала после того, как Ширли родила. Я подумала, интересно, а что я буду чувствовать, когда будет беременна моя невестка: буду ли я так же волноваться и переживать, как это было сейчас? Непонятно почему эта мысль возникла именно сейчас, ведь мой сын еще даже ни с кем не встречается. Это даже смешно! Я понимаю, что все это чисто теоретически, и все-таки… Я хочу сказать, – продолжает она, – что в обоих случаях я буду бабушкой для внука, который родится, и в обоих случаях это послужит продолжением семьи, но мне абсолютно ясно, что когда я становлюсь бабушкой со стороны моей дочки, для меня это в сто раз важнее и волнительнее. Я не хочу сказать, что ее детей я буду любить больше, по крайней мере, мне так не кажется, но само это событие, вне всякого сомнения, останется для меня намного более… значительным, что ли… – И я тоже совершенно уверена, что для меня беременность и роды дочки намного ближе и значительнее, чем беременность и роды у жены сына, – пожимает плечами Анна. – Во-первых, благодаря дочке я стала матерью; и я не постесняюсь признаться, что для меня материнство и все, что связано с ним, – это самое главное в жизни; а, во-вторых, естественно, за свою дочку я всегда буду переживать сильнее, а у других – есть их мамы… Не знаю, что бы я чувствовала по отношению к сыну, если бы и мужчины рожали, – со смехом добавляет она. К ней присоединяется Орна. – Невестка – это не дочка, и за нее ты так не переживаешь, даже когда она рожает твоего внука! А вот роды твоей дочки – это почти твои собственные роды, это – что-то, что происходит с тобой, в твоей жизни; это будто бы происходит у тебя самой! Женщины замолкают, и только примерно через минуту раздается голос Маргалит: – Это все потому, что в вас течет родная кровь! Она переводит взгляд на Нири и продолжает: – Я хочу… рассказать вам что-то важное… мне тяжело… Все взгляды обращены на нее; Маргалит поправляет сползшую на глаза шляпку. – Но сначала я хочу кое-что сказать Элле, то есть сказать вам, – поворачивается она к Элле. – Это правда, что на прошлой нашей встрече мы не стали касаться того, что вы нам рассказали о себе, но это вовсе не значит, что ваша история нам безразлична. Я лично очень много думала о вас, но побоялась показаться назойливой. Так что, как только вы захотите, я готова к этому вернуться. – Я присоединяюсь к вам, – выпрямляется на стуле Анна. – Конечно, намного проще не касаться ни грустных, ни сложных тем, но я, как и вы, думаю, что здесь надо говорить обо всем. Кстати, я не имею в виду только вас, – замечает она, глядя на Эллу, – каждая из нас может затронуть тут любой волнующий ее вопрос. Маргалит облегченно вздыхает. – Я рада, что мы остановились на этом вопросе, – обращается она к Нири, а затем переводит взгляд на Эллу, – иначе я бы чувствовала себя очень неудобно. Элла привычно кутается в свою неизменно наброшенную на плечи зеленовато-голубую шаль. – Спасибо за добрые слова, но, честно говоря, мне и сегодня не хотелось бы возвращаться к этой теме. Она замолкает, а затем, преодолев смущение, обещает: – Когда мне будет что сказать, я обязательно скажу. И почти шепотом, опустив глаза, продолжает: – Может, наступит день, и я смогу вам сказать, что все не так уж и плохо, что у меня появилась надежда. Жизнь сделала мне подарок: у меня есть внучка, и я должна верить, что в один прекрасный день мы все-таки найдем дорогу друг к другу. В комнате опять тишина, женщины выжидательно смотрят на Маргалит; и та, снова сделав глубокий вдох, произносит: – Я хочу рассказать вам кое-что важное, то есть я имею в виду что-то, что мне важно здесь рассказать. Мне даже неудобно, что я до сих пор этого не рассказала, особенно сейчас, когда здесь установились такие доверительные, можно сказать, семейные отношения. Я даже чувствую, что если я и дальше буду молчать, то это может быть расценено как предательство. Вот так… Возможно, у вас сложилось впечатление, что я была очень откровенна, так как уже успела рассказать о своей бабушке и о своей маме, но есть еще чтото, что я просто обязана вам рассказать. На прошлой неделе я задержала Нири с просьбой выслушать меня, а она, в свою очередь, посоветовала мне набраться смелости и поделиться с вами и при этом не пытаться скрыть, как мне было трудно на это решиться. Маргалит поднимает глаза и встречается взглядом с внимательно слушающей ее Нири. – То, что я не рассказываю здесь, я не рассказываю и «там», – продолжает она, – в этом смысле группа служит для меня «большим миром в миниатюре», потому что я одинаково себя чувствую здесь, «внутри», и там, «снаружи». Маргалит опять замолкает и смущенно смотрит на Нири. – Вы можете объяснить, что вам сейчас мешает? – ее зеленые лучистые глаза светятся добром и участием. – Чего вы боитесь? Что случится, если вы расскажете? – Она, наверное, боится, что мы и ее начнем ругать, – полушутя-полусерьезно замечает Това. – Нет! Совсем нет! – пугается Маргалит. – Если я правильно помню, то и Элла говорила, что не жалеет о том, что рассказала, не так ли, Элла? Элла согласно кивает головой, а Това спешит исправить свою не совсем удавшуюся шутку. – Я прошу прощения! И я тоже считаю, что здесь можно говорить обо всем, и именно после того, как откровенная история Эллы была принята нами по-разному. Это только подтверждает, что между нами нет лицемерия, здесь все искренне, по-настоящему: понастоящему слушают, по-настоящему чувствуют и переживают. Выслушав Тову, Маргалит растерянно пожимает плечами: – И все-таки мне тяжело… Я, правда, не могу понять, почему мне так тяжело… высказаться. – Просто сделайте глубокий вдох и – скажите! Нас уже ничем не удивишь, по крайней мере, меня, – предлагает Рут. – Вы можете говорить о чем угодно и будьте уверены, отсюда это никуда не выйдет! – вторит ей Клодин. – Конечно, нет! – старается успокоить ее Орна. Но Маргалит все еще молчит и беспомощно смотрит на Нири. – Это висит у меня на кончике языка, но никак не может вырваться наружу. – Наберите полные легкие воздуха, и… – улыбается ей Нири. Маргалит делает несколько коротких вдохов и скороговоркой произносит: – Дело в том, что Михаль мне не родная дочь. После этих слов наступает совсем короткая пауза, ее почти сразу нарушает Клодин. – Ну, я уже не знала, что и подумать, – смеется она, – что произошло что-то ужасное или, возможно, вы кого-то ужасно обидели. А тут – совсем наоборот: быть приемной матерью, что же в этом зазорного?! – У вас все дети приемные? – живо интересуется Рут. – Только Михаль, – намного более спокойным тоном отвечает Маргалит, – моя старшая – та, которая недавно родила, – только она приемная. Остальные – все трое – родились у нас позже. После того, как мы ее удочерили, все вдруг как-то само собой наладилось, и я очень скоро забеременела. Наверное, до этого я слишком сильно переживала. Я слышала, что это случается довольно часто. – Поверьте мне, все это на нервной почве, – поднимая руку, говорит Мики, и всем видно, что красный лак на ее ногтях абсолютно того же оттенка, что и блузка. – У меня есть близкая приятельница, которая тоже долгое время не могла забеременеть. Она решила поехать за границу, чтобы отдохнуть, отключиться от всего; и там у нее это произошло. Лично у меня с этим никогда не было никаких трудностей – мы только начинали об этом говорить, и я тут же была в положении. Все про меня говорили, что я беременею от одного поцелуя. – При чем тут вы? – возмущенно прерывает ее Това. – Вы разве не видите, что Маргалит пытается рассказать что-то для нее очень важное; ей и так тяжело! Рут, соглашаясь, энергично кивает головой, но Маргалит протестует: – Нет, нет, это ничего! Наоборот, она видит, что мне тяжело и старается меня поддержать. Рут, демонстративно отвернувшись от победно улыбающейся Мики, переводит взгляд на Маргалит, и та, откинувшись на спинку стула и скрестив руки, обращается к Нири: – Вот вроде и все… Не знаю, что вы на это скажете… Она вопросительно смотрит на Эллу. – Лично я скажу, что это маленькое горе, – с грустью в голосе замечает Элла, – если вообще это можно назвать горем… Орна слегка передвигает стул так, чтобы видеть Маргалит. – В каком возрасте вы рассказали Михаль, что вы ее удочерили? – Когда она была маленькой, лет семи-восьми, – отвечает Маргалит. – Скажите, если это такая страшная тайна, – Мики тянет подол черной мини-юбки, пытаясь прикрыть ею колени, – зачем вообще нужно было ей рассказывать? Я считаю, что вовсе необязательно рассказывать детям абсолютно все: есть вещи, о которых лучше не знать. Могли подождать, пока она будет постарше! Маргалит согласно кивает головой и привычным движением поправляет шляпку. – Мой муж настаивал, что мы должны рассказать ей об этом как можно раньше. Он считает, что всегда нужно говорить только правду; он верит, что человек должен знать о себе все, что это необходимо для его душевного здоровья и для нормальных отношений с другими людьми. Всех наших детей мы воспитывали по этому принципу – не лгать, не скрывать; лучше смотреть правде в лицо, чем жить во лжи. Поэтому я с ним не спорила, хотя думала – и до сих пор так считаю, – что надо было подождать, пока она подрастет, скажем, до восемнадцати, чтобы росла нормальной, как все, девочкой, без комплексов. Я не уверена, связано ли одно с другим, но у меня такое чувство, что чем старше она становится, тем все больше и больше сердится, особенно на меня. И я не могу понять за что: мы все ее любим, она выросла в любви; ведь не мы же от нее отказались! Возможно, мы просто самые близкие, всегда у нее «под рукой», на кого же еще ей сердиться?! Иногда мне кажется, что такова наша родительская судьба – принимать на себя все их обиды и претензии – и сопротивляться этому бесполезно. «А что, если тебе не удается взять их на себя, если они выскальзывают у тебя из рук», – думает Элла и понимает, что только что появилась первая трещина в ее, еще не успевшей укорениться, надежде. – Она видела связанные с этим документы? – спрашивает Това. – Да. После армии. Она начала говорить об этом, как только ей исполнилось восемнадцать. Казалось бы, это вполне естественно, что она хочет знать, кто ее «настоящая мама» – так она ее называла – но у меня все время было такое чувство, будто она делает это специально, чтобы меня унизить, и мне было очень больно. Несколько лет она колебалась и обсуждала вслух, стоит ли ей встречаться с ее биологической матерью. Я все это время надеялась, что они не встретятся, боялась этой встречи. Через несколько лет она все же решилась затребовать свои документы; и тогда оказалось, что ее мать давным-давно умерла, а отец – неизвестен. Она была очень разочарована. Я никогда не забуду ее лица, когда она вернулась оттуда. Она пришла домой не сразу, а провела несколько часов у моря. Михаль никогда не рассказывала, что она делала или о чем думала в тот день, но когда она наконецто зашла в дом, по ее лицу было видно, что эти часы дались ей нелегко. – Чего вы боялись? – спрашивает Анна и тут же сама отвечает. – Что она предпочтет ту мать и уйдет от вас? – Не знаю. Может быть… да… конечно! – Маргалит следит взглядом за шлепанцем на ноге Анны, который повис на кончике пальца и вот-вот упадет. – Что она начнет сравнивать и что «зов крови» победит, и она выберет ту женщину, а не меня. – На прошлой встрече вы состязались со второй бабушкой, а до этого, получается, вы соперничали со второй мамой, пока не оказалось, что она умерла, – задумчиво покачивает головой Орна. – Да, – соглашается Маргалит, – и поверьте, это было совсем непросто, хотя я и говорила себе все время, что Михаль очень привязана ко мне и к моему мужу, и к братьям – ко всей семье. Кроме того, я думала, что ей, конечно, будет нелегко признать свою мать после того, как она ее бросила. Маргалит делает короткую паузу и, прочистив горло, открывает рот, чтобы продолжить, но ее опережает Мики. – А я уверена, что ни за что бы не признала такую мать. Мать, которая отказалась от меня? Бросила меня на произвол судьбы? Мать не имеет права отказываться от детей, и неважно, в каких условиях она живет! Что, когда мои дети были маленькими, мне было легко? Мне было очень тяжело, но ни разу у меня не появилась мысль, что, может, ктонибудь другой будет их растить вместо меня, ни разу! – Ну при чем тут вы! – нетерпеливо всплеснув руками, прерывает ее Това. – Никто не говорит о вас, как вы не можете этого понять?! И, кроме того, вы же не знаете, что там произошло на самом деле. Может, женщина, которая ее родила, была очень больна, и именно забота о ребенке вынудила ее принять это решение. Тогда – это благородный поступок. А может, ее изнасиловали, и она не могла так жить? Представьте себе, изо дня в день видеть в лице ребенка лицо насильника! Нельзя ее судить, не зная, что там было! – Я тоже думала, что, несомненно с этой женщиной случилось что-то страшное, – тяжело вздыхает Маргалит, – раз она решила отказаться от своей дочки. Она горько усмехается. – Действительно нелегко растить ребенка, когда ее черты все время напоминают тебе о том, что ты всю жизнь стараешься забыть. Опустив глаза, Маргалит замолкает, но, не выдержав устремленных на нее в молчаливом ожидании взглядов, поднимает голову и продолжает: – Я часто думала о ее матери, о том, как бы она повела себя в тех или иных ситуациях, например, когда Михаль первый раз назвала меня мамой или когда она пошла в первый класс. Был период, когда она могла часами рассматривать альбомы с фотографиями и все время спрашивала меня, где видно, что она у меня в животе. Я тогда очень мучилась и часто пыталась представить себе ее биологическую мать беременной: как она выглядела, была ли Михаль беспокойной, была ли между ними та особенная связь, которая существует между мамой и ребенком в течение всех девяти месяцев? Эти вопросы не давали мне покоя. Без этих подробностей я не могла рассказать ей о первых днях ее жизни, и мне казалось, что я лишаю ее чего-то очень важного, чего ей будет очень не хватать. Мне было очень тяжело, – прикрыв глаза, в который раз повторяет она. – Сколько раз бывало: она сидит на диване, смотрит наши свадебные фотографии и вдруг через две страницы после свадьбы: бах – у нас ребенок! А посередине – ничего, мы даже не хотели фотографироваться, чтобы ничто нам потом не напоминало о том времени, когда я не могла забеременеть. Это был ужасный год, – вздыхает Маргалит. – Я была уверена, что как только у меня появится ребенок, все позабудется. Но этого не произошло, – ее голос дрожит, – представьте себе, я сижу с Михаль в парке и вместо того, чтобы играть с ней, смотрю на других матерей и их детей. Я так им завидовала, – еле слышно добавляет она, вытирая слезы. Протянув руку, Рут гладит ее по плечу, Маргалит поворачивается к ней и продолжает: – Когда Михаль выходила замуж, я стояла возле нее и думала, что я не совсем «выдаю» ее замуж, потому что она – не моя, это не я ее родила. И вместо того, чтобы радоваться, я смотрела на мать ее мужа, как она стоит там со своим похожим на нее сыном – гордая, растроганная; никому и в голову не придет, что они не одна семья. Она вынимает салфетку из рукава блузки, вытирает глаза и нос. – Даже во время родов я опять думала о ней – о биологической матери – о том, чего она себя лишила. Если бы она была жива, стала бы Михаль с ней общаться, познакомила бы ее с внуком? Все-таки это родная кровь, этого так просто не перечеркнешь. – Может, для вас и лучше, что она умерла, – надевая успевший упасть шлепанец, замечает Анна, – конечно, это звучит жестоко, но этим решились все ваши проблемы. – Это только на первый взгляд кажется, что решились, – говорит Маргалит, глядя на Анну, – а на самом деле, когда я узнала, что ее нет и что встреча не состоится, меня начало мучить такое чувство вины, будто бы я, не дай бог, убила ее своими руками; а все из-за того, что я так не хотела, чтобы они встретились. Я очень переживала, когда стало известно, что она умерла, – тихо добавляет она, – но до сегодняшнего дня ни с кем не касалась этой темы. Михаль тоже была сильно удручена, хотя я думаю, что и ей в какой-то степени полегчало. Иногда мне кажется, что она вовсе неоднозначно относится ко всей этой истории, и это в общем-то понятно. С одной стороны, ей очень хотелось познакомиться со своей биологической матерью; понять, почему она от нее отказалась; узнать о своих корнях (как мы говорили на прошлой нашей встрече). Но, с другой стороны, у нее накопилась страшная обида против этой женщины, которая ее бросила, и ей было бы очень тяжело решиться на встречу с ней. Поэтому я говорю, что ее смерть избавила Михаль от принятия нелегкого решения; избавила, но оставила нерешенными много важных для нее вопросов. Короче, это очень сложно. – Но, может быть, еще можно кого-то найти? – спрашивает Рут. – Может, есть бабушка или другие члены семьи, которые смогут что-либо рассказать? – Не знаю, – в голосе Маргалит слышится усталость, – я не решаюсь обсуждать это с Михаль: у нас дома эта тема считается ее личным делом, и она сердится, когда кто-то из нас пытается с ней об этом заговорить. Если она ко мне обратится, естественно, я постараюсь ей помочь, если, конечно, она того захочет, но я сама этой темы не касаюсь. Это действительно ее личное дело. В этом вопросе я не могу оставаться объективной, а значит главное для меня – не навредить! Я – как губка, но только избирательного действия: всасываю в себя только то, что она позволяет. Если честно, я думаю, что особенно ей мешает сознание того, что в данном случае все как бы решили за нее, что она была тут «не у дел»; а Михаль – девочка властная, ей необходимо держать все под своим контролем. Она всегда была такой. Данная же ситуация была ей навязана, и у нее нет ни малейшей возможности что-то в ней изменить. У нее нет никакого выбора, она ничего здесь не решает, и ей тяжело с этим смириться. Она – человек очень независимый, не переносит, когда кто-то за нее решает; у нее очень сильный характер. Вообще, она необыкновенная девушка – решительная, с железной силой воли. Все это точно не от меня, – усмехается Маргалит, но тут же серьезно продолжает: – Что же касается тайны, это тоже из-за нее, потому что она никогда никому об этом не рассказывала. Может, только самым близким ее подругам, я и этого не знаю. Она и от меня требовала, чтобы я никому не говорила, хотя я и пыталась объяснить и убедить ее, что в этом нет ничего постыдного. В ее глазах быть удочеренной – это унизительно, это бьет по чувству собственного достоинства. И с годами я словно заразилась от нее: никому ничего не рассказывала, вообще перестала говорить на эту тему. Даже когда она заполняла анкеты для медкомиссии и ей надо было указать болезни в семье, она позвонила, и я как ни в чем не бывало дала ей свои данные; напомнила, что у папы – сахарный диабет, как будто… Но это не всегда было такой страшной тайной. Были годы, когда этот секрет был запрятан глубоко внутри нас и хранился от чужих глаз за семью печатями, а затем наступило время, когда он оказался у всех на виду, как позорное клеймо на лбу преступника. – Что-то я не понимаю, – морщит лоб Анна, – о ком вы сейчас говорите, у кого из вас клеймо на лбу, у вас или у Михаль? – Это касалось нас обеих: в этом плане у нас абсолютное равенство. – Но почему «позорное клеймо»? – никак не успокаивается Това. – Я объясню. Все напряженно слушают. – Я уже говорила, что Михаль очень переживала, когда узнала, что мы ее удочерили. Поэтому для меня это тоже превратилось во что-то… будто я… Маргалит нервно разглаживает только ей одной видимые складки на юбке. – Мне кажется, я всегда чувствовала, что разочаровала ее. Я имею в виду, что она не столько разочарована тем, что ее родители ее бросили, сколько тем, что попала в нашу семью. Я видела это по ее глазам, по тому, как она смотрела на нас; я видела, как ей жаль, что она попала в обычную семью, к обычным родителям, в обычную квартиру в обычном городе. Она оказалась в семье, где нет ничего интересного ни в настоящем, ни в прошлом; ничего плохого, но и особо хорошего – тоже. Ни один поэт, актер или политик не прославил нашей семьи. Простая серенькая среднестатистическая семья. У меня такое чувство, что ее это удручает, что из-за этого она чувствует себя чужой; она всегда считала себя особенной. Тут Маргалит оставляет свою юбку в покое и, обращаясь к Нири, продолжает: – И она права: она действительно не такая, как все; она и вправду особенная. Я не говорю это как любая мать, для которой ее ребенок единственный и неповторимый и нет такого другого на всем белом свете – и мои остальные дети чудесные и замечательные, но по-другому. Я говорю здесь о совсем другом уровне и говорю объективно. Есть в ней какаято особая искра, нехарактерная для нашей семьи. Учителя в школе, командиры в армии – все подмечали в ней что-то редкое, выделяющее ее среди всех, честное слово! И я тоже с первой минуты почувствовала в ней что-то такое, чего не было потом ни в одном из моих детей. Это всегда доставляло мне огромную радость и гордость, но, с другой стороны, лишний раз напоминало, что мы… чужие, что мы – не совсем одна семья, не по-настоящему мать и дочь, а отсюда и такие разные. Мне часто бросались в глаза особенности ее характера, которые, мне было ясно, она не получила ни от меня, ни от моего мужа; с этим рождаются. Например, ее способность творчески мыслить и видеть вещи иначе; или умение стоять всегда на своем в вопросах, которые ей кажутся действительно важными. Мы совсем не такие; мы, правда, совершенно обычные. – Что значит обычные? – удивленно переспрашивает Клодин. – Я не знаю ни одного человека, который был бы совершенно обычным! – Что вы меня успокаиваете?! – нетерпеливо перебивает ее Маргалит. – Я говорю «обычные» в простом и хорошем смысле этого слова. Я не страдаю заниженной самооценкой, я просто пытаюсь разъяснить вам разницу. Она и в самом деле другая. Вы же знаете, что большинство из нас – средние обыкновенные люди, и только некоторые выделяются на общем сером фоне. Так вот, она из таких, и нет среди наших родственников – как близких, так и далеких – никого, кто мог бы с ней равняться. Так что не надо меня защищать! Припомнив что-то, она улыбается. – Как-то мне позвонила учительница и рассказала о сочинении, которое она написала ко Дню Памяти Жертв Катастрофы. Оно было написано от лица маленькой еврейской девочки, которую спрятали от немцев местные жители. «Как она смогла проникнуть в мир этой девочки, – сказала мне тогда учительница, – как достоверно и зрело описала, что значит быть чужой, другой, не такой, как все. Как она рассказала о жизни, единственной целью которой стало сохранить важнейшую тайну, предотвратить даже малейший намек, указывающий на ее существование!» – И мне было совершенно ясно, о чем писала Михаль в том сочинении, а кроме того, очень больно видеть, как остро она ощущает себя чужой среди нас. Маргалит ищет глазами Тову и, поймав ее взгляд, продолжает, взвешивая и выверяя каждое слово. – Так вот, позорное клеймо – это жизнь во лжи, которую мы навязали ей и себе самим. Даже сейчас, когда я хвастаюсь перед вами, какая у меня особенная дочь, я чувствую себя лгуньей, потому что на самом деле она ведь не моя. – Это нелегкая ноша, чувствовать себя чужой по отношению к своему ребенку и сознавать, что и она не считает вас родной, – замечает Нири, – а что, кроме этого, вы к ней испытываете? – Я… – Маргалит поправляет шляпку, – во-первых, я ее очень люблю и сделаю все, чтобы ей было хорошо. Она останавливается на мгновение. – Но меня никогда не оставляет чувство, что глубоко внутри мы чужие. Ничего тут не поделаешь: в ее жилах течет не моя кровь, и моя семья – это не ее семья. Из-за этого у меня такое чувство, будто между нами нет истинной связи. Маргалит произносит слова медленно, словно думая вслух. – Так было всегда. Может, если бы мы и не были похожи внешне, но она хотя бы походила на меня характером, то я бы, возможно, почувствовала, что между нами есть что-то общее. Нас бы это связало, хотя и не обязательно. Я уверена, что и она всегда ощущала то же самое – что между нами образовалось мертвое пространство; что если бы мы ее не удочерили, то оказались бы совершенно чужими людьми. Нам обеим известно, что я не настоящая ее мама, с этим ничего не поделаешь! Она пожимает плечами. – Что значит, вы не ее мама?! – возмущается Клодин и легкий звон сопровождает ее попытку привстать с места. – Мне противно это слышать! Вы ее вырастили, она получила от вас все, что родители дают своим детям. Вы ее мать в полном смысле этого слова! – Естественно, вы ее мать, у нее нет другой матери! – взволнованно присоединяется к ней Орна. – Все верно, – не сдается Маргалит, – я, да, ее мать и я не ее мать. Все очень сложно. В данном случае на свете могут быть две матери, даже если одна из них и умерла. Иногда мне все абсолютно ясно, а затем я опять начинаю сомневаться. Я не могу найти однозначного ответа. По-моему, быть матерью в данной ситуации – это проблема чисто эмоциональная; печать в паспорте в этом случае не имеет для меня никакого значения. Правда, мне приходилось говорить с другими приемными родителями, и я даже ухитрилась выспросить у них, что они чувствуют по отношению к своим приемным детям; и все в один голос утверждали, что для них нет разницы между приемными и родными детьми, что между ними такая же связь и такая же любовь. Она делает короткую паузу и продолжает, глядя на Клодин. – Я не знаю, насколько этому можно верить. Возможно, все зависит от того, когда спрашивают. У меня ведь тоже бывает по-разному. Сегодня мне кажется, что если бы я встретила их в ситуации, подобной моей, когда и у них рождаются внуки, то, скорее всего, их ответ был бы несколько иным. Потому что это именно тот момент, когда вдруг проявляется отсутствие кровной связи. – «Вдруг проявляется», – останавливает ее Нири, – вы не могли бы задержаться поподробнее, что именно вдруг проявилось и как это связано с ее родами? Что-то произошло между вами прямо там, в родильном отделении, или, может, с внуком? Маргалит задумчиво качает головой. – Я вам уже рассказывала, что была очень взволнована. Я, конечно, очень за нее волновалась, но… вместе с тем я чувствовала, будто во мне что-то открылось, меня просто захлестнуло чувство огромной любви к ней. Но… – она запинается, – где-то в мозгу зацепилась одна мысль, которая не давала мне покоя, – что именно сейчас мне ни в коем случае нельзя ошибиться. Она позвала меня быть с ней, и если я и сейчас сделаю что-то не так, она мне этого не простит. Она вздыхает, голос ее дрожит. – Вы с ней очень осторожны… – мягко замечает Нири. – Да, – опять вздыхает Маргалит, – и всегда была. Я всегда ходила вокруг нее на цыпочках. – В чем именно вы боялись ошибиться, когда были рядом с ней в родильном зале? Маргалит горько усмехается. – Если честно, я и сама не знаю. Только помню, что у меня было такое чувство, будто все это происходит не со мной, а с кем-то другим; и я все время оценивала мое с ней взаимодействие со стороны, следила за малейшей ее реакцией, чтобы понять, все ли я делаю правильно. – Вы боялись ее разочаровать. – Да, – соглашается Маргалит, – когда она чем-то недовольна, у нее во взгляде появляется что-то такое, от чего у меня все внутри переворачивается. Неожиданно поперхнувшись, Маргалит судорожно сглатывает и опускает голову. – Что же такого особенного вы читаете в ее глазах? – подавшись вперед, не отступает Нири. – Видите ли, она очень умная девочка. Маргалит поднимает голову, и их взгляды скрещиваются. – Не зря же она психолог. Она мгновенно видит людей насквозь и никогда не ошибается. Даже когда она была маленькой, у нее бывал такой особенный – пронизывающий, укоряющий – взгляд. Когда она так смотрела на меня, я тут же начинала проверять саму себя, что же я сделала не так, и, представьте, всегда находила. Шумно вздохнув, Маргалит продолжает: – Вы спрашиваете, что я читала в ее глазах? Думаю, что я всегда боялась увидеть в ее глазах упрек, прочесть, что я недостаточно хорошая. И не только для нее, а вообще: я просто недостаточно хорошая. Недостаточно умная, или недостаточно сильная, или недостаточно талантливая. Маргалит замолкает выжидательно глядя на матерей, но и они молчат, обдумывая услышанное. – Из всего, что я здесь услышала, – после длительной паузы начинает Това, – мне ясно, что, когда вы находитесь рядом с Михаль, вы испытываете чувство неполноценности, вы уверены, что она выше вас. Поэтому, наверное, вы и воспринимаете ее взгляд так, как вы его воспринимаете. Я не понимаю, откуда это; я уверена, что у вас есть много достойных качеств, которых нет у нее. Маргалит не спешит с ответом. – Я думаю, Това права, – Рут ставит на пол бутылку с водой, которую она держала в руке с начала встречи, – но мне кажется, что ваше отношение к себе связано… Она смотрит в темную пустоту за окном, пытаясь подобрать необходимое слово. – Мне тяжело это правильно сформулировать, но немного раньше, когда вы сказали, что представляете, каково матери, ребенок которой родился в результате изнасилования, смотреть на него, изо дня в день, видя в нем живое напоминание того, что она пережила, я подумала, что… Рут останавливается, но Мики нетерпеливо подхватывает ее на полуслове: – Что Михаль напоминает вам что-то, о чем вы хотите забыть! Я думаю, что Михаль напоминает вам о том, что вы никак не могли забеременеть! Пораженная услышанным, Маргалит поднимает на них внезапно наполнившиеся слезами удивленные глаза. – Да, это так, я чувствую… Женщины молча следят за ней – ждут продолжения. Маргалит судорожно вздыхает; она говорит с трудом, вытирая ладонями мокрое от слез лицо. – Даже не верится: прошло так много лет, а я по-прежнему не могу говорить об этом без слез. Я ведь после этого совершенно спокойно родила троих, а все равно каждый раз – как по живому. Тот год действительно был ужасным. Я вам рассказывала, я чувствовала себя такой униженной, потерянной. Все мои подруги, как нарочно, беременели одна за одной, строили планы, как они будут все вместе проводить декретный отпуск. И только меня это не касалось. Я страшно переживала. Конечно, я была очень рада, когда у меня появилась Михаль, но это было не то… это никак не меняло того, что я не смогла забеременеть и не испытала на себе, что значит выносить и родить ребенка. В первую очередь, я сама не чувствовала себя полноценной. И, по-видимому, это осталось до сих пор: до сих пор, когда я вижу беременную или только что родившую женщину, у меня сжимается сердце. – Михаль вызывала у вас зависть, – констатирует Мики, – потому что ей с легкостью удалось то, в чем вы потерпели поражение. – Я завидовала ей точно так же, как я завидую каждой, которой это удается, – с грустью соглашается Маргалит, – это правда. Я надеялась, что во время родов я буду не просто рядом с ней, а – вся в ней, вместе с ней, но даже тогда… Она опять начинает плакать. – Но даже тогда я смотрела на нее и думала, почему же с ней у меня не получилось… В комнате тишина. Немного успокоившись, Маргалит поворачивается к Нири. – Мне надо было в то время обратиться к психологу, а не бежать удочерять. Я бы успокоилась и, конечно же, забеременела. Факт, что потом все проблемы исчезли; так что во всем была виновата голова, все остальное было в порядке. Меня злит, что за столько лет я все еще никак не очухаюсь от этого года, с тех пор у меня словно камень на сердце! Почему я никак не могу оставить все это позади и просто продолжать спокойно жить дальше?! Что мне так не терпелось заиметь ребенка сразу после свадьбы?! Я была тогда такой дурочкой; видите ли, у меня была мечта, что именно мои дети станут первыми внуками у моих родителей. Вот мне и загорелось! Я только об этом и думала, и с каждыми месячными все больше и больше чувствовала себя неудачницей; мне было ясно, что я пустоцвет, что я не выполняю главного предназначения женщины, что я вообще не женщина, а так, пустая женская оболочка. Каждый взгляд, который я ловила на улице или на каких-то семейных встречах, я воспринимала как жалость или немой вопрос: как это я еще не беременна? Это была какая-то идея фикс, меня как будто заворожили! Сегодня я понимаю, что из-за всей этой путаницы мы приняли слишком поспешное решение, не очень понимая, что на самом деле означает усыновить или удочерить ребенка. Все по-прежнему молчат, и только Рут осторожно интересуется: – А в какой помощи вы нуждаетесь сейчас? – Что вы имеете в виду? – удивленно переспрашивает ее Маргалит. – Почему вы пришли в эту группу? – поясняет Рут. – Как спрашивала Нири на прошлой неделе и сегодня тоже, чего вы ожидаете от нашей группы? – Я ведь уже рассказывала, что пришла потому, что Михаль увидела объявление и предложила мне поинтересоваться, а я согласилась, так как подумала, что если встречусь с такими же как я, «новыми» бабушками, то, возможно, во мне скорее проснется настоящая бабушка, – отвечает Маргалит, но в ее ответе сквозят вопросительные нотки. В разговор вступает Това. – А теперь Маргалит может еще добавить, – обращается она к Рут, – что у нее остались кое-какие нерешенные проблемы, связанные с удочерением. – Если у Маргалит возникают вопросы по этому поводу, – говорит Рут, глядя на Тову и как бы озвучивая специально для нее свои мысли, – то ей стоит связаться с форумами для приемных родителей. Там ей обязательно помогут, не так ли? – Теперь вы хотите выпроводить ее отсюда, как раньше хотели сделать это со мной, – неожиданно встает на защиту подруги Элла. – Ну что вы! – протестуя, поднимает руку Рут и тут же переводит взгляд на Маргалит: – Не поймите меня неправильно! Я ни на секунду не сомневаюсь в вашем выборе; я рада, что вы оказались в нашей группе, и мне было бы жаль, если бы вы ушли. И вы тоже, – поворачивается она к Элле, которая нервно прижимает к груди края спасительной шали. – Вы, правда, очень многое дали нашей группе. Я просто думаю вслух, можно? Маргалит утвердительно кивает головой, Элла с интересом молча ждет продолжения. – На одной из первых наших встреч вы действительно объяснили, что находитесь здесь, потому что как вы, так и ваша дочь надеетесь, что это поможет вам как можно скорее стать «настоящей бабушкой», так как из-за траура и всего, о чем вы нам сейчас рассказали, вы все еще никак не можете вжиться в эту вашу новую роль. Но после услышанного сегодня мне кажется, что даже сейчас тема приемных родителей остается для вас более проблематичной, чем тема новоиспеченных бабушек. Вот я и спрашиваю, почему вы выбрали именно нашу группу – группу матерей, дочки которых сами стали молодыми матерями. – Теперь я понимаю, о чем вы спрашиваете, – еле заметно покачивая головой в такт своим словам, произносит Маргалит, – почему я выбрала группу, которая связана с беременностью и родами дочерей, когда мне не дают покоя проблемы усыновления в целом? Серьезный вопрос. Я думаю, что то, о чем говорила здесь Това, может послужить вам ответом: долгое время я ухитрялась обходить всевозможные подводные камни, самым большим из которых являлось удочерение, но беременность и роды Михаль нарушили равновесие, в котором я существовала, и я окончательно запуталась. Поэтому, наверное, я и решила, что группа, которая фокусирует свое внимание на этом, в общем-то недолгом, но очень сложном для матерей периоде, поможет и мне. – Я думаю, что в последнее время вы совсем запутались! – первый раз за весь вечер подает голос Орна. – Вы – бабушка, но вы таковой себя не чувствуете! Вы – мама, но и здесь вы не уверены! В общем, полная неразбериха! По-моему, вам просто надо набраться терпения: должно пройти какое-то время, прежде чем вы сможете опять все разложить по полочкам. Честно говоря, – ее голос становится значительно тише, – я тоже изменилась, как будто потеряла уверенность в себе, что ли… Вещи, которые казались мне абсолютно ясными, вдруг заставляют меня подумать дважды, и я вдруг начинаю видеть их иначе, под другим углом. Уже довольно давно у меня внутри появилось какое-то беспокойство, я… я пока еще не могу объяснить конкретно, что со мной происходит. – И мне тоже кажется, что вопросы или проблемы, которые раньше занимали нас в той или иной мере, в последнее время стали восприниматься нами намного острее, – замечает Това, – в последний год у меня такое ощущение, будто с меня сняли верхний слой кожи и оставили непокрытыми и незащищенными мои самые чувствительные нервные окончания. Я думаю, все это вполне естественно; и причина этому – роды моей дочки, они всколыхнули мою жизнь, как брошенный в спокойную воду камень. – По – моему, в то время, когда ваши дочки становятся матерями, вы заново переоцениваете, а возможно, и подводите итог вашему материнству, – говорит Нири. Все это время она сидела, резко подавшись вперед на самом краешке стула. – И вот тут-то, я думаю, невозможно не вспомнить об одной из основ материнства – чувстве вины, о котором, в принципе, и говорит сегодня Маргалит. Оно появляется у нас одновременно с рождением ребенка, и с тех пор мы с ним никогда не расстаемся. Нельзя сказать, что ощущение вины играет абсолютно отрицательную роль, так как это одна из тех сил, которые заставляют мать преданно ухаживать за ребенком и быть всегда начеку, но зачастую оно не дает нам покоя, а главное, вызывает постоянное чувство страха. Каждый раз, когда нам кажется, что мы что-то сделали не так, нас одолевает страх, что с ребенком что-то случится или что-то произойдет с нашими с ним отношениями. И опять все замолкают. – Послушайте, – говорит Маргалит, обращаясь к Нири, и ее покрасневшие глаза опять наполняются слезами, – мне очень нелегко с Михаль. И отношения между нами никогда не складывались гладко, без помех – естественно – как это было у меня с остальными детьми. Всегда нас что-то останавливало, всегда были какие-то недоговоренности, неясности. Я чувствую, что… в общем, это правильно – перед этой дочкой я чувствую очень большую вину. Маргалит продолжает в полной тишине: – У меня вдруг появилась мысль, что, может, я до тех пор не стану бабушкой, пока понастоящему – сердцем – не прочувствую, что Михаль – мать. Она всхлипывает. – Может, когда родит моя вторая дочка, это произойдет быстрее, потому что с ней у меня настоящая связь. – Значит, вы чувствуете себя виноватой не только по отношению к Михаль, но и к внуку. Это распространяется уже и на следующие поколения, – говорит Рут. – Да, растет еще одно поколение, которое опять пострадает из-за меня, – шепчет Маргалит. – Слава богу, что у малыша есть вторая – настоящая – бабушка, с ней у него будет настоящая кровная связь, от нее он получит все, что не додам ему я. Анна прочищает горло после долгого молчания. – С чувствами не спорят, – громко произносит она, – но мне кажется, что с чувством вины вы переборщили. – И я тоже так думаю, – поддерживает ее Клодин, – я уверена, что, несмотря на все эти мысли, вы очень даже преданная мать и, конечно же, любите Михаль и переживаете за нее, как любая другая мать. – Я знаю, как это выглядит со стороны, – устало соглашается Маргалит, – но я не могу заставить себя прекратить думать о том, что есть крошечное дитя, которое превратилось в девочку, а потом в девушку и практически всю свою жизнь платит за то, что я не могу до конца почувствовать себя ее мамой. Вы понимаете, что я наделала?! Ее снова душат слезы. – Из-за меня у нее и во второй раз не было настоящей мамы. Если бы она попала к другой женщине, которая смотрит на вещи проще, для которой не так уж важны семейные и кровные связи, то скорее всего ей сегодня было бы гораздо легче. Возможно, она получила бы то, чего не смогла получить от меня. У меня разрывается сердце, когда я думаю или чувствую, что другим детям удалось разбудить во мне то, чего я никогда не испытывала к ней! Опустив глаза, она дает волю слезам. – Сколько страданий я причинила ей за все эти годы. Неудивительно, что в ней столько обиды! Она чувствует, она видит меня с другими; она видит, что наши с ними отношения намного проще. – Но почему вы считаете, что разница в ваших отношениях с детьми объясняется наличием или отсутствием между вами кровного родства? – мягко настаивает Орна. – Есть масса других вещей, которые влияют на вашу связь с детьми. Это может зависеть и от самого ребенка, от его характера, от степени духовной близости между вами; и кроме того, наша связь меняется с течением времени: всегда существуют периоды большей или меньшей близости. И из меня тоже каждому ребенку удается извлечь что-то другое. Она пожимает плечами. – И у меня связь со старшей дочкой – это что-то особое, может, потому что она первая, и на ней я училась; с остальными детьми все уже шло само собой. Возможно, то же самое произошло и у вас, а вы думаете, что с другими детьми все складывалось иначе из-за того, что вы их родили. Я вам точно говорю, с первым ребенком у нас всегда особенные отношения, вероятно из-за того, что он появляется, когда мы еще совсем зеленые. Первого всегда растят иначе. Только с ним у нас больше всего времени и меньше всего уверенности, и поэтому мы постоянно себя проверяем, все ли мы делаем так, как положено. – Вот и у меня со старшей дочкой совсем другие отношения, – присоединяется к утешающим Клодин, – в принципе, со всеми детьми у меня все складывается по-разному. Да это и нормально. Не могут быть одинаковые отношения с двумя разными людьми. Так что зря вы так себя грызете, в этом вопросе мы все похожи. – Мы и вправду не испытываем одно и то же к каждому нашему ребенку, – поддерживает ее Рут. – Что делать, мы всего лишь люди, и масса вещей оказывают на нас различное влияние. Каждый ребенок задевает в нас другую струну, и невозможно испытывать ту же любовь или те же чувства по отношению ко всем, даже если все они – твои дети. Я не говорю о силе любви, ее сложно измерить, но с каждым ребенком нас связывает что-то особенное, и это не всегда поддается разумному объяснению. Например, к Талье я привязана так, как не привязана ни к кому из моих детей, возможно, потому, что у нас масса общих интересов. Маргалит пожимает плечами, но не произносит ни слова. Матери молча смотрят на нее, не зная, как продолжить, что еще добавить. – Группа пытается вам помочь, – нарушает тишину Нири, – делясь собственным опытом, судя по которому у одних и тех же родителей не бывает двух одинаковых детей, а значит, и отношения с ними складываются по-разному. Поэтому то, что вы чувствуете, – справедливо, а угрызения совести, по-видимому, здесь ни к чему. Но, по-моему, вам от этого не стало легче. Маргалит удрученно качает головой. – Когда я вижу, как вы страдаете, – сочувственно улыбается Нири, – мне кажется, что секрет не в том, что вы приемная мать, а в том, как вы это воспринимаете, в вашем ощущении, что из-за того, что вы «ненастоящая» мать вашему ребенку, есть что-то неполноценное, неестественное в ваших с ним отношениях. Ваше материнство в ваших глазах оказалось бракованным. Маргалит судорожно вздыхает, но дрожащие губы выдают ее состояние. В полной тишине звучит мягкий утешающий голос Нири. – Это очень мучительные и пугающие мысли, они вызывают тяжелые угрызения совести. Не в состоянии говорить, Маргалит горько поджимает губы. Матери сосредоточенно вслушиваются, так как Нири очень тихо добавляет: – Я думаю, главное, что привело вас в эту группу, – это не столько желание поделиться своими переживаниями – облегчить душу, сколько надежда, что, если вам удастся сравнить ваши чувства по отношению к Михаль с тем, что чувствуют другие матери к своим дочерям на том же жизненном этапе, то вы сможете прийти к заключению, укладываются ли ваши отношения в естественные рамки или действительно являются ущербными, не такими, как у всех. Немного успокоившись, Маргалит в состоянии продолжить беседу. – Несомненно, мне интересно и важно, что другие матери рассказывают и чувствуют, и когда я вижу, что и они ощущают что-то похожее, мне даже становится немного легче. Но, сравнивая, я прихожу к выводу, что у меня все обстоит гораздо сложнее, что я изначально нахожусь в ином положении. Даже если я соглашусь с тем, что мать не может относиться ко всем детям одинаково и что все матери страдают угрызениями совести, мне все так же тяжело смириться с фактом, что у меня есть дочь, в жилах которой не течет моя кровь. Я не собираюсь соревноваться с Эллой, и все-таки ее положение, несмотря на то, что она не видела свою дочку уже несколько лет, намного проще моего. Потому что, в конце концов, они – родная кровь, а против природы не попрешь, этого даже при всем желании не изменишь! У Эйнав никогда не было и не будет другой матери, а у Михаль – была. Элла высвобождает руку из-под шали. – А мне-то что от этого? Я вас очень хорошо понимаю, я тоже так чувствую, но мне от этого не легче. Даже, наоборот, тяжелее. Если бы я могла сказать себе: «Ну что ж, Эйнав ведь не совсем твоя дочь», – мне было бы легче ее отпустить, пусть идет. А сейчас я знаю, что где-то здесь живут две девочки, как принято говорить, плоть от плоти моей, и от этой мысли… я даже не знаю, как это объяснить. Я чувствую это где-то глубоко внутри, как будто ощущение идет из матки, можно сказать, на биологическом уровне. С чем я могу это сравнить? Ну, скажем, я большое взрослое дерево и где-то довольно далеко от меня – на чужом участке – проросли новые молодые побеги, которые существуют совершенно независимо от меня. С одной стороны, мне от этого только больнее и, возможно, если бы нас не связывало родство, мне было бы намного легче. Но… но благодаря родству я все еще не теряю надежду, что наступит день – и связь между нами наладится. Элла поправляет сбившуюся шаль и обнимает себя за плечи. Мики, ни к кому не обращаясь, бормочет себе под нос: – Побеги? Я бы сказала метастазы, а не побеги. Това резко приподнимается. – Что вы сказали?! – Вы отлично слышали, что я сказала, мне незачем это повторять, – отвечает Мики, не поднимая глаз. – Ну, это уж слишком! Това еле сдерживает себя, чтобы не сорваться на крик. – Почему? Что она сказала? – оживленно переспрашивает Рут. Това раздраженно отмахивается. – Я могу повторить, – отвечает Мики, равнодушно глядя на Рут. – Я сказала, что дочь Эллы – не молодой побег, а метастаз. Это мое личное мнение, а в группе ведь можно говорить все, не скрывая, не так ли? – Нигде и никогда нельзя говорить все! – возмущается Орна. – Вы обязаны думать и о других тоже! Вы не можете жалить всех подряд! – Вам необходимо быть в центре внимания и любой ценой! Рут демонстративно отворачивается. Элла выпрямляется, и от резкого движения шаль остается висеть на одном плече, касаясь бахромой пола. – Нет, почему же, – говорит она, глядя прямо на Мики, – я хотела бы понять, что вы имеете в виду. Женщины встревоженно смотрят на нее, но Элла стоит на своем. – Исходя из моих скромных медицинских познаний, сначала в организме образуется опухоль, которая затем распространяется по другим органам в виде метастазов и таким образом разрушает и их. Если я вас правильно понимаю, вы сравниваете меня с раковой опухолью в то время, как мои дочка и внучка являются моими метастазами. Вы хотите сказать, что они помимо своей воли зависят от меня, так как нас связывает одна кровь, и, что бы плохого с ними ни случилось, это происходит от меня, потому что я произвела их на свет. – Вы все правильно поняли, – отвечает Мики, не глядя на нее, – я именно так и думаю и сказала это еще тогда, в первый раз, когда вы только рассказали, что ваша дочка скрывается от вас. Я уверена, что существует прямая связь между тем, как ведут себя дети, и тем, что они получили или не получили от своих родителей. И кровное родство это только усиливает! Она поднимает глаза на сидящих. – Можете говорить, что хотите, меня вы не переубедите! Кровь – это кровь, этого скрыть невозможно. Я всегда говорю, что если вы хотите узнать кого-то по-настоящему, надо узнать его родителей и особенно – мать. – Так давайте, расскажите нам, что узнает о вашей дочке тот, кто познакомится с вами, – с нескрываемой иронией в голосе предлагает Това. – А это не вы ли сказали раньше, что в данный момент речь идет вовсе не обо мне? – Ну, теперь вы убедились?! – возмущается Това. – Как обижать и критиковать других, так это вы делаете с радостью, а чтоб посмотреть на себя со стороны – так это ни за что! Мики не утруждает себя ответом. – Оставьте ее в покое, – пренебрежительно отмахивается Рут, – она может только нападать на других или расхваливать себя. В комнате устанавливается напряженная тишина. «А может, правда на вашей стороне, – мысленно обращается к Мики Элла, – может, только вы и понимаете, что я сама себя обманываю. От рака невозможно вылечиться до конца, – беззвучно кричит она, глотая рвущиеся наружу слезы». – Сделайте что-нибудь, – испуганно обращается к Нири Маргалит, – от этой тишины можно свихнуться! Не нужно было мне затрагивать эту тему, это я во всем виновата! Я не хотела никого обидеть! – Не волнуйтесь, Маргалит, – успокаивает ее Клодин, – все будет в порядке! Коротко взглянув на Клодин, Нири поворачивается к Маргалит. – Обратите внимание, как вы сразу же чувствуете себя виноватой – по отношению к Михаль, по отношению к группе. Вам абсолютно ясно, что все произошло из-за вас, что это вы во всем виноваты. Маргалит удивленно смотрит на нее. Нири задумывается, прикрыв глаза. – Я уже говорила, – обращается она к группе, – что быть матерью означает беспрерывно бороться с чувством вины, каждый раз из-за чего-то другого: правильно ли я его одела? достаточно ли у него игрушек? хватает ли ему моей любви? Мы держим сами себя под непрестанным контролем, оцениваем себя через наши поступки, анализируем мысли и чувства; и если нам кажется, что что-то не так, в нас тут же просыпаются угрызения совести. Вот и Маргалит мучается от сознания, что Михаль является живым напоминанием о том, что она вот уже столько лет пытается забыть. Значит она плохая мать, не так ли? И Маргалит боится, что Михаль – девочка умная и наблюдательная – читает это в ее взгляде и поэтому отдаляется от нее и даже отправляется искать другую мать! И еще одно, на мой взгляд, важное наблюдение. Слушая Маргалит и Мики, я пришла к выводу, что их связывает, как ни странно, общий взгляд на вещи. Обе они считают, что у матери есть стопроцентная власть, влияние, а значит, и ответственность за связь между нею и ребенком. А Мики еще и добавляет, что мать отвечает не только за неудачи и срывы, она же «виновата» в удачах и достижениях. Элла сидит, опустив голову, и Клодин гладит ее по руке. Мики на мгновение задерживает на них свой взгляд и отворачивается. Она достает из сумки серебристый мобильник и говорит, продолжая разглядывать что-то на его экране: – Нири права! Я действительно считаю, что мать оказывает огромное влияние: она взрослая, у нее есть жизненный опыт – она просто необходима своим детям. В семьях, где мать издевается над детьми физически или морально, она ломает им жизнь, и не один психолог не в состоянии это исправить. Так что не пытайтесь меня убедить, что мать не виновна! – Невозможно во всем обвинять только мать, – мельком бросая взгляд на Эллу, возражает Рут, – в любых обстоятельствах у нас всегда остается возможность спастись. Или, наоборот, мало детей, которые рождаются в хороших семьях, а кончают плохо? Мы зависим от массы вещей, существует судьба. Есть еще и характер самого ребенка. Дети тоже имеют значение, их тоже можно обвинить, не так ли? Рут скользит взглядом по кругу, но женщины не откликаются. Мики постукивает пальцем по крышке телефона – Пора заканчивать. Нири согласно кивает и складывает руки на коленях. – Да, наша встреча подходит к концу. По-видимому, вопрос отношений между мамой и дочкой останется открытым, и мы, несомненно, еще неоднократно к нему вернемся. Я думаю, что цепочка, которая выстраивается между виной, или влиянием, матери и виной, или влиянием, дочери, состоит из множества различных звеньев, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Я предлагаю рассмотреть подробнее их разнообразие, так чтобы можно было увидеть не только вред и разрушения, которые вы, по вашему мнению, причиняете, но и, как Мики правильно отметила, отдать себе должное, говоря о заслугах и достижениях. Стоит обратить внимание и на это. Нири Матери прощаются, и вдруг у меня появляются сомнения: а что, если они не вернутся сюда на следующей неделе? В состоянии ли я как «мать группы» уберечь их, когда в комнате неожиданно возникает пропасть? В состоянии ли я защитить Эллу? *** Защита. Иногда ночью, когда моя дочка, испугавшись темноты, видит в глубине комнаты разинутую зубастую пасть длиннохвостого чудовища, я сажусь на край ее кровати, глажу ее кудрявые волосики, и мы обе чувствуем, как медленно-медленно отступает темнота, а вместе с ней исчезает и чудовище, оставляя за собой убаюкивающую тишину. Но что же будет, когда моя девочка подрастет, а вместе с ней вырастут и опасности, – спрашиваю я себя и тут же вспоминаю матерей, стоящих по ту сторону дверей возле родильного отделения. Они стоят там испуганные, беспомощные. Все, что им остается, – это стоять в стороне, мучаясь от любви и ожидания, когда же это, наконец, кончится. Неожиданно перед моими глазами всплывает мама, стоящая на пороге комнаты через несколько минут после того, как я родила. Я лежала там испуганная, измученная болью и взволнованная, но долгожданная радость во мне все никак не просыпалась. Наши глаза встретились, и я прочла на ее растроганном лице: боли больше не будет, в эту ночь с тобой произошло чудо и со мной – тоже, и я здесь, рядом с тобой. Ее взгляд наполнил меня уверенностью: я не одна, мама со мной, что бы ни случилось. Может, это та единственная защита, которую мать в состоянии предоставить повзрослевшей дочери-матери, – сознание, что, кроме ее собственного дома, у нее остается еще один дом, который примет ее всегда и в любом состоянии. Пока она существует, она – ее мать. *** Что я должна была сделать, когда Мики напала на Эллу? Может, заставить ее дать сдачи? А может, я была обязана это предотвратить; предвидеть, что это возникнет; провести между ними разделительную полосу; надеть на них защитные очки, надеть защитные очки на всю группу? Может, это и есть та защита, в которой нуждаются взрослые дети? И что за голос говорит во мне сейчас: материнский инстинкт защиты «своих детенышей» или чувство вины, что я слишком сосредоточилась на Элле, выделяя ее из всей группы и отводя ей роль «бедной сироты»? И значит ли это, что со мной происходит то же, что с Маргалит: чувство «материнской вины» вызывает во мне страх, что они меня бросят? Элла Матери говорили, и вдруг я увидела, будто во сне – Далья садится возле меня, берет меня за руку, и я облокачиваюсь на нее, прижимаюсь и отдыхаю. Мы опять рядом. Я закрыла глаза и заговорила: – Помнишь, как ты была со мной в родильной палате, Далья? – Конечно, помню, – отвечает она, и мы оказываемся, как обычно, на ее балконе; она улыбается ее особенной – только моей – улыбкой, и мы в который раз пересказываем историю моих родов. – Я никогда не забуду, как в ту ночь ты постучала ко мне в дверь. Какое «постучала»?! – смеется она. – Звонила как ненормальная, пока я открыла и увидела тебя скорченную, как ежик, не в состоянии сдвинуться… и я сразу поняла, в чем дело. Вызвала скорую, что-то на себя накинула и быстренько вернулась к тебе успокоить, что сейчас тебя заберут и все будет хорошо; и я еду с тобой; дети спят, Даниэля я разбудила, он все знает и будет держать за тебя кулаки. Так между схватками мы продвигались – шаг, и еще шаг и как раз, когда подошли к дверям, подъехала скорая, из нее выскочили два санитара и осторожненько взяли тебя в машину. «Она со мной», – выжала ты из себя, и я подумала, – счастье, что я здесь. – Когда мы приехали в больницу, была уже глубокая ночь, – теперь моя очередь рассказывать, – и сестра положила меня на кровать, осмотрела и тут же сказала: «Девочка, у тебя открытие на четыре сантиметра, так что будем рожать. Сейчас придет санитар, чтобы взять тебя в родильный зал, а я пока подсоединю инфузию». – Как? Уже? Ведь все говорили, что первые роды длятся очень долго; я была уверена, что мне придется еще гулять и гулять… я же только недавно проснулась… Пришел санитар. «Такси подано, Ваше Высочество», – весело сообщил он, и я подумала, сколько таких, как я, напуганных, растерянных, взволнованных он видит за день. Сколько матерей он проводил в их последний-первый путь! – И тогда сестра спросила меня, где муж, – берет на себя штурвал нашей истории Далья, – и я ей сказала, что мужа нет и что я буду около тебя, если это можно. «Конечно, можно; хорошо, что у нее есть ты. Вы встретитесь наверху», – она взяла меня за руку и показала, где лифт. В лифте было зеркало. Ты увидишь роды, – сказала я паре испуганно глядящих на меня глаз, – и ты поможешь ей всем, чем сможешь; она в тебе нуждается. Это очень страшно, но ты справишься. – Ты улыбалась мне, – продолжаю я, – не подозревая, что там, в родильной палате, я думала только об одном: мамочка, где ты?! Как я переживу это без тебя? Если бы ты только могла положить свою прохладную ладонь мне на лоб и пообещать, что все пройдет; дышать вместе со мной часто, но размеренно, как учили нас на курсах; поить меня через соломинку, которую я потом вырву из бутылки и закушу изо всех сил, чтобы выдуть свою боль через прозрачную воздушную трубку… Откуда-то до меня донесся голос: «Здравствуй, меня зовут Яна, я твоя акушерка. Как наши дела?» А за ним выплыло улыбающееся лицо, которому я попыталась улыбнуться в ответ. «Ужасно! Мне страшно больно! – и добавила, – Помогите»… Яна опять улыбнулась и начала задавать вопросы, на которые я уже отвечала раньше: чем я болела, есть ли у меня аллергия… И вдруг это обрушилось на меня, как водоворот, который засасывает, влечет вниз; и я стремительно падаю, барахтаясь в вихре течений, пытаясь вздохнуть, спастись; мое тело изгибается в дьявольском усилии вырваться, и я слышу звук, исходящий из меня, – я кричу. А в следующий миг все успокаивается – буря утихла, и я лежу на кровати опустошенная, потная, дрожащая от холода. И вот уже рука гладит меня по лбу, впитывает влагу. «Я не заметила, как ты зашла», – успеваю сказать я прежде, чем стая черных ворон хватает меня, вцепившись стальными когтями в спину, и дробит ее своими коваными клювами. Я кричу. Все уже вот-вот кончится и будет позади, ты увидишь, я обещаю! Нет, это не Далья, это моя бабушка и ее бабушка, и бабушка ее бабушки – все говорят ее голосом… в каждой клеточке моего тела сохранились частички других, всех женщин моей семьи; и все они сейчас здесь, помогают мне прорубить дорогу наружу, к свободе… – Тужься! – сказала ты мне. – Тужься! – говорят мне все хором. Я тужусь, – говорю себе я, презирая боль, которая грозит отвлечь меня от поставленной задачи. Ничто не сможет меня остановить. Я тужусь. – Вот и голова, – радуется акушерка, – хочешь потрогать? Я протянула руку и почувствовала неровный маслянистый шар – только, чтобы я смогла однажды рассказать моей девочке, что коснулась ее, – и тут же опять вцепилась в кроватные поручни. А затем комната заполнилась тенями. Я напрягаюсь в последний раз и чувствую, как выскальзывает из меня увлекаемое волной тельце. Акушерка кладет его мне на живот. Все кончилось, но уже новая мысль не дает мне покоя: как я буду жить, если чтонибудь с ней не в порядке? – Мне было так страшно, – говорю я Далье, цепляясь за прошлое, отодвигая от себя настоящее. Но она уже с любопытством рассматривает меня, моя дочь. – Я твоя мама, – шепчу я ей и плачу. Я твоя мама, Эйнав, девочка моя… Я твоя мама? Я уже и не знаю… Сознание того, что я твоя мама, а ты моя дочка, начинает терять свою остроту. Если я – Мать, одна-единственная, отвечающая за все, то я не справилась. Может, я заслужила, чтобы ты ушла? Может, я действительно виновата? Намного больше, чем Маргалит! Я виновата. Виновата перед всеми, кого любила. В том числе и перед Дальей. Ведь я сделала ей то же, что сделала мне Эйнав: исчезла без каких-либо объяснений, ничего не объяснив ни себе, ни ей. Поначалу она еще пыталась заговорить, притворяясь, что ничего не происходит. Я никак не отзывалась, во мне была глухая пустота. Она продолжала, но недолго, оставляла мне записки под дверью, потом – сдалась. Я исчезла, все исчезло, прекратилось, закончилось. Из-за меня. Встреча восьмая Прощание Медленным шагом, не глядя по сторонам и не замечая вечернего уличного шума, Элла шла по аллее, ведущей к Дому матери и ребенка. Как всегда неожиданно, в памяти всплыла картина. Это произошло в одну из суббот, когда она была еще совсем маленькой и у нее были родители. В поисках, чем бы заняться, пока мама и папа проснутся и тем самым избавят ее от скуки, она наткнулась на ненавистные ей красные, с множеством ремешков и огромными металлическими застежками сандалии. Ножницы лежали на их обычном месте – в коробке с нитками, и в одно мгновение сандалии были разрезаны. Она сделала это не задумываясь, поддавшись какому-то внутреннему порыву и даже не пытаясь ему противостоять. А затем она стояла, застывшая от страха, и тупо смотрела на свои преступницы-руки. «Я их ненавижу», – повторяла она про себя, репетируя в уме неизбежный разговор с мамой и папой; но каждое последующее слово только усиливало чувство вины: ведь это из-за нее мама бегала по городу в поисках сандалий к началу лета. И она же сама выбрала эти – красные – просто потому, что ей надоело мерить и мерить. Все утро она крутилась возле них, не находя себе места, но они ничего не замечали, занятые своими делами. Она ждала и ждала, кашляла и даже разбила тарелку, вызвавшись помыть посуду после завтрака, но они только посмотрели на нее, ничуть не сердясь, успокоили и перебрались в гостиную читать газеты. В конце концов она предстала перед ними, опустив голову, с сандалиями в вытянутых руках, будто готовясь передать вину в другие руки, а на себя принять наказание, которое избавит ее от страданий. Проносятся годы, и вот она устало поднимается по лестнице, направляясь в желтофиолетовую комнату на последнем этаже. «Я уже давно взрослая, зрелая женщина, но по-прежнему не способна самостоятельно противостоять угрызениям совести, – думает Элла, готовая покориться своей боли до конца; уйти в нее вся, без остатка, – я не ищу больше утешения у других и в их доводы я больше не верю». Женщины уже сидят на своих местах, и она с облегчением беззвучно занимает свое место в круге. – На прошлой неделе мы говорили о чувстве вины, которое испытывает мать по отношению к дочери, – произносит Нири и добавляет. – Сегодня я хочу начать нашу встречу иначе, чем обычно. Я хочу предложить вам рассказать о каком-нибудь эпизоде, который произошел, когда ваша дочь была беременна, и который впрямую касается ваших с ней отношений. Наступает пауза: женщины пытаются выудить из памяти подходящий пример. Нири, как обычно, никого не торопит. Рут вынимает из матерчатой белой сумки бутылочку с водой, делает несколько жадных глотков и обращается к Нири: – Можно? Есть у меня один эпизод, который я, по-моему, никогда не забуду. Нири ободряюще кивает. Рут ставит бутылку возле ножки стула и продолжает, машинально поглаживая кольцо с большим зеленым камнем в старинной серебряной оправе: – Как-то, когда Талья была уже на девятом месяце, я поехала к ней. Еще с полдороги я позвонила и предложила встретиться в кафе рядом с ее домом. Она сказала, что ей не особенно хочется выходить из дома, но тут же переспросила: а ты хочешь? Честно говоря, я не была голодна, и на улице шел проливной дождь, но я ответила, что, да, хочу, и добавила, что, возможно, у нас больше не будет такой возможности посидеть в кафе только вдвоем, без ребенка. На улице лило как из ведра. Я пришла в кафе первой и видела, как она заходит: сначала живот, за ним – она сама с большим белым зонтом в руках. Мы заняли столик, и я помню, как повторила с комом в горле, что, возможно, это в последний раз, что мы можем спокойно посидеть друг с другом – только ты да я. Мы любим сидеть в кафе вдвоем и болтать на миллион разных тем; эти встречи наедине для меня стали больше чем традиция – они стали потребностью. Правда, в последние годы мы живем слишком далеко, и у обеих катастрофически не хватает времени, но мы, пусть и не так часто, но обязательно встречались. И вы знаете, мои предчувствия оправдались: через три недели родился наш маленький Гай. Пока я ждала ее там, в кафе, мне было очень грустно, хотя я и пыталась представить, как здорово нам будет гулять с коляской, опять вдвоем. Я понимала, что прощаюсь с привычной мне жизнью, что в самое ближайшее время все изменится. Я знала, что прямо сейчас одна часть жизни кончается и начинается другая, что и в ней, конечно, будет много хорошего, но дороги назад оттуда не будет. – Да, все в жизни меняется и продолжается, – задумчиво замечает Това. Рут делает короткую паузу, а затем продолжает, глядя на Тову: – Прошло примерно четыре месяца после родов, и я ловлю себя на ощущении какой-то пустоты, на чувстве… будто моя маленькая дочка окончательно покинула гнездо. Это странно, потому что она уже давно не живет дома. Сразу после армии она переехала из Иерусалима к своему другу, и я восприняла это совершенно спокойно. Но тут вдруг до меня дошло, что все – у нее своя семья. Не поймите меня неправильно, я привыкла к тому, что она не зависит от меня. Наоборот, я очень рада, что она взрослая и самостоятельная и что личная жизнь у нее налаживается, они любят друг друга и очень хорошо друг к другу относятся. Я счастлива за них и уже обожаю своего внука, но в последнее время мне часто становится тоскливо; и, честно говоря, я к этому не была готова: я думала, что моя жизнь станет только богаче, наполнится массой новых положительных эмоций. Женщины молчат, задумавшись. – Мне кажется, вы недовольны собой, – прерывает молчание Нири, – тем, что в то время как ваша дочь создает новую жизнь, вы сами испытываете чувство потери. Взгляды всей группы устремлены на Рут, и она склоняет голову в знак согласия. Нири подается вперед: – Произошло что-то конкретное, из-за чего вы чувствуете, что уже не так близки, как раньше? – Я даже не знаю, – морщит лоб Рут, – может, мы стали меньше говорить по телефону, и у нас практически нет возможности остаться наедине. К примеру, две недели тому назад у меня был день рождения, и она позвонила только поздно вечером. Правда, она очень извинялась: у нее была ужасная ночь, а потом и весь день пошел насмарку. Я не сержусь на нее, я сама прекрасно знаю, что значит маленький ребенок в доме. Скорее всего, я слишком все усложняю, ведь это естественно, что у нее сейчас ни для кого нет времени. Возможно, это из-за того, что я сама слишком хорошо помню, как все было между мной и моей мамой. – А как это было? – с интересом спрашивает Клодин. – Я не особенно по ней скучала, – пожимает плечами Рут, – не помню, чтобы мне ее не доставало: у меня были свои будни, муж, работа, дети. Периодически я ее навещала – и все. Примерно то же самое происходит и сейчас, но теперь я сама на ее месте, и чувствую, что теряю мою дочь. Я повторяю еще раз, чтобы вы не сомневались, я счастлива за нее; я не ревную ее ни к мужу, ни к сыну, но получается, что – хочет она того или нет – она отдаляется от меня. Точно так же и я отошла от своей мамы. Это естественный процесс, я понимаю, но от этого мне не становится легче. Рут отворачивается к окну, но продолжает говорить. – Даже когда твоя дочь вырастает и сама становится матерью, ты по-прежнему ее мама, для тебя ничего не меняется. Ты точно так же ее любишь и ничуть не меньше за нее переживаешь, но, с ее точки зрения, положение вещей, да, изменилось – она больше от тебя не зависит. Пусть Талья очень ко мне привязана и, мне хочется верить, любит и уважает меня, но она может обойтись и без меня. Природа так устроена, что дети после определенного возраста уже не нуждаются в родителях так, как нуждались в них раньше. Наступит день – и меня не станет, и она прекрасно справится без меня. Так, собственно, и должно быть; это даже свидетельствует о том, что я полностью и хорошо выполнила свои обязанности, но мне нелегко с этим смириться. Глаза Рут влажнеют, голос дрожит от сдерживаемых слез. – Пусть я не нужна ей каждый день, это нормально, но я осталась… я знаю, что в моем сердце она занимала и всегда будет занимать самое главное место; а вот место, которое отведено мне, будет только уменьшаться и уменьшаться. Так устроена жизнь… – Это то, что так пугает в старости, – тяжело вздыхает Това. – Дети создают свои семьи; у них появляются свои друзья, своя работа, а родители остаются родителями – они всегда там, и дети воспринимают их как что-то само собой разумеющееся. Я чувствую то же самое по отношению к моим родителям. Я помогаю им и провожу с ними массу времени, но и я воспринимаю их как что-то очень привычное, и для меня действительно намного более важны мои дети. Если быть честной до конца, то меня даже раздражает, что я должна заниматься ими за счет своего свободного времени вместо того, чтобы делать то, что мне действительно хочется, например, пойти в театр или провести время с детьми и внуком. Мне это намного приятнее, чем сидеть с папой в больнице. Очень нелегко разрываться между детьми и родителями, и очень неприятно в этом признаваться. В последнее время меня, вопервых, мучает совесть из-за моей неблагодарности, а во-вторых, я начинаю, как и вы, Рут, понимать, что близок день, когда и мои дети будут с удовольствием проводить время в кругу своей семьи, а связь со мной превратится для них в обременительную обязанность. Это тяжело, обидно и страшно. «Для меня этот день уже наступил, – говорит себе Элла. – Эйнав предпочла мне других намного раньше, чем у нее появилась дочка». «Вот и вы, наверное, – мысленно обращается она к Нири, – как и все остальные, спрашиваете себя: что могло заставить мою дочку отказаться от меня раньше времени? И, конечно, вините во всем себя». Нири обводит взглядом группу и чуть-чуть подольше задерживается на Элле. – Если на прошлой неделе вы говорили о том, что чувства, мысли и поведение матери влияют на ее связь с дочкой, то сегодня вы обсуждаете роль дочки. Так, к примеру, и в жизни дочки может наступить момент или сложиться ситуация, когда у нее появится потребность сблизиться с матерью или, наоборот, отдалиться от нее. И это никак не связано со сложившимися между ними отношениями, а просто необходимо для ее дальнейшего развития. Но судя по тому, что вы рассказываете, каждый раз, когда она чуть отдаляется, вам приходится бороться с чувством обиды и разочарования. Она делает паузу и поворачивается к Маргалит. – Я хочу поделиться с вами предположением, которое возникло у меня, когда я мысленно возвращалась к тому, что рассказала нам Маргалит на прошлой неделе. Она испугалась, когда Михаль захотела открыть документы, связанные с ее удочерением, и решила, что та делает это специально, чтобы ее унизить. Я предлагаю посмотреть на это иначе, как на потребность и необходимость познать себя. У каждого ребенка в тот или иной период взросления возникает желание определиться, проследить свои корни. Быть может, Михаль не столько отдалилась от Маргалит, сколько прибизилась к себе? Нири вопросительно смотрит на Маргалит. – Именно так, слово в слово, сказал мне тогда мой муж, – улыбается Маргалит, – он воспринял очень спокойно ее желание заглянуть в свое личное дело; он даже сказал мне, что я пытаюсь всеми правдами и неправдами вызвать в себе чувство вины. Она задумчиво продолжает: – Если отнестись к этому так, как вы предлагаете, – возможно, Михаль сделала это только ради себя самой – мне станет намного легче; я избавлюсь от чувства вины, а главное, перестану мучиться от обиды. Нири переводит взгляд на Эллу. – Мы не знаем, что заставило Эйнав уйти, – мягко произносит она, – но мы можем попытаться выяснить, как вы сами объясняете ее выбор. Элла молча качает головой. Я не понимаю и не пойму ее, – беззвучно отвечает она. – Я не желаю себя защищать: я виновата – и точка; что сделано, того уже не исправишь. Она молчит, опустив голову, и вместе с ней, смущенно понурив головы, молчат остальные. – Я бы не сказала, что в последнее время мы отдалились друг от друга, – не выдержав напряженной тишины, говорит Анна, заправляя за уши непокорные локоны, – правда, я не заметила и какой-то особой близости. Возможно, это произойдет, как вы сказали, уже после родов. Она расправляет плечи и выпрямляет спину. – Меня вообще не очень-то занимают мои с Наамой отношения, мне не кажется, что в последнее время в них произошли какие-либо изменения. Эпизод, который я хочу рассказать по просьбе Нири, произошел несколько дней тому назад. Я увидела Нааму издалека и в первый миг не узнала ее, а подумала, что за красивая женщина стоит там. Я приближалась и рассматривала ее, все еще не понимая, что любуюсь Наамой! Потом я была в шоке: не узнать собственную дочь! Анна смеется и ей опять приходится убирать упрямые кудряшки. – Она показалась мне неожиданно большой – полная красивая женщина. В ней сейчас столько женственности, этого невозможно скрыть даже при желании! Кроме того, она перестала стесняться, выбирает яркую обтягивающую одежду с вырезом – никогда бы не смогла подумать, что такое может произойти. Моя строгая дочка, которая иногда напоминала мне монашку и могла сомневаться месяцами, прежде чем принимала какое-то решение, скоро станет матерью! Смешно, недавно я сказала моему мужу, что мне стало легче, потому что теперь, когда Наама беременна, я точно знаю, что она не девственница, хотя не уверена, – добавляет она сквозь смех, – что она имеет от этого удовольствие. – Послушайте, как вы можете так о ней говорить? – вскакивает со своего места Мики. – А что тут такого? – улыбается ей Анна, – Наама всегда была очень сдержанной и стеснительной, копия своего отца. Насколько я всегда открыта и независима во всем, что касается моего тела, женственности, сексуальности, настолько она никогда не подпускала меня к себе и не желала ничего знать обо мне. Несколько лет, пока у нее росла грудь, она ходила вот так, согнувшись. Анна встает со стула и, ссутулившись, с неподвижно свисающими вдоль тела руками, косолапо пересекает комнату. – Наама даже скрыла от меня первые месячные, – возвращаясь на место, продолжает она, – настолько она стеснялась. Для нее все, что касалось тела, всегда было запретной темой, в то время как у меня все было нараспашку. Ну вот я и подумала, что раз она беременна, значит, все-таки знает, что надо делать, – комично разводя руками, поясняет Анна, – какое облегчение! Если подумать, может, из-за этого я чувствую себя ближе: наконец-то мы хоть в чем-то похожи, мы обе женщины; может, это и есть то самое сближение? – Вы говорите, что теперь, когда Наама беременна, она больше похожа на женщину? – удивленно приподняв брови, переспрашивает Това. – По-видимому, да, – после короткой паузы отвечает Анна, – я не особенно над этим задумывалась, но теперь я воспринимаю ее как женщину, а раньше она по-прежнему оставалась для меня просто молодой девушкой. Любая мать, она – женщина, но не любая женщина – мать. Ладно, оставим это, я не собираюсь раскладывать женщин по полочкам, развешивать на них ярлыки – ни к чему это. Но если честно, я чувствую, что теперь она настоящая женщина, а так как и я женщина, то наконец-то у нас появилось много общего; мы теперь в одной компании. – Я тоже считаю, что беременность и роды очень сближают женщин – и не только мать и дочь, – под звон цепочек и браслетов присоединяется к ним Клодин, – нас связывает, что мы обе женщины, знаем, как это – рожать – и что значит быть матерью. Я помню, когда была беременной первый раз, мне казалось, что каждая женщина с ребенком обязательно обращает на меня внимание, потому что она-то точно знает, что со мной происходит. У меня было такое чувство, будто все матери во всем мире связаны между собой. – Ни один мужчина не в состоянии прочувствовать ни физически, ни эмоционально, что такое беременность! – оживленно кивая, поддерживает ее Орна. – И вообще только женщина в состоянии понять женщину! Мой муж очень волновался перед родами и оттого, что он станет дедом, но я уверена, что он не испытывал того, что испытала я, и не чувствовал, что его жизнь изменилась. У него только прибавилось радости, а в остальном все осталось без изменений. Это не значит, что он любит Яэль меньше, чем я, но связь между мною и ею – это что-то совсем другое! – А я вам говорю, что беременность и роды укрепляют связь между мамой и дочкой, – выпрямляется на стуле Мики, – мы всегда были очень близки, прямо как лучшие подруги, но беременность и роды сблизили нас еще больше. Правда, было несколько лет, когда большую часть времени она проводила со своими подружками, потом она переехала жить к своему парню, но сегодня у нас опять очень близкие отношения, и мы встречаемся или перезваниваемся каждый день. Я вижу, как все изменилось с тех пор, как она родила; теперь я ей нужна намного больше. Потому что я ее мама, и на кого еще она может так положиться? Только мне она может звонить каждый день по несколько раз, чтобы рассказать, что он сделал и сколько раз покакал, и как они спали этой ночью. Теперь я опять знаю о каждой мелочи в ее жизни, она со мной советуется, я ей необходима. Я иногда чувствую себя, как птица, которая приносит корм своим птенцам, перекладывает его из клюва в клюв. «А я, Эйнав, разве не приносила тебе корм в клюве? В этом все дело? Что, я недостаточно о тебе заботилась? Этого не может быть! – Вопросы атакуют Эллу как потревоженные галки – пикируют со всех сторон. – Нет, это не то! Тогда что же случилось между нами? От чего ты бежала и что пыталась найти?» – А по-моему, то, что происходит с вами сейчас, – это явление временное, – обращается к Мики Рут; ее золотисто-коричневые глаза как всегда излучают тепло и участие. – Возможно, вы действительно стали ближе, и у вас стало намного больше общего, но лично я думаю, так будет продолжаться, только пока у нее маленький ребенок. Пока им нужна наша помощь – в большей или меньшей мере в зависимости от расстояния – мы будем близки, а затем наступит день – и что? Дистанция между нами опять начнет расти. В этой ситуации все определяют дети, не мы. Я совсем не считаю, что это неблагодарность – просто так устроена жизнь. А жаль! У меня лично нет никаких иллюзий. Я всегда говорю себе: посмотри, что происходит с тобой и твоими родителями; с твоими детьми будет точно так же. Сначала ты всю себя отдаешь ей, и она на сто процентов принадлежит тебе. Со временем это соотношение меняется: ты по-прежнему большую часть себя посвящаешь ей, от ее же близости к тебе в лучшем случае остается половина. Жизнь – жестокая штука! Поэтому я иногда думаю: может быть, зря современное общество так старается увеличить продолжительность жизни? Скорее всего, природа предполагала, что мы не будем здесь слишком долго задерживаться, чтобы не мучиться ни физически, ни морально. В конце концов, родители остаются одни, скучают по детям и удивляются, как это так, почему ребенок не приходит? Я же к нему не изменилась, почему же он не скучает? Появляется чувство никчемности, безысходности. Вот вам и конец отношений. У животных это происходит через три недели, у человека – когда дети становятся самостоятельными. Рут усаживается поудобней и скрещивает руки на груди, давая понять, что ей больше нечего добавить. – С одной стороны, – вступает Нири, взглядом поблагодарив Рут, – вы становитесь ближе, потому что у вас опять появляется много общего, с другой – дочь отдаляется от вас, потому что только так, продвигаясь вперед, она в состоянии построить свою собственную семью. Мне это напоминает определенный этап в конкурсе перетягивания каната. Всегда есть одна сторона, которая тянет сильнее, и другая, которая в это время слегка поддается. А иногда обе стороны тянут с одинаковой силой. Другими словами, степень близости или удаления никогда не измеряется одной точкой, это всегда расстояние между двумя пунктами. – Я и Ширли всю нашу жизнь то сближаемся, то расходимся, – замечает Това, – каждый раз кто-то из нас двоих натягивает канат. Мне трудно сказать, когда я отдалилась от нее, может, когда вышла на работу. Что касается Ширли, то она начала сбегать от меня, как только научилась ползать. Но тогда я знала, что она вернется, чтобы убедиться, что я все там же, на старом месте, и набраться сил для нового побега. Потом она поехала учиться, а у меня было такое чувство, что она меня бросила. Но и в тот раз она вернулась. И даже когда она перешла жить к своему парню, я не чувствовала себя так, как сегодня. Наверное, думала, что это в любой момент может кончиться: я ведь всегда все вижу в черном свете. А в этот раз я понимаю, что это окончательно, навсегда. – А что вы испытываете, когда думаете о том, что на этот раз, как вы выразились, это навсегда? – задает очередной вопрос Нири. – Я, как и Рут, отношусь к этому двойственно. Мне, естественно, грустно, что наши дороги расходятся, но я рада, что она стала самостоятельным человеком и у нее своя семья. Самое для меня удивительное, что меня раньше совершенно не тянуло стать бабушкой, а теперь я вся в этом, – усмехается Това, а затем, посерьезнев, продолжает: – Я не могу сказать, что стоило Ширли родить – и все мои сомнения исчезли, но я вдруг почувствовала, что роль бабушки мне очень подходит. Ведь во мне уже никто не нуждается, так как я свои обязанности, можно сказать, выполнила: дети уже большие, мой муж со мной не живет. И вдруг у нас в семье появился маленький ребенок, и это вызывает во мне такое чувство… такое желание быть… мне даже сложно определить кем. Нет, я не собираюсь быть опять мамой – я не могу быть мамой для моих внуков. Но у меня самой вдруг возникла потребность в детях, для которых я являюсь кем-то важным; которым я смогу… которые в той или иной степени зависят от меня, а не я от них, как это происходит с моими детьми. Я понимаю, что это может звучать несколько эгоистично, но… есть что-то в материнстве, с чем я не хочу расставаться. Я вдруг почувствовала, как мне нужно – даже необходимо – ощутить еще раз это особое тепло прижимающегося к тебе маленького тельца. Оказывается, чем больше проходит времени… как будто что-то поселяется в матери, когда она рожает, и больше не исчезает никогда; а когда появляются внуки, это переходит на них. Так это выглядит для меня сегодня, никогда раньше я не пыталась это сформулировать, даже для себя самой. Нири смотрит в глаза Тове, будто стараясь прочесть в них ответ на еще не заданный вопрос. – Вы могли бы описать поподробнее это «что-то», что «поселяется» в матери навсегда? Това сосредоточенно смотрит куда-то в глубину комнаты и молчит; ее сережки, усыпанные мелкими камешками, весело искрятся, отражая свет неоновых ламп на потолке. Вместе с ней, задумавшись, молчат и остальные матери – никто не спешит нарушить уже ставшую привычной с начала встречи тишину. – Я имею в виду, – в голосе Товы явно слышится волнение, – что появляется какое-то особое материнское чувство, материнский взгляд на вещи, или – я не знаю, как это объяснить – что-то очень глубокое. Сложно определить одним словом, что дает мне материнство. Это что-то такое сильное, от чего ты ни за что не готова отказаться; ты хочешь, чтобы это продолжалось вечно. Когда дети покидают дом, роль матери резко сокращается, потому что они уже не находятся рядом с тобой каждый день и уже не так от тебя зависят. Ты уже не нужна детям, как раньше, но в душе ты остаешься все той же мамой, от этого невозможно избавиться, это и есть то, что не исчезнет никогда. – Я согласна с каждым вашим словом, – поворачивается к ней Маргалит, – я тоже чувствую, что после того, как дети уходят из дома, что-то меняется в наших отношениях. Мне есть с чем сравнивать – у меня дома остались еще двое. Вне всякого сомнения, есть разница в связи матери с маленьким или взрослым ребенком. Взрослые самостоятельные дети не только меньше делятся с вами своими чувствами – на это у них есть мужья, жены и друзья, – но при встречах с ними обращаешь внимание, что и физически это уже совсем не то; они почти не дают мне себя обнять, а уж поцеловать – и подавно. Да и при всем желании ты не можешь обхватить и прижать к себе взрослого, как ты делаешь это с ребенком. Вот и получается, что, когда дети вырастают, у матери остается неудовлетворенная потребность отдавать ласку и тепло. Короче, материнство – это наркотик! «Наркотик? – спрашивает себя Элла, и ее начинают душить слезы. – А то, что прохожу я, это что – муки избавления от наркозависимости?» И опять тишина. Элла, желая что-то сказать, подается вперед, но передумав, опускает голову. Заметив это, Клодин спрашивает: – Вы хотели что-то сказать? Элла ловит на себе ее сочувствующий взгляд. – Я знаю, о чем вы говорите. Во мне накопилось столько любви, и мне некому ее отдать! Это чувство мне знакомо уже очень давно, еще до того, как ушла Эйнав. Я начала это ощущать, когда она еще была в школе. Наступает возраст, когда мама вдруг начинает им мешать. Это происходит внезапно и без каких-либо видимых причин. Хорошо, что есть мама, но любое проявление любви с ее стороны воспринимается ими как излишние телячьи нежности: «Мама! Оставь меня в покое»… Я помню, как Эйнав где-то задерживалась, и я боялась ей звонить, потому что было невозможно предугадать ее реакцию. Вечно получалось, что я ей мешаю. А я всегда чувствовала и сейчас чувствую, что я могу дать очень много, что мое сердце переполнено любовью. Она вздыхает. – С маленьким ребенком проще. Он не противится – наоборот, сколько бы он ни получил, ему нужно еще и еще. Женщины сочувственно молчат. Нири поправляет падающие на глаза волосы. – Ваши внуки спасают вас от тоски и отчаянья, – обращается она к группе, – они дают вам возможность вновь ощутить чувства, которых вам так не хватает. Поэтому роль бабушки не оказывается для вас чем-то абсолютно новым, это своего рода еще один виток спирали материнства; спирали, которую вы начали вычерчивать с рождения вашего первого ребенка. Комната опять наполняется жизнью; у всех, кроме Эллы, словно открывается второе дыхание. – Предположим, что внук действительно компенсирует «утраченное» материнство, – оживленно замечает Рут. – Если бы мне надо было выбрать между внуком и дочкой – что в принципе нереально, не так ли? – я бы… Даже нечего думать, она же моя дочь! Между прочим, моя мама повторяет мне это очень часто: она безумно любит своих внуков, и я думаю, ей иногда кажется, что я ревную. Так вот, она часто говорит мне: «Для меня, прежде всего, – ты». Может, поэтому и я чувствую так же. К ней присоединяется Това: – Скажем так: как это ни цинично и даже жестоко звучит, я тоже выбираю дочь. А почему? Во-первых, потому что я ее люблю, и, кроме того, я признаюсь в эгоизме – я тоже нуждаюсь в ком-то, кто будет ухаживать за мной в старости. Да, я не отрицаю, это не только из любви! Я не желаю оставаться одна. Наступит день – и довольно скоро, – когда моей дочке придется ухаживать за мной, как я ухаживаю сегодня за моими родителями. Ничего не поделаешь, моя дочь взрослеет, а я старею. И снова в группе тишина; тяжелые мысли, озвученные Товой, висят в воздухе комнаты, отражаясь безмолвным эхом от желто-фиолетовых стен и таинственно-черных окон. – Как часто бывает, – выдержав паузу, вступает Нири, – что радость и боль селятся по соседству: к радости сохраненного и продленного материнства примешивается боль и страх одиночества. Кое у кого боль на данный момент сильнее радости, и доказательство этому – ваш выбор «не изменять» дочери, не лишать ее первенства. Вы не только не покидаете ее, вы, скорее, не отпускаете ее. – А как может быть иначе? – взволнованно возражает Элла. – Быть матерью, чувствовать себя матерью – это что-то, что остается с тобой навсегда; это невозможно забрать, потому что это как одежда, как твоя вторая кожа. Если что-то и меняется, так только внешние обстоятельства, а внутри ты никогда не прекращаешь быть матерью, даже в моей ситуации. Только здесь, разговаривая с вами, я поняла это до конца. Я боюсь сравнивать, но я уверена, что даже мать, похоронившая своего ребенка, до конца дней своих остается матерью. Так и я даже в моем ужасном положении для себя самой была и есть мать. У нее дрожат губы. – Я не могу себе представить, что моя внучка так меня и не узнает. В последнее время я только о ней и думаю – она же моя частичка; и это не для того, чтобы через нее сблизиться с Эйнав, я действительно мечтаю прижать ее к себе, уткнуться носом в ее шейку, вдохнуть ее запах. Я начинаю понимать, что, по-видимому, меня лишат и этого. Элла прикрывает лицо руками, встает и, ни на кого не глядя, пересекает комнату. Маргалит устремляется за ней, но Элла делает ей знак рукой оставаться на месте и уже в дверях еле слышно произносит: «Оставьте меня, я вернусь». Все подавленно молчат. Через несколько минут Элла возвращается и молча садится на место. Мики достает из сумки мятную конфету и, развернув громко шуршащую обертку, кладет ее в рот. Маргалит смотрит на Эллу. – Я очень переживаю за вас и очень хотела бы как-то вам помочь. Может, я могла бы встретиться с Эйнав, поговорить с ней? – Наверное, уже были люди, которые пытались как-то наладить связь между вами? – откликается Орна. Элла оставляет Маргалит и Орну без ответа и обращается только к Нири: – Я пойду домой, извините. Маргалит опять привстает со своего места. – Вы хотите, чтобы я вас проводила? Но Элла качает головой. – Спасибо, мне бы хотелось побыть одной. Матери следят, как она торопливо собирается: берет сумку, поднимает соскользнувший на стул шарф. Нири подходит к ней, гладит по плечу. – Я позвоню вам на неделе, – мягко произносит она. Элла кивает и выходит. Маргалит тяжело вздыхает и украдкой вытирает слезы. Рут поглаживает камень на безымянном пальце левой руки. Клодин, качая головой, перебирает браслеты. Това пытается что-то разглядеть в черном пространстве за окном, а Орна снимает очки и старательно протирает их краем блузки. Анна поправляет волосы и с ожиданием смотрит на Нири, которая переводит свой взгляд с одной матери на другую, пока не задерживается на месте, где только что сидела Элла. Мики, скрестив руки на груди, с интересом наблюдает за происходящим. Первой заговаривает Анна. – Я не могу смотреть, как Элла страдает, – все еще не сводя глаз с Нири, говорит она, – как бы я хотела вытащить ее из этого болота, хотя бы на короткое время. Даже просто кудато пойти, чтобы она могла хоть чуть-чуть развеяться. Может, она познакомится с кемнибудь. Связь с внуком и правда придает вам силы и наполняет любовью, но в жизни существуют и другие вещи. – О чем вы говорите? – поднимает руку Мики. – Нет боли сильнее, чем боль матери, потерявшей связь со своим ребенком. И неважно, по какой причине. Я не представляю, как можно при этом продолжать жить, как будто ничего не произошло. – Нет ничего тяжелее этого, – отзывается со своего места Клодин, – я бы тоже не смогла оправиться после такого удара. Как я ни оплакиваю своего мужа, это ничто по сравнению с тем, что бы я испытывала, если бы, не дай бог, потеряла ребенка. Женщины прячут глаза, боясь встретиться взглядами; каждая сосредотачивается на своей, только ей видимой точке в пространстве комнаты. Нири обращается к группе. – Сегодня мы говорили о том, что вы переживаете, когда ваши дочки отдаляются от вас после родов. Несмотря на то, что это естественно и неизбежно, – и вы это, конечно, знаете – вам все равно больно. Когда дочь отдаляется – и неважно, в каком возрасте – для матери это не проходит бесследно; она переживает, но, в первую очередь, ее охватывает жуткий страх: а вдруг она не вернется. То, чего так боялась Маргалит, с ней, на ее счастье, не случилось, но это случилось с Эллой. Нири делает короткую паузу, оглядывая группу; все внимательно слушают. – Для Эллы этот страшный сон оказался действительностью. Она и ее дочь не то что отдалились одна от другой, они расстались. Ее взгляд опять задерживается на стуле, предназначенном для Эллы. – В настоящий момент Элла предпочла уйти, отдалиться от группы, вероятно, из-за того, что что-то в отношениях с группой оказалось для нее невыносимым. Возможно, то же самое произошло и с Эйнав: может, и она, как Элла, ушла не из-за недостатка в близости или в любви, а из-за чего-то в их отношениях, что стало для нее нестерпимым. Мы, естественно, не имеем понятия, что чувствовала Эйнав; и нам остается только ждать, во что это выльется, пребывая при этом в состоянии неопределенности, в котором всегда находится сторона, которую бросили. – А я уверена, что Элла вернется, – глядя на Нири, говорит Клодин, – иногда человеку необходимо какое-то время побыть одному, а потом она вернется. – Не знаю, вернется ли она в группу, – подхватывает Рут, – но мне ясно одно. Мне ясно, что для нее сейчас лучше всего остаться наедине с собой. Мне тоже иногда необходимо отступить на пару шагов в сторону или даже сделать несколько шагов назад, прежде чем я смогу продолжить. И это возможно только, когда ты совершенно один. Может, все к лучшему; и то, что она пережила, заставит ее посмотреть на вещи иначе или даже что-то изменить, не знаю… Она неопределенно пожимает плечами, и ее громко поддерживает Анна: – Может быть, она, как я сказала раньше, наконец-то начнет жить! – Я, в отличие от вас, очень за нее неспокойна, – охлаждает царящий в комнате оптимизм Това, – я не уверена, что у нее окажется достаточно сил, чтобы взять себя в руки и выкарабкаться. – Правильно! Нельзя оставлять ее одну, – раздается взволнованный голос Маргалит, но Рут возражает: – Но ведь она просила оставить ее в покое! Вы не можете навязывать человеку свое участие! – Да, – не сдается Маргалит, – но… я бы не хотела… может, я позвоню к ней, чтобы проверить. А вдруг через день-два она, наоборот, не сможет быть одна. – Вы правы! – откликается Орна. – Подождем немного, а потом посмотрим. Самое главное, чтобы она знала, что она всегда может на нас рассчитывать! Мики ловит на себе внимательный взгляд Нири. Она глубоко вздыхает и выпрямляется. – Я бы сказала, очень грустная история. Даже если я и была… как бы это сказать… даже если Элле было со мной нелегко, не думайте, что мне не тяжело видеть ее в таком состоянии. Я тоже надеюсь, что у нее все наладится, что она найдет правильный выход. Правда. Уже несколько минут, как женщины молча исподтишка поглядывают друг на друга, но никто не решается заговорить. Первой не выдерживает Нири. – Не один раз за сегодняшнюю встречу у меня возникало ощущение, что мы сидим в доме, где кого-то оплакивают. Вот и сейчас, несмотря на промелькнувшую тут искорку надежды, общее настроение остается подавленным, можно сказать, траурным. Поднятые на Нири глаза и еле заметные движения головой свидетельствуют о правильности выбранного ею сравнения. – Скорее всего, в ближайшие дни мы так и не сможем ответить на вопрос, что будет с Эллой, когда она вернется, и вернется ли вообще. Время покажет. Будем надеяться, что мы расстались с ней только временно. Матери продолжают молча переглядываться, но уже в открытую, не исподтишка. Нири, погруженная в свои мысли, смотрит в окно, затем возвращается к группе: – Только что мне пришла в голову еще одна мысль. Именно сейчас, в пору, когда ваши дочки рожают своих первенцев, вы переживаете еще одно, на этот раз касающееся исключительно вас расставание. Вы прощаетесь с вашей способностью беременеть и рожать, и знаете, что прощаетесь навсегда, бесповоротно. Анна, которая за это время успела собрать окончательно надоевшие ей непослушные локоны и с трудом удерживает их одной рукой на макушке, высвобождает зажатую между зубами заколку и указывает ею в сторону Нири. – На этот раз вы попали прямо в яблочко! – возбужденно, не скрывая своего восхищения ее проницательностью, говорит она. – Я много думаю об этом в последнее время, особенно сейчас, когда Наама беременна. Проворно закрепив заколку, она опускает руки на колени. – Для меня сейчас это самый болезненный вопрос – смириться с тем, что ты никогда больше не сможешь рожать! Еще пять лет тому назад мы, Шауль и я, серьезно подумывали о третьем нашем общем ребенке. Для меня он мог оказаться пятым. Тогда я не поддалась: младшие дети были еще сравнительно маленькими, я еле с ними справлялась и поэтому решила прислушаться к разуму, – она выразительно стучит указательным пальцем по лбу, – что мне обычно несвойственно, и быстро отказалась от беременности, хотя и очень хотела еще мальчика или девочку. Если честно, то – девочку, я хотела напоследок еще одну девочку. – И ее у вас уже не будет, – еле слышно замечает Това. – Не будет, – повторяет Анна, – после этого у меня был год… представьте себе, мне было уже сорок пять, и это был год… тяжелый, может, это преувеличение, но я постоянно возвращалась к этому – к сознанию, что я должна распрощаться навсегда с мыслью быть еще раз мамой. И я все время говорила, что так нечестно, потому что, когда я рожала младшего сына, я не представляла, что он будет последним. Я даже всегда сердилась, если его называли последним – я называла его младшим. И еще я говорила, что если бы знала, что это в последний раз, то позволила бы себе расслабиться и побаловать себя во время беременности и, конечно же, осталась бы подольше дома после родов. Я была уверена, что у меня будет еще ребенок. Я действительно чувствую, что меня насильно, без моего согласия, заставили распрощаться с этой стороной моей жизни. Я и вправду дефективная по этой части – дефективная в прямом смысле, без кавычек – я по-настоящему чувствую себя своего рода калекой, что я достигла какой-то отметки, после которой у меня только одна дорога: я буду только все больше и больше портиться. Это не имеет отношения к возрасту, я совершенно не чувствую себя старой, совсем-совсем нет. Мы часто шутим по этому поводу дома. Шауль говорит, что он повзрослел, а я – нет. Но теперь я чувствую, что с тех пор, как я не в состоянии рожать, я потеряла не только свое предназначение, но и свое значение. Что бы я ни сделала, уже не имеет никакого значения. Мое тело с каждым днем только разрушается и уничтожается, в том числе и мозг, и все остальные органы, ничего хорошего в моем теле уже не происходит; и теперь это зависит только от скорости: насколько быстро или медленно это будет происходить. И это меня угнетает. Я знаю, что я ненормальная, что у меня что-то не в порядке. Мои подруги так прямо и говорят, что я больная, ну а Шауль уже привык. – Все, что вы говорите, правильно, – на этот раз уже громко говорит Това, – правильно с точки зрения науки. Посмотрите на животных, большинство женских особей в природе умирают вскоре после того, как прекращают приносить потомство. – Какое отвратительное слово «климакс»! – с брезгливой гримасой произносит Анна. – А вы знаете, что климакс в переводе с греческого – «ступень лестницы», а китайцы называют возраст менопаузы «вторая весна»? – поднимает голову Рут. – Вот здорово! – восхищается Маргалит. – Это надо запомнить. Приободрившись от полученной поддержки, Анна продолжает, но теперь уже улыбаясь: – Значит, я не зря чувствую себя изношенной, ничего не стоящей, совершенно лишней… В последнее время я вижу… Впрочем, может, это уже давно, а я только сейчас обратила на это внимание, что, когда я иду по улице, на меня уже больше не смотрят! Ни один мужчина уже на меня не оборачивается, даже те, кто старше меня; для всех я уже слишком старая! – Те, которые старше, смотрят на молодых, потому что они тоже хотят почувствовать себя молодыми! – усмехается Клодин, позванивая браслетами. – А я как раз все время получаю предложения от мужчин, – громко объявляет Мики и выпрямляется. Глядя на Рут, она продолжает: – Возможно, потому что я общаюсь со знаменитостями и очень слежу за собой, меня не оставляют в покое ни на минуту. Многих мужчин привлекают мои успехи в работе. Так что я абсолютно не согласна с тем, что вы говорите. Она энергично качает головой. – Я скажу вам, в чем проблема. Масса женщин нашего возраста прекращают следить за собой и очень быстро начинают выглядеть как настоящие «бабули», а потом еще удивляются, что на них не обращают внимания, – смеется Мики и продолжает. – Я уверена, что любая женщина, которая будет следить за своим внешним видом, контролировать свой вес, заниматься спортом и нормально одеваться – не важно, сколько ей лет, – сможет заставить мужчину обернуться ей вслед. Что касается меня, никому и в голову не придет заявить, что мое значение уменьшилось, наоборот! Она выпрямляется на стуле и поправляет блузку. – Я с годами становлюсь только лучше! – широко улыбаясь, добавляет она. – Я очень рада за вас, – с особым выражением в голосе обращается к ней Рут. – Может, и правда, когда хорошо выглядишь, то меньше ощущаешь… Она пытается найти подходящее слово, ее взгляд скользит по сидящим в кругу женщинам. – Я могу поверить, что это не происходит с Мики, но я уверена, что это знакомо большинству из нас – мы будто становимся прозрачными. Жаль, что я говорю это вам, да и себе тоже, но большая часть наших ровесниц уже действительно никого не интересует. Она смотрит на женщин, но при этом явно избегает Мики. – Мы не молодые и не цветущие матери; наши карьеры близятся к концу – большинство из нас уже вот-вот выйдут на пенсию – так что мы и правда больше не… как бы это сказать… не функциональны, не особенно важны обществу. По мнению общества, мы должны отойти на задний план; уступить дорогу молодым; обучать и подготавливать их к работе или помогать дома с внуками. Мир действительно принадлежит молодым, это не просто присказка. Больно, но зато – честно. И не думайте, что я в свое время считала иначе! Я помню себя в возрасте моей дочки, тогда шестидесятилетние казались мне стариками. И я все чаще замечаю во мне все новые и новые стариковские привычки, они просто липнут ко мне. Например, я поймала себя на мысли, что сегодня у меня больше прошлого, чем будущего. Я ищу свои корни и предаюсь ностальгии, что тоже, по-моему, характерно для стариков. В последнее время даже я чувствую себя почти старой, хотя я и работаю, и учусь, и у меня практически нет свободного времени. Правда, я и сама не могу понять: в мои пятьдесят семь я действительно старая или это только общество так считает?! Рут делает короткую паузу и продолжает: – В эту субботу мы были у Тальи, и я вышла погулять с коляской. Я шла по парку, и мне было абсолютно ясно, что по мне сразу видно, что я не мама, потому что я слишком старая. И вдруг мне стало страшно обидно, что никто даже не сомневается, что я не мама, а бабушка. Пусть я не впадаю в депрессию, как Анна, из-за того, что у меня больше не будет детей, но… но у меня вдруг как будто что-то перевернулось в животе: никогда в жизни у меня не будет еще одного ребенка! Это закончилось, и этого больше не вернуть никогда, – слабым голосом равнодушно заключает Рут. – Я знаю, что я здесь самая младшая, – подавшись вперед, берет слово Клодин, – и в моем возрасте я еще могу родить, если захочу. Сегодня есть много женщин, которые рожают в сорок пять. Но мне-то ясно, что, если я бабушка, то с родами покончено! Потому что, раз ты бабушка, то для всех ты уже старая, а значит, от тебя ждут быть… Как бы это сказать? Одеваться просто, сидеть дома. У нас это так. У меня есть подруга, которая решила в сорок пять лет начать заниматься танцами, так на нее все смотрели и говорили, что она делает из себя посмешище, и называли ее «бабуська с приветом». Но я… для меня неважно, что я уже бабушка или скоро буду бабушкой, я – Клодин, вот, что для меня важно по-настоящему. Для себя я – Клодин, для моего внука я – бабушка. Для себя самой я все та же; я не собираюсь меняться из-за того, что стала бабушкой, и это не причина спешить превращаться в старуху. Просто появилось еще что-то, что приносит радость, и – все. Почему я должна меняться изза того, что стала бабушкой? В нашей жизни прибавилось радости, но мы все такие же люди. Раз у меня есть внук, то я бабушка, – улыбается она. – Послушайте, вы продолжаете говорить глупости, – раздраженно обращается к ним Мики. – В наши дни люди в пятьдесят или в шестьдесят лет не считаются старыми! Я пришла в эту группу не для того, чтобы жаловаться на старость, я вовсе себя так не чувствую! Я не старуха, и никто обо мне так не скажет! Я не выгляжу старой, я веду себя иначе, я одеваюсь иначе! Если уж что-то и изменилось, то, наоборот, я опять чувствую себя молодой, потому что в моем доме появилась кроватка, пеленки, игрушки – вещи, которых там не было минимум двадцать пять лет. Я будто бы вернулась на полжизни назад! И жизнь моя изменилась, я считаю, к лучшему. Меня больше не трогают встречи с подружками, поездки за границу, походы по магазинам: дайте мне только остаться дома с малышом! Я нахожусь в аквариуме, и ничто снаружи меня не волнует. Моя дочка вернулась ко мне – это для меня самое главное – я нужна ей, я нужна ее ребенку; я чувствую себя сильной, нужной. Я раньше как-то не задумывалась над выражениями «матушка-земля» или «река-матушка», а ведь в них огромный смысл: земля вскармливает, служит опорой, как мать, – так и я сегодня для них обоих. – Это, конечно, здорово, что вы так себя чувствуете, – не отступает Анна, – но даже вы не можете изменить физиологию, которая перекрыла вам матку, или тот факт, что для общества вы превратились в безликую и прозрачную невидимку! Вы можете одеваться, как молодые, и стараться вести такую же, как у них, активную жизнь, но ваш возраст от вас не зависит – ни старость, ни то, что думают тут о старых, особенно женщинах; положение стареющих мужчин, по-моему, лучше. – Однажды я слышала, – примирительным тоном спешит сменить тему Клодин, – как моя подруга говорит своему внуку: «Не называй меня бабушкой, называй меня мамми». Я говорю ей: «А что, если он будет звать тебя мамми, ты будешь меньше бабушкой?» Она говорит: «Нет, но мне так приятнее». Я сказала: «А я не разрешу моим внукам называть меня иначе как бабушка. Потому что для них я – бабушка! Это для них мое имя. И я не вижу в нем ничего неприятного!» Помню, я страшно рассердилась! Ее поддерживает Рут. – У меня была соседка, которая не соглашалась, чтобы ее называли бабушкой, – говорит она, – она требовала от внуков, чтобы они звали ее только по имени. Тогда мне казалось это очень странным, но теперь я ее понимаю: она, по-видимому, не хотела чувствовать себя старой. Мне тоже тяжело к этому привыкнуть – к примеру, когда я сижу в парикмахерской и ко мне обращаются таким особенно вежливым тоном, как к «даме», в то время как с молодыми болтают и сплетничают. Мне тяжело найти для себя подходящую одежду, потому что сегодняшняя мода слишком… легкомысленная; и если ты не хочешь выглядеть как шестнадцатилетняя свистушка, то должна искать одежду для «бабуль»… «Как бабуля» – так дети говорят о ком-то, кто в их глазах выглядит чуть старше их родителей. Я понимаю, что это только принятое выражение, но на то оно и выражение, чтобы выражать мысли. К сожалению, в сегодняшнем обществе не относятся с должным уважением к пожилым людям, даже по вечерам в телевизоре все те же передачи, только для молодежи. Может, раньше это было иначе, но в современном обществе, чтобы выдержать конкуренцию, надо быть молодым. Меня это просто бесит, потому что я сама себя старой не считаю! У меня есть подруги моложе меня по возрасту, но, по-моему, они выглядят куда большими «бабулями», чем я. Рут вздыхает и продолжает: – Я уже сама не знаю, как лучше. Я готова написать у себя на лбу «Шестьдесят – это еще не старость!», но это вряд ли поможет, потому что, к сожалению, отношение общества невозможно поменять, по крайней мере, так быстро. Ну и, конечно, невозможно изменить физиологию, и невозможно сохранить то, что называется «детородный возраст», на который мода не влияет; и против климакса мы тоже бессильны! – Лично мне особенно тяжело покориться возрасту, – говорит Анна, – и не из-за того, что думает общество о пятидесятилетних, а из-за того, что происходит в моем организме. К примеру, каждый раз перед месячными у меня начинаются страшные боли, и моя врач выписала мне обезболивающее, потому что во время приступа я просто не функционирую. Но даже от болей я не в состоянии отказаться! Мне важно сознавать, что мое тело все еще работает: ведь месячные связаны с овуляцией, родами и кормлением, и… я радуюсь от сознания, что это еще существует. Так что пока это дело еще работает, я не собираюсь его заглушать! – А я в этом плане с вами не согласна, – вступает в разговор Орна, – по-моему, раз есть внуки, то мы имеем полное право стариться! Я считаю, мы свое сделали, теперь – их очередь, а я могу спокойно стареть. – Что значит, их очередь? – резко наклонившись вперед, почти выкрикивает Това. – Моя жизнь еще не кончилась! Наоборот, сейчас наступило для нас самое лучшее время: мы не находимся в вечной гонке из-за детей, работы, ссуды на квартиру и тому подобное; так что сейчас самое время жить! Старость – это здесь, между ушами, – она выразительно стучит костяшками пальцев по темени, – я согласна с каждой, кто сказала то же самое, и мне жаль тех, кто чувствует иначе. Кроме того, я ни за что не соглашусь, что бабушка менее привлекательна как женщина, чем та, которая еще не бабушка. Что, из-за того, что моя дочка способна рожать и рожает, я увядаю? Девять месяцев тому назад я была одно, а теперь вдруг изменилась? С какой стати?! Где тут логика?! Это, возможно, правильно с точки зрения биологии, что я больше не рожу, но это никак не влияет на тот факт, что мы цветущие женщины, полные ума, красоты и опыта. Всегда чему-то приходит конец, но на смену приходит новое; все зависит только от вас, от того, в качестве кого вы предстаете перед людьми. В принципе, мы все виноваты. – Виноваты в чем? – переспрашивает Маргалит, поправляя шляпку. – Виноваты в том, что общество теряет интерес к женщинам после того, как они «выполнили свою функцию», – по-прежнему громко отвечает Това, – и автоматически вешает на любую бабушку ярлык «старуха» или в том, что любая пожилая женщина воспринимается молодыми как «старушка на завалинке», беспомощная и бесполезная. Мы все виноваты, потому что мы тоже часть этого общества, а значит, отвечаем за то, что и как оно думает! Возьмите даже сегодня. С какой стати мы хороним и оплакиваем нашу способность рожать? Что, женщина не может быть важной и необходимой и без того, что она будет страдать от болей при месячных или прижимать к себе грудных детей?! Быть женщиной – это значит быть способной рожать? Это же глупо! Почему женщина, которой не удается забеременеть, доводит себя до состояния, описанного Маргалит на прошлой неделе? Что, если у тебя нет детей, так ты не женщина?! И относительно Эллы я чувствую то же самое – со всей нашей симпатией и сочувствием мы оказываем ей и нам самим медвежью услугу! Почему никто из нас не встанет и не скажет Элле, что, как это ни тяжело, но у нее есть и другие качества, кроме того, что она мать; и жизнь ее еще не подошла к концу?! Отчего мы сидим здесь с ней как на панихиде, будто материнство и ее дочь – это единственные и самые главные ценности на свете?! Может потому, что мы боимся, как бы про нас не сказали, что мы недостаточно хорошие матери! Я вдруг подумала, что то, что я говорила до этого о непреодолимой потребности в маленьком ребенке, – я это действительно чувствовала; это было что-то необъяснимое, на уровне инстинкта – может, и эти слова были сказаны мною под влиянием общества? Чем дольше мы говорим на эту тему, тем меньше я понимаю, откуда взялось это чувство; может я так чувствую, потому что меня воспитали так чувствовать? – Слушая вас, – замечает Нири, – я вспоминаю известные слова Симоны де Бовуар: «Женщиной не рождаются, женщиной становятся». Рут, соглашаясь, кивает головой. – Да, что-то в этом есть. Я согласна. Знаете, что в последнее время не дает мне покоя? Я все больше и больше думаю о моей младшей дочке, Шир, в том смысле, что с ней будет дальше. Шир тридцать лет, она программист в большой фирме, очень хорошо зарабатывает, и я, честно, очень горжусь ее успехами, но… – Я боюсь предложений, которые заканчиваются на «но», – со смехом прерывает ее Клодин, – так что не дает вам покоя на этот раз? – Правильно, – без улыбки отвечает Рут, – «но» состоит в том, что она все еще не замужем. С тех пор, как я хожу на наши встречи, я начала относиться к этому несколько иначе: по крайней мере, я задаю себе вопрос: послушай, что ты так переживаешь? Почему это настолько заложено в нас, заложено во мне? То, что мой сын не думает о женитьбе, меня абсолютно не заботит, во всяком случае, пока он учится, – со смехом вносит поправку Рут, – так я спрашиваю вас, почему в нас так глубоко заложено, что дочки обязательно должны выходить замуж и рожать детей? Почему мы никак не можем выбросить это из головы? Получается, что старшая выполнила все мои ожидания – она замужем и у нее есть ребенок. Я всегда считала себя человеком свободным от предубеждений, а теперь, особенно после того, как Талья родила, я вдруг поняла, насколько мне важно соответствовать общепринятым меркам. И это меня убивает… – Совершенно верно, кто сказал, что все женщины обязаны стать матерями, а затем бабушками? – возмущается Това. – Я до сих пор помню взгляды друзей моих родителей, которые не могли понять, но стеснялись спросить, как это в моем возрасте у меня все еще нет детей. Мне было двадцать пять, и я хотела учиться! Точно так же теперь все ждут, чтобы я стала бабушкой! – Точно! – передвигая стул чуть-чуть в сторону, замечает Клодин. – Те, кто в нашем возрасте никак не становятся бабушками, чувствуют себя неудобно среди своих подружек! К ней присоединяется Мики. – Это факт, – на этот раз соглашается она, – у меня есть подруги, у которых пока еще нет внуков, и они из-за этого очень переживают. Кстати, они все великолепно выглядят! Анна, привстав от нетерпения, начинает говорить, не дожидаясь, пока Мики закончит. – Но обратите внимание, – ее голос наслаивается на голос Мики, – что вместе с общепринятыми мерками начали прививаться и новые нормы, хотя, как мне кажется, слишком медленно. Сегодня появляются однополые семьи, многие женщины решают рожать и воспитывать детей в одиночку – понятие о семье в корне меняется! Может, и отношение к старшим изменится? – Я думаю, что для нас уже поздно, – откликается Това, – нас это уже не коснется, и вряд ли мы можем как-то на это повлиять! Нири поднимает руку, привлекая к себе внимание группы. – Наша встреча подходит к концу, – объявляет она. – Я предлагаю заменить восклицательный знак в конце высказывания Товы на вопросительный: как вы сами влияете на все те проблемы, которые обсуждались здесь сегодня – на связь с дочками, на отношение общества к бабушкам; как вы влияете друг на друга здесь в группе? Возможно, существуют обстоятельства, которые требуют от вас активных действий, в то время как в других ситуациях ваше поведение должно быть более сдержанным? К примеру, жить сообразно вашим желаниям, а не тому, что принято или не принято в обществе; или дать возможность кому это необходимо отдалиться от вас. На последующих встречах мы можем продолжить обсуждение ваших отношений; постараться разобраться, когда влияете вы, а когда – они; и даже, следуя совету, который вы дали Элле, выяснить, что еще существует в вашей жизни, кроме детей и внуков. Нири Я возвращаюсь домой и думаю, каким будет отношение общества к бабушкам еще через двадцать лет, когда бабушкой стану я сама. И вообще, как это будет – чувствовать себя бабушкой? Насколько это иначе, чем быть мамой? Какая это любовь – любовь к внукам? Я вижу лицо моей мамы и дочки, выражение радости на их лицах каждый раз, когда они встречаются; я думаю о чудесных, совершенно особых взаимоотношениях, которые сложились между ними. Моя мама так сильно любит мою дочку, потому, что она моя дочка или потому что она ее внучка? О чем она думала в момент, когда я родила в первый раз: «Моя дочка родила» или «Я – бабушка»? Что произошло с ней тогда: что-то началось или что-то окончилось? И я в который раз вспоминаю тот день в больнице, когда рожала моя подруга Шир; и фигуру ее матери, замершей возле родильной палаты уже после того, как малыш родился, и присоединившейся к всеобщему веселью, только когда вышла акушерка и сказала, что состояние роженицы хорошее. Ведь это был момент прощания, – говорю я себе, – так выглядит мать, которая прощается с чем-то, чего, по словам Рут, не будет больше никогда, но при этом все ее мысли и чувства по-прежнему сосредоточены только на дочери. И снова я возвращаюсь к встрече, к тому, что происходило в группе, и вдруг до меня доходит: Элла ушла. Она меня бросила, – испуганно думаю я, – или, может, это я бросила ее? Красный свет. Я останавливаюсь, глядя на огни, которые мигают и сменяются, не нарушая постоянного, кем-то установленного ритма. «Иди, Элла, иди, – мысленно произношу я, как произносит мать, провожая дочь в дальний путь. – Даст бог, и ты найдешь свою собственную дорогу, а я буду охранять тебя издалека. Когда устанешь и решишь вернуться, я приму тебя с большой радостью». Я думаю об остальных матерях в группе и останавливаюсь на мысли, что Орна практически весь вечер промолчала, хотя по ее глазам было видно, что она очень внимательно следит за каждой говорящей. Ее молчание кажется мне странным, и я решаю начать нашу следующую встречу с вопроса ей. Элла Темно. Я иду по дремучему лесу, спотыкаюсь и падаю. У меня нет сил подняться. Высокие ветвистые кроны заслоняют небо. Все вокруг пронизывающе черное. Мне холодно. Самый разгар лета, а я лежу в комнате, накрытая старым пледом, которым когда-то мы пользовались на природе. Когда-то… Когда-то у меня была семья, маленькая семья – мама и дочка. И был у нас дом, маленький и светлый. Все кончилось. Я лежу на диване напротив телевизора, на экране мелькают картинки: люди смеющиеся, радующиеся, танцующие, поющие, взрослые, дети, красивые, высокие – все в движении. А я лежу, тупо гляжу… Нет сил. Не хочу вставать, не хочу мыться, одеваться, не хочу никуда отсюда выходить. Я не хочу ни есть, ни пить. Лежу, свернувшись на диване, не чувствуя ни ног, ни рук; я – не я. А я вообще жива? Не хочу жить. Хочу испариться, исчезнуть, растопить свою боль, вину, обиду. Отключиться от тоски, отключиться от себя самой. Мне не нужна такая жизнь. Хочу другой жизни, жизни кого-то другой. *** Побыв несколько дней на больничном, я опять сижу на своем рабочем месте. На сегодня записано всего лишь несколько пациентов. Наверное, все уехали в отпуск, чтобы успеть вернуться к началу учебного года. Семьи упаковали в сумки вещи, необходимые им для того, чтобы чувствовать себя уютно в незнакомом месте, и отправились в путь-дорогу. Все остальные попрятались по домам, скрываясь от жары, духоты и липкой пыли. Тель-Авив опустел. Скоро придет Яир. Он хочет взять меня к берегу моря смотреть на закат. Зачем я согласилась, я и сама не знаю. Мое сопротивление сломлено, или это я сломалась? «Когда ты под всякими несуразными предлогами отказываешься от моих приглашений, у меня такое чувство, что ты, в первую очередь, отвергаешь себя, а потом уж меня», – сказал он мне вчера по телефону, и я вдруг поняла, что он абсолютно прав. Себя я отталкиваю от себя, боюсь взглянуть на себя и вспомнить, кто я, кем была когда-то. Когда-то одиночество не было таким удушающим, сегодня оно угрожает накрыть меня, как непослушные волосы, которые растут, ничему не подчиняясь, и покрывают глаза и уши, и вот-вот закроют и нос. Мне жарко; я потная, раскаленная и умираю от жажды. Я жажду прохладного бодрящего прикосновения. Я захожу в ванную и ополаскиваю лицо холодной водой, закрываю глаза и на мгновение забываю что-либо почувствовать. Так я и выхожу: мельком взглянув на себя в зеркало и даже не вытерев лица. Встреча девятая Своя собственная жизнь Несмотря на поздний час, на улице по-прежнему жарко и душно. Поздоровавшись, Нири пробегает взглядом по стульям, образующим почти правильный круг, и отмечает отсутствие Эллы. На ее замечание отзывается Анна. Собирая в хвост наэлектризованные от горячего воздуха локоны, она говорит, что это вовсе не значит, что Элла решила уйти из группы; что и она сама с трудом решилась выйти из охлажденной кондиционером квартиры – может, и Элла осталась дома из-за жары. К ней присоединяется Орна: она тоже не представляет, как можно летом жить без кондиционера, который работает двадцать четыре часа в сутки. Орна предлагает позвонить Элле, а вдруг она просто опаздывает; кстати, мобильный телефон – это еще одна вещь, от которой, привыкнув, ты уже не в состоянии отказаться. В комнате раздается неразборчивое бормотание – так усталые женщины высказывают свое одобрение. – А меня совершенно не удивляет, что Элла не пришла, – объявляет Маргалит, – я звонила ей на прошлой неделе после нашей последней встречи, но она не отвечала. Наконецто позавчера мне удалось с ней связаться; она сказала, что в последние дни у нее намечаются кое-какие перемены, но я не знаю, что она имела в виду: она не стала говорить, а я не стала расспрашивать. Това качает головой и вздыхает; на ее лице написано: я же вам говорила! – Интересно, что она имела в виду, – не скрывает любопытства Анна и обращается к Маргалит, – что еще она говорила? – Больше ничего. Она показалась мне какой-то другой… Я даже не могу объяснить. У меня было чувство, что я ей в чем-то помешала – так что я поспешила закончить, – отвечает Маргалит и поворачивается к Нири. – Она сказала, что вы говорили с ней после встречи, это так? – Да, – подтверждает Нири. В группе чувствуется оживление, все с интересом ждут продолжения. – Мы договорились, что она вернется в группу, когда почувствует, что она этого хочет и может. Покамест она просила, чтобы мы ее не тревожили. В наступившей тишине неожиданно и громко раздается звонок. Мики поспешно вытаскивает из сумки свой серебристый мобильник, смотрит на номер, выключает и возвращает его в сумку; при этом она бросает: – Поживем – увидим, вернется Элла или – нет. – Я уверена, что она вернется, – отзывается Орна, – она бы не обещала этого Нири просто так! И добавляет: – Ей просто необходима передышка, чтобы прийти в себя. Клодин качает головой. – Интересно, что она делает, продолжает ли она работать? – с сомнением в голосе произносит она. – Надеюсь, она не заперлась дома. – Я не думаю, что она сидит дома, – спешит с ответом Маргалит, – возможно, я ошибаюсь, но ее голос показался мне чуть-чуть иным, более энергичным что ли, как будто она была чем-то занята. – Отлично! Может, она наконец-то поняла, что, кроме нее самой, ей никто не поможет, – говорит Рут, слабо улыбаясь, – кстати, у меня разрывается голова; нет ли у кого таблеток? – Черный кофе с лимоном. Это вам поможет, – предлагает Клодин. – Ну прямо «Секреты бабушкиной аптечки», – смеется Това. – Почти бабушкиной, – весело поправляет ее Клодин, вынимает из сумки пачку и дает Рут одну таблетку. Нири, улыбаясь, наблюдает за происходящим. – Что касается Эллы, я тоже надеюсь, что с ней происходит что-то положительное и что она в дальнейшем к нам вернется. Ее взгляд задерживается на чем-то за окном, но после короткой паузы Нири продолжает: – На последней встрече мы коснулись темы отчуждения, которая очень волнует вас в последнее время. Кроме того, вы говорили о параллели, которую неизбежно проводит общество между статусом бабушки и старостью. Возвращаясь к услышанному здесь на прошлой неделе, я вдруг подумала, что, несомненно, легче смириться с утраченным, когда на смену приходит что-то новое и привлекательное. К примеру, намного приятнее перейти от «зрелости» ко «второй весне», чем к «периоду менопаузы». Намного спокойнее воспринимается самостоятельность и независимость вашей дочери, когда появляется внук, который улыбается и тянет ручки при вашем появлении. Я думаю, вы можете продолжить этот список. Она останавливается, устраивается поудобнее и, глядя на группу, добавляет: – Еще одна деталь, на которую я обратила внимание на прошлой встрече: часть из вас почти не принимали участия в разговоре; поэтому кто пожелает, может поделиться своими мыслями и переживаниями сейчас, это будет очень кстати. Орна расправляет плечи и, сцепив пальцы, кладет руки на колени. – Когда вы сказали, что были такие, кто не говорил, вы, очевидно, имели в виду меня, – обращается она к Нири, – мне действительно было нелегко на нашей прошлой встрече, но не из-за проблем, о которых говорили, а как раз наоборот. Она останавливается, неуверенная, стоит ли продолжать. – Что вы имеете в виду, когда говорите «наоборот»? – спешит на помощь Нири. – Видите ли, – Орна закидывает ногу на ногу, – тут говорили, что дочки отдаляются, а в случае с Эллой даже уходят. А я сидела и все это время думала, насколько у нас это иначе. Правильнее было бы сказать не иначе, а совершенно наоборот! Если честно, после того как Элла ушла и вы поменяли тему, я уже почти не слушала, поэтому и не говорила. Во-первых, я переживала из-за того, что она ушла, и, кроме того, вы даже не представляете, как важно мне было услышать все, что вы рассказывали об изменениях в ваших отношениях в последнее время! Она вздыхает и продолжает: – В отличие от всего, что я здесь слышала, в моих отношениях с Яэль не наблюдается и не ожидается никакого отчуждения, наоборот! Боюсь, что именно сейчас Яэль держится за меня очень сильно, даже слишком сильно! И на прошлой неделе я вдруг поняла, что то, что описываете вы, – это норма, так и должно быть! Рут права: дочь отходит от матери, когда у нее самой появляется семья; а как же иначе?! Так устроен мир: каждое следующее поколение должно стремиться вперед. Благодаря вам я осознала то, что уже начала чувствовать, но еще боялась себе в этом признаться. Я вдруг поняла, что то, что происходит у нас, мне совершенно не нравится! Как мне ни жаль, но я должна признаться: меня пугает возможность, что Яэль навсегда останется моей маленькой девочкой, которая прячется под моим крылом и которую я должна буду опекать всю свою жизнь! Орна испуганно смотрит на Нири, но к ней наклоняется Анна: – Вы говорите это потому, что сейчас, когда родилась внучка, вы стали помогать ей еще больше, чем раньше? – Ну да, в основном поэтому, – вздыхает Орна. – Но я не понимаю, чего вы жалуетесь! Вы же сами нам рассказывали, как еще в самом начале ее беременности обещали, что будете помогать ей во всем. Вы уговорили ее не делать аборта и пообещали помощь! – настаивает Мики. – Да, это так! – опять вздыхает Орна. – И я, естественно, выполняю свое обещание с первого дня как родилась внучка. Она чудная малышка, но… – Ну вот, опять «но», – смеется Клодин. – Правильно, у меня и вправду есть большое «но», – улыбается ей в ответ Орна, – видите ли, Яэль всегда была «маминой дочкой», совершенно домашним ребенком; она рассказывала мне такие личные вещи, которые не открывала даже своему мужу. Мы всегда были очень близки. Когда она была беременной, то проводила у меня массу времени и даже оставалась ночевать, особенно если муж задерживался на работе допоздна. Мы часто говорили про беременность; про то, как она себя чувствует; о том, что она ничего не может делать и как она выглядит, и что ей эта беременность совсем не в радость. Она все время твердила: «Эти годы пропадают, их не вернуть. А я так все распланировала: учеба, степень. Годы уходят коту под хвост». А я ей отвечала: «Годы никуда не уходят: так сделаешь это в тридцать! Ну и что? Сколько женщин учится после тридцати, тридцати пяти. Никогда не поздно учиться и развиваться! Наоборот! Ты повзрослеешь, многие вещи представятся тебе в другом свете». Но в последнее время мне кажется, – она разводит руками, – что, может, она была права! Я знаю, что этих лет не вернуть. Это должно было произойти еще года через два! Честно, я ее так хорошо понимала, когда она говорила: «Я еще все успею, но эти годы я не верну». Она была права! Орна останавливается, переводит взгляд на Нири и продолжает: – Это было очень тяжело – почти невыносимо – поддерживать и оберегать ее, особенно морально, потому что, даже согласившись не делать аборт, она по-прежнему сомневалась и боялась; и я должна была приложить немалые усилия, чтобы удержать ее на плаву! Чего я только не делала, я перепробовала все: разговоры, подарки… Каждый раз, когда у нее что-то не складывалось, она обращалась ко мне. И сегодня тоже! Я не отключала мобильник даже на работе, хотя в библиотеке это строго запрещено. Я объяснила начальнице, что это особый случай, и ей ничего не оставалось, кроме как смириться. Все-таки я там работаю дольше всех. И Яэль, естественно, звонила очень часто; другие библиотекари уже посматривали на меня с эдакой улыбочкой: «Ну что, опять Яэль»? Все ее звонки звучали примерно одинаково: «Мама, мне плохо, меня тошнит… мама, это… мама, то…» Я ее спрашивала: «Чем тебе помочь? Только скажи, чего ты хочешь?» Она всегда чего-нибудь хотела. Я готовила еду и относила ей еще до работы. Она пробовала и тут же кривилась: «Нет, меня от этого тошнит, я не могу». А ведь еще усталость и всякие другие симптомы! Но я знала, что отвечаю за нее и за малышку, которая еще не родилась, а потому ухаживала, и варила, и даже убирала ее квартиру. Правда, квартира небольшая, всего две маленькие комнаты в пристройке в нашем дворе. Для этого не надо было приглашать уборщицу, я и сама легко справлялась. А потом были очень тяжелые роды, и с тех пор я чувствую, что она все еще никак не может прийти в себя. Орна замолкает, глядя на Маргалит; та подбадривающе улыбается ей в ответ. – Они экономят деньги на строительство, – поясняет Орна, – в пристройке есть отдельный вход, так что они вообще не должны проходить через нас. Пока она была беременна, они говорили, что достроят еще одну комнату или месяца через три-четыре снимут квартиру побольше. В конце концов они ничего не построили и, конечно, никуда не переехали. Она в ее состоянии вообще не могла принять какого-либо решения, а он беспрерывно работал. По-моему, он просто сбегал из дома! Так что они по-прежнему в маленькой квартирке у меня во дворе. Ни про какой переезд они даже не вспоминают! Так как библиотека университетская, то летом она закрыта и я в отпуске. Поэтому каждое утро ровно в десять я уже у них и делаю все, что необходимо. Яэль только кормит и спит! – со смехом добавляет она. Клодин поправляет волосы, и браслеты сопровождают движение ее рук знакомым звоном. – Моя мама мне тоже здорово помогала и до, и после родов, – закалывая волосы на затылке, говорит она, – можно сказать, она вырастила нам детей, мне, всем моим сестрам и некоторым братьям. Каждый раз, когда я рожала, она не отходила от меня весь первый месяц, делала все: варила, убирала. Когда у меня родилась двойня, я жила у нее дома семь месяцев! Она всегда просыпалась от их плача раньше меня и никогда не разрешала мне вставать по ночам. Если один из них просыпался, она сама его кормила, переодевала и возвращала в кроватку. Бывало, что она укладывала одного, и тут же просыпался второй, и она начинала все по новой. Моя мама, как и я, овдовела очень рано: ей было двадцать восемь, и у нее на руках остались восемь мал мала меньше. Она вышла замуж в Марокко за человека на сорок пять лет старше нее; он умер уже в Израиле, и она всех детей растила сама. Бедная, всю свою жизнь она отдала нам, детям. Она делала все! Она давала нам все, что мать в состоянии дать детям. Вы не можете себе представить, какой она была красавицей, но почти не выходила из дома. Все, что ее интересовало, это вырастить детей. Зачем я все это рассказываю? Потому что я хочу, чтобы и моя дочка вначале была у меня, а я буду вести себя точно, как моя мама. Теперь Клодин говорит значительно громче, чем вначале. – Я тоже не дам ей вставать по ночам! Мне кажется, мы чувствуем себя намного сильнее и опытнее наших дочек. Мама может все, мама всегда сильнее дочки, и у нее всегда хватает сил на все. Поэтому мы так следим за ней в это время – до и после родов. За собой я никогда так не следила. Я все делала как обычно, и если муж вмешивался и не разрешал мне что-нибудь делать, я всегда говорила, что беременность – это не болезнь. А сама я сейчас говорю с моей дочкой точно так же: не делай этого; я не хочу, чтобы ты это делала, я сделаю это сама. Короче, когда это твоя дочь, ты все время ее оберегаешь. Матери молча кивают, соглашаясь с Клодин, а Нири, обращаясь к ней, замечает: – Вы говорили о силах, которые появляются у матери в то время, как дочка, судя по всему, их теряет. Я могу себе только представить, как приятно сознавать, что вы все еще полны сил и энергии, и после нескольких лет, когда ваша дочь, возможно, меньше нуждалась в вашей поддержке, вновь являетесь для нее опорой и источником материнского тепла и заботы. – Минуточку, я хочу внести поправку, – громко прерывает ее Мики, – это вовсе не значит, что когда дочь вырастает, мать ей больше ничего не дает. Просто теперь это опять самые необходимые вещи: приготовить ей покушать, отправить ее поспать – это вроде как снова ухаживать за маленьким ребенком, которому ты необходима в любое время дня и ночи. Клодин, улыбаясь, согласно кивает головой. Орна снимает очки. – Мне было двадцать три, когда я родила Яэль, – то раскрывая, то складывая дужки, говорит она, – и, несмотря на то, что я ее очень хотела и ждала, я боялась остаться с ней одна. Я помню, как просила маму: «Не уходи!»; и помню ее взгляд, когда она сказала: «Я не уйду, пока ты не попросишь меня уйти». Целый месяц она была со мной с шести утра и до тех пор, пока мой муж возвращался с работы! Я ни на минуту не оставалась одна – всегда кто-нибудь из них был со мной! Я была уверена, что как только останусь одна, со мной или с моей дочкой случится что-то ужасное. Так моя мама, можно сказать, меня спасла. Через месяц вдруг все прошло. Я подошла к ней и сказала: «Ты можешь идти домой, я справлюсь!» Я уже не боялась оставаться одна с ребенком, страх исчез. А через три месяца я нашла няню и вернулась на работу; я полностью пришла в себя! – Как вы думаете, что именно произошло за тот месяц и привело вас в один прекрасный день к решению, что вы в состоянии справиться сами? – задает вопрос Нири. – Не знаю, – пожимает плечами Орна, – у меня была уверенность, что моя мама будет со мной столько, сколько я захочу. Мне трудно объяснить… Наверное, уверенность, что, когда бы мне ни понадобилась ее помощь и поддержка, она будет рядом, позволила мне войти в новую жизнь постепенно, без паники, без особых жертв и усилий. Я считаю, что любая молодая мама в конце концов справляется – это только дело времени – и чем больше ей оказывают помощи, тем меньше времени и сил на это будет потрачено. – Если мама хочет, чтобы ее дочка чувствовала себя хорошо всю беременность, чтобы она почувствовала, как ее балуют и любят, то это самое время! – возбужденно вступает Клодин. – Во время беременности и сразу после родов дочка, знаете, как нуждается в ласке, в добром слове, особенно если это в первый раз. Во второй раз ты уже знаешь, что тебя ждет. Хотя, может, именно поэтому ты и здорово боишься! Она смеется. – Вот я и стараюсь баловать ее, когда она приезжает ко мне в конце недели, и кроме того, езжу к ним и готовлю в середине недели тоже. Я хочу забрать ее к себе на весь послеродовой отпуск, а потом, я думаю, буду ездить, хотя от меня до нее не меньше двух часов. Если подумать, – веселое выражение лица сменяется грустной улыбкой, – такими были мои планы, пока муж был жив, а теперь вряд ли я смогу ездить сюда так часто: детям дома нужна их мама. Но я буду стараться ездить к ним как можно чаще, и чтобы ей помочь, и потому что – я уже знаю – мне будет тяжело не видеть внука. Если бы она жила поближе, я бы ездила к ней каждый день, даже с удовольствием оставалась бы с ребенком, пока она вернется с работы. В комнате – тишина. Выждав недолгую паузу, Нири обращается к группе: – Помощь, которую оказывает мать в процессе беременности и сразу после родов, служит на пользу обеим сторонам. Для матери это возможность вновь почувствовать себя сильной и необходимой, укрепить свою связь с дочкой, а затем и с внуком; ну а дочь благодаря поддержке матери набирается сил и уверенности в себе. В это время она, скорее всего, последний раз в жизни может позволить себе быть все еще маленькой девочкой без обязанностей и обязательств, которые обрушиваются на нее сразу с рождением ребенка. И здесь, судя по вашим рассказам, вы опять должны быть рядом с ней. Нири замолкает, переводит взгляд с одной матери на другую, а затем продолжает: – Опять же, исходя из услышанного, потребность дочерей в ласке и заботе вызывает у матерей неоднозначную реакцию. Есть такие, для кого это естественно; они находят в этом свое предназначение и отдаются ему с радостью; а есть матери, которые вдруг понимают, что им это уже не подходит, что дочь уже взрослая, и у нее должно быть достаточно сил для самостоятельной взрослой жизни. Возможно, есть еще и третий вариант: матери, которые готовы дать, но сомневаются в размерах требуемой поддержки. Она смотрит на Орну, и та тут же отзывается: – Слушайте, я прекрасно понимаю, что вы все хотите сказать; я тоже чувствую себя ну прямо тигрицей! Я отлично справляюсь с двумя домами и тому подобное, но… Даже Клодин сказала, когда рассказывала про свою маму, что после семи месяцев полного самопожертвования она все же вернулась домой! И я тоже в какой-то момент «освободила» свою маму. У меня это заняло месяц! Я рада, что могу помочь своей дочке, она действительно во мне нуждается. Орна смотрит на женщин. – Но меня и вправду волнует сколько! Я боюсь, что Яэль будет ожидать от меня такого рода помощи еще долгое время. Может, это иначе, когда живут так близко. Прошло примерно три недели после родов, и, хотя Яэль еще не до конца пришла в себя, она уже заговаривает о продолжении учебы. И это меня пугает! Она выпрямляется. – Я помню, и она помнит, и все помнят, что я обещала ей помочь, и это то, что я сейчас и делаю! Но чем дальше, тем ее планы становятся грандиознее; она уже составляет себе учебное расписание на каждый день с утра до самого вечера, а я это вижу и начинаю думать… если у нее такие планы, значит, она ждет от меня, что, когда закончится ее послеродовой отпуск, я останусь нянчить внучку. Но подождите минутку! – волнуясь, почти выкрикивает она. – Она ожидает, что я заменю ее на все сто процентов?! Я знаю, что обещала помощь, но это значит быть вместе с ней, а не вместо нее! Она, пользуясь моими обещаниями, требует от меня слишком многого. А я боюсь с ней говорить, потому что она еще не совсем пришла в себя после родов; ну а пока что я только нервничаю, так как и у меня есть работа, на которую я хочу вернуться, и у меня есть своя жизнь! – И у вас? – неожиданно смеется Анна, к ней присоединяется Рут. – Ничего смешного! – качая головой, серьезно отвечает им Орна. – Для меня это открытие, которое я сделала для себя совсем недавно, может, пару недель тому назад. Я имею в виду, что и у меня есть своя жизнь! А вместе с этим у меня появилось новое чувство… У нее неожиданно дрожат губы, и она начинает плакать. – Я вдруг почувствовала, что я завязла. Совсем нелегко сказать то, что я сейчас скажу, я начинаю чувствовать… сожалеть… Орна говорит с трудом, сквозь слезы. – Все месяцы я обещала ей, что буду помогать, она надеялась на это, и вдруг… Она вытирает глаза и нос и продолжает, сжимая в руке мокрую салфетку: – Когда я попыталась на этой неделе поговорить с мужем, поделиться с ним, как мне тяжело, он сразу сказал: «Не волнуйся, я помогу тебе ее вырастить! Мы будем вместе!» – А я говорю ему: «Тебя вообще нет дома, как ты себе это представляешь, когда говоришь: мы ее вырастим?! Как с собаками?!» – Кто их выводит по ночам? Я! – поясняет она, обращаясь к группе. – Они взяли себе собаку, но сейчас она у нас, так как они целый день пропадали на работе. И с тех пор, как она у нас, они вообще перестали о ней заботиться – есть мама, которая все сделает! Орна резко встает, пересекает комнату, чтобы выбросить в урну скомканную салфетку, и, вернувшись на место, продолжает, глядя на Клодин: – Я ведь все-таки тоже работаю! Наш разговор с Яэль состоялся несколько месяцев тому назад – она была тогда в ужасном состоянии – и я предложила, что со следующего года уйду с полной ставки и тогда смогу ей помогать. Но с тех пор в библиотеке все изменилось таким образом, что, если я уменьшу ставку, то в будущем мне уже ничего не светит. А у меня есть реальная возможность стать директором, и я бы не хотела осложнять ситуацию и портить отношения! Яэль, естественно, не знает, что на днях у меня был серьезный разговор с начальницей, а я с тех пор не нахожу себе места. Я должна принять очень тяжелое решение и выбрать между двумя очень важными для меня возможностями, когда одна из них полностью исключает вторую! Первый вариант означает, что я уменьшу количество рабочих часов и буду помогать своей дочке, как и обещала. У меня нет никого дороже ее и внучки, а они во мне нуждаются, мне это абсолютно ясно! Но тогда во мне просыпается второй голос, который говорит мне остаться на полной ставке, так как это ведет к продвижению, о котором я так долго мечтала. Я ведь тоже чего-то стою, у меня есть свои собственные интересы и планы! Поэтому меня очень раздражает, когда я вижу, как Яэль спокойненько планирует свою учебу, думает только о себе без всякого зазрения совести по отношению ко мне или к своей дочке! Опять меня отодвигают на второй план! Почему я должна всегда за всех отвечать?! – резко повышая голос, произносит она трясущимися губами. – Почему?! Орна опускает голову, приподняв очки, вытирает глаза и, сделав глубокий вдох, выпрямляется. – Мне ясно, – уже спокойно продолжает она, – что, если бы они не жили так близко, все было бы намного проще. Ведь, естественно, они не ожидали бы от меня ежедневной помощи, если бы я жила далеко от них, правильно?! Но судя по их разговорам, они даже не собираются переезжать, по крайней мере, в ближайшее время. Кроме того, они даже не догадываются о моих переживаниях. Они строят свои планы, исходя из того, что я буду смотреть за ребенком; для них это еще и большая экономия! – Я думаю, нет – я больше чем уверена, что вам нельзя отказываться от своих желаний, – категорично заявляет Това, – если вы о себе не позаботитесь, никто о вас не позаботится. Неприятно, но зато честно. Знаете, что произойдет, если вы полностью забудете о себе? Вы будете ей помогать, но при этом будете ощущать, что вы – жертва; вы будете тяжело работать и при этом все время жаловаться. Вы станете обидчивой и желчной. Это то, чего вы хотите? – Ну что за ерунду вы говорите! – раздраженно прерывает ее Мики. – Кто еще может помочь дочери, как не мать?! Именно сейчас она будет думать о своей выгоде, когда мать так нужна дочери? Я бы никогда так не смогла! Она в упор смотрит на Орну, и та, подперев голову рукой, прикрывает покрасневшие от слез веки. – Может, вам стоит договориться о постоянных днях, когда вы будете приходить, а на остальные дни она возьмет няню? – предлагает Клодин. – Но это значит, что я не буду работать на полную ставку, – терпеливо объясняет ей Орна; по ее лицу видно, что она уже не раз взвешивала все эти варианты, – то есть что я отказываюсь от своих планов! А еще это значит, что у меня не остается ни минуты свободного времени для себя самой: или я на работе, или – у нее, то есть опять на работе! Она потерянно смотрит на Нири. – Я не сплю уже целую неделю, в голове все время крутятся разные сценарии, а в результате что получается? Что каждый раз я себя спрашиваю: а как же я?! Почему опять все ожидают, что я откажусь от своих планов?! До каких пор я буду носиться с одной работы на другую?! Я свое уже выполнила! Сама вырастила двоих детей – у меня помощи практически не было! Ухаживать за ребенком – это работа! Это зависимость! Ответственность! Это самое дорогое, что у нас есть! А тут все на меня жмут, да и Яэль еще не совсем оправилась. Короче, у меня такое чувство, что я вынуждена принять решение против своей воли, а значит, буду приходить туда через силу, без радости! – Вы ничего не должны делать против своей воли, – категорично заявляет Анна, качая головой, – Това права: ваше право жить, как вам заблагорассудится, и думать о себе. Судя по всему, вашу дочь не особо волнуют ваши проблемы, так что у вас нет выхода! – И все-таки, наверное, существует золотая середина. Можно найти выход, чтобы вы обе остались довольны. По-моему, нельзя делить все только на черное и белое, – настаивает на своем Клодин. – А я вам говорю из собственного опыта, что можно успеть все, – не сдается Мики, – вещи можно совмещать. Я ни в коем случае не отказываюсь от карьеры – я еще достаточно нестарая, и мне еще есть куда расти, – поэтому утром я иду на работу, а ближе к вечеру еду к ней, потому что моя дочка – это самое важное, что есть у меня в жизни; и я знаю, что она во мне очень нуждается. У меня есть возможность, в том числе и материальная, ей помочь, и я делаю это с большим удовольствием. Более того, я начинаю скучать по моему внуку, если не вижу его хотя бы несколько часов. Она поворачивается к Орне: – Вот подождите, малышка чуть-чуть подрастет, ваши отношения станут более близкими, и вы увидите, как вас будет к ней тянуть, все больше и больше. – Не в этом дело, – нетерпеливо отмахивается Орна, – мне и сейчас с ней хорошо! Но знаете что? – громко обращается она к Мики. – Мне надоело быть супервумэн! С меня хватит! Мики пожимает плечами и спокойно произносит: – По-видимому, мы, действительно, разные. Мне сейчас очень хорошо; как сказала Клодин, именно сейчас я чувствую себя сильной и энергичной, способной на все. И знаете что? Я уже об этом говорила: в отличие от Орны, меня перестали волновать развлечения. Меня больше не притягивают вещи, без которых я еще совсем недавно не могла бы жить, например, выходить с мужем или подругами; ездить за границу; ходить в кино; мне даже меньше хочется работать! Она улыбается. – С тех пор, как родился внук, я лучше всего провожу время у дочки. Мне нравится ей помогать, наблюдать, как она с ним занимается, читает ему детские книжки, слушает с ним детские песенки. Она с ним великолепно справляется, иногда даже лучше меня. – Иногда даже лучше вас, а? Вот уж, точно, молодец! – иронически замечает Това. Орна вздыхает. – Вот я слушаю Мики, – говорит она, глядя на Нири, – как она все успевает, как у нее все хорошо! Я тоже когда-то так говорила и действительно ухитрялась преуспеть во всем, кроме одного – позаботиться о себе. Если бы я больше занималась собой, как Мики или как мои подруги; если бы в течение всех этих месяцев я бы почаще выходила, делала бы то, что мне нравится и интересно, то, возможно, сейчас все выглядело бы иначе; возможно, я бы даже с радостью пожертвовала своей свободой! Но в течение года я очень тяжело работаю, у меня почти не остается свободного времени. Я дошла до ручки, я чувствую, что я дальше так не могу! Я опять хочу почувствовать себя свободной птицей, мне необходима свобода! Я хочу заниматься только тем, чем я хочу, и только для себя самой! Столько лет, даже в отпуске, я никогда ничего не делала для себя. Всегда сначала дом, потом то, потом это! Я думаю, что я заслужила отпуск, настоящий отпуск! Мне абсолютно ясно, что то, что я чувствую сейчас, является следствием двадцати пяти лет, в течение которых я не принадлежу себе; я всегда последняя. Сначала дети! Муж! Все родственники! Работа! Все страшно важно. Но никогда не то, что важно мне; я всегда в конце! Я хочу успеть пожить до того, как умру! И теперь мысль, что опять кто-то, большой или маленький – неважно, будет зависеть от меня, вызывает во мне совсем другую реакцию: это меня пугает. Для меня это покушение на мою свободу! Поэтому мне так тяжело слушать о матерях, которые посвящают себя уходу за внуками, как мама Клодин или сама Клодин, если бы она жила чуть-чуть поближе. Теперь я понимаю, что категорически не желаю опять отказываться от своей личной жизни, но, скорее всего, уже поздно, так как я обещала! Орна снимает очки, по ее щекам текут слезы. Женщины молча не сводят с нее глаз. Клодин пересаживается на стоящий рядом с Орной пустой стул, на котором обычно сидела Элла, и гладит ее по плечу. Нири делает короткую паузу, выжидая пока Орна немного успокоится, и мягко произносит: – У вас такое чувство, что вас засасывает в водоворот, и вы не знаете, как оттуда вырваться. Орна, не глядя ни на кого, молча кивает головой. Нири продолжает: – Когда вы слышите сегодня о бабушках, которые с радостью отдают свое свободное время внукам, вы испытываете некий дискомфорт, потому что это напоминает вам о том, чего вы хотели еще совсем недавно и чего теперь больше не хотите. Мне кажется, что вдобавок ко всему, это вас немного пугает, потому что это подтверждает, что в вас что-то меняется; а вы для себя еще не уяснили, что ничего страшного, если вы сегодня думаете иначе, чем несколько месяцев тому назад, и готовы забрать свое обещание. В ваших мыслях произошел настоящий переворот. Как вы думаете, вы могли бы назвать момент, когда вы начали думать иначе? – Когда это началось? – переспрашивает Орна, вытирая слезы. Она опять надевает очки. – Я точно знаю когда. У меня был очень утомительный год. С годами это становится все тяжелее и тяжелее, потому что с каждым годом становится больше студентов и меньше сотрудников. А так как я самая опытная, чуть что – сразу бегут ко мне. Это изматывает! Я так устала, что в этот отпуск даже не захотела никуда поехать; я хотела просто отдыхать и ничего не делать! Не знаю почему, может, от нервов, но в этом году я все время хотела есть и сильно поправилась; я сама себе стала противна. И вдруг семестр закончился, стало спокойно, и как-то утром я встретилась с Лиорой, моей очень хорошей подругой. Орна обводит взглядом группу и поясняет: – Лиора из тех подруг, с которыми я чувствую особую близость, хотя и встречаюсь довольно редко, в основном из-за меня, так как я вечно слишком занята. Так вот, мы наконец-то встретились в небольшом кафе на берегу моря. Она посмотрела на меня и сказала: «Орна, мне не нравится, как ты выглядишь, что-то случилось?» И как только она это произнесла, я вдруг поняла, что мне действительно плохо! До этого я просто не удосужилась посмотреть на себя в зеркало и спросить, что происходит! Этот простой вопрос меня настолько потряс, что я тут же расплакалась. Я выдала ей все: и как меня раздражает, что я растолстела, и какая я нервная и раздражительная, и как мне тяжело с беременной Яэль, и что мне все надоело, и что все на мне ездят, и что у меня не хватает времени на саму себя… Лиора слушала, а затем объявила: «С сегодняшнего дня ты начинаешь диету и присоединяешься ко мне – я постоянно хожу в специальную группу и без особого труда спустила уже пять килограмм. И кроме того, – сказала она, – завтра ты идешь со мной на море!» Я знаю уже давно, что Лиора каждый день и зимой и летом ходит на море и говорит, что она без этого уже не может. Я, естественно, начала с ней спорить, говорить, что у меня нет купальника, – Орна смеется, – но она сразу закрыла мне рот, сказала, что обещает, что я не пожалею, и она не принимает никаких возражений. После кафе мы пошли в магазин; она затолкнула меня в примерочную и притащила мне кучу купальников, пока я не выбрала более или менее подходящий. С тех пор она приходит каждое утро, и мы вместе плаваем. Если бы не Лиора, я бы в жизни не выбралась! Благодаря ей я начала заниматься собой. Я встаю каждый день в пять и, пока все спят, выхожу на улицу. Я иду быстрым шагом и слушаю музыку, мне это дает заряд на целый день. Затем около семи за мной заходит Лиора, мы вместе едем на море и плаваем час-полтора. В полдевятого я опять дома, моюсь, завтракаю и иду на работу. Сейчас я в отпуске, и Яэль уже успела родить, так что вместо работы я отправляюсь к ней. Первый раз за долгое время я ощущаю, что живу! И прекрасно себя чувствую, и улыбаюсь людям! И ничего мне не в тягость! Орна улыбается, но затем серьезно добавляет: – Почему я никогда не позволяла себе этого раньше?! Всегда было что-то более важное: как я оставлю дом неубранным? Уже пятница, а я ничего не приготовлю, что мы будем кушать в выходные? Вечно я была на последнем месте, и вдруг в последнее время все изменилось, а самое главное, я получаю от этого удовольствие! Я живу, с радостью ухожу и с радостью возвращаюсь, и мне хорошо! Я даже похудела на три килограмма! Конечно, прошло слишком мало времени, но я чувствую, что моя жизнь изменилась. У меня больше сил, я многое успеваю и я не чувствую себя измученной, как раньше! Она замолкает. – И что же, – после короткой паузы встревоженно продолжает Орна, – я опять должна от всего отказаться только потому, что у Яэль появился ребенок?! Я знаю, что я ей обещала. Но теперь я чувствую, что мое свободное время я хочу тратить на себя и только на себя! Я хочу, наконец-то, пойти на курсы, о которых мечтала; в конце концов, я хочу сидеть во дворе и читать книгу! А если в доме есть маленький ребенок, это невозможно. Я уже слышу, как мне говорят: «Может, ты не будешь ездить на море каждый день, и кто сказал, что ты должна это делать и летом и зимой? А твое свободное время – ведь его можно поделить между всеми?!» И правда, кто сказал, что это надо делать каждый день?! Даже мне самой это кажется странным, когда я говорю, что мне важнее пойти на море, чем помочь своей дочке – что же это я за мама такая?! И потом нарушать свои обещания! А с другой стороны, двадцать пять лет я ничего не делаю ради себя самой! Так какого черта я опять влезаю во все это?! Она вопросительно смотрит на жадно слушающих ее женщин. Первой к ней обращается Това. – Мы уже говорили об этом на прошлой неделе: нет матери, которая не испытывает вечного чувства вины. Мне это тоже хорошо знакомо. Оказывается, от этого невозможно избавиться. – Может, вам станет легче, – говорит Рут, глядя на Орну, – если я вам скажу, что и я так думаю. Я тоже не готова отказаться от своих занятий. Я очень ценю свою независимость, и у меня еще масса планов и возможностей. Я с радостью отдаюсь моим детям, но ровно в тех пропорциях, которые сама устанавливаю. Есть еще полно вещей, которые я хочу сделать, и я не собираюсь отказываться от своих планов только затем, чтобы растить внуков. Я не вижу в этом необходимости. Даже если бы я была уже на пенсии и у меня было бы больше свободного времени, я бы все равно не взяла на себя воспитание внуков. С какой стати? У всех новорожденных внуков есть, в первую очередь, родители и это – их прямая обязанность. Я, конечно, буду рада помочь, но ровно настолько, насколько сочту нужным – я свое уже сделала. – И что вы собираетесь делать? – живо интересуется Маргалит. – О-о, массу вещей! – улыбается Рут и начинает загибать пальцы: – Во-первых, я мечтаю написать книжку для детей. Во-вторых, мы с мужем уже давно мечтаем отправиться в Индию и в Америку. Кроме того, полно всяких незначительных мелочей, до которых у меня просто не доходят руки из-за работы, например, раз и навсегда навести порядок в шкафу или научиться печь дрожжевое тесто – неважно, сколько времени и испорченных булочек у меня на это уйдет. Я тоже не могу дождаться, когда у меня появится избыток свободного времени, и я не собираюсь отдавать его кому-то в подарок. Она смотрит на сидящих рядом с ней женщин и серьезно добавляет: – Я, правда, думаю, что если мы растим наших внуков вместо того, чтобы этим занимались их родители, то приносим гораздо больше вреда, чем пользы, правда! Они сами должны справляться со своими проблемами и страхами. Мне кажется самым правильным вести себя так, как это делала мама Орны, которая помогала и делала все, пока Орна окрепла и приобрела уверенность в себе, а потом предоставила ей возможность справляться самой. – Представьте себе, что Яэль еще попросилась перейти с малышкой к нам, так как у них мало места, – говорит Орна, глядя на Рут. – Я сначала с радостью согласилась; сказала, что мы поселим их в ее комнату, но мой муж категорически отказался: он сказал, что свою норму по бессонным ночам он уже выполнил и своих маленьких детей уже вырастил. Сначала я на него разозлилась, а потом подумала, действительно, почему бы нам не дать им самим во всем разобраться и со всем справиться? Они должны пройти через это точно так же, как это сделали мы. Рут согласно кивает головой. – Это потому что он не нарадуется на свою новую жену, – смеется Клодин, – и боится, что если вы начнете вставать по ночам, то прекратите ходить на море и опять станете раздражительной и нервной! Орна выпрямляется. – Совершенно верно! Он тоже видит, как я ожила, и считает, что я не должна от всего этого отказываться. В комнате устанавливается тишина, и Нири переводит взгляд с одной женщины на другую, давая им возможность обдумать услышанное. – Сегодня вы коснулись двух «врожденных» материнских конфликтов, то есть конфликтов, родившихся в вас в тот самый момент, когда вы стали матерями: конфликт, который заключается в вопросе, кто важнее – я и мои потребности или дочь и то, что ей необходимо; и конфликт, связанный со степенью самостоятельности дочери – в чем предоставить ей свободу, а что делать вместо нее. Мне кажется, что такого рода сомнения сопровождают нас на всех возрастных этапах наших детей и каждый раз вынуждают нас принимать сложные, далеко неоднозначные решения. – Вы правы, – соглашается Рут, – у меня этот внутренний конфликт длится с первого дня материнства, он, можно сказать, как верный друг, сопровождает меня все эти годы и, как вы верно заметили, вне зависимости от возраста моих детей. Когда они были маленькими, я работала на полставки; я встречала их из школы, на столе всегда стоял горячий обед – мне это было очень важно. Естественно, это не могло не отразиться на моей карьере. Сегодня я работаю намного больше – все дети уже достаточно взрослые и самостоятельные, но все равно дилемма осталась. И если Талья позвонит и пожалуется, что ей тяжело, и я почувствую, что ей необходима моя помощь, я, конечно, сделаю все, чтобы немедленно ей помочь. В принципе, это уже произошло на прошлой неделе. У меня было очень важное совещание, но как только Талья попросила меня помочь, я тут же, не задумываясь, сообщила, что меня не будет, и села в поезд. Кстати, это по меньшей мере полтора часа езды! Естественно, в дороге я засомневалась, не слишком ли я преувеличиваю; мне было неудобно, что я не пошла на совещание – вообще-то меня считают человеком ответственным. За это время я успела еще раз переговорить с Тальей, она уже успокоилась и справилась сама, но… важнее всего для меня было то, что в тяжелый момент она будет знать, что она может рассчитывать на помощь, что она не одна, что у нее есть я. Рут облокачивается на спинку стула и продолжает: – Я и правда обращаю внимание, что с тех пор как Талья родила, мне уже несколько раз пришлось выбирать между ней и собой, возможно, еще и потому, что я очень хорошо знаю, как тяжело находиться целыми днями одной с ребенком. Когда-то жили большими семьями и растили детей все вместе: мамы, тети и бабушки – все были рядом. Я думаю, это часто, если и не спасало от депрессий и нервных срывов, то хотя бы смягчало их последствия. Наши дочки привыкли к свободе и самостоятельности, поэтому для них сидеть дома с маленьким ребенком, особенно когда он кричит, а она не может понять, чего он хочет, это большое испытание. Я думаю, им тяжелее, чем было нам, так почему бы не помочь, если я могу?! Но как только она придет в себя и почувствует себя более или менее в своей тарелке, я уже не стану с такой готовностью отказываться от своих планов. Так, по крайней мере, мне кажется сегодня. – Поверьте мне, это происходит потому, что маме всегда кажется, что ее дочь не сумеет все сделать так, как сделает она сама, – вступает в разговор Мики, – и поэтому она изначально предпочитает все взять на себя. Возьмите, к примеру, меня: ребенка у нас купаю я. Знаете что? С тех пор как он родился, она еще ни разу его не выкупала! Только я! Иногда мне кажется, что я отбираю у нее возможность быть матерью, и я понимаю, что так нельзя. Я даже стараюсь сделать шаг назад, но это, по-видимому, сильнее меня. Есть во мне что-то, возможно, сила или энергия – я женщина неслабая, – из-за чего я лишаю ее не материнства, конечно, но уверенности и контроля над ситуацией. Я как будто все время даю ей понять, ты ничего не знаешь, а я знаю. Сразу после родов она жила у меня, но уже успела вернуться домой и все же звонит и советуется со мной по каждой мелочи. Я знаю, что это неправильно, что она должна пробовать все делать сама, что только так она сможет приобрести уверенность, и верю, что где-то там, внутри, у нее есть ответы на все вопросы, но я вижу, что она все еще боится, и поэтому не настаиваю. Она очень мне верит, и во всем, что касается ребенка, я превращаюсь для нее в своего рода гуру. Вот и получается, что, когда что-то происходит, то, с одной стороны, я вроде как говорю: «Справляйся сама», а с другой, – Мики изображает испуг, – «Ой, я уже бегу!»… – Мне кажется, – обращается к ней Нири, – что вас больше занимает вторая проблема, связанная со степенью самостоятельности, которую вы готовы предоставить своей дочке. А чтобы это произошло, вы должны, в первую очередь, убедить себя, что ваша дочь способна быть самостоятельной. Мики качает головой. – Вам, наверное, знакома древняя мудрость «теленок хочет сосать, но еще больше корова хочет его кормить» – это про нас, и нас обеих это вполне устраивает. Если ей надо куда-то идти, она зовет меня, и я с удовольствием к ней присоединяюсь. Возможно, чисто инстинктивно я все еще стараюсь отгородить ее от каких бы то ни было переживаний. Как только она зовет, я тут же прихожу; в тот момент я верю, что помогаю ей преодолеть трудности, а уже задним числом осознаю, что в дальнейшей жизни это ни к чему хорошему не приведет. Когда-нибудь ей придется какие-то вещи делать самой, и тогда окажется, что она знает как, но у нее не хватит смелости и уверенности в себе. Вот совсем недавно нужно было сделать ребенку прививку, она, естественно, боялась и позвала меня. Короче, нам обеим непросто и с тем, что она уже мама, и с тем, что она взрослая. – Интересно получается, – замечает Нири, – помогая дочкам, вы вселяете в них уверенность в себе, но и давая им возможность действовать самостоятельно, вы развиваете в них все ту же уверенность в своих силах. Так как же себя вести, когда одно исключает другое? – По-видимому, необходимо и то и это, но в правильных дозах, – говорит Рут, – с этой точки зрения, далекое расстояние между мной и Тальей можно считать плюсом: ведь если ты не «мама-скорая помощь», как Орна или Мики, то у дочки нет выхода, она вынуждена справляться. Но зато, когда мама наконец-то выбирается, можно позволить себе расслабиться и отдохнуть, пока мама возится с ребенком. Сегодня я начинаю видеть плюсы и в том, о чем мы говорили на прошлой встрече, я имею в виду, что дочка в это время несколько отдаляется от матери и отношения становятся менее близкими, и в том, что мы физически живем далеко друг от друга. Она задумчиво улыбается. – Мы обе понимаем, что все будет в порядке, что она будет в порядке. Теперь дело за мной – я должна приучить себя к этой мысли и напоминать себе об этом каждый раз, прежде чем я собираюсь бросить все и бежать к ней. И я должна это сделать как можно быстрее: мы живем слишком далеко друг от друга, и у меня самой полно дел. После короткой паузы Рут продолжает: – Правда, всю жизнь мы решаем эту дилемму. Когда ребенок болеет, отец обычно идет на работу и, максимум, возвращается на час раньше, а вот мать, естественно, отменит любую самую важную встречу. А потом будет жаловаться. Все эти годы, с тех пор как я стала матерью, я задаю себе этот вопрос: кто я прежде всего – Рут или «мама Рут»? Повернувшись всем корпусом к Орне, в беседу вступает Анна. – Я хочу вам кое-что сказать, – решительно начинает она, – совершенно ясно, что вы вовсе не отказываетесь помогать вашей дочке и очень за нее переживаете. Но вы просто больше не готовы ради этого жертвовать собой. У меня есть соседка, которая все время жалуется, как она устает от своих внуков, и вообще она жалеет, что согласилась взять на себя один постоянный день в неделю, который она полностью посвящает им. Она мне как-то рассказала, что в «ее» день она встает в пять утра, приходит к дочке и разводит внуков по садикам. В обед она забирает их к себе до вечера. Она говорит, что еле доживает до конца дня, и как только они уходят, немедленно идет спать, и что на следующий день она совершенно разбита от усталости. Так что я уже давно сказала Нааме, что не собираюсь уходить с работы, чтобы помогать ей с детьми. Во-первых, я люблю свою работу, а, вовторых, неплохо зарабатываю. Я сразу сказала, что готова помочь материально, если, к примеру, они захотят на первом этапе взять для малышей няню, а затем поместить их в садик. Я обожаю своих внуков и готова помогать, но не готова «работать бабушкой». Мне кажется, что бабушки, которые целиком посвящают себя внукам или которые дают детям деньги, даже когда их нет, делают большую ошибку, потому что тем самым они перечеркивают себя. В любом возрасте существуют вещи, которые приносят нам радость, и совсем необязательно всегда в первую очередь думать о детях. У вас нет денег им помочь? Пусть сами ломают голову! Пусть больше работают, как это делали мы в свое время. Никто не заставит меня пожертвовать моей работой, даже моя дочка! И если бы у меня было свободное время, я бы и им не пожертвовала! И я рада за вас, Орна, что и вы это поняли, хотя я вижу, как вам тяжело, особенно из-за всего, что было связано с абортом и вашими обещаниями. Конечно, это будет непросто – прийти и объявить ей сейчас, что вы передумали и что нужно найти другой выход, но вы в первую очередь всего лишь человек, а потом уже мать, а значит, можете ошибаться и менять свои решения; и ей тоже должно быть немаловажно, чтобы вы были счастливы. Я терпеть не могу людей, которые чувствуют, что их используют, съедают себя изнутри, но не готовы никому в этом признаться. Если уж помогать, то с удовольствием, с радостью и не в ущерб себе, а не, как часто говорят, жертвуя своей жизнью ради детей. И вашей дочке пора повзрослеть и понять, что она не «пуп земли». И вот еще что. На первый взгляд, ваша история кажется намного сложнее из-за того, что вы, в принципе, уговорили ее не делать аборта. Но, по-моему, вы берете на себя слишком много, когда взваливаете себе на плечи всю ответственность: в конце концов, это она и никто другой сделала окончательный выбор! Это ее жизнь и ее решения, даже если вы ее уговаривали и обещали. – Мы уже об этом говорили, – поддерживает свою подругу Рут, – невозможно во всем винить только мать. Есть вещи, которые зависят от детей, особенно когда это касается их собственных решений. Нири слегка привстает со своего места, давая понять, что пришла ее очередь. – Клодин сказала, что Орна все видит в черно-белом свете, – обращается она к группе, – то есть что, по ее мнению, существуют только два крайних выбора: или она, или ее дочь. Но затем были предложены и другие решения, например, давать деньги или находиться там только в определенные дни, а самое главное – и с этим согласились все – неважно, к какому выбору вы пришли, важно, какие чувства вы испытываете. Главное, чтобы мама не чувствовала, что ее используют, а дочь – что ей не помогают; чтобы дочка чувствовала себя в безопасности, но и не снимала с себя ответственности. Нири поворачивается к Орне. – Я думаю, вам стоит попытаться выяснить, что мешает вам, Орна, поговорить с Яэль. Почему вы мучаетесь сомнениями сама и не желаете поделиться с ней. Мне кажется, у вас есть на это несколько ответов. Один из них возвращает меня к нашей прошлой встрече, и он связан с чувством вины, которое вы испытываете перед ней. По-видимому, угрызения совести, которые вы испытываете из-за того, что изменили свое отношение к происходящему, сопровождаются еще и страхом. Вы боитесь разочаровать Яэль, так как не сможете соответствовать ее ожиданиям, и тем самым испортить ваши отношения. Может, вам страшно, что из-за этого она отдалится от вас больше, чем вы хотите? А может, вы боитесь узнать, что она и вправду не очень в вас нуждается, и тогда вы окажетесь вне ее семьи? А вдруг с вами случится то, что случилось с Эллой? – она вопросительно смотрит на Орну, слушающую ее с большим внимание, а затем добавляет. – Кроме того, я думаю, что на ваши взаимоотношения влияют внешние факторы. Я имею в виду нормы поведения, которые приняты в окружающем нас обществе; об этом мы тоже говорили на прошлой неделе. В том обществе, в котором мы живем сегодня, у бабушки есть конкретное предназначение – она должна помогать растить внуков, и часть из вас это явно не устраивает и даже возмущает. Общественные нормы меняются гораздо медленнее, чем вам хотелось бы; вы чувствуете себя закабаленными, но у вас не хватает смелости плыть против течения: а вдруг это обойдется вам слишком дорого. – Вы даже не представляете, насколько вы правы! – взволнованно отзывается со своего места Това. – Я однажды слышала, как кто-то сказал, что если бабушка не готова ухаживать за внуками, то пусть потом не ждет, что кто-то будет ухаживать за ней в старости. Он так и сказал: «Кашку за кашку», – вроде как пошутил. Меня аж всю перевернуло, когда я это услышала; бедная его мама! – Не все дети такие! – спешит возразить Клодин. – Да, это так, – соглашается с ней Рут, – далеко не всех детей можно обвинить в неблагодарности, и не все считают, что им все положено, но в любом случае это может вылиться в неприятную историю. Я, правда, не встречала людей, у которых из-за этого распалась семья, но то, что это может служить причиной натянутых отношений, это точно. Меня лично это очень раздражает, но я думаю, что многие, если не большинство, предпочитают страдать молча, потому что, как сказала Нири, окружающая среда оказывает на нас очень сильное влияние, и не каждая решится делать что-то, что не принято. Никто из нас не любит, когда у нее за спиной перешептываются. В комнате – тишина. Нири смотрит на часы. – Нам пора прощаться, – прерывает она затянувшуюся паузу. – Я хочу поделиться с вами тем, о чем думала, когда слушала вас здесь сегодня. Мне вдруг пришла в голову мысль, что, возможно, обязанности бабушки, в которые входят главным образом помощь детям и уход за внуками, порой кажутся вам тяжелыми и обременительными, но они же могут оказаться для некоторых из вас и своего рода защитой. Нири останавливается, переводя взгляд с одной матери на другую; они, в свою очередь, с интересом ждут продолжения. – Я имею в виду, что часть из женщин таким образом спасаются от ощущения пустоты, которое наступает, когда они выходят на пенсию или когда дети окончательно покидают родительский дом. Они предпочитают по уши уйти в пеленки-распашонки, нежели предстать перед зеркалом, задавая себе очень нелегкий вопрос: как жить дальше? Далеко не так просто, как кажется, найти себя, вырвавшись на свободу. В любом возрасте. Рут согласно кивает, остальные сидят потупившись, обдумывая услышанное. Нири опять бросает взгляд на часы – у нее в запасе еще пара минут. – Помните, что как бы между прочим заметила Орна в самом начале нашей встречи? Она сказала, что с тех пор, как у нее появился мобильный телефон и кондиционер, она уже без них не может. Возможно, это еще одна особенность, характерная для вашего сегодняшнего состояния: в вашей жизни появились вещи или привычки, с которыми вы чувствуете себя очень комфортно, и с этим ощущением комфорта вы не желаете расстаться даже ради помощи дочке. Получается, что с какой бы стороны мы ни рассматривали вашу сегодняшнюю жизнь, вы явно находитесь на распутье. Нири Я сажусь в машину и, включая кондиционер, ловлю себя на том, что улыбаюсь в ответ на собственные мысли; действительно, тяжело отказаться от привычной, налаженной жизни ради чьей-то пользы, даже если это мои собственные дети. У каждого возраста свои жертвы. Я мысленно возвращаюсь к группе. Женщины их поколения стали женами и матерями в большинстве своем в очень молодом возрасте и сразу взвалили на себя ответственность за дом, семью и заработок. При этом они не знали, что такое жить самостоятельно, отдельно от родителей; они не успели разобраться в себе, пробуя все, что приходит в голову, короче, они еще не определились как сложная многогранная личность. Такими тогда были общепринятые нормы, и, возможно, одной из характерных черт все еще неполного «раскрепощения женщины» было то, что никого тогда не мучили сомнения, кто важнее: я или семья и дети. Все двигались по строгому, заранее проложенному маршруту. На сегодняшний день дети этих женщин выросли и покинули дом, домашние обязанности женщин резко сократились, да и материальная сторона жизни более или менее стабилизировалась. Впервые у них появилось свободное время, которое можно тратить, как заблагорассудится. Но оказывается, что и при взрослых детях мать по-прежнему стоит перед той же дилеммой: от нее ожидают помощи, она должна быть всегда рядом на случай, если она им понадобится или им нужны будут деньги. И даже если от нее практически не требуют никакой помощи, чувство вины не дает ей покоя, и она периодически задается вопросом, достаточно ли она делает для их благополучия. Тот же конфликт всплывает на поверхность, как только рождается первый внук: автоматически возникает уже знакомый всем вопрос, сопровождаемый все тем же чувством вины, сколько отдавать дочке и сколько оставлять себе. По-видимому, никогда не сможет мать по-настоящему освободиться от душевной потребности, а, возможно, даже необходимости помогать детям – в данном случае дочке после того, как она родила – или хотя бы мысленно, наедине с собой взвесить такую возможность. Может ли женщина быть абсолютно свободной? Позволяет ли ей это наше современное общество? То же общество, которое уже поддерживает выход матерей на работу, относится ли оно с пониманием к бабушкам, которые не желают отдавать всю себя уходу за внуками, а предпочитают жить своей жизнью? И даже не общество – дочка такой бабушки – сможет ли она принять это как должное? Ну а я, я сама, готова ли я предоставить полную свободу моей маме? Заставить себя повзрослеть настолько, чтобы справляться самой, без нее? Смогу ли я перестать требовать от нее всегда находиться где-то рядом, как я это делала – конечно, не впрямую, а своими окольными путями, – когда была беременной и мне так хотелось оказаться опять ее маленькой любимой дочкой? Мне становится грустно. Что с вами, Элла? Можете ли вы найти в себе силы, которые помогут вам выбраться из замкнутого круга вины и отчаяния? Сможете ли вы – мать, лишенная дочери, бабушка, лишенная внучки – превозмочь голоса, которые раздаются внутри и вокруг вас? Я жду вас. Элла Сегодня вторник, восемь часов вечера. Сейчас должна начаться очередная встреча группы, но я туда не пойду. Я иду на другую встречу. Я стою возле двери, знакомой мне еще по той, далекой прежней жизни, и прислушиваюсь. Ни один звук не выдает происходящего в квартире, и все же моя рука резко поднимается и замирает на звонке, словно металлоискатель над спрятанным в глубине золотом. Я слышу звуки шагов и почти сразу – удивленный голос Дальи. – Элла?! – произносит она, приоткрывая дверь на ширину ладони; и я ловлю на себе ее недоумевающий взгляд, за которым надежно скрываются все остальные чувства. – Что-то случилось? – интересуется она, будто открывая передо мной выход на аварийную лестницу, по которой мы обе сможем спастись от неловкости и настороженности. – Нет, ничего не случилось, – поспешно отрезая дорогу к отступлению, отзываюсь я и шепчу паре встревоженных карих глаз, – я прошу прощения, Далья, за все эти годы… Слезы катятся по щекам и подбородку, затекают в рот и капают на грудь. Далья замирает, но всего лишь на мгновение, а затем широко раскрывает дверь, и я делаю шаг вперед. Самое лучшее средство высушить слезы – прижаться к маме или к старому другу… И опять мы на кухне. Далья подходит к холодильнику, вынимает оттуда творожный кекс и отрезает два больших куска. Я устраиваюсь поудобнее на стуле из плетеной соломы – привыкаю заново к его знакомому прикосновению – и наблюдаю за ней, как всегда не знающей покоя пчелкой-трудягой. Вот и сейчас она протягивает мне кофе с молоком – мой любимый – и наконец садится напротив. Мы сидим молча, сосредоточенно отламывая кусочки кекса, бесшумно поднимая и ставя на стол кружки, и только холодильник и настенные часы, невзирая ни на что, продолжают свой бесконечный диалог, как и подобает истинным хозяевам дома. – Знаешь, Далья, – говорю я, поднимая на нее глаза, но больше ничего не добавляю. Она вопросительно смотрит на меня, хотя и знает, что я пытаюсь сказать. Ее тихий спокойный голос приходит на помощь моей нерешительности: – Я знаю, что Эйнав ушла из дома, – говорит она и поспешно поясняет, – она не пыталась со мной связаться или посвятить меня в свои планы; сначала это были только слухи, но когда ты начала меня избегать, мне стало ясно, что это правда. Я поняла, что ты не хочешь об этом говорить, что ты не хочешь ни с кем видеться, и оставила тебя в покое. Ее глаза блестят. – Далья, ты плачешь! – шепчу я и тоже начинаю плакать. – Мне никогда раньше не приходило это в голову… Как же так… Она ведь бросила и тебя… Далья ничего не отвечает, только протягивает мне руку. Мы сидим вдвоем на кухне и, держась за руки, плачем. Монотонное ленивое урчание холодильника внезапно прерывается, а с ним вместе, как по долгожданному тайному сигналу, прекращаются и наши всхлипывания. – Я слышала, что у нее родилась девочка, – вытирая глаза и нос, неуверенно произносит Далья. – Да, у нее дочка, – говорю я и вижу, как Далья смотрит на мои трясущиеся губы. Она протягивает руку и мягко гладит меня по плечу. Я не помню у нее таких грустных глаз. – Ты знаешь, – продолжаю я, делая глубокий вдох, как будто приказывая слезам вернуться назад в горло, – уже три года я ложусь и встаю наедине с этой тайной, иногда мне кажется, что еще немного – и она задушит меня. У меня не было сил даже говорить об этом. Я ловлю себя на том, что оправдываюсь перед Дальей. – Как только я начинала думать о них, я тут же начинала плакать. Три года я только и делала, что плакала. Я была жива снаружи, но мертва изнутри. Я вообще не знаю, что происходило со мной в то время. Я знаю, что я как-то их прожила, я жива, но я не помню, что я делала. – Я так за тебя переживала, – в свою очередь рассказывает Далья, – как-то я увидела тебя через окно и прямо испугалась. Ты показалась мне такой хрупкой, сгорбленной. Но ты не хотела моей помощи, ты меня не подпускала. – Мне жаль, – снова оправдываюсь я, но замолкаю, повинуясь нетерпеливому движению ее руки. – Какое это сейчас имеет значение? – прерывает меня Далья. – Я не сержусь на тебя. Я думаю, что и я была неправа. Сколько раз я себя спрашивала, может, мне нельзя было от тебя отставать, может, надо было прийти насильно – у меня же есть ключ от твоей квартиры, я его сохранила – поддержать тебя, поговорить с тобой, поговорить с Эйнав. А я… Мне казалось, что я не имею права, что надо уважать чужие чувства, что насильно мил не будешь. Может, я и ошибалась, но когда меня не просят, я не вмешиваюсь; ты же меня знаешь. – О чем ты говоришь? У меня нет к тебе никаких претензий, – успокаиваю ее я и вижу, как разглаживается ее лицо, – я, правда, никого не хотела видеть. Каждый раз, когда кто-то относился ко мне просто по-человечески, я тут же принимала это за жалость: он всего лишь жалеет меня, прокаженную. Через какое-то время стыд перешел в обиду, я казалась себе нищенкой в подземном переходе – знаешь, которой бросают мелочь, чтобы очистить совесть и задобрить бога. Тебе это, конечно, тоже знакомо: сначала ей фальшиво сочувственно улыбаются, а когда она отходит, произносят сквозь зубы, что от них один вред и они неважно как, но должны исчезнуть. Я поднимаю глаза на Далью, которая слушает меня как загипнотизированная, словно утоляет жажду после долгих лет молчания. И я не скуплюсь, орошаю ее бурным потоком слов. – Я чувствовала, будто куда бы я ни пришла, со мной вместе в помещение врывается ледяной ветер: люди начинали беспокойно ерзать, не могли дождаться, когда наконец я уйду. Может, этого и не было, – вздыхаю я, вспоминая, – может, мне это только казалось, но… я чувствовала, что никому не нужна мать, которую бросила родная дочь; что на меня сердятся, меня опасаются, жалеют; что я приношу несчастье, где бы я ни появилась. Так что лучше, чтобы я не приходила… Вот я и отгородилась от людей, от жизни вообще. Утром, как робот, шла на работу, вечером запиралась дома, как крот, который прячется от света. Я опять вздыхаю, перед глазами – я, лежащая на черном диване напротив телевизора. Еще один вдох – он поможет мне справиться с болью, которая вновь карабкается вверх к горлу. – Когда я узнала, что Эйнав родила, я почувствовала, что еще немного – и я взорвусь; что я не могу вместить в себя все мои чувства; что самой мне с моим горем не справиться, а идти не к кому. Я с опаской смотрю на Далью и осторожно поясняю: – Я избегала людей, которые знали: наверное, боялась на деле проверить, хотят ли они моего общества. Но и чужих, которые не знали моей тайны, я тоже избегала: разве реально построить отношения с людьми, когда ты живешь со страхом, что и этим отношениям непременно придет конец? И о чем мне с ними говорить, ведь в моей жизни ничего не происходит, а то, что на самом деле происходит, я предпочитаю никому не открывать. Ты понимаешь, Далья, я не видела никакого выхода. – Но, – робко возражает она, – а со мной? Почему ты не пыталась заговорить со мной? Ты же знаешь, как я тебя люблю. – С тобой – это что-то другое, – говорю я, – быть с тобой – то же самое, что быть с самой собой, правдивой и откровенной. Быть с тобой означало ставить перед собой вопросы, на которые у меня не было ответа. Быть с тобой – это все равно что увидеть себя в зеркале, а на это я не была готова. Я опускаю голову, словно дочь, вернувшаяся домой после долгой разлуки и прячущая глаза, чтобы не видеть глубоких морщин, выгравированных на лице матери болью и тоской, которые уже ничто никогда не сможет распрямить. – Ну и что же ты видишь в этом зеркале сейчас? – во взгляде Дальи я читаю сочувствие и любопытство, и это не всегда уместное соседство мне совсем не мешает. – Зеркало изменилось? – Не зеркало изменилось, – отвечаю я, не отводя глаз, – а я. Ты понимаешь, в течение трех лет я не думала о себе вообще. Я страшно переживала и во всем винила только себя одну. Сегодня я чувствую себя чуть-чуть иначе. Я говорю и впервые пытаюсь найти объяснение новому настроению, в котором нахожусь последние несколько дней. – Теперь я понимаю, что где-то в глубине души я всегда знала, что рано или поздно она это сделает. – Правда?! – большие, чуть навыкате, глаза Дальи, кажется, стали еще больше. Яркий голубой свет флюоресцентной лампы над кухонным столом обнажает каждую морщинку, высвечивает каждую крошку. – Я не могла признаться в этом даже себе, ведь получается, что я сама ее вынудила, как будто отправила в ссылку. А может, и вправду выслала? Сколько раз я чувствовала, что давлю на нее, что душу ее, что не даю ей дышать. Но я не могла с нею расстаться, уступить даже самую маленькую ее частичку кому-то другому. Я верила, что навсегда смогу остаться доброй заботливой наседкой, укрывающей под своим крылом ее – беспомощного пушистого цыпленка; и, по-видимому, не обратила внимания, что она выросла, а крыло мое из укрытия превратилось в преграду. Да я и не умела по-другому. У меня не было мамы, которая могла бы мне подсказать, как вести себя с повзрослевшей дочкой, вот я и продолжала обращаться с ней, как привыкла. Далья опять наливает нам кофе, и я продолжаю: – За последние недели я многое поняла о себе… Знаешь, я участвовала в группе для матерей мам, я обязательно расскажу тебе об этом подробнее, – обещаю я, – там были самые разные женщины; и вдруг до меня дошло, как это может выглядеть по-другому, я имею в виду, мать и дочь. Иногда в ком-нибудь из них я узнавала себя, у нас у всех оказывались те же переживания и заботы. Только сидя там и слушая их, я вдруг поняла, что материнство стало для меня центром мироздания; что с тех пор, как родилась Эйнав, я не была никем, кроме как мамой Эйнав; Далья, ты меня понимаешь? – Думаю, что – да, – отвечает она после короткого молчания, – ты растворилась, ты всегда находилась «при исполнении обязанностей», как прапорщик, который и у себя дома всех выстраивает по стойке смирно. – Я поняла, что любой человек – и особенно мать – должен уметь иногда отойти чутьчуть в сторону; обозначить границу между собой и другим, чтобы не слиться с ним окончательно; прислушаться к себе и остаться самим собой. Только сейчас, после того как я начала потихоньку приходить в себя, только сейчас я начинаю вспоминать, кто я и о чем когда-то мечтала. Я сгребаю крошки, оставшиеся от кекса, и выстраиваю из них небольшую горку в центре тарелки. – Но не думай, что я такая уж героиня, – собирая крошки в щепотку и забрасывая их в рот, замечаю я, – больше всего на свете я хочу, чтобы она вернулась, хотя бы только для того, чтобы она убедилась, что я могу жить иначе. – И ты сможешь принять ее назад? Далья следит за моей рукой – пальцы куриным клювиком машинально вычерчивают полукруг: тарелка – рот, рот – тарелка. – Конечно, я приму ее, – моментально откликаюсь я, – в одном я не сомневаюсь: я знаю, что она меня любит. Я больше на нее не в обиде, но я не сижу и не жду ее все время. Если она появится, приму ее безоговорочно, без каких-либо условий, ведь я ее мама. Я предпочитаю ее принять и при этом продолжать бояться, что она опять исчезнет, чем лишить нас возможности хотя бы попробовать. Мы замолкаем, через какое-то время Далья вздыхает. – Мне ее тоже очень не хватает, – грустно произносит она. – Мы все по ней скучаем, и дети тоже спрашивают. Но знаешь, что, – ее голос звучит звонче и увереннее, – у меня лично такое чувство, что придет день – и она объявится. Я даже не представляю себе ничего другого. Она хорошая девочка, у нее доброе сердце. Я ее, конечно, не оправдываю. Прошло слишком много времени; это тянется слишком долго, и я должна признаться, что по-настоящему на нее обижена, даже, можно сказать, сердита. Я не знаю, что там было, но как бы там ни было, это не должно было дойти до такой крайности. И все, хватит, она должна вернуться! Далья останавливается и, подаваясь вперед в мою сторону, произносит: – Вот ты ведь вернулась! Мы сидим в тишине, отдаваясь каждая своим мыслям. – Ну, а что у тебя? – слышу я свой голос и думаю, что ухитрилась забыть не только о себе, но и о других. – У нас все по-старому, – улыбается она и дает мне короткий отчет о каждом из ее домочадцев. Наконец я встаю, с трудом распрямляю спину, и мы обнимаемся. Далья провожает меня к дверям, я перешагиваю через порог, но затем оборачиваюсь и шепчу: – Спасибо, что ты меня ждала, Далья. Встреча десятая Далекая и близкая – Добрый вечер! Я вижу, что все в сборе и, как всегда, на своих местах, – весело здоровается Нири, начиная очередную встречу, и добавляет: – за исключением Эллы, но она звонила предупредить, что ее не будет, так как она уезжает за границу, как она выразилась, слегка проветриться. – Вот здорово! – радостно отзывается Клодин. – Проветриться – значит, она уехала в отпуск, правда? Нири утвердительно кивает. – Отличные новости! – хлопает в ладоши Анна; в комнате стоит радостное оживление. На лице Товы появляется неуверенная улыбка. – Я надеюсь, что ей будет там хорошо, – осторожно замечает она. – Не сглазь! – смеясь, грозит пальцем Рут. – Как я рада, что она начинает поднимать голову! – замечает Орна. – Я не спрашиваю вас, куда она поехала и с кем; я спрошу ее лично, как только она вернется в группу, ну а она уж сама решит, что именно нам рассказывать! – А она вернется? – с сомнением в голосе спрашивает Маргалит, глядя на Нири. – Я предполагаю, что она вернется к последней встрече – так, по крайней мере, она сказала, – отвечает Нири и продолжает, обращаясь к группе: – У нас сегодня десятая встреча. Не считая сегодняшнего, мы проведем вместе еще два вечера. Женщины молча переглядываются. – На прошлой неделе после того, как Орна поделилась с нами своими сомнениями, мы пришли к выводу, что в настоящее время вам предстоит разрешить два конфликта, с которыми, несомненно, сталкивается каждая мать: как распределить свои возможности между собственными желаниями и потребностями детей и как и насколько сократить их зависимость от нас. Я пыталась представить, какие еще проблемы занимают вас сейчас, когда ваши дочери впервые становятся матерями, и каждый раз убеждалась, что все вопросы упираются во все те же, упомянутые нами дилеммы. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что мы коснулись главных и самых значительных причин ваших личных сомнений и внутрисемейных разногласий. Орна выдвигает стул ближе к центру круга. – Я много думала про то, о чем мы говорили, о чем я говорила, – с улыбкой поправляет себя Орна, – на прошлой встрече. А говорила я очень много! В принципе я говорила сама с собой! Я имею в виду, что в прошлый раз я наконец-то призналась сама себе в моих настоящих чувствах. Я позволила себе не только не отгонять мои мысли, но и озвучить их! А вы, в свою очередь, дали мне понять, что эти вопросы занимают не только меня; что очень многие матери думают так же, как я. Покамест я все еще не нашла выхода, который одинаково удовлетворит обе стороны! Я все еще не знаю, как помочь Яэль и при этом не чувствовать себя жертвой, а кроме того, как дать ей понять, что пора уже самой отвечать за свою жизнь, но… как бы это сказать… чтобы она не решила, не дай бог, что я ее бросаю. И вы правы, Нири, когда говорите, что я боюсь, – я до сих пор так и не решилась поговорить с ней открыто! – Знаете, Орна, – с сочувствием глядя на нее, вступает в разговор Маргалит, – я обратила внимание, как вы менялись прямо у нас на глазах. Вначале вы говорили, что сомневаетесь, но уже во время разговора было видно, как в вас созревает уверенность; и к концу мне было абсолютно ясно, что вы пришли к определенному заключению, от которого уже не отступитесь. Жертва исчезала у нас на глазах! Орна пожимает плечами. – Слова должны подтверждаться действиями, а это у меня пока еще не получается. – Если кто-нибудь спросит меня, почему я прихожу на наши встречи, – улыбаясь в ответ, продолжает Маргалит, – то одной из причин я назову то, что здесь, в группе, не только не стесняются говорить обо всем, что мешает, – сюда приходят, чтобы говорить! Знаете, как мне это помогает! Нири поворачивается в сторону взволнованной от неожиданно вырвавшегося признания Маргалит. – Вы, наверное, имеете в виду тайну, которой вы поделились, пытаясь описать, что чувствует приемная мать в данной ситуации. Может и правда расскажете нам, чем это вам помогло? Что вы ощущаете теперь? Маргалит морщит лоб, улыбка постепенно исчезает. – Если подумать, – после короткой паузы серьезно начинает она, – то и у меня ничего не изменилось, хотя… может, что-то «сдвинулось»… как бы это объяснить? Она опять задумывается. – Мне кажется, что после того, как говорят в открытую о том, что мешает, или, еще точнее, угнетает, когда признаются в этом, есть ощущение… у меня появилось чувство облегчения. Даже если ситуация не изменилась, мне просто легче с этим смириться. В принципе что-то изменилось, да, – думаю, я чуть-чуть успокоилась. Маргалит снова улыбается. – Кроме того, в последние дни я много говорю на эту тему с мужем и мне очень жаль, что я потеряла так много времени, варясь в собственном соку. И он, между прочим, сказал мне кое-что очень важное: он сказал, что я охочусь только за отрицательным, а положительное ускользает от меня. А ведь это действительно так! С тех пор, как он это сказал, я просто силой прогоняю любые плохие мысли и ищу во всем только положительные стороны. Потрясающе, насколько это помогает мне успокоиться! Мне действительно стало намного легче. – Я говорю вам, во всем и всегда можно найти что-то положительное, – прерывает ее Мики, – у меня есть подруги, которые специально приходят ко мне, когда у них плохое настроение, чтобы убедиться с моей подачи, что даже у черного цвета есть разные оттенки. Невозможно все видеть только в черном свете! – Вы правы, – поддерживает ее Орна, но при этом смотрит на Маргалит, – мне кажется, это хороший метод. Я бы тоже хотела найти что-то, что мне поможет… И добавляет: – Я не могу сказать, что нашла золотую середину; по-моему, я к ней даже не приближаюсь! Это совсем непросто, но я не снимаю с себя ответственности – нет, нет! Мне очень важно, чтобы в конце концов все наладилось: ведь речь идет о моей дочке и внучке! По-моему, Яэль постепенно приходит в себя; пару дней назад она сама предложила часть курсов перенести на следующий семестр; таким образом, у нее останется больше времени быть с ребенком. А это значит, что и она привязывается к малышке и хочет быть с ней, – она и правда такая сладкая! – Как ее зовут? – интересуется Анна, отгоняя рукой назойливую муху. Орна расплывается в счастливой улыбке. – Ее зовут Шира, она чудный ребенок! Каждый день я открываю в ней что-то новое! – Надо же! – смеется Това. – Именно это имя выбрала моя дочка, прежде чем оказалось, что у нее сын. – Расскажите нам о своем внуке, какой он? – оживленно предлагает ей Клодин. Това коротко усмехается. – О моем внуке? Я еще никак не привыкну, что этот ребенок – мой внук. Даже сами слова «мой внук» я произношу с трудом. Какой он? Все, что я могу сказать, зовут его Томэр, и он сладкий, спокойный, смышленый, – она вздыхает. – Меня же волнует совсем другое, и это касается того, о чем мы говорили на прошлой неделе. Я вдруг обратила внимание, что в свое свободное время совсем не стараюсь побольше побыть с ним и с Ширли. Я спрашиваю, почему у меня в отличие от многих нет этой потребности? Това снимает светло-бежевый, почти кремовый, льняной жакет и аккуратно складывает его на коленях. – Это точно не из-за того, что я не желаю жертвовать своими интересами, так как я говорю не об утренних часах, когда я работаю, а о моем свободном времени ближе к вечеру или в выходные. Изначально нам обеим было ясно, что я не собираюсь менять свой образ жизни ради нее. Ширли привыкла к тому, что ее мама – человек занятый, что, кроме семьи и домашнего хозяйства, у меня есть работа и друзья; я люблю театр, концерты. – Так что же вас удерживает? – с любопытством смотрит на нее Орна. – Удерживает? – переспрашивает Това и продолжает, будто размышляет вслух: – Не знаю, удерживает ли… возможно… Послушайте, как я рассуждаю. Ее руки машинально поглаживают лежащий на коленях жакет. – Приходить туда часто, это значит… Она кладет ногу на ногу. – Это значит, что между мной и внуком установятся определенные взаимоотношения. Развитие отношений, – Това начинает говорить все быстрее и быстрее, – подразумевает сближение, а для меня сближение означает зависимость. Так я это вижу. А я не хочу быть от кого-то зависимой – неважно от кого. Я знаю себя – я очень быстро привязываюсь, я бы даже сказала, прикипаю. Из страха оказаться привязанной я всегда предпочитаю оставаться на некотором расстоянии. Това замолкает, но только чтобы поправить сползающий с колена жакет. – Мне уже давно ясно, – сцепив руки на колене, продолжает Това, – что я не живу с мужем в том же доме и даже в той же стране только потому, что мне слишком тяжело находиться с кем бы то ни было в непрерывной близости. Я не могу сказать, что жить в разных странах – это идеальное решение, возможно, это просто способ увильнуть от основной проблемы, но пока что это действует. Дети, скажем прямо, от этого не в восторге, но они понимают, что и предыдущая ситуация была не особенно удачной. Моя мама очень сердится, но я уже давно перестала жить сообразно ее понятиям, о чем, честно говоря, абсолютно не жалею. Она смеется. Ее взгляд останавливается на Рут, которая смотрит на нее с большим интересом. – Мама сердится, но при этом, естественно, не понимает одной очень важной детали, которая для меня ясна уже давно, – все это связано с тем, что я видела в доме, в котором выросла. Мои родители никогда не были слишком близки друг к другу или ко мне, я бы даже сказала, что они избегали такого рода близости. Я не знаю, чем это объяснить: холодным сдержанным характером, свойственным людям, воспитывавшимся в довоенной Германии, или жизнью, которая сделала нас, несчастных, такими. Я ведь вам уже рассказывала, что у меня была старшая сестра, которая умерла в восемь лет от воспаления легких. Это сломало моих родителей – особенно папу – и сделало их еще более жесткими. Так что, скорее всего, там – дома – я впитала страх близости: мне всегда внушали, что слишком тесная связь опасна; что в конце концов она разрушает, делает больно. Когда ты привязана к кому-то, но ваша связь кончается, или он тебя ранит, ты можешь не выдержать, сломаться, а это может перевернуть всю твою жизнь. Именно о такой зависимости я говорю и ее боюсь. Наверное, существует другая близость, но мне она незнакома. Я бы не хотела посвятить себя детям или перестроить свою жизнь, чтобы встречаться с ними как можно больше, а потом вдруг они переедут или уедут за границу. Такое часто случается с мамами и бабушками, которые отдают себя внукам, а в результате оказываются брошенными и одинокими. Еще я не хочу, чтобы со мной случилось то, что случилось с моей мамой. Когда я родила, она пришла ко мне и тут же надела передник, который принесла с собой, – так по ее понятиям должна была вести себя мать, – но я сказала ей: «Уходи и возвращайся как гостья». – Значит, вы боитесь, что то же самое может случиться и с вами? – переспрашивает ее Рут. – Что вы придете помочь дочке или побыть с внуком, а вас прогонят? – Да, – утвердительно кивает Това, – я стараюсь не оставаться у них ни одной лишней минуты; я так прямо и сказала Ширли: «Я не желаю ни под кого подделываться». Не хочу чувствовать себя помехой, для меня это больно и мучительно: я потом чувствую себя жалкой и грызу за то, что поставила себя в положение лишней, сама дождалась, пока меня прогонят. – А как же все хорошее? – удивляется Клодин. – Вы же лишаете себя всего хорошего, не жалко?! Ее поддерживает Маргалит. – Вы меня опередили! Я хотела сказать то же самое! – обращается она к Клодин, а затем переводит взгляд на Тову. – Знаете, с тех пор как я призналась самой себе, что по натуре я пессимистка, я вдруг начала различать вокруг себя массу положительных вещей, которые чуть было не упустила! Я вдруг увидела, что меня окружает столько хорошего, это потрясающе! Она взволнованно улыбается. Наступает короткая пауза, которую прерывает Рут. – А думали ли вы о том, – мягко произносит она, глядя на Тову, – что из-за вашего страха потерять их, ваши дочка и внук теряют вас? Что они не смогут получить все то хорошее, что вы можете им дать? – Это не совсем так, – с легким раздражением в голосе отзывается Това, – я не думаю, что ничего не даю им и ничего не получаю от них, – не надо вдаваться в крайности. Я не сказала, что избегаю общения с моими детьми, наоборот, я очень дорожу нашими хорошими отношениями, но… Меня что-то все время останавливает, словно кто-то внутри нажимает на тормоза. Может быть, из-за этого наша связь будто буксует на месте, годами между нами ничего не меняется. – И сейчас, – подхватывает Нири, – прежде чем между вами и Томэром установится настоящая связь, вы пытаетесь решить, в первую очередь для себя самой, на какие именно отношения вы готовы, насколько глубоко вы позволите ему проникнуть в вашу жизнь. Поэтому вы не называете его «мой внук», так как эти слова предполагают определенные, уже сложившиеся между вами взаимоотношения. Това отвечает ей долгим сосредоточенным взглядом. – Наверно, – коротко бросает она. Помедлив, Нири обращается к группе: – На прошлой нашей встрече кто-то из вас говорил, что если бы вы жили ближе друг к другу, то могли бы помогать больше, а кто-то – наоборот: если бы жили чуть подальше, были бы более свободны. Я хочу использовать эти понятия «ближе» – «дальше», но уже относительно того, о чем только что говорила Това. В близости, по-моему, есть много плюсов, но за нее, как за все в жизни, приходится платить. Есть, кого это пугает, удерживает; некоторые даже предпочитают отступить. Она смотрит на Тову. Това сидит задумавшись, положив ногу на ногу и чуть заметно покачиваясь всем корпусом вперед-назад. – Да, все относительно, – еле слышно говорит она, – по-видимому, я больше опасаюсь плохого, чем радуюсь хорошему. Как вы верно заметили, я неисправимая пессимистка и большая трусиха, особенно во всем, что касается дома. Ведь, к примеру, на работе я намного смелее и решительнее. Я уверена, что люди, знающие меня по работе, привыкли видеть меня сильной и энергичной и были бы очень удивлены, узнав, какая я тряпка во всем, что касается семьи. Я очень хочу быть близкой Ширли и Томэру, я хочу самой тесной связи, на которую они только способны, но я ни в коем случае не желаю никому себя навязывать. – Вы ищете взаимности, но при этом хотите, чтобы глубина и интенсивность взаимоотношений устраивали бы обе стороны, – подсказывает Анна. – Не совсем, – отзывается Това, – это не точно: возможно, мне необходимо больше, чем им, – кто это может измерить? Но что мне абсолютно ясно, я не хочу ни в коей мере им себя навязывать. Поэтому я все время стараюсь прощупать, насколько я им нужна. Я хотела сказать это еще на прошлой неделе, когда вы все обсуждали, как вам важно помогать вашим дочкам и как вы, не задумываясь, поменяете весь распорядок вашей жизни. А я все время спрашивала себя, откуда в вас эта уверенность, что дочь – и особенно ее муж – в принципе желают получить планируемую вами помощь?! Откуда вы знаете, что она вообще хочет видеть вас у себя в доме?! Может, для них это только помеха, когда вы приходите со всеми вашими благими намерениями? Может быть, тем самым вы их только лишний раз напрягаете, а им неудобно вас отослать?! Или, скажем, она хотела вашей помощи, пока была беременна, потому что думала, что не справится; а теперь все изменилось, но ей неудобно вам отказать: ведь вы пошли на такие жертвы, и она боится вас обидеть? Вы никогда не представляли себе, как ее муж, возвращаясь с работы и видя возле дома вашу машину, начинает тихо ругаться и, возможно, делает еще один круг в надежде, что вы за это время уйдете?! – Ничего себе, настоящий ураган! – смеется Анна. – Как вы могли спокойно сидеть и молчать? Я бы уже лопнула! – А я как раз совсем не удивляюсь, – вступается за Тову Рут, вращая кольцо на безымянном пальце левой руки, – я помню, как обратила внимание, что Това явно что-то очень сосредоточенно обдумывает. Она поворачивается к Тове. – По вашим глазам было видно, – поясняет Рут с улыбкой, – что вы все время о чем-то думаете. Вы очень внимательно слушали, но за весь вечер не проронили ни слова. Това и на этот раз слушает молча, не спеша с ответом. – Я бы тоже хотела поделиться с вами своими наблюдениями, – обращается к ней Нири, – когда вы решаетесь высказать то, что думаете, вы делаете это прямо, без прикрас, но иногда вы предпочитаете промолчать, возможно, продолжая сомневаться и вести серьезные мысленные споры. Вся эта глубокая внутренняя работа отражается на вашем лице. Через какое-то время вы не выдерживаете, и все накопившиеся мысли и эмоции – часто совершенно неожиданно для окружающих – выплескиваются наружу. Может быть, что-то подобное происходит у вас не только здесь, в группе, но и с Ширли. – Да, это так, – медленно, взвешивая каждое слово, соглашается Това, – я знаю, что не умею скрывать свои мысли. Она вздыхает. – Возможно, поэтому я стараюсь не приближаться вплотную – чтобы случайно себя не выдать. – Что же произошло на прошлой неделе, почему вы тогда не решились поднять все те вопросы, которые задали сейчас? – не отступает Нири. – Если честно, я просто побоялась все испортить, – отвечает Това, не отрывая глаз от пола, – у меня было такое чувство, что я выплесну ложку дегтя в бочку с хорошими намерениями, о которых все тут говорили. – Что именно вы боялись испортить – общую атмосферу в группе, отношения, которые сложились между вами? – спрашивает Нири и добавляет. – Я спрашиваю это, потому что у меня есть ощущение, что вы меньше опасаетесь за атмосферу, так как группа уже успела пережить несколько неприятных моментов, и ничего страшного не произошло, но вы, да, боитесь за связь, которая установилась между вами и остальной группой и которую вы можете нарушить каким-нибудь неосторожным высказыванием. Это возвращает нас к тому, что вы сказали вначале, когда поделились своими опасениями, что чрезмерная близость может быть легко разрушена одним случайно брошенным замечанием или необдуманным поступком. – Все правильно, – по-прежнему не поднимая глаз, вздыхает Това, – а так как в большинстве случаев мои мысли не выражают оптимизма, я боюсь высказать их вслух, чтобы не испортить настроения себе и другим. Так что правильно, все абсолютно правильно. – Может, для вас это будет неожиданным, – улыбается Клодин, – но я очень даже понимаю, о чем вы говорите; жаль, что вы не стали говорить об этом на прошлой неделе, потому что я тоже, когда начинаю думать, как стану помогать Лиат, сразу начинаю бояться, а вдруг я буду им мешать или слишком вмешиваться в их жизнь. Если я сама терпеть не могу, когда кто-то лезет в мои домашние дела и начинает управлять, то уж молодая семья – тем более. Кроме того, я одна из тех, кто не умеет держать язык за зубами; я точно не смолчу, если увижу, что что-то не так! Она качает головой. – Поэтому я решила дать возможность дочке как можно больше быть самой с ребенком и мужем. И я постараюсь не забывать об этом. Еще я буду стараться не вмешиваться в их решения: пусть все решают сами, если, конечно, они не спросят совета. Я уже заранее знаю, что мне будет очень тяжело, потому что у меня обо всем есть свое мнение, мне всегда есть, что сказать! – Вы все говорите так, будто с ними надо обращаться, как со старыми хрупкими елочными игрушками. А между прочим, они уже давно не маленькие и сами могут решить, что им подходит, а что – нет, – нетерпеливо бросает Анна. – Но вы же знаете, что женщины сразу после родов особенно чувствительны к любому, самому маленькому замечанию, – отзывается Маргалит, – хорошо, если бы все было так легко! У меня, например, это просто ужас какой-то: любой вопрос, который я задаю Михаль о ребенке, она тут же воспринимает как критику – как будто я ее проверяю – и тут же выходит из себя. Из-за этого я вообще прекратила спрашивать. Мики вынимает из сумки тюбик с кремом, неторопливо открывает и выжимает небольшую горку на каждую ладонь. – Лично я уже через два-три дня после родов все делала сама, – говорит она, растирая крем и массируя пальцы, – моя мама только готовила и приносила нам еду, а с ребенком я прекрасно справлялась и без ее помощи. Мне было страшно важно показать всем, что я справляюсь, и я действительно очень быстро во всем разобралась. А вот с моей дочкой все было иначе. Она завинчивает крышку и не глядя кидает тюбик в сумку; после чего неторопливо продолжает: – У нее были очень тяжелые роды, после которых она очень медленно приходила в себя, и я чувствовала, что ей необходимо, чтобы мама была рядом. Поэтому я поддерживала ее и помогала ей, как могла. Когда я предложила ей переехать ко мне, она чуть ли не прыгала от радости; и до сих пор она постоянно со мной советуется и беспрерывно задает вопросы. Мики опять поднимает сумку и кладет ее на колени, но, передумав, возвращает на пол возле стула. – И вот еще что интересно, – в полной тишине продолжает она, – в последние дни я вдруг обратила внимание, как она смотрит на своего мужа. Ведь что происходит? Она видит, как после недельного ажиотажа вокруг нее и ребенка его жизнь вернулась в обычное русло; а она целыми днями торчит дома с ребенком, умирает от усталости и выглядит как черт знает кто, потому что тело еще не пришло в норму, и она по-прежнему носит только треники или одежду для беременных. Она понимает, что ее жизнь перевернулась на сто восемьдесят градусов, в то время как у него в общем-то ничего не меняется. И все это у меня на глазах: я смотрю на нее и отлично представляю, что происходит у нее в голове. Поэтому мне важно быть с ней, чтобы объяснить, что жизнь женщины после родов уже никогда не будет такой, как прежде; но я тут же говорю, что за несколько недель можно вернуть фигуру в нормальное состояние и что со временем все становится гораздо легче. Кроме того, она может убедиться на моем личном примере, как я – мать двоих детей – не отказалась от своей жизни и добилась всего, чего хотела. Мне кажется, что таким образом я придаю ей силы. Я не хочу, чтобы она ходила с опущенными в землю глазами, будто для нее жизнь уже кончилась. – Значит, – обращается к ней Нири, – близость может не только «ранить и разрушать», она может придавать силы и вселять надежду. Обратили ли вы внимание, что здесь, в группе, происходит то же самое, что происходит между вами и вашей дочкой? Пользуясь установившимися в группе отношениями искренности и доверия, вы стараетесь помочь Тове, поддержать ее, укрепить ее веру в себя. Мики довольно улыбается, собираясь, по-видимому, ответить, но Това ее опережает. – Все это так, и все, что вы говорите, кажется мне вполне логичным, – слегка раздраженно говорит она, – но я не думаю, что моей дочке интересно выслушивать мои нотации. Кроме того, я так и не получила ответа на мой вопрос: откуда вы знаете, что дочка по-настоящему хочет, чтобы вы приходили? Может, ей просто неудобно, потому что она видит, как вы стараетесь, а в принципе ей было бы достаточно поговорить с вами по телефону? Или, может… – Я могу отвечать только за себя, – прерывает ее Мики, – не знаю, что скажут вам остальные матери. Между мной и моей дочкой, как вы уже, наверное, поняли, существуют отличные отношения. Мы всегда находили общий язык; она всегда мне все рассказывала, делилась, как с лучшей подругой, даже в подростковом возрасте. Я помню, как мои подруги рассказывали мне о своих дочках-подростках вещи, от которых у меня волосы становились дыбом, но у моей дочки не было причин бунтовать против меня. Я всегда была этакой молодой мамой, в курсе всех новшеств и событий, может, поэтому нам было так здорово вместе. Я пользовалась Интернетом задолго до того, как мои дети впервые о нем услышали; я всегда слежу за модой и стараюсь ее придерживаться. Последнее, что ей может прийти в голову, – это обвинить меня в отсталости или консерватизме. Кроме того, она не раз убеждалась, что я знаю ее как саму себя: ей достаточно произнести одно слово, и я уже знаю, что она хочет сказать. Между нами совершенно особенная связь, я такого больше нигде не встречала; она – моя жизнь, а я – ее, мы не можем существовать друг без друга. – Что значит, совершенно особенная связь? – не сдается Това. – Ну скажем, – оживленно поясняет Мики, – она посмотрит на меня, и я буду точно знать, что у нее делается внутри. – Приведите пример. Мики ненадолго задумывается. – Я вам уже рассказывала, – говорит она, обращаясь к группе, но при этом смотрит на Тову, – что мы недавно гуляли в парке. Она почти все время молчала чем-то расстроенная. Поверьте мне, ей не надо было ничего объяснять, я сразу поняла, что ее мучает, но не стала приставать к ней с расспросами. Через два дня после этого я была у нее и спросила, правда ли, что когда мы сидели в парке, она думала о муже, о том, что в обеденный перерыв он остался у себя в офисе. Я уверена, что ее это очень задело, так как вначале он использовал любой перерыв, чтобы хоть чуть-чуть побыть с ней и с ребенком. И она сказала мне: «Да, откуда ты знаешь? Как раз в тот день мне вдруг стало так тоскливо, и я надеялась, что после того, как он позвонит и услышит мой голос, он решит сделать мне сюрприз и прибежит, но он только спросил, как Гай, – и все». Откинувшись на спинку стула, Мики продолжает, попрежнему глядя на Тову: – Понимаете, между нами всегда существовало что-то вроде телепатии; я понимаю ее без слов. Или вот еще история. Как-то, когда она была еще маленькой, я была чем-то занята на работе и вдруг почувствовала сильный укол в ногу – что-то очень странное, я даже вскрикнула. Через несколько минут мне позвонили из школы и сообщили, что она упала и поранилась, и ее надо везти в больницу; ей, бедненькой, даже швы накладывали. И вдруг до меня дошло, что я почувствовала боль в ту самую минуту и в том же самом месте! Именно это я и имею в виду, когда говорю, что между нами существует больше, чем обычная связь. Даже с моим сыном, с которым мы тоже очень близки, ничего подобного не происходит. Това громко вздыхает. – Но меня интересует, хочет ли дочка Мики… – она останавливается и обращается к Мики, – я понимаю, что если я спрошу вас, хочет ли ваша дочка, чтобы вы приходили каждый день, вы, конечно, ответите, что телепатия вам подсказывает, что, да, она хочет. Но меня интересует, думает ли она сама, что между вами существует такая на редкость тесная, ну просто необыкновенная связь! Что по этому поводу говорит вам ваша телепатия? Мики не успевает ответить – Нири поднимает руку, прося слова. – А я бы хотела спросить у вас, – поворачивается она к Тове, – чем вас не устраивает рассказ Мики? В вашем голосе слышится ирония, возможно, вы даже сердитесь. – Что меня не устраивает? – Това опять вздыхает. – Не знаю! Наверное, я просто к ней «цепляюсь». Я не хотела вас обидеть, Мики, честное слово! – Да ладно, – качает головой Мики, – я даже и не думала обижаться; вы говорите то, что думаете, для этого мы здесь и собираемся. Коротко улыбнувшись, Това обращается к Нири: – Скорее всего, причина в том, что я сама не смогла бы с такой уверенностью охарактеризовать мою связь с Ширли; и кроме того, эта связь будет совершенно непохожей на ту, о которой рассказывает Мики. Мне кажется, я хорошо понимаю моих детей – всех троих – но Ширли считает, что я ее абсолютно не понимаю. Она останавливается, чтобы перевести дух, и продолжает: – Я считаю, что люблю ее безгранично такой, какая она есть; Ширли же считает, что я постоянно от нее что-то требую и ставлю условия. Я знаю, что обе мои дочки и сын – для меня они неразделимы – это самое главное, что есть у меня в жизни. Они дают мне силы на все остальное, и для меня нет в жизни никого и ничего важнее их. Так было всегда, с тех пор как они были совсем маленькими. Они – катализатор, моя движущая сила, но Ширли не видит всего этого или, вернее, видит все иначе и подчеркивает это при каждом удобном случае. Това опять останавливается, поправляет все еще лежащий на коленях жакет и, поменяв положение ног, добавляет: – Я чувствую между нами такую глубокую связь, что иногда мне кажется, будто мы все еще соединены пуповиной, но Ширли, сколько я помню, с самого раннего возраста «отвоевывала право на независимость». Иногда она исчезает на несколько дней, пока ей не становится невмоготу; тогда она звонит, и я говорю: «Что происходит, ты должна мне все рассказать?!» Она, собственно, только этого и ждет. Но позже, если я, не дай бог, использую это для какого-либо совета или вспомню и задам по этому поводу какой-нибудь вопрос, она может резко оборвать; будет сердиться на меня и на себя, зачем вообще ей нужно было мне это рассказывать, и закончит своей постоянной фразой: «Ты никогда меня не понимаешь!»; и на этом – все. А в действительности – я это знаю – она всегда бежит ко мне. Может, сначала ее муж – он ее настоящий, самый близкий друг – а потом я. Я это точно знаю. Я не знаю точно, какие у нее отношения с подругами, но то, что после ее мужа иду я, это несомненно. С моей мамой у меня в корне другие отношения; она никогда не была тем человеком, с которым я могла поделиться. Так вот, когда я слушаю Мики, рассказывающую о своей дочке, я говорю себе, что и я понимаю Ширли без слов, но она сама при первой же возможности постарается доказать мне обратное. Что нас точно объединяет в этом вопросе, можно выразить одним предложением: «Я не желаю, чтобы моя мама слишком вмешивалась в мою жизнь». Поэтому я веду себя осторожно. Моя мама влезала абсолютно во все. Я пытаюсь учиться на ее ошибках и держаться подальше, но и здесь меня поджидает ловушка: если я не буду вмешиваться, вначале все будет хорошо, но в один прекрасный день Ширли предъявит мне претензии, что она меня не волнует и я не уделяю ей нужного внимания. Когда я молчу и не вмешиваюсь, я делаю это из уважения к их личной жизни, а она периодически обвиняет меня, что я недостаточно ей даю, что я слишком холодная. Но это же совершенно не так! Я как раз считаю себя человеком эмоциональным, но из уважения к ней совершенно осознанно пришла к решению быть сдержанной в своих чувствах и их проявлениях; а вот она почему-то воспринимает это иначе. Това переводит взгляд на Рут. – По-моему, вопрос состоит в том, как можно уделять внимание, но при этом соблюдать дистанцию; как сохранить близость, оставаясь в стороне – не вмешиваясь и не смешиваясь. В ее голосе слышно волнение. – Я чувствую себя канатоходцем над пропастью, и мне не всегда удается… очень редко удается… Между нами нет никаких точек соприкосновения… Я вам уже рассказывала, как сразу после родов моя мама пришла ко мне с белым передником и полотенцами помогать и учить меня ухаживать за ребенком и как я ее выставила. Она очень обиделась и не появлялась целых две недели. Вы понимаете? Вместо того, чтобы подумать обо мне и спросить, что мне нужно, она думала о себе и носилась со своей обидой. У нас были очень сложные отношения. Моя мама – человек на редкость властолюбивый, я бы даже сказала – деспотичный; годами она сидела у меня здесь, – Това постукивает ребром ладони по шее ниже затылка. – Я уверена, что моя дочка говорит то же самое про меня, жалуется на мой тяжелый характер, но я с ней не согласна. Я совершенно не похожа на мою маму. Ширли, наверное, будет говорить, что ее мама не то что не вмешивалась, что она даже не интересовалась и не желала помогать – короче, перевернет все наоборот, совсем не так, как я себе это представляла. – Судя по вашему рассказу, – обращается к ней Нири, – особенно по словам, что между вами нет никаких точек соприкосновения, и по тону, которым вы это произнесли, вы уже ни на что не надеетесь. Това только тяжело вздыхает. Сочувственно улыбаясь, Нири продолжает: – Есть еще одна интересная деталь, на которую я обратила внимание в вашем рассказе: не только вы, но и Ширли, – вы обе – сами себе противоречите. Вот посмотрите: точно так же, как вы мечтаете сблизиться с Ширли, а сами отдаляетесь, так и она, нуждаясь в вас, ищет способы от вас же и отгородиться. Между прочим, то же самое вы рассказывали и о ее родах: сначала Ширли сказала вам, что не хочет, чтобы вы были в больнице, когда она будет рожать, а затем сама же вас и вызвала. – Да, я действительно была с ней в больнице, – коротко усмехается Това, – но знаете, к какому выводу я пришла? Она позвала меня только потому, что там оказалась Галь, и ей стало неудобно, как это так, ее сестра с ней, а мама – нет. Я вовсе не уверена, что она так уж хотела меня видеть. И вообще почему там была Галь? Может, она уже заранее просила ее – но не меня – прийти? Она просто боялась меня обидеть, я это знаю; этому она научилась у меня – стараться не обижать близких тебе людей. Маргалит слушает ее и иронически улыбается. – Вы и вправду верите, – говорит она, качая головой, – что она была способна думать о чем-то, кроме как о боли? – Ей не все время было больно; Галь позвонила мне уже после того, как Ширли сделали анестезию, – отзывается Това и, грустно улыбаясь, добавляет, – вот видите, у меня на все готов ответ; я уже все давно разложила по полочкам. – Но в то же время, – решительно вступает в разговор Рут, – вы ведь сами рассказывали, как, услышав от Ширли, что она не хочет, чтобы вы присутствовали на родах, сразу заключили, что всему виной ее муж. Вы тогда были уверены, что она сама как раз хотела видеть вас возле себя. – Разговор идет о том, что я чувствую, – поворачивается к ней Това, – возможно, я неправа. Как я уже сказала, у меня такое ощущение, что она разрывается между двумя состояниями: быть связанной со мной, будто мы все еще соединены одной пуповиной, или отделиться от меня окончательно. Кроме того, им обоим – ей и ее мужу – ясно, что я не одобряю их связь. Она нашла себе мужчину на пятнадцать лет старше ее. Мне кажется, это была сознательная попытка спрятаться от жизни; ей было легче жить с кем-то, кто будет ее растить, чем начинать взрослеть самой. Когда я анализирую ее поступки, стараясь оставаться объективной, я понимаю, что во многом – это ее реакция на то, что ее отец большую часть времени находится вне страны, а, значит, и вне дома, и сразу начинаю винить себя: ведь это из-за меня их отец предпочитает жить вдали от них – он в первую очередь не желает жить со мной. Ну а они, конечно, читают все мои мысли по моему лицу – вы же сами говорили, что я не умею скрывать свои чувства – и стараются держаться от меня подальше, в точности как я от моей мамы. Я не могла вынести ее немецкой педантичности, а все ее «что скажут люди?» просто доводили меня до бешенства. Видно, поэтому я стремилась удрать оттуда как можно скорее; нашла себе «настоящего мужчину», а не такого, как мой отец – вечно подавленного и грустного невидимку. Наверное, Ширли мечтала, что у нее все сложится по-другому и семья ее тоже будет выглядеть иначе. Из-за этого, я думаю, они до сих пор не женаты; я называю его ее мужем – а как же иначе? – но на самом деле официально она не замужем. Она делает все, чтобы не быть похожей на нас. Това обводит взглядом сочувственно притихшую группу и, сокрушенно вздыхая, продолжает: – Нет у нас в этом ничего общего. Иногда я спрашиваю себя, что произошло за эти годы? Как все могло так измениться и испортиться? Когда дети были маленькими и мы были одной семьей, все было совсем иначе, наши отношения были совсем другими. – Как это было тогда? – спрашивает Нири. – Все было… – говорит Това, – все было просто, естественно: мама – папа, мама – дочка, дочка – мама, мама – сын… Как это объяснить? Все протекало совершенно естественно, как бы само собой. Я уходила на работу, они оставались с няней или шли в садик, в школу; все шло по распорядку, без критики и претензий. Сегодня все не так. После того как родилась Ширли, я хотела еще троих детей, хотела большую теплую семью – такую, о которой сейчас мечтает она. У меня не получилось, моя семейная жизнь сложилась иначе, чем я себе это представляла. Я хотела быть окруженной детьми; готовить, ходить с ними гулять и заниматься разными интересными вещами; по выходным утром лежать всем вместе в кровати и читать вслух. В конце концов жизнь все переиграла по-своему. Теперь я смотрю на дочку и вижу, как и она тоже мечтает о большой семье; строит идеалы, которые, как положено, исчезнут в один прекрасный день. Я, естественно, желаю ей всего самого лучшего, но в жизни, как известно, далеко не все выкрашено в розовый цвет. Хотя, с другой стороны, ведь есть такие, у кого жизнь складывается удачно. Так что я уже и сама не знаю. Кто я такая, чтобы говорить! Вот я и молчу, смотрю на все со стороны и не вмешиваюсь, а значит, держусь от них на расстоянии, отдаляюсь. – То, что вы не смогли воплотить свои мечты, вовсе не значит, что и ее мечты не сбудутся! – взволнованно возражает Орна. – Может, она, глядя на ваши ошибки, сумеет сберечь свою семью? Кстати, разница в пятнадцать лет вовсе не так страшна – я знаю несколько счастливых пар с еще большей разницей в возрасте. – Возможно, – сухо отвечает Това, – но дело не только в его возрасте; я просто не хочу сейчас об этом говорить. – Вы выглядите расстроенной и разочарованной, – вновь обращается к ней Нири, – напоминаете мне человека, попавшего в тупиковую ситуацию. Если вы держитесь на расстоянии, на вас обижаются, что вы слишком холодная; а когда вы делаете попытку сблизиться и обнажаете свои чувства, на вас сердятся за то, что вы вмешиваетесь. Вы же сами вините себя в излишней откровенности и боитесь, что это повредит установившимся близким отношениям. Вы все время пытаетесь предугадать цену, которую вам придется уплатить за эту близость. – Близость откроет перед ней мое настоящее «я», – замечает Това, – большую часть которого заполняет цинизм, и я бы не хотела, чтобы она от меня заразилась. Еще не время, она придет к этому сама. А пока пусть наслаждается жизнью! Моя мама, бывало, обнимала меня перед сном и, крепко-крепко прижимая к себе, шептала: «Ты должна очень-очень любить свою мамочку, потому что через двадцать лет ее не будет!» Как вам известно, моя мама жива и здорова до сих пор. Она горько усмехается. – И папа тоже. Това замолкает и сидит неподвижно, опустив глаза. – Зачем ей надо было так рано ранить мою душу? – после короткой паузы грустно добавляет она. – Плохое придет, рано или поздно что-нибудь обязательно случится. Придет само, без чьего-либо вмешательства. Я всю жизнь жила в страхе, что мама умрет, как умерла моя сестра. Она опять тяжело вздыхает. – Поэтому я остерегаюсь и стараюсь ничего не пропускать через сердце, только – через голову. Женщины по-прежнему молча смотрят на Тову, тишину нарушает Нири. – Вы до сих пор сердитесь на вашу маму, – раздается ее мягкий тихий голос, – это не те слова, которые вы хотели услышать тогда перед сном, они вас пугали и угнетали. – Это было… – качает головой Това, стараясь подобрать нужные слова, – даже сегодня я не могу думать об этом спокойно. Вместо того, чтобы укрыть, поцеловать и пожелать спокойной ночи; просто сказать, что она любит меня, как делают миллионы мам на земле; она нашла то, что ей было важно сказать мне перед сном! Как можно так поступать с маленьким ребенком?! Она что думала, что этим она заставит меня ее любить?! – И вы никогда не вели себя так же со своими детьми, – не отступает Нири. – Конечно, нет! – взволнованно отзывается Това. Она опускает голову и проводит подушечками пальцев под глазом, вытирая слезу. – Я очень стараюсь… Мне такая любовь не нужна. Я не хочу, чтобы они что-либо делали для меня только из страха или из-за того, что им неудобно. – Вы очень любите своих детей и сделаете все, чтобы не повторять на них ошибок вашей матери, – продолжает беседу Нири. – Когда ваша мама обиделась и исчезла на две недели или добивалась от вас любви, прижимая к себе перед сном, она поставила себя и свои желания выше ваших. Теперь вы больше всего на свете боитесь уподобиться вашей матери и поэтому стараетесь скрыть от детей ваши истинные чувства и мысли. – Правильно, – резко пожимает плечами Това, – я не собираюсь их обременять. Нельзя использовать детей ради собственных нужд. – Но вы настолько не хотите их обременять или «использовать», что жертвуете совершенно естественной для матери потребностью в их любви и чувством того, что вы им необходимы. Това на мгновение поднимает глаза на Нири и опять опускает голову. – Вы не позволяете себе насладиться близостью, потому что боитесь цены, которую, возможно, вам придется заплатить. По-вашему, именно потому, что вы очень любите своих детей, вам лучше всего держаться от них на расстоянии. Так, по-вашему, вы их защищаете. Не отрывая взгляда от пола, Това согласно кивает. – Знаете, что я думаю? Това поднимает глаза, ожидая продолжения. – Очень может быть, что Ширли не понимает до конца, что происходит. Она, конечно, чувствует, как вы от нее отдаляетесь, но, очень в вас нуждаясь, не представляет, что делаете вы это из любви к ней и для ее же блага. Вместо этого в ней растет ощущение, что вы стали холодной и чужой. Вот вам и тупик! Маргалит, ласково по-матерински улыбаясь, наблюдает, как Това вынимает из своей бежевой сумки белый носовой платок и осторожно прикладывает его к влажным от слез щекам. – Я хочу вам кое-что сказать, Това, – обращается она к ней, и Това поднимает на нее усталые покрасневшие глаза, – ваш внук и внучка Орны родились с разницей в пару дней, и Орна принесла сюда торт. Вы сказали нам о рождении внука, только когда встреча уже началась, и добавили, что тоже хотели принести угощение, но не успели, помните? Това молча опускает голову, и Маргалит продолжает: – Я помню, что уже тогда очень удивилась, как у вас хватило выдержки молчать целых пятнадцать минут и рассказать нам об этом только после того, как все заняли свои места. Еще, честно говоря, я не очень поверила, что вы действительно хотели отметить с нами это событие, так как вы, по-моему, всегда выполняете то, чего по-настоящему хотите. У меня было ощущение, что это всего лишь оправдание, но вот оправдание чего, я тогда не поняла. Потом я об этом больше не думала, а вы через неделю выполнили свое обещание; пирожные были классные – стоило ждать! – Как вы понимаете это сегодня? – прерывает ее Нири. – Почему Това не спешила поделиться с нами новостью о рождении внука и угощение принесла только через неделю? – Именно так, как она сама это объяснила. Това говорит, что она боится быть с кем-то в близких отношениях, так как уверена, что рано или поздно это закончится слезами. Поэтому избегает близости. Когда человек делится с кем-то своей радостью и еще приносит угощение, чтобы это отпраздновать, между ними устанавливаются дружеские отношения, не так ли? – Маргалит поворачивается к Тове. – А вы, судя по всему, боялись признаться самой себе или намекнуть нам, что нас – я имею в виду нашу группу – что-то связывает, что между нами существует настоящая искренняя связь. Знаете, когда я почувствовала, что вы действительно приглашаете нас разделить вашу радость? Не тогда, когда вы рассказали нам о рождении внука, а через неделю, когда вы испекли торт. Вы в этот торт как будто вложили частичку себя; я почувствовала… Я, правда, была очень рада за вас. Маргалит обводит взглядом притихшую группу и неожиданно весело заключает: – В тот вечер я вернулась домой и даже сообщила мужу, что у нас в группе прибавление. Женщины улыбаются. Това вздыхает. – Вы очень похоже все обрисовали. Я, конечно, не занималась самоанализом и не обдумывала каждый свой шаг, но в целом мне знакома эта нерешительность по разным другим случаям, когда я хочу кому-то что-то предложить, но тут же себя останавливаю – а вдруг я навязываю им свою близость, и это все испортит. Точно, как эта история с тортом. Орна все делала с такой легкостью и уверенностью, а я на ее фоне выглядела скованной и зажатой. – Ну так вам было удобнее – сделать это еще через неделю, – пожимая плечами, с улыбкой говорит Клодин. – Да, и я чувствовала, что все по-настоящему радуются, и я никому не навязываюсь! На смену сосредоточенному напряжению приходит веселое оживление; женщины, улыбаясь, переглядываются, двигают стульями, устраиваясь поудобнее. Рут достает бутылочку с водой и, отпив, обращается к Тове: – Вы постарались исправить установившиеся между нами отношения, и вам это удалось. Что же касается всего остального, я вас очень хорошо понимаю. Судя по вашим словам, вы видите в сближении две опасности: во-первых, что «заразите» еще кого-то своими отрицательными мыслями и все ему испортите, а во-вторых, что вас раскритикуют, осудят или отвергнут; поэтому вы предпочитаете держаться на расстоянии. Я хочу сказать, что я вам «со-чувствую», то есть чувствую так же, как и вы! Она делает еще глаток, ставит бутылку возле ножки стула и, тяжело вздохнув, продолжает: – Мне тоже хорошо знаком этот танец «шаг вперед – два назад». Когда Талья была беременна, она как-то спросила меня, где я собираюсь ночевать, когда буду приезжать к ней после родов. Обычно, когда мы приезжаем к ним на выходные или на праздники, мы снимаем комнату по соседству, так как у них совсем нет места. Сначала я по привычке ответила, что найду комнату, но потом вдруг подумала: а в чем дело? Что случится, если я несколько дней посплю у них в гостиной? Она как будто решила удостовериться, как будто давала мне понять: «Ты не будешь участвовать в моей жизни больше, чем я посчитаю нужным». Мне тогда стало очень больно, но я решила смолчать. Я и дальше буду молчать; я рассказываю это впервые и только здесь, даже муж ничего не знает и знать не будет. – Что именно вы почувствовали, когда Талья задала вам этот вопрос? – спрашивает Нири. – Я… почувствовала себя отвергнутой, – медленно подбирает слова Рут. – Ощущение, что Талья, в принципе, говорит мне: «Я хочу с самого начала обозначить четкие границы, чтоб ты не думала, что сможешь быть тут слишком долго, что теперь это и твое место». Она поставила рамки там, где это было совершенно не нужно: я ведь в любом случае не собиралась селиться у нее. Понятно, что она испугалась, как это все будет – а вдруг я расположусь у нее надолго или… Короче, я хорошо знаю, о чем говорит Това: когда обе стороны боятся сблизиться, чтобы не обжечься. С этой точки зрения, мне действительно очень подходит, что мы живем далеко друг от друга. – То есть расстояние вас оберегает. В вашем случае расстояние не только душевное, но и физическое. Вы тоже опасаетесь цены, которую можете заплатить за близость, – заключает Нири, попеременно глядя то на Рут, то на Тову. – Да, – соглашается Рут, – и все же, по-видимому, мне по-настоящему трудно позволить ей отдалиться или полностью отделиться от меня. Это правда, что физическое расстояние играет в мою пользу. Я не испытала, как это, когда живут рядом с мамой и мама принимает участие во всем и даже едет с тобой в больницу. Не пробовала – не знаю. Но если бы Талья жила возле меня, а я бы не принимала достаточного, по ее мнению, участия, то наши отношения, я не сомневаюсь, были бы испорчены. А может, я бы даже впала в крайности, как Орна, которая слишком вмешивается, или как Това, которую, наоборот, обвиняют в полной безучастности. Поэтому я предпочитаю видеть в сложившейся ситуации только положительные стороны. Я не нахожусь рядом с ними изо дня в день, и ребенок не будет расти у меня на глазах – я не стану «дежурной» бабушкой. Это и хорошо, и плохо. То есть, с одной стороны, это меня огорчает, а с другой – позволяет продолжать привычную жизнь, когда с меня ничего не требуют и не предъявляют претензий. Расстояние предохраняет нас от чрезмерного вмешательства. Рут делает короткую паузу, чтобы попить. – Хотя все не так-то просто. Вот совсем свежий пример. Я должна была приехать к ней позавчера, но она попросила перенести это на другой день, и я согласилась. А вчера она говорит мне по телефону: «Надо же, именно в этот раз он устроил мне веселую ночку!» Мне, конечно, было очень жаль, и я говорю: «Вот видишь, надо было мне приехать». Но она тут же отрезала: «Нет, я не поэтому». И я… – Рут вздыхает, – ясно, что это не дает мне покоя, даже на расстоянии я все время об этом думаю. Я думаю, что если бы она протянула мне руку, я бы приезжала к ней намного чаще, хотя бы вначале. Правда, моя дочка советуется, но справляется сама. Ей очень важно доказать свою независимость. Но надо отдать ей должное, я никогда не слышала от нее слов типа «ты мне не нужна». И вообще, я вижу, что даже она потихоньку меняется: она не ожидала, что будет нуждаться в моей помощи так, как чувствует это теперь. Так что это действительно время перемен. – Это вам только кажется, что на расстоянии все проще! – звенящим от волнения голосом отзывается Орна. – А на самом деле, даже когда вы далеко, у вас в голове все время крутятся различные сценарии, как она может вас обидеть. И, к сожалению, не только в голове! Только что вы рассказали, как она обидела вас по телефону. Орна обводит взглядом группу. – Географическое расстояние тут ни при чем, – уверенно заключает она, – не важно, далеко мы или близко, наша связь с дочкой – это всегда и для всех особая тема! – Я согласна с Орной, – говорит Анна и смотрит на Рут, – я не думаю, что близкое или далекое расстояние что-нибудь меняют. Я думаю, что все эти рассуждения и эмоции связаны с зависимостью, которую упоминала Това. Вы слишком зависите от ваших дочек. Их отношение к вам или их поступки влияют, нет, еще хуже – определяют ваше настроение! – К сожалению, вы правы, – подтверждает Орна, – именно поэтому весь период беременности Яэль был для меня сплошным мучением. На фоне всех отвратительных дней, которые она тогда переживала, бывали дни еще хуже. Она улыбается неожиданно получившемуся каламбуру. – Тогда и я, видя ее, просто впадала в депрессию! Когда же у нее выпадал хороший день, у меня сразу исправлялось настроение. Я превратилась в ее барометр, это было ужасно! Я думаю, Анна права: я завишу от нее, или она зависит от меня – я уже не знаю, что первично! – Я всегда думала, что в полной семье, где родители живут в согласии, дети не занимают такого места в мыслях и заботах матери, – задумчиво произносит Това, – и причина моего слишком болезненного отношения к детям заключается в том, что я практически одна, что их отец только изредка появляется в кадре. – Я прекрасно живу с моим теперешним мужем, – откликается Анна, – и я могу вас заверить, что ни он, ни мои дети не заполняют всю мою жизнь. Они – самая важная, любимая и дорогая ее часть, но я не занята только этим. У меня есть моя работа и другие интересные дела. Несомненно, вдвоем гораздо легче; муж придает мне силы, и нам есть к чему стремиться и куда развиваться. Мы хотим ездить, строить планы. Мы не чувствуем, что наша жизнь идет к концу, и поэтому все, что у нас есть, это наши дети. Может, мы и в конце жизни, но мы этого не ощущаем! Анна усмехается, но сразу посерьезнев, продолжает: – Мне ясно только одно: дети – не моя собственность, и так же, как я не живу для них, они не живут для меня. Я против зависимости, собственности и принадлежности! Все, что от нас требуется, это отвечать за свою жизнь, за свои отношения со второй половиной или за отсутствие этих отношений и за умение радоваться жизни. Вовсе не все зависит от того, сколько радости они тебе приносят и что происходит с ними или с вашими отношениями в данный определенный момент. – Вы используете иные понятия, чем «близкие» и «далекие», вы говорите о вашей с дочерью разобщенности, – прерывает ее Нири. – Правильно, есть разобщенность, но есть также дружба и поддержка, – настаивает Анна, – я тоже считаю, что большинство наших поступков определяются семьей и семейными обязательствами, но на сегодняшний день для меня не менее важны мои взаимоотношения с мужем и моя карьера. Мне кажется, что твоим взрослым детям, которые уже сами становятся родителями, намного полезнее и спокойнее видеть тебя такой, чем изо дня в день быть с родителями, которые силой цепляются за них, как за единственную радость в этой жизни. – Так вот, я заявляю, – торжественным голосом, окидывая взглядом группу, произносит она, – что все, что происходит сейчас с Наамой, меня очень радует и занимает, но это не единственная, хотя и особенная, ни с чем не сравнимая, радость в моей жизни. По-моему, взаимоотношения в постепенно разрастающейся семье могут стать настоящим подарком, но только если ты не теряешь саму себя. Я постараюсь объяснить. У меня есть подруга, вдова, которая очень хочет познакомиться с мужчиной, но у нее ничего не выходит, и я часто говорю ей, что это из-за того, что в ней самой нет любви к себе. Как тебя может полюбить кто-то другой, если ты сама себя не любишь?! И как ты сама можешь полюбить, если в тебе нет любви? Любовь не возникает из ниоткуда, все создается у нас внутри. То же самое я думаю и по поводу Эллы. Всю свою жизнь она посвятила своей дочке, и когда та отвернулась, выяснилось, что у нее больше ничего нет. Такая зависимость оказалась очень опасной, мы видели, как ее это сломало – она потеряла интерес к жизни. Я не знаю, что происходит с ней сейчас, но если у нее кто-то появился и она, наконец-то, находит в себе силы жить без всякой связи с дочкой – в прямом и переносном смысле – и быть свободной, то, я думаю, она успела спастись буквально в последнюю минуту. Посмотрите на «прежнюю» Эллу и вы увидите, до чего может докатиться каждая из нас! – Чуть помедленнее! – останавливает ее Това. – Не стоит возводить воздушные замки по поводу Эллы, прежде чем перед нами откроется вся картина – что в действительности произошло с ее дочкой и что происходит сейчас. Вы же подгоняете услышанные от Эллы немногочисленные детали под выстроенную вами теорию, которую я, между прочим, принимаю – она звучит логично – хотя и не представляю, как ее можно осуществить. Я не знаю, является ли отсутствие любви к себе причиной всех моих несчастий. Все может быть, не знаю. Мои взаимоотношения с мужем на сто процентов не являлись для меня источником энергии, а до того, как мы пришли к теперешнему статусу, еще и, наоборот, забирали у меня массу сил. Я чувствую, что проблема кроется во мне самой, но не могу ее распознать, а если даже и распознаю, то вряд ли решу: ведь мне уже шестьдесят! Вот я и держусь подальше, чтобы уберечь от нее других. Что из этого улавливает Ширли? Я думаю, в первую очередь, что я не уверена в себе; и это ее очень удивляет. Она так и говорит мне: «Не понимаю, ведь ты так много сделала в жизни!», а я, естественно, думаю про себя, что придет время – и она все отлично поймет. Думаю, но ничего ей не говорю и стараюсь держаться на расстоянии, чтобы не действовать на нее отрицательно, не заразить ее раньше времени. – Посмотрите, какую силу вы себе приписываете! – глядя на нее исподлобья, замечает Рут. – Может быть, – задумчиво произносит Това. – Вчера я говорила с Ширли по телефону. В последние дни я очень расстроена, так как мой сын, возможно, переедет жить и работать в Эйлат. У меня сразу возникли мысли, что он встретит там местную и останется там уже навсегда. Я, конечно, не буду пытаться его остановить, я даже пожелаю ему удачи, но это далеко! Я с ней поделилась, что мне тяжело, я переживаю, что из-за расстояния мы будем редко встречаться. Кроме того, ты ведь не поедешь на один день, значит, надо будет «ездить в гости» и «принимать гостей», а это уже совсем другое. Еще мне важно, чтобы дети продолжали дружить между собой, а он не из тех, кто будет часто звонить. На все это она мне сказала: «Во-первых, ты мне сама рассказывала, как именно в этом возрасте уехала учиться в Европу и не особенно думала о родителях; при этом ты была у них одна, и они так и не оправились после смерти твоей сестры». Я тут же ответила, что мои отношения с ними не похожи на те, что с родителями. «Во-вторых, – сказала она, – в определенном возрасте твоя девушка важнее, чем твои родители или сестры. И ничего с этим не поделать. Ты должна молиться, чтобы ему было хорошо. Будем надеяться, что у нас будет достаточно желания и сил, а также денег, чтобы встречаться с ним несколько раз в год, и наша связь не прервется». Очень по-взрослому, очень красиво она все это сказала, но на самом деле мне было сказано: «Мой муж для меня важнее, чем ты». – Это в точности то, что я как-то здесь уже говорила, – вставляет Рут. – Да, я помню, – продолжает Това, – и в этом что-то есть. В ее годы я чувствовала то же самое; я, правда, могу ее понять. Может, раньше она считала своим долгом быть со мной, не оставлять меня одну, так как ее отец за границей, а теперь я ее волную гораздо меньше. Как это ни трудно, я вижу это с положительной стороны. Все правильно – она строит свой дом. Но мне как матери это нелегко. Очень нелегко! Может, если бы я не была одна, мне было бы не так тяжко, но все равно намного приятнее знать, что твои дети рядом с тобой. Короче, меня не поймешь: и близко – плохо, и далеко – плохо! Она замолкает, и вместе с ней задумчиво молчат и остальные. – Если бы моя дочка уехала, – глядя в окно, нарушает тишину Клодин, – мне бы было дико тяжело. Я без нее не могу! Если я ее не увижу хотя бы раз в неделю, я рехнусь! – Что значит «рехнетесь»? – улыбается Рут. Клодин отрывается от окна. – Я просто должна ее видеть. Если я не вижу ее пару дней, это как у других – месяц. Так я к ней привязана. Я чувствую, как будто я хочу есть… как чувство голода. Мне надо до нее дотронуться, увидеть, что она в порядке. Для меня самое большое наказание – не видеть ее. Когда она училась в Тель-Авиве и муж еще был жив, она приезжала на выходные и ложилась со мной в спальне, а муж спал в другой комнате, и мы болтали всю ночь. – Я тоже не могу не видеть ее, а она не может без меня, – расплывается в улыбке Мики и добавляет, – для нее увидеть меня – это как заполнить бак бензином. – Что касается потребности в физическом контакте, – серьезно, не разделяя ее веселья, откликается Рут, – то этот вопрос для меня абсолютно ясен. У меня две дочки и сын, и я не могу сказать, кого я люблю больше, дочек или сына, но на физическом уровне, несомненно, связь с дочками намного сильнее. – Что вы подразумеваете под физическим контактом, когда говорите о Талье? – обращается к ней Нири. Рут смотрит на нее и не спешит с ответом. – Уже много лет мы не живем вместе, – размеренно начинает она, – и мне это не мешает. Я не могу сказать, что не хотела бы видеть ее чаще, поэтому иногда, когда я начинаю слишком скучать, я звоню или прямо еду к ней. После армии Талья два года путешествовала по миру. И вот за эти два года у меня несколько раз появлялось ощущение, будто у меня не хватает руки. Это я и подразумеваю: когда мне ее не хватает, как может не хватать какой-то части тела, части меня. Это сидело во мне и периодически просыпалось приступами настоящей физической боли, а иногда меня охватывала жуткая необъяснимая тоска. Я не могу сказать, что чувствовала, будто мы одно целое, ведь я не испытывала то, что испытывает она, а она не могла переживать вместо меня. И я не могла, как рассказывает о себе Мики, безошибочно угадывать, что она чувствует. Нас связывают очень глубокие и очень сложные чувства, но при этом у каждой из нас абсолютно отдельная жизнь. Мы не сливаемся в том смысле, что она – это я, и я – это она, но существует что-то подсознательное, очень сильное, по крайней мере, у меня по отношению к ней. – Как бы вы назвали то, что существует между вами? – спрашивает Нири. – Я скажу, как бы я это назвала. Присутствие. – Что это значит? – переспрашивает Това. – Что несмотря на то, что мы живем отдельно, где-то в глубине я всегда ощущаю ее присутствие. Мое отношение к ней я назвала глубоким и сложным, потому что я вижу в ней личность без всякой связи со мной; и я люблю то, что я вижу, люблю, ценю, уважаю. Некоторые мои подруги рассказывают, что когда их дочка рожала, они это чувствовали; одна из них проснулась среди ночи от страшной боли в животе, а потом оказалось, что это случилось именно в те минуты, когда ее дочка родила. У меня такой интуиции не было. Мы не одно целое; у каждой своя жизнь, свои чувства, своя боль. Когда она была беременна, я смотрела на ее живот и думала, что она живет сейчас сложной внутренней жизнью – не в смысле «духовной», – в которой никому постороннему по-настоящему нет места. Она и ее ребенок находились в своем, отделенном от всех мире, закрытом даже для меня семью замками. Это было потрясающе! – Правильно, ваша дочка существовала в симбиозе со своим ребенком, – восторженно присоединяется к ней Това. – Да, – нетерпеливо прерывает ее Рут, – но только с рождением ребенка этот симбиоз исчезает. После рождения симбиоза между людьми больше не существует: каждый из них – сам по себе, со своей индивидуальностью, своей судьбой, своими приоритетами. И очень важно, чтобы один не мешал другому. Даже если этот другой – мой собственный ребенок и я готова ради него на все, я не отдам ему своего «я». Что-то вроде эгоизма. Ну и что? Я же не требую от него жертвовать собой, подавлять свои желания. Она переводит взгляд на Мики. – Поймите, даже если ваша связь с дочкой начинается симбиозом, когда она еще у вас в животе, как только она рождается, этому приходит конец! Знаете, каждые роды у меня было такое чувство, будто моя голова втягивается внутрь и выходит отсюда, – ее рука скользит по внутренней стороне бедра, – как чулок, который выворачивают наизнанку. Как будто вы берете чулок, засовываете руку внутрь… и тянете его… и оттуда выходит другой человек. Как будто ты провалилась внутрь и вышла оттуда, превратившись в двоих. И теперь ты здесь, а он – там, и он это не ты. Когда дети были маленькие, они придумали игру. Они садились мне на колени, а потом скатывались по ногам, как по горке, и говорили: «Родились!» Им это страшно нравилось – каждый раз они заново рождались, заново отрывались от меня. Но не думайте, я тоже иногда забываю… Как-то, когда дочка была беременна, я ей сказала: «Правда, что ты тоже чувствуешь себя цветком, внутри которого уже созревает плод? По-моему, это непередаваемое ощущение!» – И знаете, что она мне ответила? – «Да, это должно быть потрясающее ощущение, я тебя понимаю. Но это ты так себя чувствовала. А я – нет; я просто чувствую себя беременной». Рут, смеясь, разводит руками. – И тут до меня дошло. Она просто поставила меня на место – спокойно, без обид: у тебя свои воспоминания о беременности, а у меня – свои. Она совершенно другая, в этом плане мы с ней абсолютно разные. – Вы не только сами абсолютно разные, – сквозь смех поддерживает ее Анна, – вы еще и два разных поколения, и это очень заметно. Я имею в виду, что если я сравниваю себя во время моей первой беременности и мою дочку, то она, по-моему, вообще находится на другой планете. Все у нее распланировано, в основе всего – материальное состояние, положение и деньги. Им важны вещи, которые нам и в голову не приходили; у них уже все готово, осталось только родить ребенка. Поэтому я не считаю, что могу давать ей советы; у нее все проходит иначе, чем это было у меня. Я не касаюсь ее переживаний: мы говорим, к примеру, о том, что тошнота и рвота обычно длятся первые три месяца, а затем проходят; то есть мы обсуждаем чисто функциональные вопросы, а в душу я не лезу. Я не могу сказать, что вместе с ней прохожу ее беременность, что все, что с ней происходит, мне до боли знакомо, так как у меня было то же самое. Нет, совсем нет! Может, потому что вижу, что она совсем-совсем другая. Последние слова Анны никого не оставляют равнодушной: женщины возбужденно переговариваются, размахивают руками, что-то доказывают и затихают только после того, как Нири встает со своего места. – Я хочу подвести итог нашей встрече, – серьезно объявляет она, возвращаясь в круг. – Я сейчас процитирую определения, которыми вы пользовались, описывая ваши взаимоотношения, а вернее, вашу связь с дочками. Здесь не раз звучало: присутствие, часть меня, связанные пуповиной, часть моего тела. Все эти слова имеют как физическое, так и духовное содержание, а вместе вызывают сильное ощущение слияния, сплетения, в результате которого возникает вечный вопрос – где кончаюсь я и начинается она. Возможно, вы выбрали именно эти ассоциации потому, что ваше материнство стало частью вашего «я», вашего самоопределения, и поэтому оно неотделимо от вас ни в духовном, ни в физическом смысле. Кроме того, вы сегодня все вместе начертили ось ваших взаимоотношений. На одном ее полюсе разместились разрыв, чрезмерное отдаление или отчуждение – состояния, которые позволяют каждой из сторон быть независимой, оставаться абсолютно тем, кто ты есть, но таят в себе опасность тяжелого одиночества. На противоположном полюсе вы поместили симбиоз, чрезмерную близость, которые угрожают вашей независимости; они душат, стесняют, но и притягивают, дают чувство уверенности, общности, наполняют ваши действия смыслом. Как во всем, так и здесь, все, что чересчур, то – плохо, а значит, права Орна, которая еще в начале нашей встречи сказала, что необходимо всегда и во всем придерживаться золотой серединки. Нири Я выхожу из здания и продолжаю думать о волшебстве зарождения жизни; о том, что оно начинается с симбиоза матери и плода и кончается родами, когда боль первого расставания сливается с радостью освобождения. Здесь спрятано зерно амбивалентности, которое уже никогда не оставит мать: действительно ли она хочет (или может) отделить себя от дочки? так ли уж она хочет (или может) быть только собой, как это было до родов? У меня нет ответа. По-видимому, это один из вечных неразрешимых конфликтов: если материнство и ребенок – это часть меня, то посвятить себя ребенку означает посвятить себя самой себе, а расстаться с ребенком – лишиться части самой себя; если материнство – это часть моего «я», что происходит со мной, когда его у меня отнимают? Высвеченные ярким декоративным фонарем листья живой изгороди напоминают мне по цвету зеленовато-голубую шаль, в которую куталась Элла, приходя на наши встречи жаркими июльскими вечерами. Что с ней? – продолжаю я свой немой диалог. – Хватит ли у нее сил подняться, выкарабкаться, вновь найти себя после того, как ее прежнее привычное «я» пропало вместе с исчезнувшей из ее жизни дочкой – дочкой и внучкой? Я держу за вас кулаки, Элла! Перед глазами всплывает картина: я и моя маленькая дочка в больнице. Все ее тельце покрыто сыпью, вялая крохотная ручка подсоединена к капельнице. Я сижу на кресле, обессиленная, измученная после бесконечной ночи в приемном покое; она уснула на мне, и я не смею шевельнуться. Неожиданно в комнату входит мама, ее встревоженные ищущие глаза продолжают свой бег, не поспевая за ногами, которые уже привели ее в нужное помещение. И тут же из меня выплескивается поток слез, которые я удерживала за наглухо запертыми шлюзами все те долгие часы, пока «работала мамой»; я плачу беззвучно, чтобы, не дай бог, не разбудить Тамар. Мама подходит ко мне, ласково гладит меня по щекам, осторожно, чтобы не потревожить малышку, прижимает мою голову к себе, и я успокаиваюсь. Через какое-то время Тамар просыпается и, увидев бабушку, протягивает к ней ручки. Я передаю ее и делаю глубокий вдох. Можно передохнуть, мама с нами. Элла Вторник, утро. Я спускаюсь на улицу, где меня ждет такси. Возле него стоит Яир и торжественно открывает дверцу. «Ты не можешь себе представить, как я волнуюсь, – говорю я ему, – сколько лет я не была за границей; я уже и не помню, как летают!» – «Для этого у нас есть летчик», – весело замечает он, и мы смеемся. К вечеру мы оказываемся в гостинице. Пожилой мужчина в черной с бордовым форме официально улыбается и протягивает Яиру ключи. Он вежливо указывает нам на лифт, и я легко направляюсь туда, слегка разочарованная тем, что Яир заказал нам отдельные комнаты. Закрыв за собой двери, я разбираю чемодан, размещаю сложенные вещи на полках, а платья и плащ вешаю на тяжелых деревянных плечиках в шкаф. В моем распоряжении час. Я наполняю ванну горячей водой и растягиваюсь в ней, расслабленная и умиротворенная. Теплый пар и воздушная пена пьянят и убаюкивают, мысли не спеша куда-то уходят, и незаметно появившаяся незнакомая мне улыбка уютно располагается на моих губах. Мы ужинаем в маленьком кафе, которое Яир помнит еще из своих предыдущих поездок. Он настаивает, чтобы я заказала только самое лучшее, и уговаривает меня взять десерт, хотя знает, что к кофе прилагаются птифуры. Как быстро мы сблизились, – думаю я, – а ведь у нас было только три настоящих длинных встречи после многочисленных, но мимолетных и незначительных встреч в клинике. И вот мы в Париже. «Последний раз я была за границей, когда ездила с Эйнав в Амстердам, – рассказываю я ему и с удивлением отмечаю, что мой голос больше не дрожит, – она еще училась в гимназии, и это был мой сюрприз к ее Дню рождения. Кажется, что это было так давно…» Мне становится грустно. Яир смотрит мне в глаза и гладит мою руку. Он поднимает бокал с вином и, молча улыбаясь, приглашает меня присоединиться к нему. – Давай выпьем за нас, за нас обоих! Я улыбаюсь ему в ответ, протягиваю руку с бокалом и, замерев на мгновение, провозглашаю: – За нас обоих, в полном смысле этого слова! Когда мы вернулись в гостиницу, Яир проводил меня до номера, ласково поцеловал в щеку и сделал маленький шаг в сторону, давая мне возможность войти и закрыть за собой дверь. – Яир, – вдруг услышала я свой голос, – может, останешься? Встреча одиннадцатая Наконец-то ты поймешь – Добрый вечер, – открывает встречу Нири, – на прошлой неделе мы говорили о близости и отчужденности и о том, что находится между двумя этими состояниями. Мы коснулись неисчерпаемой темы материнства и того места, которое оно навсегда заняло в вашей жизни. Мне кажется, что в эти дни тема материнства звучит для вас особенно остро, кое-кто даже пытается подвести итоги, выставить себе оценку в графе «мать». Ну что ж, посмотрим, что ждет нас сегодня. Женщины переглядываются, но никто не спешит оказаться первой. Маргалит пристально смотрит на непривычно притихшую Мики. – Вы сегодня какая-то грустная, – мягко замечает она, – что-то случилось? – Я была сегодня у Виолетты, – глядя на Маргалит, тяжело вздыхает Мики. – Виолетта это ваша дочка? – прерывает ее Клодин. – Да, – не скрывает удивления Мики, – а вы, что, до сих пор не знали, как зовут мою дочь? – Вы ни разу не называли ее по имени! – откликается Орна. – Ее зовут Виолетта, это на латыни фиалка, – Мики на мгновение оживляется, но тут же опускает голову и тихо добавляет, сосредоточенно разглядывая покрытые светлым лаком ухоженные ногти: – Сегодня, как всегда, я зашла к ней по дороге с работы. Она как раз проснулась, так как прилегла вместе с малышом – у нее была тяжелая ночь. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что с ней что-то происходит. Еще когда она была совсем маленькой, я по цвету глаз могла определить, что ей плохо: тогда карие блестящие глаза исчезают и вместо них появляются серые тучи. Короче, как только она открыла мне дверь, я увидела цвет ее глаз и поняла, что ей нехорошо. Я сразу спросила, в чем дело, но она мне не ответила. Потом она пошла в душ, а я меняла Ноаму пеленку и вдруг услышала, что она плачет. Как мы были – он голенький, а я перемазанная мазью – так и бросилась туда, открыла дверь: я очень испугалась, думала, что с ней что-то случилось. – Прямо так ворвались к ней в ванную? – изумленно переспрашивает Това. – Ну да, я была уверена, что с ней что-то случилось. Ведь она плакала, а она вовсе не плакса – наоборот, человек веселый и жизнерадостный. Я застала ее врасплох, оказывается, она не принимала душ, а только открыла кран, чтобы я не слышала. Она сидела на краю ванны и плакала так сильно, у меня и сейчас сердце разрывается, когда я это вспоминаю. Конечно, у меня тут же полились слезы – не переношу, когда она плачет. А она увидела, что я держу на руках Ноама, и дико рассердилась, как я позволяю себе врываться к ней в ванную, не постучавшись. Но я-то сразу поняла, что она просто не хочет, чтобы Ноам видел, как она плачет. Я сказала ей, что в этом возрасте дети еще ничего не понимают, пусть не волнуется, и спросила: «Что случилось, с каких это пор ты от меня прячешься?» – Она ответила, что не прячется, что просто хотела побыть одна, но я чувствовала, что она продолжает сердиться. В душе я обиделась, но виду не показала и только подумала, что же такое страшное должно было случиться, чтобы она не могла со мной поделиться? Я очень испугалась. – Ну, так в чем же было дело? – нетерпеливо подгоняет ее Клодин. Мики разводит руками. – Я не знаю! – неожиданно громко отвечает она. – Что значит, – привстает со своего места Орна, – вы что, ее не спросили? – Как вы думаете, конечно, спросила! – пожимает плечами Мики. – Несмотря на то, что я страшно испугалась, у меня хватило выдержки сказать ей тихо и спокойно: «Вытри слезы, я одену Ноама, сядем на кухне, я приготовлю кофе, и ты расскажешь маме, в чем дело». Я одела Ноама, положила его в люльку и, когда кофе был готов, пошла посмотреть, где она. Виола была в спальне и отказалась выйти на кухню! Я легла возле нее на кровать и начала ее щекотать, как делала это раньше, когда она была маленькой. Всегда это действовало как фокус-покус: она прекращала плакать и начинала смеяться. Но в этот раз она вдруг начала кричать: «Прекрати немедленно! Оставь меня в покое!» Это было так грубо, в жизни она себе такого не позволяла! Я была в шоке. Я такого не ожидала! Чтобы она говорила со мной таким тоном?! И это когда я хочу ей помочь, хочу ее поддержать! – И что вы сделали? – спрашивает Маргалит. – Вначале я еще пыталась уговорить ее встать. Я сказала, что не сержусь на нее за ее поведение и прошу выйти. Потом поняла, что это бесполезно и сказала, что пойду с ребенком в парк, а она за это время успокоится, и мы поговорим. Я сделала небольшой круг и даже купила ей симпатичное платьице – я присмотрела его в витрине еще пару дней назад по дороге к ним – и тут же вернулась. Вы не представляете, что меня ждало, когда я открыла дверь! Она бросилась на меня как пантера: «Где ты была? Почему ты не отвечаешь на звонки? Куда ты забрала моего ребенка?!» Я ей говорю: «Что значит „куда“? Я пошла с ним в парк, ты что, не слышала, когда я тебе это сказала?» А она кричит, просто впала в истерику – в жизни я ее такой не видела: «Как ты смеешь брать моего ребенка без моего разрешения?!» И я объясняю ей снова и снова, красиво, держу себя в руках, чтобы не взорваться, что это не было без разрешения, что я ей сказала, но, возможно, она не расслышала из-за плача; и пытаюсь ее успокоить: глажу по голове, показываю новое платье; но она отбрасывает мою руку и еще сильнее кричит: «Кто тебе позволил так себя вести? Ты всегда делала, что хотела! Ты хоть один раз спросила, чего хочу я?! Ты все всегда за меня решала, всегда указывала мне, что делать, как делать и когда делать!» Я пытаюсь вставить слово, но она не дает, продолжает учить меня и выговаривать мне, как я всех унижаю и как я думаю только о себе! Я говорю: «О чем ты?! Разве я не отдала всю жизнь тебе и твоему брату; я ведь только о вас и думаю!» А она – свое: «Ты никогда по-настоящему обо мне не думала, только о себе!» Мики прерывается, кашляет, прикрывая рот дрожащей от волнения рукой, и продолжает: – Я не знала, что делать, но последнее, чего я хотела, так это ругаться. У кого есть силы с ней спорить?! Лично у меня – нет! У меня, правда, нет сил; я так занята! Но этого она не видит, это ее не интересует! Она привыкла, что ее мама делает для нее все: жертвует своим свободным временем, покупает, приносит, готовит – все для нее! Это ведь ей положено, их величеству! Я не хотела открывать рот; так что сделала что могла: дала ей выпустить пар, выплеснуть наружу весь этот бред. В какой-то момент я уже перестала слушать – главное, чтобы успокоилась; все-таки она после родов, гормоны сводят ее с ума, устала, нервы никуда не годятся. Мне ее жаль. – Она ведь уже несколько месяцев как после родов, не так ли? Тут дело не в гормонах, – осторожно замечает Това. Клодин, не расслышав последней фразы, прерывает Тову на полуслове: – То, что гормоны делают после родов, это полная ерунда по сравнению с тем, что из-за них творится во время беременности! На что уж Лиат спокойная и добрая, даже она такое выкидывает, мало не покажется! Будто и не она вовсе! Недавно я была у них, и она начала орать на мужа из-за какой-то мелочи, что-то он сделал не так. А он, бедненький, говорит мне шепотом: «Все, до родов я к ней больше первым не приближаюсь, пусть сама просит, если ей что-то надо». Я уверена, если бы мы больше времени проводили вместе, мне бы тоже не поздоровилось. Мое счастье, – она смеется, – мое счастье, что я далеко, поэтому все достается ее мужу. – А я как-то не заметила, чтобы у Михаль были какие-то нервные срывы, – задумчиво произносит Маргалит, – но зато я вспоминаю себя – вот у меня точно бывали дни, когда я сама себя не узнавала, раздражалась из-за каждой мелочи. Это задним числом кажется смешным, а когда это с тобой происходит, то не до смеха! Она переводит взгляд на Мики. Мики сидит молча, опустив голову, и только напряженная спина, крепко, до побеления сплетенные пальцы и плотно поджатые под стулом ноги выдают ее истинное состояние. Рут отпивает несколько глотков из бутылочки с минеральной водой и поворачивается к Анне: – Ты помнишь тот день, когда Талья напала на меня? Анна кивает и Рут поясняет, обращаясь к группе: – Мы говорили по телефону просто так, обо всем и ни о чем (она была дома после анализа околоплодных вод), и вдруг после того, как я что-то сказала – я даже толком не помню что – она начала говорить мне, что я только и знаю, как учить других жить, и что с ней я всю жизнь веду себя точно так же, что я не мама, а надзиратель какой-то. Я даже как-то растерялась, не могла понять, откуда это взялось, и имела неосторожность ее спросить, что именно она имеет в виду. Ее как будто прорвало! Рут, усмехаясь, качает головой. – У меня было впечатление, что она готовилась к этому разговору уже давно, может, всю жизнь. Как она меня отчитывала! Она даже сказала, что во мне полностью отсутствует материнское начало! Вы не можете себе представить, как она меня обидела! – Еще бы, – отзывается Това, – это действительно очень обидно. – Интересно, – вступает в беседу Орна, – что именно она имела в виду, когда сказала, что в вас отсутствует материнское начало? Рут раздраженно пожимает плечами. – Я тоже не могла понять, о чем она говорит; и она, не задумываясь, привела мне пример – я думаю, она уже давно держала его наготове – как каждый раз, когда у нее что-то не получалось, вместо того чтобы подойти и обнять – как, по ее мнению, должна была поступить чуткая любящая мать и как, скорее всего, будет вести себя она – я предлагала ей попробовать еще раз. Наверное, я говорила ей что-то вроде: «Попробуй еще раз, я уверена, у тебя получится». Анна не может удержаться от смеха, и Рут, удрученно улыбаясь, добавляет: – Это то, что она запомнила мне на всю жизнь! Понимаете, по ее мнению, мама должна в первую очередь обнять ребенка и дать ему почувствовать, что вовсе не обязательно добиваться успеха всегда и во всем. Она считает, что своим поведением я вселила в нее неуверенность в себе. – Я тебе высказала свое мнение уже тогда, и оно остается тем же и сегодня, – Анна переходит на серьезный тон, – ты вела себя абсолютно естественно и правильно. Откуда у ребенка возьмется уверенность в себе, если его все время будут только обнимать?! Ты не можешь его все время оберегать! Она остается сидеть на стуле, но подается всем корпусом вперед. – А что касается нервных срывов у беременных, – продолжает Анна, обращаясь к Мики, – я их прекрасно помню по себе. Были дни, когда я смотрела на себя со стороны и не верила тому, что видела, – я была просто сумасшедшей. Любое слово доводило меня до слез, каждая мелочь раздражала; представляете, у меня бывали настоящие приступы ярости! Хотя так было только в мои первые беременности; по-моему, в четвертый раз я была уже спокойнее. Возможно, дело в возрасте, а может быть, причина в моем теперешнем муже, он действует на меня лучше любого успокоительного. Нири обводит взглядом притихшую группу. – То, что рассказала нам Мики, и ваши замечания по поводу услышанного лишний раз подтверждают, что все, что происходит с дочерью во время беременности и сразу после родов, тем или иным образом обязательно отражается на матери. «Гормональные бури» во время и после беременности – явление известное и распространенное, но я хочу задать другой вопрос: имеют ли эти «взрывы» чисто гормональное происхождение или, возможно, они связаны с уже существующими отношениями между дочкой и мамой, которые всего лишь навсего всплывают на поверхность? Женщины сосредоточенно слушают и Нири продолжает: – Вслушайтесь в смысл того, что говорят ваши дочки, – они оценивают ваше материнство, они его критикуют. Слушать такое, несомненно, нелегко! Матери переглядываются; они хорошо понимают, о чем идет речь. Нири молча наблюдает за ними, а затем, скрестив руки, добавляет: – Я хочу сказать пару слов о сложных эмоциональных процессах, которые происходят во время беременности. Думаю, это поможет понять описываемый вами порядок вещей. В это время женщина занята всякого рода приготовлениями: параллельно с организмом, который готовится к родам и кормлению, и наряду с решением чисто технических проблем, как переустройство дома, перерыв в работе или учебе, в ней происходит серьезная духовная работа – она готовит себя к новой роли. А для этого ей необходимо ответить самой себе на единственный, но жизненно важный вопрос: какой мамой я хочу быть? Так как мы все учимся только на собственном опыте, то будущая мать, естественно, ищет ответ на этот вопрос в ближайшем своем окружении – среди матерей, которых она знает и наблюдает в течение длительного времени, скорее всего, с детства, – и в первую очередь у собственной матери. Когда она оценивает свою мать, она на самом деле выясняет для себя, что значит быть матерью, как это «делается»? Она проверяет, какие ваши качества она хотела бы перенять, а что предпочла бы изменить. Нири делает паузу, переводит взгляд с одной женщины на другую. – Я думаю, – заключает она, – нужно быть готовыми к тому, что именно в эту пору наряду с «гормональными бурями» всплывут на поверхность очень важные и не всегда приятные вопросы, касающиеся материнства и ваших взаимоотношений. – Что я вам скажу, – немедленно отзывается Мики, – думаю, так оно и есть! В последние месяцы Виолетта не раз поднимала эту тему – что значит быть матерью. Мы говорили о разных матерях, которых мы обе знаем, и конечно, обо мне, но тогда все было хорошо. Она слегка улыбается. – Виолочка все время говорила, что она надеется быть такой же матерью, как я. Поэтому для меня было так неожиданно и больно вдруг услышать ее сегодняшние слова о том, какая, оказывается, я была никудышная мать и сколько ошибок наделала по отношению к ней и ее брату; что из-за меня у нее не хватает уверенности в себе и она не в состоянии бороться с трудностями! Анна поворачивается к Мики. – С какой легкостью дети предъявляют нам претензии за то, чего они, по их мнению, недополучили, – произносит она, и в ее голосе слышны нехарактерные для ее общения с Мики мягкие сочувственные нотки, – а вот прийти и поблагодарить за то, что они, да, получили? Этого я еще не слышала, по крайней мере, у меня в доме! Она задумчиво продолжает, будто проверяет на слух свои мысли: – Может быть, и Наама критикует меня гораздо больше, чем раньше, – не знаю. Во всяком случае, если она это и делает, то с подругами, а не мне в лицо. – Мне это так знакомо, – устраиваясь поудобнее на стуле, вздыхает Това, – беременная или небеременная, Ширли вечно меня критикует. Но знаете, что меня теперь утешает? Я надеюсь, что придет день – и ей самой придется слушать претензии своих детей типа «что ты за мать!»; посмотрим, как она тогда будет себя чувствовать. Дай бог, чтобы я там была, я так хочу это увидеть! – со смехом добавляет она. – Да, – подхватывает Рут, – мне вечно говорили, вот погоди, пока ты сама станешь мамой… Поэтому я терпеть не могу такого рода фразы, но, наверное, это правильно. Им тоже когда-нибудь придется принимать решения, которые, возможно, не придутся по вкусу их детям; хотя, что касается меня, я не уверена, что это заставит Талью, пусть задним числом, но понять меня или поступать подобно мне. Недавно она мне сказала, что, так как уже несколько лет встречается с психологом и знает себя значительно лучше, чем знала себя я, когда была молодой мамой, а также потому, что она стала матерью намного позже меня, она будет гораздо внимательнее к нуждам самого ребенка; и вдобавок перечислила еще целый список вещей, которые, как она думает, будет делать лучше меня. Кто знает, может, действительно разница в возрасте спасет ее от моих ошибок. Но, с другой стороны, если она до сих пор не поняла, почему я как мать вела себя тем или иным образом; если она так и не оценила, что я растила трех маленьких детей во время войны, когда ее папа был все время в армии, а на мне держалось все – моя учеба, их пеленки – и не одноразовые, как сегодня, – при отсутствии машины и в общем-то помощи, то она меня уже никогда не поймет. А почему бы и нет! Намного легче критиковать маму и самоутверждаться от мысли, что у нее самой все будет совершенно иначе. – А я все еще не теряю надежды, что когда Ширли будет уже опытной мамой и поймет, чего это стоит; когда она не раз поймает себя на своих собственных ошибках, она наконец-то поймет меня и начнет относиться ко мне как к матери, – говорит Това, – я так этого жду! – Правильно! – бросает Мики. – Они ведь и правда не могут этого оценить понастоящему, пока сами не окажутся на нашем месте. – Раз вы согласны с Товой, – обращается к ней Нири, – то я хочу вас спросить, что именно, по-вашему, должна понять Виолетта? Что еще вы бы сказали ей в вашем сегодняшнем разговоре, если бы только она была готова вас выслушать? Мики задумывается. – Что еще я бы сказала? – повторяет она после короткой паузы. – Все, о чем говорила уже не раз, и она это хорошо знает: что все, что я делала для нее и для ее брата, делалось всегда из любви и желания помочь, и что самое важное для меня – это чтобы им было как можно лучше. И если бы и после этого она не успокоилась, а я бы позволила себе выложить все начистоту, не сдерживаясь, то я бы ей сказала, что возмущена ее неблагодарностью! Сказать мне такое после того, как я отдала ей всю душу, все свои силы, всю жизнь?! – Ну и чем это вам поможет? – иронически улыбаясь, замечает Анна. – Дети всегда в претензии к своим родителям. А вы разве были другой: был ли хоть один раз, когда у вас не было никаких замечаний в их адрес? Мики не успевает ответить, так как на этот раз ее опережает Орна: – А я очень даже понимаю, о чем говорит Мики, – неожиданно громко провозглашает она, – как можно не сердиться и не обижаться?! Я думаю, что главное, чего не хватает детям, – неважно, какого они возраста, – это, как принято сегодня говорить, эмпатии, или попросту сопереживания, сочувствия к нашим трудностям! Почему они не могут смириться с тем, что и у нас есть свои слабости?! У меня такое впечатление, что мы все подчинены правилам одностороннего движения, когда только родители должны слушать и понимать своих детей и делать все для их благополучия! А что, противоположное направление перекрыто?! – Мне показалось, что Мики сердится, – разводит руками Анна, – оказывается, это так, легкая обида по сравнению с другими… Орна не разделяет ее иронического настроения. – Я вам скажу, что именно меня возмущает в поведении моей дочки, – серьезно продолжает она, – я приведу вам пример из времени, когда она еще не была беременной. Чтобы не говорили, что гормоны виноваты! Она переводит взгляд с одной женщины на другую. – Случай может показаться вам мелким, может, я мелочная, но я все-таки расскажу. Значит, как-то я постирала и вывесила белье, там были вещи мои, моего мужа и сына. Пока я была на работе, Яэль тоже запустила машину для нее и ее мужа и повесила свое белье рядом с моим, которое за это время уже высохло. Я не жду от нее, чтобы она складывала мои вещи, но хотя бы снять белье с веревки, чтобы оно не пересохло и не выгорело на солнце! Всем ясно, что если бы оказалось наоборот, если бы я вышла во двор и увидела ее сухое белье, я бы и сняла, и сложила, но она? В жизни она этого не сделает, если я ее не попрошу, и меня это, естественно, злит! Меня это просто бесит! – Орна снимает очки и проводит ладонью по глазам. – Почему абсолютно ясно и само собой разумеется, что я сделаю это для нее, но она не сделает того же для меня?! И почему, когда они едят у меня и ставят свою посуду в посудомойку, почему они никогда не поставят туда посуду, которая накопилась в раковине? Да, они ей не пользовались, это не их посуда, но я старалась и варила для всех! Мне это непонятно, каждый раз это выводит меня из себя! Наверное, из-за того, что мы живем практически вместе, меня не оставляет ощущение неравенства; вечно у нас какие-то обиды и трения из-за того, что они недостаточно делают и принимают все как должное. Я не хочу сказать, что она всегда такая: иногда она помогает мне в уборке, но что касается мелочей, она никогда обо мне не думала. Понятно, что, когда она будет мамой, по отношению к своим детям она будет вести себя точно, как я, но я, как и Рут, совершенно не уверена, что это заставит ее оглянуться назад на свое поведение и понять наконец-то что я чувствую! Я даже не надеюсь – я точно знаю, что этого не будет, и мне это уже порядком надоело! Да! Я ни от кого еще не услышала, что дети должны чувствовать себя обязанными родителям! А также о том, что они должны принимать их такими, какие они есть – с их другим отношением к миру! С их ошибками! С их потребностями! Орна сидит, опустив глаза, сосредоточенно изучает оправу своих ярко-красных очков. Нири делает попытку ее успокоить. – Вы, по-видимому, очень разочарованы. Вам, наверное, представлялось, что когда Яэль повзрослеет, в ваших отношениях появится больше взаимности. А этого не происходит. Поэтому вы сердитесь и обижаетесь. – Совершенно верно! – согласно кивает Орна. – Пока она была маленькой – ладно. Но теперь-то она уже большая! Она замужняя женщина, она сама мать! Так когда же, наконец, она начнет думать и обо мне?! – Судя по вашему тону, проблема с Яэль так и осталась нерешенной, – заключает Нири, – или, возможно, вам пришлось пойти на компромисс, который не вполне вас устраивает? – По-моему, раз Орна до сих пор сердится, значит, они еще не говорили, – отвечает вместо нее Клодин, – вот ее и злит, что дочке и в голову не приходит, что у ее мамы есть право на свободное время. – Правильно, – устало подтверждает Орна, – мы еще не говорили. А самое смешное, что я до сих пор не знаю, чего она от меня ждет, и никак не могу решиться начать с ней этот разговор! Я все время ищу признаки того, что она уже достаточно окрепла и собирается сама нянчиться с малышкой, но этого не происходит! А моя директриса ждет от меня ответа насчет следующего года, и чем больше я об этом думаю, тем больше злюсь на Яэль. Я начала припоминать ей всякие случаи из прошлого, которые не имеют никакого отношения к происходящему, короче, ей, бедной, тоже достается! Орна замолкает, но беспокойно ерзает на стуле: не может найти себе места. – За то короткое время, что я вас знаю, – обращается к ней Нири; ее зеленые глаза излучают спокойствие и участие, – у меня сложилось впечатление, что вы всегда заботились о других, потому что вам важно, чтобы им было хорошо, но еще и потому, что вам это приятно, не так ли, Орна? – Да, – громко соглашается она, надевая очки, – я люблю делать людям добро. – Но человек не может только отдавать. После стольких лет полной отдачи вам необходимо начать получать хоть что-то в ответ. Голодный человек становится злым и раздражительным. Вот и вас сейчас переполняет обида, вы сердитесь и раздражаетесь из-за любой мелочи. Вы не были такой на наших первых встречах; судя по всему, вашему терпению приходит конец. – Я тоже такая, – вступает в беседу Анна, – когда я голодная или усталая, ко мне лучше не приближаться! У меня ни на что нет терпения, я становлюсь злой – все меня раздражает, но, как только я что-нибудь съем или чуть-чуть отдохну, все сразу проходит. Она переводит взгляд на Орну. – По-моему, вы сердитесь абсолютно справедливо, а вот на себя вы злитесь совершенно зря. Орна тяжело вздыхает. – Вы все так точно обрисовали! Я и правда испытываю почти физическое чувство голода, а еще – удушья. Вне всякого сомнения, мне необходимо как можно быстрее найти выход, который устроит нас всех! Това накидывает легкий бежевый жакет, который висел все это время на спинке стула, и поворачивается к Орне. – Знаете, что я вдруг подумала? Что ваше подавленное настроение связано не только с ответственностью, которую вы чувствуете за собой из-за того, что уговорили Яэль не делать аборта; и не с тем, что она живет практически вместе с вами; и даже не с тем, что вы наконец-то вспомнили, что и у вас есть жизнь. Может, это связано со всеми этими вещами вместе взятыми, но главное, по-моему, в том, что у вас нет желания нянчить внучку из-за обиды, которая накопилась в вас за все эти годы из-за того, что Яэль вас использует. Вы сами говорите, что это длится уже долгое время, а сейчас вашему терпению просто пришел конец. У меня есть близкая подруга, которая ушла с работы и нянчит свою внучку каждый день до шести часов вечера. Но она не создает впечатление жертвы, и я ей верю, потому что видно, что она делает это от всего сердца – она просто получает от этого удовольствие. Это то, что она сама для себя выбрала. А есть масса бабушек, которые смотрят за внуками и чувствуют, что их безжалостно эксплуатируют, но не могут сказать об этом детям, потому что боятся, что те о них плохо подумают и обвинят, что они плохие мамы. Вот они и делают это через силу, будто несут трудовую повинность. Орна глубоко вздыхает. – Есть что-то в том, что вы говорите, – соглашается она и опять машинально снимает очки, – действительно, здесь важно не что и сколько ты делаешь, а что ты при этом чувствуешь. Ты можешь изо дня в день с внуками нянчиться и быть довольной, а можешь раз в неделю вечером за ними присматривать, и это будет в тягость. Наверное, все зависит от отношений, которые были между мамой и дочкой еще раньше, до родов. Я имею в виду, если мать всегда жила с ощущением, что с ней не считаются, она будет чувствовать то же самое и сейчас. Так я себя и чувствую! Иногда мне кажется, что все это я уже проходила, что все это уже было – и не раз – только при других обстоятельствах. Более того, я почти уверена, что, даже если бы Яэль и родила еще через несколько лет и ребенок был бы желанным, все равно им было бы ясно, что я должна нянчить и делать все ради нее, а я бы опять чувствовала себя ущемленной! Так у нас было с ней всегда! Она всегда считала, что я обязана выполнять любое ее желание. Всегда, и до беременности тоже, она просила: купи мне то, сделай мне это, – и я всегда выполняла все ее просьбы, потому что понимала, как ей трудно. Знаете, молодая пара – пока все наладится! Но проходит время, и у меня появляются мысли: «Хорошо, а что со мной?! Я, что, не работаю?! Мне не тяжело?! А меня не надо спросить, чего хочу я?!» Из-за того, что я мать, всем вокруг понятно, что я сделаю все, о чем она попросит, но не наоборот. А, собственно, почему?! Почему я обязана это делать?! Орна вновь надевает очки и устало откидывается на спинку стула. – Может, я сама виновата: я ведь тоже всегда верила, что должна отдавать детям все, и вела себя соответственно. Я не могу ее винить в том, что она принимала это как должное; я сама ее так воспитала. Так что я могу быть в претензии только к самой себе. После короткой паузы Нири обращается к Орне: – Мне кажется, что в основе ваших слов лежит мнение или, скажем так, «рабочая гипотеза», на которой стоит остановиться. В семье существует ясное распределение обязанностей. Когда вы произносите: «Я – мама, следовательно, я сделаю все, о чем она просит», – вы тем самым разъясняете нам, в чем, по-вашему, состоит роль матери – мать дает детям. Когда вы нам рассказываете, что ваша дочь вас о чем-то просит или ожидает от вас чего-то определенного, нам становится понятно ваше отношение к роли дочери – она получает от матери. У меня сложилось впечатление, что вы обе строго поддерживали и соблюдали такое положение вещей, пока вы вдруг не начали сомневаться, и у вас даже появилось желание изменить это уже укоренившееся состояние, но вы не уверены, готова ли к этому Яэль. Орна не спешит с ответом, обдумывая услышанное, и слово берет Рут: – Я думаю, что обязанность детей – быть детьми, а быть родителями в данном случае означает любить и заботиться о детях. И это действительно должно восприниматься как должное. Но – и здесь есть большое «но» – не навечно! Любовь – да, навечно, но не убеждение, что «я – ребенок, и поэтому мне все положено; родители всегда обязаны делать для меня все, а я – только то, что мне захочется». Ребенок, который продолжает думать таким образом, никогда не повзрослеет! Я хочу сказать еще кое-что о надежде, что дочь «наконец-то поймет». Я тоже надеюсь, что Талья когда-нибудь поймет меня как мать, но я хочу этого не для себя. Может, у вас сложилось другое впечатление, но это не так. Несмотря на то, что меня очень обидел наш с ней последний разговор, я на самом деле вовсе не нуждаюсь в ее оценке. Я-то хорошо знаю, что сделала все, что могла, по максимуму. Я хочу, чтобы она оценила это для себя и перестала бы на меня сердиться, а освободившуюся энергию обратила бы на себя – на поиски своих внутренних сил. И тогда в один прекрасный день, когда она будет вот так же стоять напротив своих детей, она вспомнит, что и она нападала на меня с обвинениями и только потом, задним числом, поняла, что иногда и я была права. Я верю, что от этого она станет только сильнее. – Точно так же вы говорили, когда у нее что-то не получалось, – смеясь, прерывает ее Клодин. – Верно, – после короткой паузы улыбается Рут, – я об этом даже не подумала. В комнате наступает тишина. – Я хочу вам рассказать о моей соседке, – первой нарушает молчание Клодин, – она необыкновенно сильная женщина, я таких больше не встречала. На ней держится вся семья, а у нее семеро детей и двадцать три внука; и она знает все про каждого, ничего не упустит. У нее шесть сыновей и дочка, которая с тех пор, как вышла замуж, живет в соседнем с ней доме. Она всегда была в курсе всего, что происходило у дочки; давала советы по каждому поводу; растила ей детей, когда та вышла на работу; короче, все годы она продолжала относиться к ней как к маленькой, не давала ей повзрослеть; и та так и оставалась все эти годы у нее под крылом. До сегодняшнего дня ее мама делает для нее все. Теперь дети этой дочки уже выросли, и я вижу, как они просто плюют на нее. Когда смотришь на нее с ее детьми со стороны, то прямо видно, что она как тряпка; нет у нее никакой власти над ними. Да и они ее ни во что не ставят, несчастную. А она, вообще-то, хорошая женщина, добрая, безобидная, но ее детям на это наплевать. Они садятся ей на голову; она для них прислуга, которая варит, убирает, стирает их белье и – все! А к кому, вы думаете, они идут, когда чтото не так в школе? К бабушке! Ведь они привыкли, что она главная. По-моему, в этом нет ничего хорошего: она опять решает все за них да еще и лишает их матери. А почему я это рассказываю? Она переводит взгляд на Мики и Орну. – А потому, что это похоже на то, как Мики и Орна ведут себя со своими дочками. Конечно, только из лучших побуждений, я уверена. – Что-то я не поняла, – морщит лоб Орна. Клодин нервно разглаживает подол юбки и складывает руки на коленях. – Извините, что я так прямо говорю то, что думаю. Просто через неделю эта группа разойдется, и для меня это, возможно, последняя встреча. Если Лиат родит с божьей помощью – у нее уже появились слабые схватки – я не думаю, что у меня будет время прийти, поэтому я сегодня говорю все, что еще не успела сказать. Она поднимает глаза на Мики. – Я вижу сходство между моей соседкой и вами и уже чувствую, куда это может привести. Мне кажется, что вам троим недостаточно вашей собственной жизни, и вы стараетесь прожить и жизнь дочерей тоже. Вы вмешиваетесь в их решения, в воспитание детей. Вы прямо управляете ими! Клодин останавливается на мгновение, исподтишка проверяя, какую реакцию вызывают ее слова. Орна слушает ее с интересом, Мики сосредоточенно рассматривает чтото в окне и не оборачивается даже, когда Клодин замолкает. Выждав короткую паузу, она продолжает: – Вы, точно как моя соседка, не выносите, когда ваши дочки думают иначе, чем вы, или, не дай бог, у них появляются свои собственные планы на жизнь. Хоть у вас есть ваша работа и всякие другие интересы, вы все равно слишком вмешиваетесь в их жизнь. Такое у меня впечатление. И еще раз извините, что я вам это говорю, но эта группа подходит к концу, и все, что мы не скажем сейчас или в следующий раз, мы уже здесь не скажем никогда. Клодин опять замолкает, а затем неуверенно добавляет: – По-моему, вам обеим пора предоставить вашим дочкам свободу жить своей жизнью, самим воспитывать своих детей; ну а вы сами можете отойти чуть-чуть в сторонку. Глубоко вздохнув, будто освободившись от тяжелой ноши, она складывает руки на груди и замирает. Орна по-прежнему смотрит на нее и молчит, погруженная в свои мысли, в то время как Мики, отвернувшись от окна, резко подается в сторону Клодин. – О чем вы говорите! – она раздраженно передергивает плечами. – Откуда вы это взяли?! Не знаю, как насчет Орны, пусть она сама скажет за себя, но у меня все обстоит иначе. Я не живу жизнью моих детей, у меня своя жизнь – муж, работа, подруги. Дочка – не единственное, что есть у меня в жизни, хотя она и сын – самые дорогие для меня существа на свете; надеюсь, в этом вы не видите ничего плохого? Мики обводит сердитым взглядом притихшую группу и останавливается на Клодин. – Не нужно обобщать, – возмущенно продолжает она, – я не вижу ничего общего между тем, что рассказала Орна, и мной! В каждой избушке – свои игрушки! Правильно, сегодня я действительно обиделась на Виолетту, но вы не можете на основе этого единичного случая судить обо всем. Мне надоело служить эдаким козлом отпущения, на котором она вымещает все накопившиеся у нее обиды и страхи! И мне тем более обидно, потому что от нее я ожидала, что она уж точно подумает дважды, прежде чем вылить на меня ушат грязи после всего, что я для нее делаю! Она вынимает из сумки сигарету и резко встает, собираясь выйти из комнаты. – По какому праву вы говорите такие вещи?! – бросает она в сторону Клодин, вешая сумку на плечо. – Вы вообще не знаете ни меня, ни моей дочери! Маргалит испуганно протягивает к ней руку. – Мики, ну куда вы? Не уходите! Сядьте, пожалуйста! Мики остается стоять, но не отступает. – Не судите о том, чего не знаете! – Я только лишь высказала свое мнение, вы вовсе не обязаны с ним соглашаться, – прижимая руки к груди, тихо произносит Клодин, – правда, садитесь, я не хотела вас обидеть! Мики по-прежнему стоит в центре круга. – А я к вашим словам отношусь совсем иначе, – говорит Орна, глядя на Клодин, – мне кажется, вы в чем-то правы. Я сама недавно подумала, что, может… что я слишком вмешиваюсь в ее жизнь; по-моему, я даже говорила об этом. И теперь я начинаю понимать, что от этого мы обе только проигрываем. Нири делает знак, предлагая Мики сесть, и она возвращается на место, но продолжает держать в руке сигарету. Анна приглаживает волосы, заправляет непослушные локоны за уши и наклоняется в сторону Орны. – У меня есть к вам довольно личный вопрос. Можно, Орна? – Естественно! – улыбается она. – Иначе зачем мы здесь?! – Да, но… ладно, – мнется Анна, – Нири тут говорила, что дочки оценивают, как мы справляемся с ролью матери, и что это необходимая часть их собственной подготовки к материнству. А это значит, что самую главную свою оценку мы получим, когда увидим, какими мамами становятся наши дочки, как выполняют свои новые обязанности. Логично, не правда ли? Если они напомнят нам самих себя, значит, мы в их глазах заслуживаем подражания, а если они стараются ни в чем ни в коем случае не походить на нас, то всем понятно, что они о нас думают! Слова Анны явно вызывают всеобщий интерес. – Я хочу вас спросить, Орна, но вы можете не отвечать, я пойму… – Вы можете свободно спрашивать! Я ничего не скрываю! – прерывает ее Орна. – Я хочу вас спросить, – продолжает Анна, – приходило ли вам в голову, что то, что Яэль хотела сделать аборт, связано каким-то образом с тем, какой мамой вы были в ее глазах? Может, я не совсем понятно излагаю. Она опускает голову и задумывается. – Я имею в виду, – резко выпрямившись, поясняет она, – то, что она не хотела ребенка, имеет ли это отношение к вам… может ли это служить своего рода оценкой вашему материнству?! Орна замирает, изумленно глядя на Анну; на лицах остальных женщин тоже отражается удивление. – Такое мне в голову не приходило! – придя в себя, приподнимает брови Орна. – Была ли связь между ее желанием сделать аборт и моими материнскими качествами? Нет, не думаю. Она боялась потерять свободу. Возможно, она испугалась, что ей придется резко начать взрослую жизнь и нести ответственность за ребенка. Она тяжело вздыхает. – Что я вам скажу: она действительно была права. Сегодня я вижу, что она была права – ей надо было забеременеть года через два. Так было бы лучше для нас всех! – Вы ей это сказали? – задает очередной вопрос Анна. – Я так ее понимаю! Как она мне тогда сказала: «Я буду делать все, что необходимо, но эти годы я потеряла…» – И вы с ней согласились – с этим преподложением, что это утерянные годы? – не успокаивается Анна. – Нет! – качает головой Орна. – Но я много раз повторяла, что я очень хорошо понимаю, о чем она говорит! Ну так я не повторила прямо за ней, что эти годы ей не вернуть никогда, но это и так понятно! Что, я должна ей это еще специально подчеркивать?! Зачем?! Я только сказала, что я очень хорошо понимаю, о чем она говорит, но… что поделаешь? Теперь уже нечего делать – надо действовать соответственно обстоятельствам! Ты справишься. Я тоже справилась. Орна замолкает, задумчиво смотрит на Анну и после короткой паузы категорично заключает: – Нет, я не думаю, что ее желание сделать аборт было своего рода ответной реакцией на меня. А вы думаете иначе? Я не вижу своей вины в том, что она хотела сделать аборт, но я в ответе за то, что уговорила ее не делать этого. – Может быть, когда Яэль смотрела на вас точно так же, как наши дочки смотрят на нас, – отзывается Клодин, перебирая, как четки, браслеты на запястье, – ее пугала мысль, что и ей придется сразу же забыть о себе. Ведь у нее будет ребенок, а значит, всем планам – конец. Это то, что она видела дома на вашем примере, и ей просто стало страшно. Рут кивает головой в знак согласия и присоединяется к Клодин: – Я тоже хочу поделиться своими мыслями. Я вспоминаю всякие вещи, о которых вы говорили в течение этих недель, и у меня так же, как у Клодин, возникло впечатление, что Яэль испугалась, а, возможно, и сейчас боится оказаться в вашем положении. Орна сидит, подавшись вперед, сосредоточенно слушает. – Я думаю, – продолжает Рут, – опасения Яэль потерять свободу были вполне обоснованными. Каждая мать лишается той или иной степени свободы. Но мне кажется, что на Яэль больше подействовала картина, которую она наблюдала дома, где она видела совершенно «тотальную» маму. Яэль видела мать, которая вся ушла в свое материнство и отказалась от вещей, от которых она, Яэль, по всей вероятности, отказываться не готова. И знаете, я рада за нее и могу понять, что ее останавливает. Далеко не просто примерить на себя такую «взрослую» роль – отвечать за ребенка, – когда перед ней стоит ваш пример. Орна тяжело вздыхает и качает головой. – Если вы спросите меня, Орна, – сочувственно улыбается Рут, – то, по-моему, самый большой подарок, который вы можете ей сделать, – это помочь избавиться от модели, которую вы же сами для нее и построили. Позвольте ей прожить свою жизнь по-своему. Кстати, тем самым вы освободите и себя! Последние слова вызывают у Орны хоть и слабую, но улыбку. – Обратите внимание, что вы обе избегаете этой темы. Я могу поспорить, что Яэль молчит, потому что, во-первых, растерялась и не знает, что делать, а во-вторых, она боится вас обидеть. Рут складывает ладони лодочкой и подносит их к лицу. Задумавшись, она сосредоточенно смотрит на Орну. – Вы помните дом, который нарисовали на одной из первых встреч? Тропинку? Я думаю, вашей дочке точно так же, как и вам, необходимо сознание, что она может не только войти в дом, но и выйти из него, когда ей заблагорассудится, – свободной и независимой. – Я согласна с тем, что вы говорите, – выпрямившись на стуле, отзывается Орна, – но даже если она и видит меня дома, это не значит, что она должна быть такой же мамой, какой была я! На это нет никаких причин! Она стартует с совсем другой отметки: она старше, чем была я, когда стала матерью; у нее хорошая работа; она повидала мир и испробовала вещи, о которых я еще и сегодня не имею понятия! У нас изначально совершенно разное положение! – Правильно, но может, она воспринимает это по-другому, – вступает в беседу Това, – возможно, она думает, что все, и в первую очередь вы, ожидают от нее быть похожей на вас, посвятить себя ребенку и дому и отказаться от всего остального. А иначе почему вы так уговаривали ее не делать аборта?! – Какое это имеет отношение к аборту? – широко раскрыв глаза, поворачивается к ней Орна. – Ну, предположим, она думает, что вы хотели, чтобы ее жизнь была похожа на вашу, а значит, нужно как можно скорее завести семью! Орна беспокойно ерзает на стуле. – Я никогда об этом не думала, – взволнованно произносит она. После довольно долгой паузы она поднимает глаза на Рут, – вы считаете, я должна спросить ее прямо, что она думает по этому поводу? Рут отвечает ей улыбкой. – Я бы ни о чем ее не спрашивала, а вызвала бы на откровенный разговор. Она переводит взгляд на Нири, и та решает высказать свое мнение: – Быть может, если вы поделитесь с Яэль вашими сомнениями; тем, что только теперь вы понимаете, как много упустили из-за того, что вечно беспокоились о других; если скажете ей, что не хотите, чтобы и с ней произошло то же самое, ей станет легче и она начнет относиться к вам и ко всему происходящему вокруг по-другому. Орна энергично кивает головой, а Нири продолжает: – Смею предположить, что после ваших слов она почувствует себя дважды свободной: во-первых – жить так, как она считает правильным, а во-вторых – жить, не испытывая чувства вины, которое, скорее всего, она испытывает сегодня из-за того, что не хочет и не может походить на вас. – А еще, может быть, что Яэль чувствует себя в долгу перед вами, – добавляет Маргалит, – возможно, она понимает, что если бы не ее бесконечные требования, вы бы не оказались сегодня там, где вы оказались. – Нет, это невыносимо! – сердито прерывает ее Мики. – Ну откуда вы знаете, что думает ее дочка? С какой стати вы сидите здесь и все за нее решаете?! Она поворачивается к Нири: – По-моему, это явный недостаток профессионализма: влезать в чужие семьи и беспардонно копаться в их жизни, словно это телесериал какой-то! Маргалит не обращает внимания на ее раздраженный тон. – Мики, я хотела бы вам что-то сказать, можно? – не повышая голоса, спрашивает она и прежде, чем Мики успевает ответить, уверенно произносит: – Я хочу вернуться к тому, что сказала вам Клодин. Что по ее мнению, вы слишком активно вмешиваетесь в жизнь Виолетты, словно вдобавок к своей жизни пытаетесь прожить еще и ее; и что ваше и ее поведение способствуют тому, чтобы она как можно дольше оставалась «маленькой маменькиной дочкой». Поэтому я хочу вам напомнить ваши же слова, тоже сказанные здесь, но я не помню, по какому поводу, что вы понимаете, что лишаете Виолетту материнства и что из-за этого когда-нибудь ей будет очень тяжело. Вы же сами это сказали! Мики делает удивленное лицо. – Я такого не помню, – возмущенно бросает она, – и если я и говорила что-то подобное, то – на сто процентов – это было сказано не просто так, а по какому-то конкретному поводу! Что это, следственная комиссия?! Вы собираете на меня «компромат» и ждете удобного момента?! Она опять привстает со стула. – Для чего вы пришли в эту группу, если не желаете ничего слушать?! – негодующе прерывает ее Анна. – Давайте успокоимся, – поднимая руку, обращается к группе Нири, – Мики, я прошу вас, останьтесь с нами. Мики замирает на краешке стула. – Я вижу, – мягко замечает Нири, обращаясь к Мики, – что с критикой вы не в ладах. Тяжело вам выслушивать мнения, которые могут в чем-то не совпадать с вашим. Если вы согласитесь, я попробую ответить вместо вас на вопрос, заданный Анной. Можно? Мики облокачивается на спинку стула, нервно закидывает ногу на ногу и еле заметно кивает головой в знак согласия. – Мне кажется, – начинает Нири, – вы пришли сюда потому, что вам очень важны ваши отношения с Виолеттой и вы очень гордитесь вашей семьей и вообще всем, чего достигли в жизни. Вам доставляет удовольствие рассказывать о вашей семье, делиться наблюдениями, которые характеризуют связь между вами. На лице Мики появляется довольная улыбка, и Нири продолжает уже более уверенно: – Мы говорили об оценке, которую вы получаете от ваших дочерей именно сейчас, когда они сами становятся матерями, и, возможно, вы тоже чувствуете себя в последнее время словно под лупой у Виолетты. Может, вам кажется, что она испытывает вас больше, чем когда-либо до этого; а может быть, вы поймали ее на высказываниях, которых раньше от нее не слышали. Вы говорили, что уже во время беременности не раз обсуждали тему материнства, вашего и ее. Я думаю, вы пришли в группу в надежде получить отклики на ваши рассказы, получить подтверждение, что ведете себя самым лучшим образом, что вы отличная мать. Вам очень важно – наверное, важнее всего на свете – быть хорошей мамой. Чего вы не ожидали, так это того, что наряду с признанием ваших успехов, здесь может прозвучать и критика. – Ничего подобного! – сердито прерывает ее Мики, выпрямляясь на стуле. – Я пришла сюда, чтобы почувствовать на себе, что это такое: мы собираемся снимать передачу о группах психологической поддержки, вот и все. – Да ну вас! – иронически улыбается Рут. – А по-моему, вы только проигрываете от того, что не желаете прислушаться к другим! – сердито настаивает Орна. – Я… несколько раз замечала, как вы сердились и нападали на тех, кто думал иначе, чем вы. Кстати, судя по вашему рассказу, то же самое произошло у вас сегодня с Виолеттой. Она всего лишь пыталась вам что-то сказать, но вы сразу на нее напали. Я не говорю, что она была права, и не одобряю форму, в которой она это сделала. Можно критиковать, не обижая, но и вы повели себя несдержанно, сами сказали, что почти начали кричать. Короче, вы не готовы, чтобы вас критиковали, ни мы и ни она! Мики молчит, опустив голову. Нири опять обращается к ней: – Мики, – мягко произносит она, – то, что вы подвергаетесь здесь нелегкой критике, я бы отнесла в вашу пользу: такое возможно только потому, что вас считают сильной женщиной, у которой на счету достаточное количество достижений, и вы в состоянии спокойно выслушать и учесть справедливые замечания. Мы все были свидетелями, с какой смелостью и откровенностью вы посвятили нас в ваши переживания. Это подействовало на нас сильнее, чем любые ваши рассказы, и значительно продвинуло вперед всю группу. Мики удивленно приподнимает брови. – Я объясню, – отзывается на немой вопрос Ники, – вы, к примеру, были первой в этой группе, кто осмелилась выставить себя в не совсем положительном свете. После вашего рассказа разговор в группе стал намного более откровенным и серьезным. Вы знаете, о чем я говорю? – Нет, а что я сказала? – оживляется Мики. Рут поднимает руку, прося слова. – Я хорошо помню, что вы сказали. Мы говорили о страхе перед родами, и ближе к концу встречи вы вдруг начали рассказывать, как вам было тяжело, когда рожала ваша дочь; как особенно тяжелым было сознание, что вы, привыкшая быть «супермамой» – так вы тогда выразились, я это хорошо помню, – не можете ей помочь. Вам самой понадобилась помощь, чтобы не упасть в обморок. Вы еще сказали, что боялись показать дочке свою слабость. И я хочу признаться, что после этого разговора я много думала о тех случаях, когда и я не подпускала к себе никого из близких, чтобы они, не дай бог, не заподозрили меня в слабости. Я помню, мы с Анной еще удивлялись, какая вы молодец, что можете так свободно говорить о себе. Это ничуть не унизило вас в наших глазах, а даже – наоборот: ваша искренность вызвала уважение! Поэтому я так разочаровалась, когда на следующих встречах вы заперлись от всех намертво, ни о каких откровенностях уже не было и речи. – Спасибо! – улыбается Мики. – Всегда приятно услышать о себе хорошее, а тут еще от вас! – Почему вы так говорите? – в голосе Рут слышится обида. – Потому что у меня всегда было ощущение, что вы меня недолюбливаете, – со свойственной ей прямотой отвечает Мики. – Дело тут не в любви, – медленно, взвешивая каждое слово, возражает Рут, – просто мне часто казалось, что вы только и делаете, что всех судите, а саму себя не видите и никому не даете ничего сказать. Нири вам об этом уже говорила. Меня такое поведение раздражает, особенно если учесть, что большинству из нас пришлось здесь нелегко. Вы очень сильная женщина, но иногда вы направляете эту силу не на пользу другим, а наоборот, чтобы кого-то пришибить или возвысить себя. Я серьезно думаю, что вы можете спокойно обойтись без того, чтобы вас постоянно хвалили. Вы – это вы, и этого вполне достаточно. По-моему, вам пора не только предоставить свободу своей дочери, но и освободиться самой: хватит контролировать каждый свой шаг. Мики молча смотрит на Рут, а затем, пытаясь скрыть слезы, переводит взгляд за окно. Сделав глубокий вдох, она тихо произносит: – Я… у нас… в доме, где я росла, мне необходимо было быть сильной. Ее голос становится громче и звонче. – У нас… очень любили девочек, но по-настоящему важными считались только мальчики. Возможность того, что я буду лучшая из всех, исключалась с самого начала. Я всегда старалась быть самой-самой. Мики замолкает, поправляет волосы, а заодно и вытирает влажные от слез щеки. – Я научилась всегда быть на виду, всегда в первых рядах, иначе я бы ничего не добилась. Наверное, с тех пор у меня и осталась потребность в похвалах, всегда и всюду. Это – правда, что я не в ладах с критикой, мой муж говорит то же самое. Он уже усвоил, что если он собирается сказать мне что-то, что может прийтись мне не по вкусу, он должен сначала меня задобрить, наговорить мне комплиментов. Анна улыбается. – Если он идет на это каждый раз, – весело замечает она, – значит, он вас очень любит! – Что я вам скажу, – улыбаясь в ответ, привычно уверенным звонким голосом откликается Мики, – второго такого нет! У меня вообще совершенно особенная семья! Нири: – Мы приближаемся к концу нашей встречи. Я бы хотела обобщить все, о чем мы сегодня здесь говорили. Во-первых, мы говорили об оценке, которую выставили или выставляют в данный момент вам ваши дочки, и о том, к чему это приводит, – вы чувствуете себя незащищенными, боитесь предстать перед ними в ином, не всегда лестном качестве. Что вас поддерживает? Вас согревает надежда, что когда ваши дочки сами станут мамами, они «наконец-то поймут», что это такое – быть матерью, насколько это тяжело и физически, и морально. И вот тогда, пусть задним числом, но они признают ваши поступки правильными. Мики приподнимается со стула, тем самым давая понять, что она просит слова. – А я как раз хочу отметить, – обращается она к Нири, – что рада тому, что моя дочка стала матерью, вовсе не из-за того, что теперь она наконец-то поймет, как это тяжело и сложно. И, конечно, мне это абсолютно не нужно, как Орне, для того, чтобы она признала за мной право на мою личную жизнь. Меня радует, что Виолетта наконец-то познает всю силу материнской любви. – Вы имеете в виду, она поймет, как и насколько вы ее любите? – переспрашивает Рут и скептически добавляет: – А то она не знает?! – А я считаю, дети действительно не подозревают, как сильно мы их любим, – голос Мики звенит от возбуждения, – это невозможно передать ни словами, ни поступками! – Значит, теперь, – обращается Нири к группе, – когда ваши дочки впервые оказываются в роли матери, они смогут понять что-то очень важное, чего не были в состоянии понять раньше. Они осознают, во-первых, насколько сложно и тяжело быть матерью, а во-вторых – с какой силой мать любит своих детей. Они поймут, как сильно вы их любите. Это и в правду сорт любви, который возможно познать и осознать, только став родителями. Матери внимательно слушают и, не желая прерывать, молча кивают в знак согласия. – Я хочу связать это с чувством страха, о котором вы говорили на одной из наших предыдущих встреч, – продолжает Нири, – я имею в виду страх перед тем, что сейчас, когда дочка строит свою собственную семью, она неизбежно отойдет от вас. Из ваших сегодняшних слов мне представляется, как где-то глубоко внутри – может, даже в подсознании – в вас теплится надежда, что как раз теперь, когда все свои силы и всю свою любовь они отдают детям, именно теперь они не отдалятся и не бросят вас, потому что осознают, насколько они вам важны. Другими словами, ваша дочка «наконец-то поймет», с какой силой мать любит своего ребенка, насколько он ей необходим и как важна для нее их взаимная связь; и благодаря этому она останется рядом с вами. Вы продолжаете верить в неизменность материнской любви, в то, что мать – она всегда мать, и это придает вам силы. И еще, так сказать, напоследок. Взаимосвязь между мамой и дочкой – это явление уникальное; других таких отношений в природе не существует. Вы все время повторяете, что с вашей стороны ничего не изменилось и что ваши дочки могут быть совершенно спокойны: вы по-прежнему всегда рядом с ними. Но вы все же признаете, что теперь, когда дочки повзрослели, в ваши отношения необходимо внести кое-какие поправки, которые будут учитывать личные интересы двух взрослых, самостоятельных и независимых женщин. Поэтому вы задаете конкретный практический вопрос: как осуществить нужные изменения и при этом не повредить основу основ ваших отношений, где вы по-прежнему будете находиться в роли матери, а она – в роли дочки? Нири делает довольно долгую паузу, а затем добавляет: – Я хочу вам напомнить, что на следующей неделе мы встречаемся в последний раз. Каждой из вас в отдельности и всей группе в целом будет предоставлена возможность высказаться на любую тему, а затем мы разойдемся… Нири Всю дорогу домой меня не отпускало ощущение кома в горле. Почему, когда матери говорили о силе их любви, почему именно тогда я еле удержалась от слез? Став матерью, я сделала для себя интересное открытие: спектр моих чувств остался неизменным, но вот их амплитуда стала явно другой. Счастье, радость, тоска, боль, страх были мне знакомы и раньше, но теперь я обнаружила в себе вершины и пропасти, о существовании которых даже не подозревала. Жизненные цвета приобрели резкость, эпизоды – скорость, картины – актуальность. Я вдруг могла расчувствоваться из-за какой-то мелочи; меня переполняло чувство близости к незнакомым мне женщинам, ко всем матерям на свете; одна только мысль о слабых и беспомощных доводила меня до слез. Материнство – это, в первую очередь, определенная структура сознания, состояние души, которое, как только зарождается, сразу переходит из явления духовного в физическое и остается выжженным на вашем сердце навсегда. Что такое быть мамой, я уже знаю и понимаю. А вот как это быть мамой мамы, покамест для меня непостижимо даже после двенадцати встреч группы; точно так же, как и что значит быть бабушкой, я пойму только через много-много лет. Я вспоминаю слова Мики о «силе любви» и думаю про себя: может, это и есть тот тайный шифр, то «волшебное слово», которое является основой всего и хранится вечно. Любовь, которую я испытываю к моей дочке, будет той же любовью, и когда она станет матерью; это та же любовь, с которой относится ко мне моя мама, и она не отличается от любви, которую дарила ей ее мать. Это то, что скрепляет между собой поколения; в этом суть их связи. И эта сила не меняется. Элла Я подхожу к квартире Дальи. Нажимаю на кнопку звонка. Она открывает, и мы долго стоим обнявшись. Затем она ведет меня на кухню, к столу, мы садимся друг против друга, как привыкли, как всегда. – Ну, как было? – в ее голосе радость и любопытство. Я протягиваю ей сверток. – Было отлично, разверни! Совсем по-детски, счастливо улыбаясь, Далья разрывает золотистую обертку и достает небольшую шкатулку. – Что это? – удивленно спрашивает она, но я молчу и жду продолжения. С ловкостью приподняв крышку, она вынимает миниатюрную фарфоровую куколку, и я вижу, как ее глаза наполняются слезами. – Где ты это нашла?! – Яир взял меня в квартал, где продают всякие старинные вещи, – довольно улыбаясь, поясняю я. – Там было полно миниатюр, но я не могла себе представить, что найду в точности такую, как мне подарила бабушка Рахель! У Дальи начинают дрожать губы. – Как ты смогла найти именно эту, твою самую любимую! Теперь у нас будут одинаковые: для тебя это память о моей бабушке, для меня – твой подарок. Меня распирает от счастья: я не ожидала, что Далья будет настолько – до слез – растрогана моим подарком. – А теперь возьми это, – я протягиваю ей еще один маленький пакет. – И это тоже для меня? – вытирая слезы, удивляется она. – Здесь подарок от Яира. Мы шли по улице, я увидела в витрине эту миниатюрку и тут же разревелась, как малое дитя, – будто в подтверждение моих слов, я неожиданно для себя опять начинаю плакать, – представь, стою в Париже посередине улицы и рыдаю! Яир молча остановился возле меня; он не мог понять, что происходит. Не знаю, что это было, но я вдруг повернулась и прижалась к нему. Мы простояли так минут десять; я плачу, а он впитывает в себя все мое горе. Его куртка стала совершенно мокрой, как от дождя, – добавляю я, вытирая глаза и нос. – Потом он сказал, что хочет лично поблагодарить подругу, связавшую нас таким необычным способом. – Судя по всему, ты нашла человека, на груди которого не страшно и поплакать, – улыбается мне Далья, и я отвечаю ей улыбкой влюбленной школьницы. – Да, он такой! Далья встает, чтобы приготовить нам кофе, но я ее останавливаю. – Скоро должен придти Яир, у него пока еще нет ключа. Так что я пойду. Я встаю, и она провожает меня до дверей. – Может, зайдешь… зайдете, – поправляет она себя, – в субботу на ужин? – С удовольствием! Я переговорю с ним и сообщу, – отвечаю я и прижимаю руки к груди, потому что еще одно слово – и у меня от счастья выскочит сердце. Встреча двенадцатая Как стать хорошей бабушкой – Сегодня последняя встреча нашей группы. И прежде всего, я рада видеть Эллу, которая вернулась к нам после долгого перерыва, – говорит Нири, обводя всех взглядом. Элла отвечает Нири улыбкой: – Да, я снова здесь. А затем, тяжело вздохнув, продолжает: – Это были самые тяжелые часы в моей жизни, да нет, месяцы, впрочем, – годы. Но… Что-то во мне меняется. Теперь я чувствую себя намного сильнее, у меня такое чувство… Она замолкает, поднимает глаза. Все в ожидании смотрят на Эллу. – У меня такое ощущение, будто туча, висевшая надо мной все это время, почти рассеялась; я стала чуть уверенней. Элла говорит все быстрее и быстрее, будто, преодолев все преграды, она, наконец, вырвалась на свободу. – Я чувствую, что вернулась домой, что пришла в себя. Долгое время я чувствовала себя как черепаха, которую выманили из панциря, как беззащитная улитка, потерявшая раковину. Но теперь я дома, у себя, и я заново устраиваю свою жизнь. У меня появился мужчина, – неожиданно для самой себя добавляет она и от смущения, а возможно, от испуга заливается краской. – Я никогда еще не ощущала себя такой любимой. За мной ухаживает замечательный человек. В общем, мне даже хорошо, – робко заканчивает она. – Я так рада! Честное слово! – широко улыбается Анна. К ней присоединяется Маргалит, ее голубые глаза искрятся: – Это просто здорово, что вы сегодня здесь, с нами! Элла, вы великолепно выглядите, просто удивительно! В комнате царит оживление. «Оказывается, словами можно обнять», – думает про себя Элла. *** Обычный обмен приветствиями завершен, и Мики обращается к Нири с вопросом, который, несомненно, волнует всех: – Что с Клодин? Я вижу, она не пришла? Нири, которая все это время, удобно устроившись на стуле, растроганно наблюдала, с какой радостью мамы принимают Эллу, как будто очнулась: – Ах да, я не успела вам рассказать. Клодин позвонила мне сегодня утром. Лиат срочно вызвала ее к себе, так как схватки, которые длились уже целую неделю, резко усилились сегодня ночью. Так что сейчас они в больнице. Она очень жалеет, что не сможет с вами сегодня попрощаться, и мы договорились, что я оставлю свой телефон включенным. Надеюсь, она сможет позвонить пока все здесь. – Интересно, что там происходит. Дай бог, чтобы все было хорошо! – явно волнуясь, говорит Орна. – Она, наверное, стоит возле Лиат и, пытаясь поддержать ее, смешит все отделение, – смеется Мики, и остальные смеются вместе с ней. Весело сегодня в группе. Весело и грустно… Смех стихает, оставив в воздухе невидимые паутинки близости. – Итак, это наша последняя встреча, – в голосе Нири незнакомые нотки то ли смущения, то ли сожаления. Мамы переглядываются, и веселье сменяется печалью – предвестницей расставания. – Сегодня я попрошу вас замкнуть круг. Нири переводит взгляд с одной мамы на другую. – Я хочу вернуться назад, к нашему первому занятию. Вы помните записки? – спрашивает Нири и тут же напоминает. – Каждая из вас дополнила предложение: «Для меня беременность… – имя дочки – это…» – Да, и вы попросили нас написать первое, что придет в голову, не задумываясь, – опять подхватывает Орна. – Я вспомнила про эти записки совсем недавно, – вступает в беседу Маргалит, – но сразу же забыла: было о чем подумать и кроме них, – с улыбкой добавляет она. – Я сохранила ваши листочки, и сегодня вы получаете их назад, – говорит Нири, протягивая каждой ее записку. Мамы с любопытством раскрывают тщательно свернутые красные бумажки и пробегают их глазами. На лицах появляются улыбки, но все молчат. Нири обращается к Элле, предлагая ей сделать то, что она, несомненно, уже сделала: – Попробуйте сейчас мысленно дополнить это предложение. И продолжает, обращаясь к остальным: – А вас я попрошу прокомментировать то, что вы написали двенадцать недель тому назад. Орна, смеясь, заглядывает в свою записку: – Что вы думаете, я написала? И тут же продолжает, не дожидаясь ответа: – Я написала, что для меня беременность Яэль – это… тяжелая ноша! Вот что я написала! Она на мгновение задумывается, глядя на Нири. – Можно сказать, что с тех пор многое изменилось. Когда я это писала, двенадцать недель тому назад, Яэль еще была в положении; и я имела в виду тяжелое бремя ответственности за то, что Яэль не сделала аборт. Я чувствовала, как эта беременность давит на меня; а ведь я должна была держать ее на плаву, не дать ей погрузиться, завязнуть. Изменилось ли что-то с тех пор? Хотя это предложение осталось справедливым и после родов, но, честно говоря, в последние дни я начинаю чувствовать некоторое облегчение. Кроме того, я понимаю, что именно из-за этого чувства непомерной тяжести я и оказалась здесь, в группе, так как я была не в силах справиться с этим сама: мне нужна была помощь! – А что происходит сейчас? – спрашивает Нири. – Вы имеете в виду меня и Яэль? – переспрашивает Орна. – К какому выводу мы пришли? Значит, так: после предыдущего занятия я решила воспользоваться вашим советом и поговорить с ней. Рассказать ей о том, что со мной происходит, что я чувствую, о чем сожалею, чего желаю для нее. Мы очень хорошо поговорили! Она сказала, что рада, что этот разговор состоялся, что ей очень важно, чтобы и мне было хорошо! Оказывается, от нее не укрылись мои переживания; она утверждает, что в последнее время я изменилась, даже стала красивее! Орна смеется. – Что у меня опять блестят глаза, что я лучше одеваюсь, и что она просто счастлива за меня! Мне это было безумно приятно и в чем-то неожиданно: ведь я считала, что она меня просто не замечает, и уж, конечно, ее абсолютно не занимают мои мысли и чувства! Орна замолкает на миг, на ее лице по-прежнему сияет улыбка. – Я рассказала ей о моих сомнениях; оказывается, ее мучает та же дилемма: с одной стороны, ответственность за малышку, с другой – желание закончить учебу и начать строить карь еру. То есть нас обеих волнует одна и та же проблема, вот так… И тогда я сказала Яэль, что мы обязаны найти «золотую серединку», не ударяясь в крайности. Орна опять замолкает, делает глубокий вдох и продолжает, глядя на Анну: – Я решила отказаться от предложенной мне должности, даже если это ставит крест на моей мечте руководить библиотекой! – Но разве не жаль… Вы же так этого хотели! – разочарованно замечает Анна. – Да, это так, – улыбка на лице Орны сменяется выражением решимости. – Жизнь – штука непостоянная! У меня появилась внучка, Шира, которую я обожаю, а с ней – и новые планы!.. Когда я спрашиваю себя сегодня, что для меня важнее – быть директором библиотеки и с головой зарыться в работу или быть рядом с малышкой, видеть как она растет и развивается, а в свободное время наслаждаться жизнью, то второй вариант мне подходит больше: так не пострадают ни работа, ни семья… – А вы уверены, что не занимаетесь самоуговорами? – осторожно спрашивает ее Рут. – Нет! На этот раз я уверена, – твердо отвечает Орна, – на каком-то этапе я задала себе вопрос, а почему, собственно, мне так важно руководить библиотекой. И вдруг мне стало ясно, что сам процесс руководства меня уже больше не интересует. Да, я к этому очень стремилась, но это была раньше, несколько лет тому назад. Тогда это было бы для меня огромным достижением! Но это уже в прошлом: на сегодняшний день я пользуюсь авторитетом среди коллег, на работе меня уважают, а, с другой стороны, я отвечаю только за себя и у меня нормальный рабочий день. Так к чему мне быть директором?! Я от этого ничего не выигрываю! Поймите, я не жертвую карьерой ради семьи, у меня просто… и овцы целы и волки сыты!.. Я договорилась с начальницей о том, что уменьшу ставку до восьмидесяти процентов, и у меня будет дополнительный выходной, чего не было еще никогда. Этот день будет моим и только моим; а в остальные дни, вернувшись с работы, я буду помогать Яэль. Она продолжит учебу, но будет учиться только в первой половине дня, а у малышки будет няня. Мы поможем им материально, найдем хорошую няню, на которую можно положиться, и Яэль будет возвращаться домой к обеду. В сессию, естественно, потребуется больше помощи. Вторая бабушка тоже предложила помощь: она будет приходить раз в неделю, для нее это также очень важно. Так что все устроилось, и я страшно довольна, – улыбается Орна. Элла смотрит на нее и думает, что она действительно прекрасно выглядит; что за эти недели, что Элла не приходила на занятия, Орна похудела и сменила очки. В ней появилась какая-то легкость. Орна, глядя на Эллу и как будто читая ее мысли, добавляет: – Мне стало намного легче. Мне кажется, что наступающий новый год будет полноценным, интересным и радостным. Я хочу поблагодарить всех вас за помощь! Я долго зрела, но есть результат! Благодаря вам я была готова к разговору с Яэль, я разобралась в своих чувствах и точно знала, что я хочу ей сказать. Эта беседа сильно отличалась от всех наших предыдущих бесед. В этот раз я не обрушилась на нее с претензиями и обидами, хотя разговор был нелегким… Ой, я и не заметила, как стала подводить итоги наших встреч! Орна смущенно смотрит на Нири. Нири ободряюще кивает: – Продолжайте. Пришло время подводить итоги. Орна отводит взгляд и продолжает: – Я думаю, что эта группа была спасением для меня: тут я могла поделиться своими переживаниями, успокоиться и вместе с вами разобраться в моих мыслях. Все это послужило мне хорошим уроком. Я поняла, что нельзя себя так запускать. Я дала себе слово: я не ограничусь случайными встречами с подругами два раза в год! И не доведу себя до обморока прежде, чем попрошу о помощи у моих домашних! И не собираюсь быть мусорной корзиной, куда вся моя семья отправляет отбросы! Возможно, это звучит слишком серьезно, но я больше не собираюсь взваливать на себя ответственность за всех. Мои дети выросли и в состоянии отвечать за себя. Моя роль быть рядом, но не вместо… И последнее: я не стану выжидать, пока на меня, наконец-то, обратят внимание, я заставлю их понять, что я не менее важна, чем они! – заключает Орна, и ее лицо вновь озаряется улыбкой. Нири смотрит на нее с нескрываем одобрением: – Я слушаю вас с огромным удовольствием. Несомненно, вы нашли решение, которое удовлетворит всех. Я вижу, вы прислушались к совету Клодин, которая охарактеризовала ваш подход к жизни как «все или ничего». Что же касается ваших отношений с Яэль и Широй, вы поняли свои ошибки и решились их исправить, воспользовавшись переменами, которые произошли у вас в семье. Теперь вы будете действовать иначе. «Какое счастье, что все еще можно исправить, – думает про себя Элла. – Даже когда кажется, что все погрузилось в полную темноту, и не осталось ни одного мало-мальски осве щенного уголка, надо попытаться уловить тот тоненький лучик, который своим желтоватым светом высветлит сохранившиеся крупинки хорошего, и с осторожностью собрать их, будто это рассыпавшиеся хрустальные бусинки». Орна, слушавшая Нири с большим вниманием, замечает еле слышно: – Удивительно, я об этом совершенно не думала! Я действительно стараюсь быть несколько иной мамой, да и не такой всемогущей бабушкой, как я себе это представляла. И у меня и в правду появилась возможность кое-что изменить. В конце концов, я еще превращусь в бабушку, безумно балующую своих внуков… Нири обращается к группе: – В течение всей недели я много думала о нашей прошлой встрече, о том, что в ожидании первенца и вы, и ваши дочери погружены в проблемы материнства. Когда я вспоминаю все наши занятия, я вижу, что каждую из вас в той или иной форме волновали эти вопросы. К примеру, мы говорили о страхе перед приближающимися родами с позиции матери, боящейся за свою дочь; мы обсуждали перемены, которые происходят в вас в период, когда ваши дочери вступают в новую жизнь. Слушая сегодня Орну, я понимаю, что перемены в семье – это возможность для вас пересмотреть свое отношение к материнству и, если необходимо, внести поправки. Другими словами, ваши дочери осваивают новую для них роль матери; вы же делаете то же самое по отношению к ним, но уже на следующем жизненном витке. – Я с вами полностью согласна, – живо вступает в беседу Мики, – в последнее время я часто задумываюсь над ошибками, которые совершала, о том, что сегодня я бы поступила иначе. В молодости я больше была занята работой, чем детьми. Теперь это не повторится, – качает она головой. Элла смотрит на Мики, и с удивлением замечает новое выражение на ее лице: не резкое и решительное, а мягкое, спокойное, возможно, и не чуждое для самой Мики, но совершенно неожиданное для Эллы. – В целом я себя не обвиняю, – продолжает Мики, – нам было тогда очень тяжело. Мне было всего лишь двадцать, когда я родила сына, и двадцать четыре, когда родилась дочь. Я, можно сказать, взрослела вместе с детьми. Из-за того, что над головой висела ссуда на квартиру, мы жили более чем скромно, и я должна была работать. Как начинающий редактор я брала ночные смены, чтобы днем быть дома. Но оставаться с детьми после ночи – это вроде как «быть и не быть»: это, возможно, быть около них, но не с ними. Тогда я этого не понимала. И мой муж – тоже. Он врач; несколько лет мы общались посредством записок: «Привет, я на дежурстве, пока!» Я ведь, по сути, и не знаю, как они росли. Я не думаю, что была плохой матерью, но все-таки – недостаточно хорошей. Хотя у меня и выросли чудесные дети, но мне ясно, что многое я могла бы сделать иначе, что сегодня я бы отнеслась к ним с большим вниманием. В доме, в котором выросла я, дети делали то, что им говорили родители, без лишних вопросов, отчего и почему. Даже если у меня и было свое мнение, я твердо верила, что мои родители всегда правы. И если мой отец говорил, что этот цвет голубой, я тут же соглашалась. Неважно, что в душе я думала, какой же он голубой, но возразить отцу вслух я не смела. Мне кажется, что по отношению к моим детям я вела себя примерно так же, может быть, чуть помягче. И я так же будто бы не замечала их. И всегда настаивала на своей правоте, утверждая, что я как мать знаю лучше. Я во многом походила на своего отца. Если я говорила что-нибудь и мой сын пытался меня исправить, потому что я ошибалась или он считал иначе, я категорически отказывалась его слушать: я взрослая и нечего ему вмешиваться. Но и дети воспитывали меня. Когда мой сын подрос, он объявил, что не намерен продолжать учебу. Сколько я с ним ни беседовала, уговаривала, даже угрожала… Она смеется. – Я хотела, чтобы он стал врачом, как его отец, но, увы… В конце концов, он открыл свое дело, довольно успешное, и он счастлив. Так вы понимаете, что я хочу сказать? – Мики обводит всех взглядом. – Теперь, я надеюсь, все будет иначе. Я не стану затыкать моему внуку рот. Мой внук сможет говорить все, что ему вздумается. Я буду спорить с ним, он будет спорить со мной – это то, что будет. Я буду более терпеливой по отношению к внукам. По отношению к детям у меня вообще не было терпения: я была слишком занята, слишком озабочена. Уже тогда я чувствовала, что что-то не в порядке. Я ведь вам уже рассказывала, как моя дочь старалась говорить как можно быстрее, иначе у меня не хватало терпения дослушать ее до конца. Но даже обратив на это внимание и поняв, что что-то не так, я не задумалась, а через пару дней и вовсе забыла об этом, так как уже была озабочена другими проблемами. У меня не было времени остановиться и перевести дух. Вернее, здесь дело не столько во времени – просто я была молодая и не понимала того, что понимаю сегодня. Мики замолкает, в комнате тишина. Элла думает о том, как это интересно вновь встретиться с матерями, с которыми она познакомилась лишь несколько недель тому назад, и открыть, что за это время они побывали в экспедиции по изучению самих себя, из которой возвращаются с богатыми трофеями. В первый миг она испугалась, что, отстав от них в самом начале этого трудного, возможно, мучительного пути, она упустила что-то очень важное. «Я свой путь проделала сама, в одиночестве, – думает она, но без сожаления. – И всетаки не совсем одна, и у меня было на кого опереться… Она улыбается сама себе, и ее глаза неожиданно влажнеют». – Мне было страшно тяжело, когда дети были маленькими, – голос Рут отвлек Эллу от нелегких мыслей. – Я очень надеюсь, что Талье будет легче. Я тогда просто впала в депрессию. Когда Талье было всего лишь несколько недель, началась Война Судного дня. Это было страшно. Мы все чувствовали, что вот она смерть, совсем рядом, поджидает каждого из нас. К моей полной растерянности после родов прибавилась еще и всеобщая тревога. Это было невыносимо, – тяжело вздыхает Рут. – Представьте себе, ты только что родила, это твой первый ребенок, и вдруг семья распадается. Муж ушел в армию, а я, перепуганная, осталась с малышкой. Я не была большим героем. Для меня наступили тяжелые, безрадостные дни. Вообще я не могу сказать, что испытывала радость от общения с детьми, пока они были маленькими. Я, честно говоря, люблю детей постарше, мне с ними легче, веселее, интересней. Мои же дети, пока были совсем маленькими, выжали из меня все соки. Но, по-видимому, я тоже изменилась, не только они. Сегодня я думаю, что не была им достаточно хорошей мамой. Элла сосредоточенно слушает Рут: как она всегда точно выражает свои мысли; ясно, свободно. При этом не судит, а просто делится… – Я надеюсь, что Талья будет более уверена в себе, чем была я, – тем временем продолжает Рут, – да, представьте себе, мне не хватало твердости, силы характера. Я очень критична по отношению к себе, и, возможно, поэтому я и не обижаюсь на Талью с ее вечными претензиями. Я и сама знаю, что не могу служить ей примером. Зато, когда ей тяжело, я ее очень хорошо понимаю. Я до сих пор помню, почти физически ощущаю состояние безысходности, в котором я находилась в те дни, оттого что это крохотное существо, которое я еще не успела полюбить, с которым меня еще почти ничего не связывает, полностью подчинило меня себе, практически не оставив за мной права выбора. Я чувствовала, что дети мне мешают, что если бы я не родила так рано, моя жизнь сложилась бы иначе. Поэтому, глядя на Талью, которая все-таки уже что-то успела в жизни, я надеюсь, что ей будет легче. Вообще теперь к этому совсем другой подход: даже отцы берут выходной, если нужно остаться с больным ребенком. Никогда не забуду, как в первые дни войны я в панике прибежала в детскую консультацию: я ничего не ем, я не сплю по ночам – у меня пропадет молоко! И знаете, что ответила мне медсестра? – «Партизанки в лесах прекрасно кормили своих детей!»… Сегодня, вспоминая все это, я себя жалею и прощаю, но не тогда – тогда я очень страдала. В те годы не было принято, чтобы молодые матери, встречаясь одна с другой, открыто делились своими проблемами. Тогда мне все казались веселыми, счастливыми и благополучными. По-моему, надо научиться прощать, относиться к себе с терпимостью, с которой я отношусь сегодня к Талье. Знаете, на какой мысли я ловила себя во время ее беременности? «А ведь они даже не представляют, что их ждет, они просто не понимают, какие заботы свалятся на их головы. Они уже столько лет живут вместе в свое удовольствие, без особых обязанностей. Делают, что хотят: друзья, вечеринки, поездки – сплошной кайф. И вдруг появляется кто-то и все переиначивает…» «И еще как», – мысленно соглашается с ней Элла. В комнате напряженная тишина. – Это же пожизненное заключение с трудовой повинностью, готовьтесь! – слегка улыбается Рут. – Впрочем, к этому невозможно подготовиться! Смешно, что все так готовятся к родам, которые длятся всего лишь несколько часов, и абсолютно не готовятся к тому, что будет затем. Я сужу по себе. Все озабочены беременностью и родами, а мне даже их проблемы не представляются проблемами. Подумаешь, сохранение беременности – ну так полежала полгода в кровати! Родила? Все, кончили! А тут – ребенок, он же на твоей ответственности на всю жизнь, навсегда! – Я тоже отлично помню самое начало, – смеясь, подхватывает Това. – Я как раз не страдала, даже наоборот, с удовольствием ухаживала за малышами. Я вся погрузилась в мое материнство, ничего другого для меня просто не существовало. Единственное, что мне мешало, – это то, что теперь каждое мое действие должно было быть продумано до мелочей. Особенно остро это чувствуешь с первым ребенком, когда ты вдруг осознаешь, что появился кто-то, кто полностью зависит от тебя и о ком ты обязана беспрерывно заботиться. – Да, так все и начинается, – согласно кивает Маргалит. – С появлением ребенка вдруг вся эта масса забот сваливается на тебя одну, и у тебя нет выхода – ты немедленно берешься за дело. Нет никого другого, кто может это сделать вместо тебя: это твой ребенок, и ему нужна его мама. – Ну не знаю, а, по-моему, не все так страшно, – говорит Анна, – я помню, какой я была счастливой оттого, что я мама таких сладких малышей, что мне очень повезло в том, что они мои, а не кого-то другого. Кроме того, это меня еще больше сблизило с их отцами, с каждым из них я чувствовала, что наш ребенок – плод большой любви. В комнате вновь тишина, добрая и успокаивающая. Паузу нарушает Анна: – Мики, а можно узнать, что вы написали в записке? Мики разворачивает уже заново сложенный листочек: – Для меня берменность Виолетты – это… что-то, что я хотела бы сделать сама, но тогда, в молодости, – с усмешкой читает она. Нири, озадаченная несоответствием содержания записки и тона, с которым она была прочитана, обращается к Мики: – Я не поняла, почему вы смеетесь. Что изменилось с тех пор? – Да нет, наоборот: это и есть та самая поправка, о которой я уже говорила. Есть поступки, о которых я сожалею, и сегодня стараюсь вести себя иначе, не повторяя своих ошибок. К ней возвращается ее обычное серьезное, сосредоточенное выражение. – Я хочу вам сказать, что даже если вам кажется, что я не переношу никакой критики, на самом деле я все знаю: и хорошее, и плохое! Я все вижу, мне просто тяжело обсуждать это с другими. Конечно, легко сказать, я исправлюсь, я-то свой характер знаю… Но ради внука я постараюсь, он того стоит! – она улыбается, гордая и уверенная в себе. Рут обращается к Мики, как всегда мягко и ненавязчиво: – Я вижу в этой записке намек на то, что пришло время отделить вашу жизнь от жизни Виолетты. Это ее время выбирать свой жизненный маршрут, решать, какой матерью она хочет быть, и, конечно, ошибаться. Вы же можете исправлять свои ошибки по отношению к ней как мама или по отношению к внуку как бабушка, но не по отношению к ребенку как его мать. Мики слушает Рут, скрестив руки на груди, и не пытается спорить. Элла отмечает про себя, как неожиданно для нее сблизились эти две такие разные по своему складу женщины. Анна вздыхает, нервно потирая руки: – Что касается меня, то я уверена, что если бы я и попыталась что-либо изменить, то Наама не обратила бы на это внимания и очень быстро нашла бы что-нибудь другое, к чему можно придраться. – Что, к примеру, вам бы хотелось изменить? – спрашивает ее Нири. – Ну, не знаю, – Анна усаживается поудобней, положив ногу на ногу. – Возможно, различные привычки, от которых я никак не могу избавиться, которые унаследовала от моих родителей; выражения, которые так ненавидела в детстве, а теперь сама же их и повторяю. – А можно поконкретней? – настаивает Нири. Анна слегка задумывается и продолжает: – Я была хорошей ученицей, хоть и не отличницей. При этом моей маме было очень важно избавить меня от каких-либо иллюзий. Она не раз говорила мне: «Ты неглупая девочка, и у тебя есть потенциал, но до определенного уровня, и, по-моему, этого вполне достаточно». Я не сомневаюсь, что она хотела мне добра, что она всего лишь пыталась избавить меня от излишних переживаний, в то время, как я… Но сегодня, когда я это вспоминаю, мне кажется, что я неосознанно веду себя так же по отношению к моей дочке. – Чего вам не хватало в то время как ребенку? – осторожно спрашивает Нири. Элла вновь поражается, с какой деликатностью Нири обращается к каждой из них, предлагая свою помощь. «Вот и мне она помогла, – думает Элла. – позволила мне уйти, но при этом оставила возможность вернуться». Она мысленно возвращается к разговору между ними на прошлой неделе, когда Нири позвонила узнать, придет ли она на последнюю встречу. – Мы все будем рады вас видеть, рассказать о том, что произошло в группе, и узнать, что слышно у вас, – уговаривала ее Нири, хотя в этом не было нужды: она и так собиралась прийти. – Вы очень нам помогли, – продолжила Нири, чем вызвала ее удивление. – Я? Меня же не было, я ведь ушла. – Вы нам доверились и откровенно поделились своими переживаниями. Глядя на вас, и другие не побоялись признаться в своих самых сокровенных страхах и сомнениях и тем самым их преодолеть. Если вы вернетесь, это будет нашей общей победой – победой над страхом. А также доказательством того, что не всегда в наших отношениях есть победители и побежденные, иногда обе стороны платят дорого, но и выигрывают от этого тоже на равных. Элла в который раз возвращается к тому, как ей повезло, что она оказалась в этой группе, и как хорошо, что она вовремя ее покинула. И вернулась. Голос Анны нарушает ее мысли: – Чего мне не хватало? – повторяет она за Нири. – Я долго надеялась наконец-то услышать от нее, что я по-настоящему способная. Вот чего я ждала. Но услышала это гораздо позже и даже тогда была поражена, так это было неожиданно! В то время она уже больше зависела от меня, чем я от нее. Моя мама была учительницей литературы. И вот, помню, я принесла ей стихотворение. Мне было лет десять – двенадцать. Она никогда не проверяла мои домашние задания, было абсолютно ясно, что я их и так выполняю. Кстати, с моими детьми было то же самое. Я и в самом деле во многом походила на мою маму. И вот однажды, я подошла к ней, желая прочесть стихотворение, которое только что выучила наизусть. Я встала напротив нее и начала читать. Она прервала меня на полуслове, сказав, что так не читают, и начала декламировать сама. Естественно, я жутко обиделась. С тех пор я редко себя хвалю, а перед ней – никогда! Когда она была в доме престарелых уже в состоянии… у нее уже был полный провал памяти, единственное, что она еще знала или помнила, были стихи. Я читала ей строфу, и она заканчивала предложение. И это все… Она практически не выражала своих чувств и не комментировала услышанное. Как вдруг однажды, когда я закончила ей читать очередное стихотворение, она сказала: «Ты замечательно читаешь». Анна прерывает свой рассказ, по ее лицу текут слезы. Рут кладет ей руку на плечо, Анна отрывает взгляд от пола и продолжает: – Она опоздала на тридцать с лишним лет, – она вытирает глаза. – Вот так. Я надеюсь, что мне не потребуется столько лет, чтобы сказать дочке… Да, я думаю, что я часто говорю ей вещи, которые мне… никогда никто не говорил. – Все мы что-то исправляем, – обращается к ней Мики. Анна глубоко вздыхает, пытаясь успокоиться. Нири выдерживает небольшую паузу, прежде чем замечает: – Я вижу, как тяжело вам дался этот рассказ. И вообще мне кажется, вы сегодня как-то особенно взволнованы. – Мне всегда тяжело расставаться, – отвечает ей Анна, пожимая плечами, как бы прося прощения. – При всей моей занятости, при том, что я беспрерывно что-то планирую, я терпеть не могу прощаться. Мне всегда очень грустно, как будто я что-то теряю. Ничего, как только я начну новое дело, я вновь увлекусь и забуду обо всем. Но в минуты, когда опускается занавес, меня всегда душат слезы. – Пока опускается занавес, как вы выразились, есть что-то, что вы хотели бы добавить, спросить, рассказать? – предлагает Нири. – Да нет, не думаю, – отвечает Анна уже вполне спокойным голосом, хотя предательские красные пятна еще по-прежнему покрывают ее лицо и шею. – Я хотела бы сказать Мики, что просто преклоняюсь перед ее прямотой и откровенностью. Ею, по-моему, проделана огромная работа, и это несмотря на то, что она ухитрилась пару раз ну просто вывести меня из себя. Маргалит чуть-ли не довела меня до слез, ну и Элла, конечно, Элла! Я безумно рада вновь видеть вас здесь и желаю вам больше не забывать о себе и тогда, возможно, и с Эйнав все наладится. Что касается Орны, я надеюсь, вы не поверили, что я и в самом деле сержусь на вас за то, что вы не станете директором библиотеки, – смеется Анна, и Орна улыбается ей в ответ. – Да, и Това! Меня очень затронула ваша история; вопросы, которые вы задали, заставили меня серьезно задуматься. Вам, Нири, огромное спасибо за ваше внимание и терпение и за хорошие слова, которые вы нашли для каждой из нас. Ну а тебе, Рут, дорогая моя подружка, большое спасибо за то, что ты меня сюда привела, – улыбается Анна и продолжает, обращаясь к группе. – Я ведь вам рассказывала, как Рут почти силком притащила меня сюда. Она хлопает подругу по колену. Рут берет ее руку в свою и произносит серьезным голосом: – Правильно, я тебя сюда затащила и хочу тебе кое-что сказать. Анна так удивлена реакцией Рут, что даже и не пытается высвободить свою руку. – Я уже как-то говорила, что благодаря этим занятиям я могу встречаться с тобой регулярно раз в неделю, – говорит Рут, глядя ей в глаза. Они выглядят как единое целое, даже дышат в такт. – Честно говоря, это был повод, хотя я действительно с нетерпением ждала возможности поболтать с тобой после группы. Но была еще одна причина, из-за которой я и привела тебя сюда. Анна с недоумением смотрит на Рут. Рут переводит свой взгляд на сидящих полукругом женщин, как будто пытаясь отгородиться от Анны или выиграть время. В конце концов, она делает глубокий вдох и произносит: – Довольно долгое время я наблюдаю за тобой и Наамой. Анна не сводит с нее глаз, удивление сменяется любопытством. Рут тем временем продолжает: – Я хорошо помню, какой ты была счастливой, когда она родилась, и чуть позже, когда она ходила за тобой по пятам, совсем как утенок. Рут улыбается, и Анна отвечает улыбкой на улыбку. – Я всегда поражалась твоему терпению, когда ты читала ей книжки или лепила, или вы вместе делали печенье. Потом родилась Тамара, тебе было тяжелее, но даже тогда вы мне казались этакой маленькой дружной компанией. А затем ты развелась с Амусом, и я видела, как тяжело это переживает Наама. Ты помнишь, как она тебя ревновала? Каждый раз, когда вы обнимались с Шаулем, она демонстративно выходила из комнаты. До сегодняшнего дня она его терпеть не может, старается с ним не встречаться. Я наблюдала за Наамой в течение многих лет. Так как она и Талья очень близкие подруги, она часто бывает у нас. Рут замолкает, нервно покусывая губы. Анна все же высвобождает свою руку и выжидательно смотрит на Рут, как бы требуя продолжения. – Вот что я хочу тебе рассказать. Несколько месяцев тому назад, когда Наама поняла, что она в положении, она договорилась с Тальей о встрече в кафе, и я присоединилась к ним. Наама была явно не в духе и на мои настойчивые расспросы ответила, что она все никак не соберется рассказать тебе о своей беременности, так как вовсе не уверена, что ты этому обрадуешься, – продолжает свой рассказ Рут. – Что? – вскрикивает Анна от полной неожиданности. – Я тоже была очень удивлена, – замечает Рут, – и сказала ей, что, по-моему, ты будешь безумно рада: ведь ты же так любишь детей. На что она ответила что-то вроде: «Да, но когда они подрастают, любовь куда-то пропадает». – Я не могу этому поверить! – Анна резко повышает голос, не в состоянии справиться с волнением. – Почему ты молчала все это время? – Ты права, – говорит Рут, ее тон из решительного перешел в извиняющийся, – я чувствовала… Я не могла решиться. А вскоре ты сама рассказала мне о беременности Наамы, и было видно, что ты этому очень рада. Я решила, что все уладилось. Рут нервно потирает руки, чувствуя себя очень неуютно под по-прежнему удивленным взглядом Анны. Паузу прерывает Нири: – Почему вы решили именно сегодня рассказать Анне о вашем разговоре с Наамой? Рут с благодарностью смотрит на Нири: – Я знакома с Анной не один год и всегда была в курсе всего, что с ней происходит. Мы очень близки и откровенны друг с другом. Но я думаю, у многих из нас есть темы, которых мы стараемся не касаться, своего рода табу, которые не обсуждаются. Так вот, это то, что я чувствую всегда по отношению к разговорам о Нааме. – С какой стати? – опять удивляется Анна. – О чем ты говоришь?! – Мне кажется, что, как только я упоминаю ее имя, ты сразу стараешься перевести разговор на другую тему, – поясняет Рут. Анна по-прежнему не сводит с нее глаз, а Рут, как бы не замечая ее недоумения, решительно продолжает: – Поэтому я подумала, что, может, именно здесь, в этой, скажем, необычной обстановке, ты сама заговоришь о Нааме и о ваших с ней отношениях, попытаешься разобраться в том, что же изменилось между вами с годами. Мне было ясно, что сама ты в эту группу не запишешься: ты ведь не из людей, которые ходят в группы поддержки. Тебе кажется невозможным остановить карусель, в которой ты крутишься, хотя бы на час ради того, чтобы сесть и всего лишь поговорить. Вот я и подумала, что, если я предложу тебе присоединиться ко мне, чтобы мы этот час в неделю проводили вместе, так как мне тебя очень не хватает, то ты, возможно, согласишься, и… – И так как это уже наша последняя встреча, а Анна так и не коснулась этой темы… – подхватывает Нири. Рут с благодарностью смотрит на нее: – Я наконец-то решилась заговорить. – И все же, я не понимаю, – вступает в беседу Мики, протягивая руку в сторону Рут, и это скорее похоже на осуждение, чем на вопрос, – почему вам нужна наша поддержка, чтобы вызвать вашу лучшую подругу на откровенный разговор? Маргалит отвечает вместо нее: – Можно подумать, что вы никогда не сталкивались с тем, что есть вопросы, которые лучше не затрагивать! Анна переводит взгляд с Маргалит опять на Рут: – Спасибо за заботу, и действительно я в этой группе могу говорить обо всем, но… я не очень понимаю, о чем именно ты хочешь, чтобы я говорила… – она смотрит на нее, будто пытаясь прочесть ее мысли. – Ты хочешь меня спросить о Нааме? Так спрашивай, и я тебе отвечу! – Мне не о чем спрашивать, – растерянно говорит Рут, обращаясь к Нири. – Что-то я запуталась; я и сама не уверена, чего именно я хочу… Нири остается по-прежнему сидеть на стуле, но уже выпрямив спину и чуть подавшись вперед: – Я понимаю, что уже долгое время вы хотите поговорить с Анной, но не знаете как. Возможно, если бы вы не были Рут, а были бы кем-то другим или другой, то вам было бы легче. Представьте себе, что вы кто-то другой, и пусть он скажет Анне все, что вы хотели бы ей сказать. Анна, вы согласны? – Да, почему бы и нет, – спокойно отвечает Анна. – Итак, кем вы будете? – обращается Нири к Рут. – Наамой, естественно, – отвечает Рут. – Ну что ж, я прошу вас сесть друг против друга, – объясняет задание Нири, – Рут, вы можете начинать. Анна и Рут располагаются друг против друга, остальные с интересом наблюдают за происходящим. Рут выглядит растерянной, даже испуганной, такой в группе ее еще не видели. Анна усаживается на стуле, закинув ногу на ногу, и нервно поправляет волосы. Рут передвигает стул, чтобы оказаться прямо перед Анной, глубоко вдыхает и, глядя на нее, начинает: Рут (Наама ). Привет, мама, что нового? Анна. Привет! Да вроде ничего. А у тебя все в порядке? (Вдруг пугается). Что так срочно, что-то случилось с малышкой? Рут (Наама ). Да нет, все нормально. Они обе неожиданно замолкают, в группе напряженная тишина. Нири опять приходит на помощь Рут: – Наама, я вижу, что ты чем-то подавлена, но никак не решишься заговорить. Прежде, чем Рут успевает ответить, Анна делает движение, как бы пытаясь их остановить: – Все, хватит. Меня это только еще больше пугает. Что-то случилось? Рут (Наама ). Нет, я же сказала, все в порядке. Ты же видишь, что мне тяжело начать, так наберись терпения. Хоть один раз подожди, а не беги сразу по своим делам! Анна удивленно разводит руками: – Так вот что тебе не нравится, что я всегда куда-нибудь спешу? Что у меня своя жизнь? Рут (Наама ). Вовсе даже нет, я сама очень занятой человек. Анна. Так в чем же дело? Рут (Наама ). Я слышала, что ты говоришь обо мне в этой твоей группе и обсуждаешь с ними наши отношения. Анна от неожиданности вскакивает со своего места: – Я не желаю участвовать в этом спектакле! Ты рассказала ей о группе и о том, что я говорила?! – Ни в коем случае! Ничего из того, что здесь происходит, не выносится наружу, – взволнованно отвечает Рут, а Анна поворачивается к Нири: – И все же я не понимаю, чего она добивается? Нири опять находит нужным вмешаться: – Я хочу вернуться к Нааме. Наама, что именно из того, о чем говорила мама в группе, тебя рассердило? Рут (Наама ). Мне в принципе не нравится, как ты говоришь обо мне, в каком виде ты меня выставляешь. Анна. Как я говорю о тебе? Рут (Наама ). Почему ты обсуждаешь с ними мою фигуру или другие интимные подробности? Анна. Я рассказываю о себе или о моих переживаниях. Я не сижу здесь и не сплетничаю о тебе! Рут (Наама ). Когда ты говоришь о своих переживаниях, ты говоришь, что я, потвоему, какая-то неповоротливая, непривлекательная, закомплексованная, слишком серьезная или что-то в этом роде – мне все равно, как ты это называешь. Но уж точно, ничего положительного ты обо мне не скажешь! Анна. Мало ли что я о тебе думаю? Ты, например, считаешь, что я легкомысленная и безответственная мать. У тебя масса претензий к моему образу жизни и к моему второму мужу! Рут (Наама ). Да, это так, мне во многом не нравится, как ты живешь. В особенности то, что твоя жизнь для тебя важнее моей. И так было всегда: в первую очередь ты с твоим мужем, твоими маленькими детьми и твоей работой. Анна. Откуда ты взяла, что я думаю сначала о себе? Я думаю и о себе тоже, но не только о себе! Рут (Наама ). Так если ты думаешь и о других, не только о себе, как же ты ничего не сделала, чтобы спасти свой брак ради твоих детей? Почему ты о них не подумала? Почему ты не подумала обо мне? Почему ты бросила все ради мужчины, который почти одного возраста со мной, и даже не заметила, как сломала мне жизнь?! Анна. Теперь мне ясно, что тебе не нравится! Тебе не нравится, что я не осталась с твоим отцом, хотя и была с ним несчастна, и что у меня теперь другой мужчина, к тому же молодой? Рут (Наама ). Мне всегда было неловко за тебя: ты флиртовала с моими друзьями, ни во что не ставила моего отца, унижала и продолжаешь унижать меня. Ты вообще меня никогда не хотела, всегда шутила, что я была «несчастный случай», из-за которого тебе пришлось рано выйти замуж. Ужас, как смешно! Вечно я ловила на себе твой недовольный взгляд, вечно ты думала про себя и говорила другим: «Как это у меня родилась такая дочь? Совершенно другая, чем я хотела, совсем другая, чем я!» Ты даже не пыталась скрыть своего разочарования. Ты всегда мечтала обо мне иной! Поэтому и продолжала рожать еще! Анна. О, боже! Я даже не представляла, что с тобой происходит! Да, ты действительно была «несчастный случай», но ничего лучшего, чем ты, в моей жизни не произошло! Из-за того, что мне было так хорошо с тобой, я решилась на остальных детей. И с какой стати ты считаешь, что я в тебе разочарована? Наоборот, я просто горжусь тобой, я считаю, что ты потрясающая девушка, умная, красивая и тонкая! Мне бы эти твои качества! Но что правда, то правда: с годами мне с тобой все сложнее и сложнее. Уже с детства ты меня пугала своей серьезностью. Когда ты на меня смотрела, я со страхом пыталась понять, о чем ты думаешь. У меня всегда было такое чувство, будто ты меня оцениваешь. У меня такое впечатление, что кроме того, что мы изначально разные, ты еще специально стараешься быть другой и всегда ра да подчеркнуть эту разницу между нами. Думаешь, я не видела, что ты делала с подарками, которые я тебе дарила? Как ты меня вежливо благодарила, и с тех пор я их ни разу не видела? Я всегда читала в твоем взгляде, что ты меня презираешь, что ты считаешь меня поверхностной, инфантильной, что я не та мать, о которой ты мечтаешь! Когда я встретила Эдну, твою свекровь, я поняла, какую мать ты искала, совсем другую, чем я. И как вы сразу здорово поладили, как я ей завидовала, что у вас такие простые отношения. И несмотря на это, я хотела, чтобы вы почаще встречались, чтобы ты побольше бывала в их семье, потому что мне казалось, что это очень важно, чтобы у тебя был бы еще один дом, где тебе всегда хорошо. Рут (Наама ). А я считала, что ты рада от меня избавиться, что наконец-то нашлась другая мама, которая будет заботиться обо мне. Анна. С какой стати мне радоваться?! Но что я могла поделать? Я не смогла с тобой сблизиться, но и ты не особенно пыталась приблизиться ко мне. Как, ты думаешь, я себя чувствовала, когда вы затеяли ремонт и даже не нашли нужным посоветоваться со мной, архитектором?! Но я подавила свою гордость и проглотила обиду. Рут (Наама ). Почему ты так легко сдалась? Почему не пришла и не сказала: «Я коечто в этом понимаю и хочу помочь, я ведь твоя мать!» Почему? Анна. Потому что я всегда чувствовала, что лишь раздражаю тебя. Под твоим взглядом у меня все деревенело. Анна замолкает с удрученным выражением лица. Нири обращается к Анне: – Что еще вы хотите добавить, чего еще не сказали Нааме? Анна вздыхает: – Жаль, что мы так отдалились друг от друга. И зря она на меня так сердится. Возможно, я вела себя неправильно, и на ней как на старшей это больше всего отразилось. Я ее очень люблю, всегда любила ее сильнее всех на свете. Я так хочу, чтобы мы опять сблизились, я так много могу ей дать, я хочу быть с ней! – Что написано в вашей записке? – неожиданно спрашивает Мики. Анна разворачивает ее и читает: – Для меня беременность Наамы – это… ее счастье, – вот, что я написала. – Вы видите: мне, да, важно, чтобы она была счастлива, чтобы ей было хорошо, даже, если я не согласна с тем путем к счастью, который она выбирает. – Может, когда беременность Наамы станет и вашим счастьем, тогда все наладится? – замечает Мики. – Что вы хотите этим сказать? – Анна поднимает на нее глаза, полные слез. – Я думаю, что вы абсолютная моя противоположность, – говорит ей Мики. – Из-за того, что вы так поглощены собой и, не желая вмешиваться, даете Нааме свободу строить ее жизнь, как она находит нужным, дистанция между вами продолжает увеличиваться. Рут кладет руку Анне на колено. Анна поворачивается к ней, в ее глазах по-прежнему стоят слезы. Она встречает такой знакомый ей добрый, ласкающий взгляд Рут: – Теперь я буду говорить от себя как Рут. Я согласна с тем, что сказала тебе Мики. Помоему, Нааме просто необходимо твое участие, ей нужна мама, особенно сейчас. Несмотря на то, что, как ты сама сказала, ты всегда ощущаешь себя маленькой, она нуждается в тебе большой и сильной, окрепшей специально для нее. Ей не хватает тебя. Это, на мой взгляд, то, что она пыталась выразить тогда, в кафе. Что ее беременность, с одной стороны, сблизила вас, объединив общими переживаниями, а с другой – еще больше подчеркнула ваши разногласия. Я думаю, она сейчас заново пересматривает ваши отношения, все то, о чем мы здесь говорили. Так что не упусти возможности, не откладывай на тридцать лет, как твоя мама! Анна молчит, опустив глаза и машинально разглядывая свои пальцы. Нири вновь приходит им на помощь и обращается к Анне мягким, успокаивающим голосом: – Не все еще потеряно, говорит вам Рут. Многое еще можно исправить. Что вы думаете по этому поводу и что вы чувствуете? Анна поднимает на нее глаза. – Я… У меня сейчас выскочит сердце, я… сильно разволновалась и расстроилась. Действительно, жаль, что я не заговорила об этом раньше, на одном из занятий, а теперь уже нет времени… Но такой у меня характер: всегда жду до последней минуты. Я надеюсь, что еще не поздно. Она поворачивается к Рут: – Спасибо! Рут отвечает ей широкой улыбкой. Нири смотрит на них обеих, а затем спрашивает у Рут: – Ну, а как вы себя теперь чувствуете? По выражению ее лица нетрудно предугадать, каков будет ответ. – Я чувствую огромное облегчение, – говорит Рут, – я очень долго сомневалась, стоит ли мне все это начинать вообще, и здесь, в группе, в частности. И теперь я рада, что все-таки решилась, особенно видя, как Анна все это восприняла. А Нири продолжает: – Вот что мне пришло в голову, Рут. То, что вы сделали сегодня, в нашу последнюю встречу, для меня не было неожиданностью. Вы здесь основательно потрудились, – смеется она, и Рут согласно кивает головой. – Я видела, с каким вниманием вы слушали, как сочувствовали другим, как поддерживали и сопереживали, но и не уклонялись от споров, всегда говорили то, что думали. Вы много дали этой группе, но я хочу спросить, а что она дала вам? Рут смотрит на Нири своими необыкновенными золотисто-карими глазами, и ее лицо вновь становится серьезным. – Вне всякого сомнения, эти встречи были для меня очень интересными: я встретила женщин с такими разными судьбами и характерами, открыла для себя вещи, о которых не услышала бы ни в одном другом месте. Я думаю, что еще не раз мысленно вернусь к тем вопросам, которые мы здесь обсуждали. – То есть, вы хотите сказать, что наши встречи, в первую очередь, удовлетворили ваше интеллектуальное любопытство, ваш интерес к человеческим судьбам. Вы любите думать, анализировать, поддерживать других. В общем, вам здесь было хорошо, – заключает Нири. – Абсолютно точно, – отвечает Рут. – Мне действительно жаль, что наш курс кончается. Я могла бы еще продолжать и продолжать, – смеется она. – Возможно, есть что-то, чего вы так и не коснулись здесь, в группе, о чем вы хотели бы поговорить и так и не решились, а теперь уже поздно, – не успокаивается Нири. – Может, именно поэтому вы и хотели бы продолжить? Рут на мгновение задумывается, а затем отвечает вопросом на вопрос: – Да нет… я не думаю… Почему вам так кажется? – Я хочу поделиться с вами моими наблюдениями. Возможно, я ошибаюсь, но… – Нири замолкает, но Рут делает ей нетерпеливый знак рукой. – У меня сложилось впечатление, что несмотря на то, что вы были очень активны в группе, вы вряд ли выходите отсюда с какими-то новыми для себя выводами, в отличие от других. Когда я припоминаю наши предыдущие встречи, мне кажется, что все, о чем вы говорили (и это было очень интересно), уже было сформулировано вами до этого, дома, и у вас просто возникла потребность поделиться своими мыслями. Вы посвящали нас в то, что с вами уже произошло, а не в то, что с вами происходит в настоящее время. Вы понимаете, что я имею в виду? Рут молча кивает ей головой. – Я хочу что-то сказать Рут, – вступает в беседу Това. – Я не думала об этом раньше, мне пришло это в голову только сейчас благодаря Нири. У меня такое чувство, что вы все время держали себя под контролем. Может, за исключением того раза, когда вы поделились тем, что Талья как-то отошла от вас; что, к сожалению, родители больше привязаны к детям, чем дети к ним. Может, тогда вы чуть-чуть приоткрылись, а так вы как будто играли роль наблюдателя или психолога. – Не только у вас я оставляю такое впечатление, – смеется Рут. – Может, поэтому совершенно незнакомые мне люди, которые случайно оказываются рядом со мной в электричке, вдруг начинают посвящать меня в свои проблемы. – Это мне знакомо… – говорит ей Нири. – И, вне всякого сомнения, это очень льстит. Более того, я даже не сомневаюсь, что эти люди благодарны вам, потому что вы действительно всегда готовы помочь. Но я спрашиваю: а что же происходит с вами? Позволяете ли вы себе обратиться за помощью к другим, или и со своими заботами вы справляетесь самостоятельно, в одиночку? Анна поднимает руку, прося слова, и произносит, обращаясь к Нири: – Вы обратили внимание на очень важную деталь. А затем переводит взгляд на Рут: – Я тоже замечала не раз, что обычно ты та, которая слушает, помогает, советует, но ты почти никогда не обращаешься ко мне за помощью. Ты почти никогда не посвящаешь меня в свои затруднения, в то время как я так откровенна с тобой; ничего практически не скрываю от тебя; рассказываю порой очень личные вещи; делюсь с тобой самыми сокровенными мыслями. Ты же о своих проблемах рассказываешь уже задним числом, когда они уже в прошлом или ты уже смирилась с ними. Ты ни разу не обратилась ко мне именно в тот момент, когда у тебя действительно были неприятности. – Я не думаю, что ты права, – даже несколько резковато отвечает ей Рут, – К примеру, я рассказывала здесь в группе о Талье, о том, что меня в ней раздражает и даже причиняет боль. – Правильно, но ты рассказывала об этом уже после того, как серьезно все обдумала дома. Ты пришла сюда с уже принятым решением. Мы тебе были не нужны, я не была тебе нужна для того, чтобы вместе обсуждать и принимать решения, – с болью в голосе добавляет Анна. Рут вновь смотрит на Нири, как бы призывая ее вмешаться, и Нири прерывает их диалог: – К сожалению, у нас уже не осталось времени для того, чтобы остановиться на этом вопросе подробнее, но у вас, Рут, есть Анна, с которой вы можете вернуться к этой теме. Кроме того, мне кажется, что именно сегодня вы наконец-то приобрели кое-что и для себя, а не только дали другим, не так ли? Рут, улыбаясь, берет Анну за руку: – Ну так что, нам будет о чем поболтать? Анна смеется, согласно кивая головой. В комнате опять устанавливается тишина. Переждав примерно минуту, Нири обращается к группе: – Вот и эта встреча тоже подходит к концу. Элла выпрямляется на стуле и решительно вступает в беседу, словно боясь, что ее опередят: – Когда я слушаю все, о чем вы здесь говорите, мне становится жаль, что я не участвовала в предыдущих занятиях. Я не сомневаюсь, что эти встречи помогли вам в той или иной степени лучше понять себя. Но и для меня это время не прошло зря: я тоже «была в положении», и эта беременность была далеко не легкой, – смеется она. – Я прошла… это как процесс взросления, созревания, если хотите. Я попала в водоворот, и меня затягивало еще и еще, я почти утонула. Но, по-видимому, желание жить оказалось сильнее. Она продолжает, глядя на Рут: – Я вспомнила вдруг, как вы говорили, что ощущаете свою связь с природой, что вы часть жизненного круговорота. – Да, я помню, и это как раз вполне совпадает с тем, что я написала в своей записке, – с улыбкой отвечает Рут. – Я написала, что беременность Тальи для меня – это цветок, а из него вызрел плод. – Вот и я вижу, как внешние силы встряхивают нас и заставляют меняться, – взволнованно продолжает Элла. – Я чувствую, что беременность Эйнав повлияла и на меня. В последнее время я думаю, что и этот процесс подходит к концу. Мне кажется, что я стала, пусть незначительно, но другой. Я «выплыла», возможно, в последнюю минуту и не без вашей помощи. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы мне напомнили, что жизнь состоит не только из отношений между мамой и дочкой. – Как я рада это слышать, – вступает в разговор Това, – хотя… – добавляет она, – мы только тем и занимались в группе, что обсуждали наши взаимоотношения с дочками! – Правильно, – отвечает Элла, – но это была группа женщин, которые вместе обсуждали и переживали то, что с ними происходит. Я уже не помню, когда в последний раз по-настоящему общалась с людьми так, чтобы излить душу, слушать, вместе думать, спорить, волноваться. Я вся погрузилась в то, что происходит или не происходит между мной и Эйнав, ничего другого для меня не существовало. И вот, я оказалась здесь, и кто-то из вас заговорила о муже. И мне вдруг опостылело мое одиночество. Я почувствовала ваше сочувствие ко мне и задала себе вопрос, где все друзья, которых когда-то у меня было немало? Вы понимаете? Глядя на вас, я еще сильнее ощутила свое одиночество, но, с другой стороны, поняла, что в моей власти это изменить: не только люди отдаляются от меня, но и я избегаю их. Элла замолкает, но вспоминает о красных бумажках и вновь обращается к Нири: – Я не была на вашей первой встрече и не получила записки, но если вы спросите сегодня, чем была для меня беременность Эйнав, я отвечу, что это был процесс моего рождения заново, со всеми страхами и страданиями, свойственными беременности и родам. Она с трудом удерживает слезы. Женщины пытаются ее утешить – кто взглядом, кто словом. Нири украдкой смотрит на часы, затем поднимает глаза на Эллу и подводит итог всему сказанному: – Вы говорите о беременности как о процессе творения, созидания, процессе длительном, в котором соседствуют боль, неопределенность и тревога. В принципе, вы повторяете уже сказанное вами ранее, что беременность дочери не проходит бесследно и для матери. Это напоминает мне о вас, Маргалит, – она поворачивается к ней. – Исходя из ваших слов, и вам тоже пришлось нелегко: вы стали намного более ранимой, потеряли покой и уверенность в себе. Вот и сегодня вы что-то притихли… – Да, это так, – отвечает Маргалит, смущенно улыбаясь. – Я не очень хорошо себя чувствую: осенью и весной у меня сильная аллергия. Кроме того, я уже как-то привыкла к нашей группе и мне жаль расставаться. Я даже хотела предложить, может, мы продолжим наши встречи, хотя бы раз в месяц. Очень хотелось бы знать, что будет с каждой из нас, с внуками, дочками. Как-то странно, что через несколько минут мы разойдемся навсегда. – Так давайте назначим встречу у меня, скажем, перед Новым годом! – тут же откликается Орна. Судя по всему, она была готова к этому заранее и просто ждала своей очереди. – Нири, вы ведь придете? – Конечно, – отвечает Нири, – сообщите мне, где и когда, и я обязательно буду. Но вернемся к Маргалит: вы ведь так и не зачитали нам, что написано на вашей бумажке. Маргалит разворачивает сложенный листочек и читает: – Для меня с беременностью Михаль связаны волнение, страх и неопределенность. И, конечно, большая радость. Она на мгновение задумывается и продолжает: – Думаю, вам ясно, почему я написала именно так. Сегодня я бы не упомянула ни страх, ни неопределенность. На первое место я бы поставила огромную радость, – говорит она, счастливо улыбаясь. Нири отвечает улыбкой на улыбку и переводит свой взгляд на Тову: – У нас почти не осталось времени, так что надо дать слово Тове. – Я тоже терпеть не могу прощаться, – говорит Това. – Не зря же я оказалась последней. Но я хочу сказать, что ничуть не жалею о том, что я здесь. Мне было и приятно, и важно, и хорошо, и легко, и тяжело, – мне было по-всякому. Естественно, я буду рада, если мы продолжим собираться вместе, но я довольно хорошо знаю динамику таких мероприятий: сначала все стараются оставаться в контакте, но постепенно связь рушится. Анна смеется: – Я бы очень удивилась, если бы вы этого не сказали! – Да, я – это я! – со смехом отвечает Това. – Как я и сказала, вы меня знаете! Спасибо вам всем, спасибо Нири. – А что у вас в записке? – спрашивает Рут. Това отвечает, не заглядывая в свернутый листок: – Я написала, что для меня беременность Ширли – это преемственность поколений. Она обводит всех взглядом. – Я думаю, что это то, что меня успокаивало. Каждый раз, когда я с ужасом думала о ее приближающихся родах, я пыталась уговорить себя, что нет другого пути для продолжения семьи. Я не знаю, почему именно это действовало на меня успокаивающе, может, потому, что я выросла в доме, где всегда говорили о Катастрофе. Вообще, у нас в доме все делалось для того, чтобы выжить, а не для того, чтобы жить… Так что для меня продолжение семьи – это подарок, а подарок – это что-то приятное. Наверное, так можно объяснить то, что происходило у меня в голове. Возможно, сегодня я написала бы как-то иначе, но не спрашивайте меня как! Она смеется. – Все, хватит! Урок окончен! «Еще пара минут – и мы разойдемся, – думает Элла. – Возможно, еще встретимся, возможно, – нет». Лето подходит к концу, с деревьев уже опадают листья. Она закутывается поплотнее в красную шаль, которую купил ей Яир, и глубоко вдыхает прохладный воздух, которым тянет из открытого окна. Я вернусь домой, а там – Яир. Осень… Вторая весна… Нири смотрит на сидящих кругом женщин, переводит взгляд с одной на другую, останавливается на Элле. – Не сомневайтесь, мне тоже жаль, – говорит она, – мне тоже тяжело прощаться. И я привязалась к вам. Вот я сейчас говорю и уже знаю, что как только мы разойдемся, каждая в свою сторону, я тут же вспомню еще что-то, что мне казалось необходимым вам сказать, но будет уже поздно. Она улыбается и разводит руками. После небольшой паузы она продолжает: – Вот тут Элла говорила о беременности как о процессе, у которого есть две составляющие: сама беременность и результат. Обе эти составляющие одинаково важны и одинаково сильно влияют как на женщину, так и на ее окружение. Я думаю, что и мы здесь тоже перенесли своего рода беременность, каждая своим «младенцем». Кроме того, мы вместе из группки женщин превратились в единое целое. В принципе, нам удалось создать организм, действовавший как общая мама, которая нас растила в тепле и любви и дала нам силы добраться до финиша, можно сказать, до родов. Много матерей, дочерей и внучек участвовали в этой группе. Мы рассматривали себя и других со всех сторон. Основной темой наших бесед было материнство, мы говорили о нем, мы его чувствовали, переживали и исследовали. Мне лично стало ясно, что этот очередной переходный период, который вы проходите, является очень важным этапом в жизни матери. Расставание с дочерью, которая создает свою семью, заставляет вас заново пересмотреть вашу роль как матери, а теперь еще и как бабушки. Один из образов, о котором я здесь услышала, – это образ, который использовала Элла, говоря о материнстве. Она как-то сказала, что для нее материнство вроде второй кожи. Для меня это сравнение интересно тем, что оно объединяет физическое с духовным, подтверждая, что в материнстве душа и тело неразрывны. Как материнство, так и наша кожа всегда при нас; подсознательно мы ощущаем их присутствие, но они не являются постоянным объектом нашего сознания. На мой взгляд, мы чувствуем нашу кожу, когда с ней что-то происходит, обычно вследствие каких-то перемен: меняется погода – кожа покрывается мурашками или потом; происходят изменения в организме – кожа становится дряблой или, наоборот, эластичной. Если наносится рана – поверхностная или глубокая, кровоточащая, – мы сразу это чувствуем и либо обращаемся за помощью, либо даем зажить самой. Наша кожа немедленно реагирует на прикосновение, и если это ласка, то по всему телу растекается приятное тепло. Кожа выдает и наши порой скрываемые чувства: бледнеет, когда мы боимся; розовеет и блестит, когда мы радуемся; выглядит больной, когда нам плохо. Есть периоды, когда наша кожа выглядит ухоженной, иногда – наоборот, запущенной. Мне кажется, сходство с ощущением материнства очевидно: оно всегда при нас, реагирует на любую перемену, идущую изнутри или снаружи, меняется само и меняет нас. Оно – материнство – неотъемлемая часть нас в периоды затишья, но немедленно заявляет о себе и занимает центральное место в нашем сознании в переломные моменты нашей жизни… Внезапный звонок прерывает Нири на середине фразы, она с недоумением смотрит на телефон. – Это, наверное, Клодин, – напоминает ей Элла, и Нири смущенно улыбается: – Я совсем забыла! Нири отвечает на звонок и утвердительно кивает: – Это действительно Клодин. Затем она произносит в трубку, обращаясь к Клодин: – Прежде всего, я включу микрофон, чтобы все вас слышали. Она кладет телефон на соседний с ней стул и громко произносит: – Все, можете говорить. Вас все слышат. Тишину нарушает возбужденный голос Клодин: – У меня родился внук! Ее голос срывается, из трубки раздаются всхлипывания. – Полчаса назад у меня родился внук, Яков! Слава богу, все прошло нормально, и я уже держала его на руках. Я еще никак не могу успокоиться, даже руки трясутся от волнения! Они все остались в комнате, а я вышла позвонить маме и Нири, так как боялась вас уже не застать. Он такой сладкий! Лиат была просто молодец; я была с ней все это время и даже уговорила ее не соглашаться на эпидуральную анестезию. Она просто героиня! Матери переглядываются, улыбаясь, Маргалит утирает слезу. Все взгляды устремлены на лежащий на стуле маленький аппарат. – Я хотела вам рассказать, что мне было нелегко находиться рядом с Лиат все эти часы, – такое впечатление, что Клодин сидит среди них и взволнованно делится последними новостями. – Когда я прибежала к ней сегодня утром, она уже не находила себе места от боли. Я сразу вспомнила свои роды, у меня началось страшное сердцебиение – еще чутьчуть, и я бы упала в обморок. Но я быстро взяла себя в руки, приготовила ей чай, а затем принялась массировать ей поясницу. Так мы протянули несколько часов. Представьте, мы даже смеялись между схватками! Но несколько раз мне становилось совсем невмоготу, и я уходила в ванную комнату, становилась напротив зеркала и ревела: я все еще не могу смириться с тем, что Яков не с нами. Но я верю, что он все видит оттуда, сверху, и держит за нас кулаки… Клодин плачет, у сидящих в комнате женщин тоже текут слезы. – Именно сейчас мне его так не хватает. Я все время говорю с ним. Я говорю ему: «Жак, ну что ты скажешь? Наша Лиат – мама, а мы – бабушка с дедушкой, у нас появился внук! Я прошу его, чтобы он берег ее и малыша, чтоб только были здоровы. Я уже совсем запуталась от волнения и усталости! Она вновь переходит с плача на смех. – Я хотела сказать вам, как я рада, что познакомилась с вами. Вот и сегодня мне было очень важно услышать, что происходит с каждой из вас, и сообщить о моих новостях. Ведь без этой группы мне было бы очень одиноко и тяжело. А что с Эллой? Она пришла? – вдруг вспомнила Клодин. – Я здесь, Клодин, поздравляю вас от всего сердца! – почти кричит со своего места Элла. – Ну и слава богу! – растроганно отвечает ей Клодин. – А то я волновалась… Ой, мне пора идти: они берут малыша в отделение, и я хочу пойти с ними. Желаю вам всем здоровья и счастья, а главное – радости от внуков! Целую всех! В комнате – тишина, женщины взволнованно переглядываются: кто-то утирает слезы, кто-то улыбается. – Еще одна бабушка родилась! – громко объявляет Рут. Нири обводит всех взглядом и говорит, обращаясь ко всем сразу: – Сама того не подозревая, Клодин выразила абсолютно точно то, что чувствую сейчас и я: радость и печаль, неопределенность и облегчение; сожаление о том, что наши встречи прекращаются, и волнение в ожидании нового. Конец и начало. Я желаю каждой из вас счастья, вот так, просто… Нири И сегодня, так же как всегда после окончания группы, я возвращаюсь домой пешком: мне необходимо обдумать – переварить – все услышанное. Я стараюсь идти медленно, не отвлекаясь на посторонние мысли, наперекор подгоняющему меня желанию поскорее оказаться дома, поцеловать уже давно уснувших детей, рассказать Оферу о заключительной встрече, а затем еще позвонить и рассказать все маме. Я перелистываю в памяти наш семейный альбом. Фотография за фотографией – жизнь одной меняющейся на глазах семьи на несколько отстающем, но тоже меняющемся фоне. Люди меняются, но осознают это, только когда оглядываются назад и натыкаются на неоспоримые доказательства. Прическа, морщины, выражение глаз – со временем не поспоришь! Куда сложнее обнаружить и описать изменения внутренние – что было тогда и что с тех пор изменилось. Мне не нужно смотреться в зеркало: я знаю, что изменилась. Я это чувствую. Эта группа вернула меня во времена моих «волшебных превращений», где магом или доброй феей были моя первая беременность и самые первые недели материнства, а в результате этого чуда появилась не только еще одна мать, но и новая, во многом другая дочь. Теперь я и мою маму вижу и принимаю иначе. Сейчас я понимаю ее потребность оставаться дочкой моей бабушки, наслаждаться той особой – материнской – заботой и любовью, которую не в состоянии подарить никто другой. Ведь и я тоже не готова от этого отказаться (и даже ищу и продолжаю искать что-то подобное в женщинах, которых встречаю). Я и себя теперь вижу иначе. Я скучаю по моей бабушке, для меня самой особенной и незабываемой, и знаю, что во мне остались следы ее существования, против которых даже годы бессильны. Вот и в моих детях я вдруг нахожу особенности фигуры, черты характера, которые всегда считала «бабушкиными». Находясь рядом с бабушкой, я чувствовала себя, пусть чуть-чуть, но непохожей на других, исключительной, необыкновенной. Это ощущение особенности, неповторимости в глазах любимого мной человека со временем переросло в чувство уверенности и защищенности, которые не покидают меня ни при каких обстоятельствах. Есть еще один человек, для которого я одна-единственная, – моя мама, и это проявляется у нее в тысячах всевозможных форм, которые меняются с течением лет точно так же, как развиваемся и меняемся мы сами. Поддержка, которую я получала и получаю до сих пор, позволяет мне расти и взрослеть, твердо зная, что мне всегда есть куда вернуться. Я знаю, что пока есть она, я не одна и никогда не буду одна. Я вглядываюсь вдаль, пытаясь предугадать, что ждет меня впереди, какие еще фотографии заполнят пока еще пустующие страницы моего альбома. Наши еженедельные встречи не прошли для меня бесследно. Благодаря им я еще раз убеждаюсь, какой длинный, порой извилистый и тряский путь предстоит проделать каждой матери, а значит, и мне тоже. С годами я узнаю, действительно ли бесконечным и наполненным светом выглядит мир, когда смотришь на него с вершины, и такой ли уж он серый и угрожающий, когда ты на дне ущелья. Это будут те самые годы, с которыми, судя по поговорке, меняются; изменюсь, конечно, и я. Но сейчас я только лишь в начале пути. Смогу ли и я передать детям уверенность в моей к ним любви? Сумею ли я внушить им, что для меня они единственные и неповторимые, что они для меня «самые-самые», как сумели это сделать мои бабушка и мама? Я думаю об Элле – матери, которая стала жертвой своего собственного отношения к материнству, и об Эйнав, которая тоже стала жертвой, но уже своей собственной матери. Чрезмерная близость – это иллюзия: она притягивает, дурманит, но и цена за нее непомерно высока. Я тоже была околдована ею; она ласкала, убаюкивала; и мне нужно было еще и еще – мне нужна была вся любовь, без остатка, на которую была способна моя мать; мне нужна была бесконечная, безграничная любовь. Позже, когда я поняла, чем это чревато для обеих, я была рада, что между мной и мамой такой – чрезмерной – близости все же не случилось. Наша связь – это связь двух женщин, двух матерей, и с годами разница между нами становится все меньше и меньше. Наши взаимоотношения знают подъемы и спады; мы то сближаемся, то отдаляемся в зависимости от тех обстоятельств, в которых мы находимся, и это нас абсолютно не смущает. Постоянными остаются любовь и строгая иерархия: она – навсегда мама, я – ее дочь, точно так же, как в наших отношениях с бабушкой, она – навсегда дочь, а я – внучка. Когда я вижу мою маму, окруженную внуками, я снова и снова убеждаюсь, что каждая из нас занимает свое особое место, и как никто никогда не сможет заменить маму, так никто не сумеет заменить нам бабушку. С любовью и благодарностью я преподношу эту книгу моей маме в надежде, что она послужит посредником между мной, мамой и бабушкой – тремя непростыми личностями, которые искали и нашли дорогу друг к другу. Эпилог Эйнав Здравствуйте, Нири! Не уверена, поняли ли вы, о какой Эйнав идет речь, когда прочли мое имя на конверте. Я – Эйнав Алрои, дочка Эллы Алрои, которая принимала участие в вашей группе «Превращения». Я не имею понятия, что именно рассказывала моя мама о том, что произошло между нами. Я не знаю, что вы и остальные женщины из группы думаете обо мне, поэтому решила представить вам мою версию случившегося. Я предпочитаю не говорить об этом с чужими, чтобы лишний раз не обжечься. Каждый раз, когда я пыталась с кем-то поделиться, меня или обвиняли, или жалели, или в результате я еще и защищала мою «маму-злодейку». Вы, конечно, представляете, что история дочки, которая полностью прерывает отношения со своей матерью, вызывает у людей очень разную, часто крайне противоположную реакцию. Но вы не совсем чужая, теперь вы знаете мою маму. Я сомневалась, не попросить ли вас о встрече, но, в конце концов, решила написать: когда я пишу, я могу все спокойно обдумать, а в разговоре мне бывает тяжело сосредоточиться. Надеюсь, вас это не обидит. Больше трех лет тому назад я окончательно прекратила какую-либо связь с моей мамой. Если честно, я не предполагала, что это зайдет так далеко. Я думала, что сделаю небольшой перерыв, а потом вернусь, как это бывало раньше. Знаете, я уходила от мамы уже несколько раз, пока на этот раз не ушла окончательно. Когда я была маленькая, я сбегала незаметно – никто, кроме меня самой, об этом не догадывался. Например, после школы я шла к моей подружке Орит и не спешила домой. Сначала я оставалась до ужина, затем просилась остаться ночевать. Мои самые длительные побеги приходились на выходные: тогда я ездила с семьей Орит на экскурсии или на пикник. Правда, это случилось максимум пару раз, и ночевки у Орит – столько же: мама не разрешала. Но я продолжала это делать мысленно; представляла, что у меня другая семья – с папой, братьями, сестрами, собакой, бабушкой и дедушкой. Когда мы играли в «дочкиматери» и я оказывалась мамой, моя дочка почти всегда отправлялась в поездку с классом или в летний лагерь, а я помогала ей собираться и незаметно прятала ей в сумку маленькие подарочки. Но куда бы я ни отправлялась в моих фантазиях, звонок моей мамы возвращал меня домой. Телефонная трубка была ее ушами, которые улавливали меня на любом расстоянии, а телефонный диск – ее ртом, зовущим вернуться и как можно скорее. Я всегда старалась скрыть от нее мою зависть к девочкам из, как мне казалось, нормальных семей, иначе в ее глазах появлялся этот потерянный взгляд, который и по сей день переворачивает мне душу. Ее глаза, ее темно-карие глаза, которые я получила от нее в подарок, всегда напоминали мне детей из как-то увиденных по телевизору кадров о детском доме во время войны. Там были лица детей разных возрастов, но у них у всех в глазах была такая тоска, что я запомнила это навсегда. Меня это потрясло. Но не из-за них. Меня это потрясло, потому что их глаза были глазами моей мамы; в них был взгляд потерявшегося ребенка, вернее, ребенка, потерявшего свою мать. И этот ребенок так никогда и не вырос. Наверное, она боялась, что я вырасту и стану взрослее ее. Может, поэтому моя мама никогда не справляла мне дни рождения. Она говорила, что не любит принимать гостей и что терпеть не может пустую болтовню с родителями, которые приводят на праздник своих детей и ждут не дождутся, когда он кончится. Она говорила, что и ей никогда не устраивали дня рождения, а я молча злилась, потому что у нее не было мамы, которая могла все это сделать, а у меня есть! Сегодня я понимаю, что мама чувствовала себя очень неуютно в этом мире, скорее всего, даже боялась его. Все ее пугало: шум, тишина, веселье, грусть, как будто кто-то отнял у нее силы жить. Единственная, для кого у нее всегда были силы, это я. Может, даже слишком много. Вечно она покупала мне все, что нужно и не нужно: самую красивую одежду, массу игрушек, книги; всегда ходила со мной на спектакли; мы даже поехали с ней заграницу. Однажды по дороге домой, я увидела, что она ждет меня на улице. Она бросилась ко мне и сообщила, что заказала билеты на самолет в честь моего шестнадцатилетия. Надо было видеть, как блестели ее глаза! А я как раз не очень и обрадовалась. Я представила, как мы будем жить с ней в одном номере, и в полном смысле слова запаниковала от одной мысли, что мне придется провести наедине с моей мамой целую неделю. У меня есть подруга, которая тоже как-то путешествовала со своей мамой. Так она мне рассказывала, что они договорились через каждые два дня проводить по полдня отдельно. Я даже и не пыталась предложить ей что-либо подобное, потому что заранее знала, как она испугается. Остаться одной на полдня, да еще в чужом городе? Поймите, Нири, она не волновалась за меня, а боялась за себя. Как она справится без меня? Это я находила дорогу по карте; я спрашивала прохожих, как пройти из одного места в другое; я заказывала еду в ресторане и я же расплачивалась деньгами, которые она мне давала. Без меня она бы пропала. Конечно, если бы я настаивала, она бы согласилась, но сама, я уверена, осталась бы в номере и смотрела бы телевизор. А если бы я опоздала на несколько минут, у нее бы случилась истерика. Так было не всегда. Когда я была маленькой, она была по-настоящему жизнерадостной. Вокруг нас было много женщин: была Ора (мамина самая лучшая подруга) и ее мама; была Далья – соседка и ее семья, мы всегда чувствовали себя у них как дома. Но с годами Ора уехала, мама ее умерла, и с моей мамой что-то случилось – она внезапно отказалась… Она отказалась от всего. Моя мама перестала жить. Если быть более точной, моя мама перестала жить свою жизнь и из последних оставшихся у нее сил проживала мою. Она напоминала мне нежное растение с тонким слабеньким стеблем, которое прекратило тянуться вверх и выпускать новые цветки. Вся его энергия устремляется к одному-единственному сохранившемуся цветку, чтобы удержать его как можно ближе к солнцу. Вместо ее жизни была я, я была сама жизнь. Она спешила с работы домой, чтобы быть со мной, готовить для меня, разговаривать со мной, согревать мне, остужать мне, покупать для меня, заботиться обо мне, волноваться за меня. Я заполнила весь ее мир. Ее это питало. Меня – душило. Как-то я попыталась познакомить ее с отцом моей подруги. Он был разведен и страшно мне нравился, большой и добрый, с широченными плечами и седой головой. Мы с подружкой представляли, как наши родители поженятся и мы заживем одной семьей. У меня наконец-то будет сестра! Она даже слышать не хотела. «Ты моя семья, мне больше никого не нужно!» Мама так ничего и не поняла. Путешествовать после демобилизации из армии я отправилась сама. Я могла бы поехать с подружкой или с группой, но мне необходимо было побыть одной. Хоть один раз в жизни отвечать только за себя! Уже через несколько дней я начала чувствовать себя свободней, пробовала заговаривать с чужими людьми. Даже это было для меня большим событием: я заговорила с незнакомыми мне людьми, и со мной ничего не случилось, более того, мне было приятно. Кое с кем из них мне было по пути, и часть времени мы путешествовали вместе. Впервые я была с кем-то, кроме мамы, и поняла, как это здорово! Там же я встретила Амира, он меня просто околдовал. Благодаря ему я постепенно успокоилась и не только решилась присоединиться к нему, но и соглашалась забираться в места, в которых не было даже телефона. Я не спешила домой, вернее, не хотела возвращаться. Мне было страшно вернуться и вновь быть проглоченной черной дырой, в которой меня с нетерпением поджидали те, кому я была необходима. Моей маме нужна была мама, но и мне – тоже. Я была взрослая девочка, которой нужна взрослая мама; а она все еще была маленькой девочкой, которой нужна маленькая девочка, которая будет для нее мамой. И я была для нее и дочкой, и мамой. В один прекрасный день, через несколько недель после моего возвращения домой, я сделала так, как советовал Амир: просто собралась и ушла. Не было никаких объяснений, так как я знала, что не смогу видеть ее глаза. Я пишу эти слова, и у меня сразу начинает сильно биться сердце. Поэтому в течение долгого времени я старалась вообще об этом не думать. Как только я чуть-чуть расслаблялась, переставала управлять своими мыслями, меня начинали мучить раскаяние и жалость к ней, и с такой силой, что рука тут же тянулась к телефону. Я точно знала, что тогда произойдет – она никуда меня не отпустит: ухватится за меня своими бледными вялыми руками и не произнесет ни слова, но от ее прикосновения моя решимость, растаяв, испарится, и я останусь. Я не могу видеть, как на ее лице появляется выражение жалкой нищенки; никогда не могла! Я ушла, потому что хотела освободиться, хотела новой жизни, хотела построить с Амиром новую жизнь, радостную и живую. Я ушла, потому что боялась. У меня было ощущение, будто я маленькая куколка внутри большой матрешки, та самая, которая не открывается. За ней навсегда сохраняется роль вечной дочки, а все остальные смыкаются вокруг нее, прячут ее за толстенными стенами. А мне хотелось бежать вперед, вдыхать свежий воздух, раскинуть руки на всю их ширину, высвободить ноги, двигаться. Я хотела вырастить себя, а затем, когда наступит время, растить своих детей, но не маму. Всю беременность я ходила пьяная от счастья – у меня появился новый дом; мне никто не нужен, кроме Амира и малышки в животе. Я сумела отключиться от всего. Впереди была целая жизнь! По вечерам Амир садился возле меня, клал руку на живот, и мы вместе млели от каждого ее движения. Я была счастлива! Если бы это зависело от меня, я так бы и ходила беременной. Я чувствовала себя взрослой, самостоятельной и, самое главное, свободной. Мне казалось, что так теперь будет всегда, моя новая семья не оставит места для старых воспоминаний. Когда я рожала, я плакала – и не столько от схваток, сколько от душевной боли, я плакала обо всем. Я плакала оттого, что мама не со мной; мне так хотелось вновь, как в детстве, ощутить на лбу прохладу ее пальцев. Я хотела маму, которая обнимет и прижмет меня к себе; и мы будем раскачиваться в такт до тех пор, пока боль не отступит; и она будет шептать мне на ухо, как заклинание, только ей известные слова; а через какое-то время я перестану вслушиваться, но их приглушенная мелодия будет отзываться эхом в моем теле, как это было когда-то, когда она меня вынашивала. Когда акушерка протянула мне Инбаль, я не побоялась ее взять, но не осмелилась взглянуть. Я родила, а мама не здесь. Теперь я сама мама. Я смотрела на Амира, который, не скрывая слез, растерянно глядел то на меня, то на малышку, и вдруг будто застыла: что я наделала? Как я объясню дочке, что ушла от мамы, что бросила ее? И как смогу рассчитывать на ее верность? Позже, уже в отделении, я наблюдала за молодыми матерями и их мамами, и мое сердце сжималось от тоски. Все забытое всплыло, новое перемешалось со старым; моя уверенность дала первую трещину. Незаметно я начала готовиться к встрече. Мне стала сниться мама, всегда в наброшенной на плечи зеленовато-голубой шали. Боль, стыд и тоска оказались под стать самой лучшей своднице: они вызывали ее на встречу со мной почти каждую ночь. Она расправляла свою широкую длинную шаль, и мы прижимались друг к другу, превращаясь в одно целое. Постепенно наше дыхание сливалось, становилось одним большим вдохом и выдохом. Нам было хорошо вместе: только она и я, и больше никого… Через несколько дней, когда я с Инбаль была уже дома, произошло что-то странное. Мама опять пришла ко мне. Я чувствую запах ее тела, прикасаюсь к ее рукам, и она меня гладит. Мы опять одно целое: наши пальцы сцеплены, щеки прижаты одна к другой – нам тепло и хорошо вместе. Даже тоска, которая беспрерывно сжимает мне горло, исчезла. Но где-то далеко что-то гудит – еле различимый голос, который пытается нас разъединить; и мы еще сильнее зарываемся друг в дружку, отказываемся слышать звук, впивающийся в наш клубок. Но голос не прекращается, он нарастает, становится громче и сильнее, пока я не вскакиваю. Инбаль лежала возле меня в люльке и плакала. Я прижала ее к груди и, глядя, как она жадно сосет, вдруг ощутила жуткий страх, а затем услышала себя говорящей – прямо произносящей вслух: «Я клянусь, что буду служить тебе до конца, тебе и только тебе». В первый миг я почувствовала себя сильной, уверенной, но уже в следующее мгновение все перепуталось. Теперь я уже обращалась к моей маме. «Мама, – говорила я, – мне так жаль! Моя любовь к тебе не знает границ – она со мной всегда и всюду, она неотделима от меня. Мне правда очень жаль, но я боюсь вернуться: что будет с моей дочкой, если я вдруг останусь? Я обязана вытащить ее из этой любовной петли; она будет жить иначе: лучше и полнее. Я должна обещать ей, что буду возле нее всегда. В первую очередь возле нее: сначала она, затем – все остальное». Видите, я провалилась уже на первом устроенном ею экзамене: я действительно все это сказала, но на самом деле я хотела только одного – мою маму. Чтобы она была возле меня. Рядом со мной. Вместе со мной. Уже несколько месяцев, как я слежу за моей мамой, наблюдаю за ней издалека. Несколько месяцев я вижу ее выходящей из автобуса, покупающей продукты. Пару недель тому назад я вернулась домой в нашу квартиру, квартиру моей мамы. Себе я сказала, что пришла за своими детскими вещами – книжками, картинками, игрушками – пусть будут для Инбаль. Я рассчитывала, что мама будет на работе, но она оказалась дома. Я остолбенела от неожиданности и глядела на нее на этот раз впервые за долгое время с расстояния в несколько шагов. Она спала. Еще немного, и я бы ее разбудила. Я уже представляла, как она открывает глаза и с недоумением смотрит на меня. Но это только миг, а затем ее лицо преображается от радости, следом за которой, естественно, появляются слезы. А я выну салфетку и вытру ей глаза. И буду просто стоять и улыбаться. Ничего этого я тогда не сделала, но, выйдя оттуда, я уже точно знала, что скоро вернусь. Я не могу толком объяснить, как именно это произошло. Может, я уже привыкла быть мамой; а может, я уже так сильно люблю Инбаль, что больше не боюсь каким-то образом ее предать. Я проголосовала за материнство. Я прежде всего мама, а уже потом – дочка. Я абсолютно уверена, что для меня на первом месте стоит Инбаль, а не мама. Это меня немного пугает, но я знаю, как уберечь себя от ошибок моей мамы. Я себе все время повторяю, что, как и она, отдам моей дочке всю мою любовь, все, что смогу, но в отличие от мамы буду стараться расти вместе с ней. Это необходимо. Ради нее, ради меня, ради связи между нами. Я хочу быть мамой для моей дочки и дочкой для моей мамы. И именно в этом порядке. Мне кажется, что теперь я на это способна и без ущерба для кого-либо из нас. И еще я хочу, чтобы у моей дочки была бабушка. Я уверена, что моя мама будет отличной бабушкой. Я хочу сделать этот подарок им обеим! Я рассказываю все это вам, Нири, чтобы спросить, будет ли мама способна принять меня назад и принять те изменения, которые произошли во мне за это время. В принципе, я хочу спросить, поймет ли мама? С уважением, Эйнав Алрои Благодарности Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто проделал со мной длинный путь от зарождения самой идеи, через долгий кропотливый сбор материала и до выхода в свет этой книги. Примите мою благодарность: Эда Амир, – ведь благодаря вам я осознала, насколько эта работа важна для меня самой. Спасибо за поддержку, мудрость, готовность помочь и профессиональную помощь во всех вопросах, касающихся работы с группой. Амит Ротбард, – за то, что увидели «искру», загорелись идеей и помогли выстроить книгу. Спасибо за вашу веру и настойчивость, которые с достоинством выдержали проверку временем. Рут Рамот, – вам особое спасибо за умные вопросы, ища ответы на которые, я продолжала открывать себя. Спасибо за чуткость, деликатность и осторожность, с которой вы отнеслись ко мне и моей рукописи. Дана и Цви Гарари, мои родители, – за вашу безграничную любовь, опираясь на которую, я осмелилась, однажды выбрав свою дорогу, идти по ней почти без компромиссов. Спасибо моим дорогим Яэль и Зиву Якоби-Гарари, Ювалю и Рохи Гарари-Лифшиц и, конечно, моему любимому Офиру Брумбергеру, потому что, если бы не ты, я бы никогда не смогла все это осилить. Спасибо вам всем за поддержку и веру, а маме и тебе, Яэль, моя дорогая сестричка, особое спасибо за внимание, терпение и ценные замечания. Я безмерно благодарна моим подругам, которые с радостью читали собранные мною материалы, делились замечаниями, обсуждали вопросы, которые возникали по ходу работы, и тем самым открывали передо мной новые, ранее не замеченные детали и оттенки. Спасибо за поддержку в те минуты, когда мне было особенно трудно, Ади Барзон, Лилах Бен-Ами, Айе Каспи, Ирис Веред, Ширли Лигум, Циле Нойман, Орит Лейбович, Дане Генигар-Раз, Цвие Леви, Ирит Эйлат, Гиле Брумбергер, Шош Зээви, Хане Фудер и Шуламит Бен-Ари. Спасибо Рони Мэирштейн за энтузиазм и поддержку уже на самых ранних этапах моей работы. Спасибо доктору Хане Галай-Гинор, которая первой предложила мне написать книгу. Спасибо доктору Сарит Бразилай за профессиональную помощь в процессе проведения исследования. Спасибо профессору Амайе Либлих, чья одержимость темой вынуждала и меня не ограничиваться лежащим на поверхности, а снимая пласт за пластом, докапываться до сути. Спасибо доктору Нире Кфир, чья поддержка придавала мне уверенности в минуты сомнений. Спасибо Яфит Элише и Ное Лифшиц, без помощи которых у меня не было бы возможности освободиться для написания книги. Особая благодарность матерям, участвовавшим в исследовании, за то, что согласились впустить меня в свой дом, поделиться со мной своими мыслями и переживаниями и открыли передо мной целый мир, который еще только ждет меня впереди. Большое спасибо.