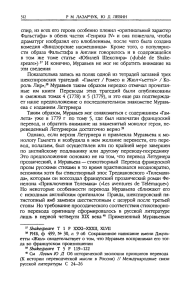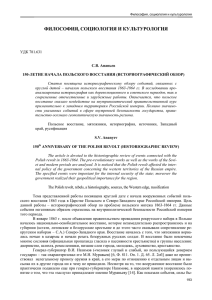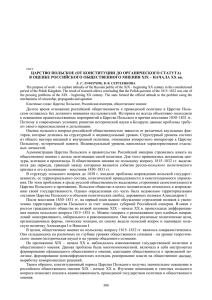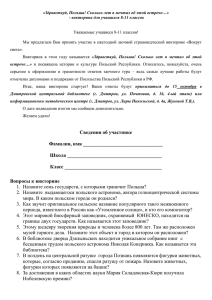ПОЛОНОФОБИЯ И РУСИФИКАЦИЯ СЕВЕРО
advertisement
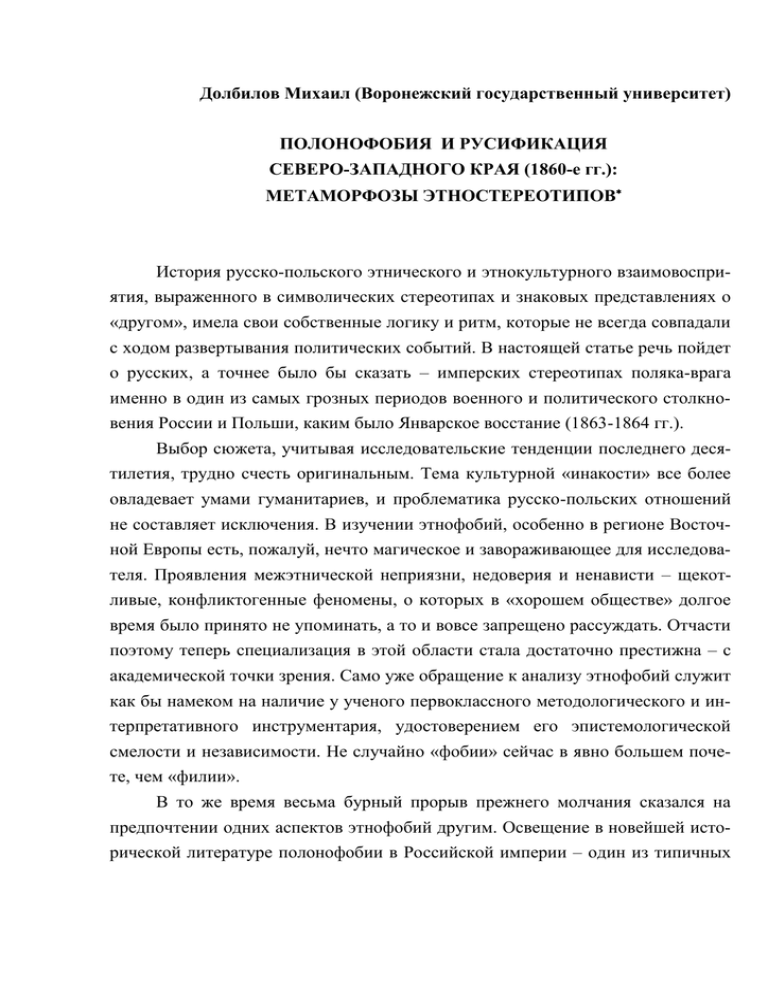
Долбилов Михаил (Воронежский государственный университет) ПОЛОНОФОБИЯ И РУСИФИКАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ (1860-е гг.): МЕТАМОРФОЗЫ ЭТНОСТЕРЕОТИПОВ История русско-польского этнического и этнокультурного взаимовосприятия, выраженного в символических стереотипах и знаковых представлениях о «другом», имела свои собственные логику и ритм, которые не всегда совпадали с ходом развертывания политических событий. В настоящей статье речь пойдет о русских, а точнее было бы сказать – имперских стереотипах поляка-врага именно в один из самых грозных периодов военного и политического столкновения России и Польши, каким было Январское восстание (1863-1864 гг.). Выбор сюжета, учитывая исследовательские тенденции последнего десятилетия, трудно счесть оригинальным. Тема культурной «инакости» все более овладевает умами гуманитариев, и проблематика русско-польских отношений не составляет исключения. В изучении этнофобий, особенно в регионе Восточной Европы есть, пожалуй, нечто магическое и завораживающее для исследователя. Проявления межэтнической неприязни, недоверия и ненависти – щекотливые, конфликтогенные феномены, о которых в «хорошем обществе» долгое время было принято не упоминать, а то и вовсе запрещено рассуждать. Отчасти поэтому теперь специализация в этой области стала достаточно престижна – с академической точки зрения. Само уже обращение к анализу этнофобий служит как бы намеком на наличие у ученого первоклассного методологического и интерпретативного инструментария, удостоверением его эпистемологической смелости и независимости. Не случайно «фобии» сейчас в явно большем почете, чем «филии». В то же время весьма бурный прорыв прежнего молчания сказался на предпочтении одних аспектов этнофобий другим. Освещение в новейшей исторической литературе полонофобии в Российской империи – один из типичных 2 примеров такого рода. Внимание историков сосредоточивается на наиболее броских манифестациях антипольского нарратива в России, прежде всего третьей четверти XIX в., на различных версиях националистической доктрины о неизбывной чуждости, цивилизационном разломе, непримиримом духовном и религиозном противостоянии русского и польского начал. Объектом изучения становятся, как правило, великолепные по исполнению публицистические тексты М.Н. Каткова, М.П. Погодина, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина и других профессиональных интеллектуалов, идеологов «русского дела». В них заключена изобретательная и откровенная аргументация постулата об историческом превосходстве России над Польшей, и с этой точки зрения подобные писания предоставляют богатый материал для осмысления истоков и самолегитимации русского национализма.1 Однако основанный на них подход к постижению полонофобии как дискурсивного процесса имеет свои недостатки. Артикулированность позиций идеологов-полонофобов обычно дает повод видеть в них «зрелое», откристаллизовавшееся воплощение массовых общественных эмоций. Не касаясь здесь сложного вопроса о том, насколько усваивалась широкой аудиторией изощренная, отмеченная индивидуальной писательской манерой риторика Самарина или Каткова (и о том, можно ли толковать буквально, принимать за чистую монету декларации об абсолютной чуждости поляков русским), подчеркну, что вербальная репрезентация этностереотипа не всегда бывает самой доходчивой и выпуклой. Этностереотип может и должен быть исследован в других своих ипостасях – в поведенческих схемах, например, публичных жестах по отношению к «другому», в символически окрашенных административных акциях, не говоря уже о его визуальном воплощении в изобразительном искусстве, сценических постановках. Мне представляется, что лишь через выявление взаимосвязей этих различных граней образа «другого» может быть раскрыт собственно процесс этностереотипизации, с его спадами и подъемами. Данная задача побуждает меня ограничить объект исследования конкретными мероприятиями, повседневной практикой имперской администрации т.н. Северо-Западного края – генерал-губернаторства с центром в Вильне, состояв Работа выполнена при финансовой поддержке «Института Открытое Общество. 3 шего из шести литовских и белорусских губерний. (Взятый вместе с тремя губерниями Правобережной Украины, этот регион официально именовался Западным краем, а в польской традиции фигурировал как «кресы» или «забранные земли».) Спор об исконной принадлежности этих обширных земель придавал в XIX в. русско-польскому соперничеству весьма вместительное символическое измерение, в котором противостояли друг другу русские и польские (или российские и речьпосполитные) мифы о славном прошлом и желанном будущем. Впечатляющий пафос нарратива о польскости Западного края, отнюдь не зачахший после разгрома восстания 1830-1831 гг., заставлял имперскую власть мобилизовывать максимум мифотворческих способностей, так что порой рутина бюрократического управления оборачивалась трансляцией символического послания. Эту специфику администрирования применительно к служебному конвенциональному языку отметил в 1868 г. (с неодобрением, естественным в противнике крайностей русификации) министр внутренних дел П.А. Валуев: «Официальная переписка сохраняет весьма заметный литературный оттенок, - докладывал он императору накануне своей отставки в специальном меморандуме о Северо-Западном крае. – Губернаторские отчеты за 1866 год писаны тем самым языком, каким писались отчеты за 1863 и 1864-й, вслед за подавлением мятежа».2 Иными словами, риторика русскости и, в более широком смысле, ее символическая репрезентация почитались местными чиновниками – а не только столичными публицистами – за прямую обязанность даже спустя три года после усмирения восстания. Влияние, оказанное практикой управления Северо-Западным краем, ее бюрократическими приоритетами на конструирование этнокультурной идентичности русских, на соотношение этнических, конфессиональных, социальных, региональных, даже возрастных и семейно-брачных критериев в имперском понятии о поляке, начало серьезно изучаться совсем недавно, и достигнутые результаты, в первую очередь в работах Л.Е. Горизонтова, В. Родкевича, Д. Сталюнаса, Т. Викса, обнадеживают.3 Проблема полонофобии тем настоятельнее требует использования этого подхода, что именно наблюдения за административным процессом русификации, за функционированием русификаторских Фонд Содействия», конкурс «Гранты на поездки» 2001 г., грант # НАТ179. 4 механизмов стимулируют пересмотр традиционного, хотя и не всегда ясно формулируемого, мнения об этностереотипах как статичном и константном слепке с этнического самосознания. Подобной односторонностью особенно грешат культурологические исследования в области русско-польского взаимовосприятия. Среди них стоит выделить книгу А. Кемпиньского «Лях и москаль. Из истории стереотипа». Опираясь на анализ отражения стереотипов преимущественно в беллетристике и мемуарной литературе, Кемпиньский вписывает их в систему бинарных оппозиций аксиологической сферы группового сознания. В книге убедительно раскрывается взаимосвязь русско-польских авто- и гетеростереотипов (представлений о себе и представлений о другом) с образным строем мышления, с поэтикой национальной ментальности, но в то же время она демонстрирует познавательные изъяны семиотического метода. Выводы автора о том, что стереотипы были «лишь субъективным выражением ментальных представлений данной общности, вытекающих из ее внутреннего этоса и редуцированных до простейшей культурной антитезы», и др. – вряд ли могут удовлетворить историка.4 Из этой картины почти полностью устраняются прихотливая динамика этнокультурных образов, их смысловая многозначность и смыслопорождающие свойства. Тот же русский образ поляка-врага, отчетливо обрисовавшийся в общественном сознании (при всей условности термина в контексте эпохи) после событий Смутного времени XVII в., вовсе не стал впоследствии застывшим манекеном и претерпел сложную эволюцию даже за сравнительно короткий промежуток времени между двумя польскими восстаниями XIX в. Может быть, ярче всего динамика русской полонофобии заявила о себе вот в каком видимом парадоксе. Военно-стратегическая угроза, которой подверглась Российская империя со стороны восставших поляков в 1831 г., была страшнее, чем в 1863 г. Это соотношение не слишком изменится, если принять в расчет опасность вмешательства западноевропейских держав: в 1863 г. эта мрачная перспектива выглядела реалистичнее, чем тридцатью годами ранее, но и тогда подобные страхи в сознании имперской элиты были вполне ощутимы. (Достаточно вспомнить апокалиптическую по звучанию "Мою исповедь" Николая I.5) То, что в литературе именуется польским восстанием 1830-1831 гг., 5 или Ноябрьским восстанием, было по сути настоящей войной, конфронтацией двух армий, с битвами, сопоставимыми по числу потерь со сражениями Отечественной войны 1812 г. Как показано в новейшем исследовании Ф. Кагана, события в Польше, наложившись на последствия турецкой кампании 1828-1829 гг., серьезно ослабили уверенность Николая I в людских ресурсах России и побудили императора поднять в кругу ближайших советников вопрос о коренном несовершенстве рекрутской системы комплектования армии.6 В известном смысле, впечатление самодержавия от восстания 1831 г. в чем-то предвосхищало смятение, пережитое после крымского поражения. В 1863-1864 гг. военная ситуация как таковая была гораздо благоприятнее для имперской власти. Против нее выступила не регулярная армия под командованием опытных генералов, а так называемая "партизантка", боевой единицей которой являлся, как правило, разношерстный и кое-как вооруженный отряд (по официальной терминологии, шайка или банда). Диверсионные действия этих отрядов в тылу русских войск и партизанский террор против мирного населения, конечно же, вызывали испуг и сеяли панику, но все-таки мало кто из современников считал повстанческое движение способным без европейского вмешательства нарушить территориальное единство империи. И тем не менее, взрыв антипольских настроений в разнородных слоях русского общества, интенсивность мифотворчества (как профессионального, так и дилетантского) на тему цивилизационной вражды между Россией и Польшей оказались заметно сильнее, чем при Николае I. Кажущаяся неадекватность "русского" восприятия событий созданной поляками непосредственной угрозе расценивается нередко историками как доказательство особой агрессивности русского национализма. Так, автор недавнего польского исследования пишет о царившем в России в 1863 г. "настроении истеричного страха", который "позволял трактовать неравный бой одной из мощнейших европейских армий против ополчения интеллигентской, шляхетской и ремесленной молодежи в категориях смертельной схватки, от которой могли зависеть судьбы всей империи".7 В чем же были причины такой революции полонофобии в 1863 г.? Мне кажется неверным искать ответ на этот вопрос, исходя из представления вооб- 6 ще об этнических фобиях как какой-то изначально данной, самодостаточной и "исчислимой" субстанции национального менталитета, развивающейся по собственным внутренним законам, сегодня спонтанно убывающей, завтра прибывающей и т.д. Полагаю уместным процитировать здесь слова издателя «Северной пчелы» и осведомителя III Отделения Ф.В. Булгарина - поляка по происхождению, но верного слуги имперской власти. Еще в 1828 г., рассуждая о перспективах интеграции поляков в российский государственный организм, он высказал небесспорную, но смелую и плодотворную – по крайней мере, для позднейших исследователей – мысль: «Под именем России они [поляки] воображают себе какой-то фантом, привидение, от которого произошли все бедствия Польши, и за долг и честь почитают не любить России. … [Но] ненависть к России существует в одном воображении, есть следствием политических правил, а не сердечных побуждений».8 Перефразируя, я сказал бы, что ненависть поляков к России оставляла у Булгарина впечатление некоторой искусственности, натяжки, навязчивого сценария, соблюдения обязательств поневоле. С тем же, если не большим (что не значит полным!), основанием это замечание можно отнести к феномену, обратному польской русофобии. Это и есть та гипотеза, проверке которой посвящена данная статья. Полонофобия в имперской России будет рассмотрена как управляемый и направляемый процесс, но не самодовлеющее порождение массового сознания/подсознания. Она, как видится мне, не столько питала стихийной энергией ненависти русский национализм, сколько целенаправленно конструировалась более или менее националистически ориентированными деятелями. Мерой ее динамики предлагается считать степень чувствительности культивируемых на известный момент стереотипов поляка к социальным и политическим проблемам общеимперского масштаба. Ниже будет освещен лишь один из аспектов подобной стратегии полонофобии - манипулирование стереотипами Польши и поляка в деятельности бюрократов и публицистов, чьей ближайшей задачей было придание имперской власти в зоне русско-польского этнокультурного фронтира более современного национального обличья, утверждение ее русскости. Я вполне осознаю, что предлагаемый ракурс анализа довольно узок и тематически и географически. 7 Как бы то ни было, именно этот угол зрения дает возможность уловить движение столь эфемерной материи, какой были и являются этностереотипы, избегая интуитивных генерализаций и опираясь на привычные для историка первичные эмпирические источники. 1. Освобождение крестьян 1861 г. как стимул к русификации При оценке глубины и интенсивости антипольских чувств в России в период Январского восстания никак нельзя упускать из виду влияние на них освобождения крестьян в 1861 г. - фактора исключительной значимости для политики в "польском вопросе", о котором в 1831 г. усмирители тогдашнего восстания не могли и помыслить. В литературе крестьянская реформа 1861 г. и подавление польского восстания с продолжившей его русификацией зачастую едва ли не противопоставляются друг другу как органически несовместимые свершения русского правительства. Суждения исследователей по этому предмету сопровождаются фигурой несколько наигранного удивления: до чего же непоследовательна была власть - крестьян освобождали, а поляков притесняли!9 Однако такое противоречие лежит на поверхности событий и прикрывает собой один из действеннейших механизмов полонофобии. Реформа 1861 г., в ее качестве волевого акта государственной власти, была прямым порождением дискурса группы людей, которых историки обычно квалифицируют как либеральных бюрократов. Другая ипостась ускользает, как правило, от внимания: эти лица уже в период подготовки освобождения крестьян были горячими националистами. И в самом деле, трудно вообразить, чтобы яростный "антиполонизм" того же Н.А. Милютина, вдохновлявший самые радикальные прожекты русификации коренной Польши, родился в одночасье в поезде, который вез его из Петербурга в Варшаву в октябре 1863 г. Логика национализма начала овладевать мышлением деятелей милютинского круга намного раньше - еще в конце 1840-х гг., в ту пору, когда будущие реформаторы и русификаторы составляли сплоченную команду в Русском географическом обществе. Как показано в замечательном исследовании Н. Найта, в ходе борьбы между "русской" и "немецкой" фракциями в РГО первая из них (вклю- 8 чавшая в себя апостолов русификаторской политики в 1860-х гг. братьев Милютиных и М.Н. Муравьева) отстаивала националистически мотивированное видение науки. Особенно это проявилось в этнографической программе РГО, нацеленной на выявление национального измерения имперского строя, обнаружение и демонстрацию самобытной народной основы имперского государства.10 При такой постановке дела снаряжение заурядной экспедиции для сбора, например, фольклорного материала в среде крепостного населения подразумевало необходимость социальной реформы. В свою очередь, последовавшая наконец отмена крепостного права знаменовала решительный шаг в реализации амбициозного проекта нациостроительства. И само законодательство 19 февраля 1861 г., и социально-политическое мифотворчество вокруг него внедряли в общественное сознание ряд эмблематических топосов, присущих национальным движениям на ранней, романтической стадии. Среди них – пробуждение народной массы от векового сна,11 воссоздание целостности народного тела (путем сближения сословий), мобилизация внутренних сил общественного организма, постижение забытых было традиций. Торжественно провозглашенная цель реформы – создание крестьянской земельной собственности – не случайно толковалась как восстановление исторической, исконной связи земледельца с землей. Крестьянское право собственности на землю представало не только европейской юридической нормой, обращенной в будущее, но и принимало значение древней отечественной традиции, возрождаемой благодаря чуткости законодателя к исторической памяти народа, его органической укорененности в судьбах крестьянства. В итоговой записке к проектам Редакционных комиссий, составленной в духе славянофильских идей, с особым нажимом отмечалось, что реформа должна обеспечить прорыв к “исторической основе” и возвращение России в естественное русло исторического развития.12 Все эти понятия и темы – почва, истоки, органическая целостность, возрождение, ключевой образ воссоединения народной массы с землей - явственно очерчивали структуру националистического мышления. С этой точки зрения, реформа 1861 г. была испытанием логики и мифо- 9 логии национализма в социально-аграрной сфере, вне – пока еще вне – поля межэтнических проблем. Националистические тенденции авторов крестьянской реформы обнаружили себя - правда, уже на завершающем этапе законотворчества - и непосредственно в отношении "польского вопроса". В апреле 1860 г. генерал-губернатор Юго-Западного края (Киевская, Подольская и Волынская губернии) И.И. Васильчиков, симпатизировавший бюрократической команде Н.А. Милютина и сотрудничавший с нею в деле реформы губернской администрации,13 направил в Редакционные комиссии записку-предупреждение. Он призывал законотворцев учредить в украинских губерниях немедленный и обязательный выкуп крестьянских наделов в собственность. В противном случае, по мысли генералгубернатора, «враждебное правительству польское дворянство воспользуется неудовольствием народа, чтобы навсегда отвлечь сочувствие масс от правительства и перетянуть их на свою сторону». С удвоенным жаром Васильчиков писал о необходимости обязательного выкупа в декабре 1860 г. Реформаторы в лице Ю.Ф. Самарина согласились с Васильчиковым в том, что «весьма бы желательно было, чтобы правительство, на котором доселе сосредоточивались все надежды крестьян, и в этом случае не допустило дворянство опередить себя…».14 И хотя принцип обязательного выкупа не был введен тогда же в «Местное положение» для Правобережной Украины (это произойдет только в 1863 г.), тезис Васильчикова о политической оппозиционности местного дворянского сословия в целом его составе явно встретил понимание у лидеров Редакционных комиссий еще весной 1860 г. Еще определеннее недоверие Милютина к дворянству западных губерний как целой корпорации проявилось в январе 1861 г., в связи с обращением предводителей дворянства Виленской и Ковенской губерний в МВД с ходатайством – подвергнуть скорейшей ревизии проекты Редакционных комиссий для Литовского края, будто бы угрожавшие местным помещикам полным разорением. Ходатайство вызывало тем большее беспокойство, что поступило в столицу накануне прений по крестьянскому делу в Государственном совете и что его, пусть и с некоторыми оговорками, поддержал виленский генерал-губернатор В.И. Назимов. В разборе ходатайства, который лег в основу всеподданнейшего 10 доклада министра внутренних дел С.С. Ланского, Милютин без экивоков связал замысел дворян не столько с помещичьей корыстью вообще, сколько с польским сепаратизмом. Реформа же открыто признавалась чем-то вроде перспективной инвестиции в лояльность народной массы, противопоставленную шляхетской неблагонадежности. Лишь наделение землей, писал лидер реформаторов, «может обеспечить литовских крестьян, сделать их не только по закону, но на самом деле вышедшими из крепостной зависимости от польских помещиков, что в то же время привяжет их чувством благодарности к правительству… Это обстоятельство весьма важно в настоящее время, при заметном политическом возбуждении умов в польском дворянстве». Эта характеристика дворянства подчеркивалась намеком на восприимчивость к польскому влиянию самого Назимова, который «смотрит иначе [чем МВД] на положение вещей, вопреки собственным мнениям, представленным им в прежнее время по крестьянскому делу».15 Удаление весной 1861 г. Милютина из МВД и назначение во главе Министерства П.А. Валуева изменили распределение ролей между центральной и виленской администрациями в этом вопросе. Валуев завязал довольно интенсивные контакты с видными дворянскими деятелями Северо-Западного края, особенно минским предводителем А. Лаппой и гродненским предводителем В. Старжинским, которые ратовали за предоставление Литве (в ее значении «восточной провинции» бывшей Речи Посполитой) региональной культурноязыковой автономии. Такая льгота должна была заложить новую основу для союза между монархией и польской землевладельческой элитой. Валуев довольно осторожно высказывался в пользу сближения власти с польской аристократией, но обострение разногласий между ним и Назимовым по проблемам управления западной окраиной обращало взоры лидеров этого дворянского, «белого» политического движения именно на МВД. Назимов, между тем, резко разочаровался в своих симпатиях к местному дворянству (ниже этот предмет еще будет затронут) и, словно реагируя на критику со стороны прежнего руководства МВД, выказал решимость сопротивляться расширению привилегий шляхты, установив летом 1861 г. военное положение в тех местностях СевероЗападного края, где вслед за Варшавой произошли политические беспорядки.16 11 Разрыв генерал-губернатора с польской знатью сопровождался бурным приливом веры, точнее - демонстрации веры в народную массу, в местное крестьянское население. Не говоря уже о стремлении Назимова улучшить экономические условия освобождения крестьян литовских губерний (именно он инициировал введение в Северо-Западном крае обязательного выкупа в марте 1863 г.), за короткий срок, буквально на глазах, претерпевают разительную трансформацию культивируемая властью концепция крестьянства и символически значимые (а не просто тактически обусловленные) способы воображения и описания крестьянского населения западной периферии империи. Риторика самого Назимова позволяет отследить эволюцию такого восприятия. В служебной записке от февраля 1862 г. генерал-губернатор оценивает состояние крестьянства при помощи неутешительной метафоры летаргии, драматически подчеркивая его вероисповедную индифферентность: “... Если русское [т.е., преимущественно, белорусское. – М.Д.] население в Западных губерниях нельзя еще назвать отжившим свой век, то не ошибемся, когда скажем, что в нем жизненная сила еще не пробудилась, скажем более – чувства народной самобытности находятся в таком безотрадном летаргическом усыплении, что вслед за наступающим пробуждением он [народ] с равною готовностию последует как за русско-православною, так и за польско-католическою пропагандою”.17 Крестьянство выглядит здесь пассивным и безразличным к собственной судьбе – косная, вязкая среда. Но проходит не так много времени, и эта трактовка крестьянства начинает вытесняться иной. В октябре 1862 г. Назимов представил Валуеву доклад о намерении минского дворянства обратиться к императору с прошением о включении губернии в состав Царства Польского. Резко осуждая задуманную сепаратистскую манифестацию и требуя ее пресечения, он отмечал, что польское дворянство не имеет никакого права «говорить открыто от лица огромных масс русского населения, разъединенного с ним вековою враждою во имя народных, религиозных и сословных интересов…». Это высказывание наделяет «народ» свойствами сознательной и одушевленной стихии: пробуждение явно состоялось, и организм пришел в движение. Правительство вместо зыбкой трясины должно почувствовать под ногами твердую опору: «Нет никакого сомне- 12 ния, что в борьбе этой [с польскими злоумышленниками. – М.Д.] правительство одержит верх, имея на стороне своей народ и право, основанное на исторической истине».18 И, наконец, в марте 1863 г. в трактовке Назимовым местного крестьянства прорезаются поистине апологетические ноты: «Русский элемент, как во время бывшего владычества поляков в этом крае, так равно и впоследствии, по возвращении оного под державу Российскую, ... сохранился доныне во всей своей чистоте и неприкосновенности. Католицизм и Уния, отторгнув его от лона Православной Церкви, успели разъединить его с русскою народною семьею в отношении только одних религиозных убеждений и верований..., но не коснулись ни его нравов и обычаев, ни самобытности народного характера, притупленного, но не погасшего в массах русского населения».19 Теперь в крестьянстве усматривается исток и кладезь некоей витальной энергии, сохранившейся едва ли не чудом под чужеземным гнетом. Другим свидетельством переосмысления образа крестьянства в среде местной власти могут выступить донесения виленского жандармского штабофицера А.М. Лосева начальнику III Отделения в январе – апреле 1863 г. (вскоре Лосев станет одним из доверенных сотрудников преемника Назимова – М.Н. Муравьева). В середине января 1863 г., сообщая в Петербург об угрозе распространения мятежа на западные губернии, виленский резидент корпуса жандармов предрекал «самую кровожадную партизанскую войну» и предостерегал: «На крестьян надежда плохая; это стадо баранов, а пастухи этого стада - посредники [имеются в виду мировые посредники, в большинстве своем польские помещики. – М.Д.], старшины и писаря - как известно, первые пропагандисты революционной идеи». Спустя три месяца, в рапорте о действиях крестьянстарообрядцев в Динабургском уезде, захвативших в плен целый отряд повстанцев, Лосев не просто склоняется к иному заключению, но изменяет в корне смысловую структуру суждения о крестьянстве: «Динабургские мужички доказали, где сила Правительства, - это в массе народа. Отчего бы повсеместно этой силой не воспользоваться и тем самым заявить пред Европой настоящее положение нашего западного края?».20 «Стадо баранов» оборачивается «массой народа»! 13 Этот переворот в восприятии, повторю еще раз, был столь разительным, что не может быть сведен к простому отражению, индукции или сумме рационально-логических наблюдений чиновников и военных, участвовавших в подавлении восстания. М.Н. Муравьев, назначеный генерал-губернатором в начале мая 1863 г., еще до приезда в Вильну и ознакомления с обстановкой на месте сделал принципиальную поправку к выводу Валуева о том, что "Правительство может рассчитывать в крае на сельское население как на материальную силу": "Должно [рассчитывать]". В первом же докладе царю, также еще до отъезда из Петербурга, он заявил, что «единственное средство к восстановлению правит[ельственной] власти есть опора на сельское население…».21 Формулировка прямо-таки директивная - а ведь после начала восстания правительство, наряду с ободряющими известиями вроде динабургского, регулярно получало немало тревожных сведений о случаях присоединения крестьян к мятежным отрядам. Данная риторика была скорее специально изготовленным инструментом самоутверждения власти, оказавшейся лицом к лицу с трудноуправляемой социальной реальностью. Возвышенные образы крестьянского освобождения 19 февраля 1861 г., вошедшие за короткое время в обиход бюрократической фразеологии и успевшие покрыться налетом рутины, словно обретали первозданную достоверность в своем применении к крестьянству Западного края. Дарование гражданских прав и другие благодеяния крестьянам здесь, как больше нигде, подразумевали посрамление антинациональных сил и торжество русской самобытности. Миф о возрождении народной массы к новой жизни воплощался с географической и почти картографической зримостью, запечатлевая в общественном сознании обновленный логотип границ коренной и «исконной» России. Впечатление, будто полая форма, пустое территориальное пространство, обозначенное номинальными рубежами Западного края, наконец наполняется живым содержанием, описал в популярной в то время националистической брошюре Ф.П. Еленев, в недавнем прошлом участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.: «… Западно-русский народ вовсе был оторван от умственного и общественного движения своего отечества. Наше общество едва ли и вспоминало до нынешних событий, что за Киевом и Смоленском живут еще целые миллионы русских, но живут в нищете материальной и духовной, угнетенные и 14 нравственно униженные враждебным элементом, покинутые без руководства и поддержки родными братьями. … Мы заботимся о введении цивилизации на Амуре и покровительствуем свободных художников чуть ли не всего света: а между тем истинно подвижнический и кроваво трудящийся западно-русский народ в трех губерниях умирает с голоду, в семи губерниях лишен нередко молитвенных храмов…».22 За очень многими мероприятиями виленской администрации в отношении крестьянства стоял сценарий обнаружения единого народного тела, почвенной основы под чуждым «наносным слоем». Это действо нарочито драматизировалось эффектами прозрения и озарения, рассеивания обманчивой пелены и фальшивой оболочки, с которой ассоциировалось польское присутствие. «... Сами русские, жившие в тех губерниях, не считали себя русскими, а край тот считали принадлежностью Польши», - сетовал Муравьев на соотечественников, ослепленных показным сиянием «полонизма».23 Картина народного моря, восстающего от векового сна, который едва не стал для него сном «смертным», разворачивалась перед теми, кто нуждался в напоминании о своей подлинной национальной идентичности. Однако – и здесь мы возвращаемся к теме полонофобии – на пути такой культурно-символической стратегии имперской власти вставало объективное препятствие. Таковым была очевидная, даже бросающаяся в глаза неоднородность местного крестьянства в этническом, конфессиональном, социальноэкономическом аспектах. Сельское сословие включало в себя белорусов (обособленность которых от Великороссии власть, хотя и именовавшая их последовательно русскими, вполне осознавала) и литовцев – славянское и неславянское населения проживали в самом тесном соседстве. Смешение православных, православных – бывших униатов, старообрядцев и католиков было не менее пестрым. Наконец, на фоне общинной Великороссии непривычной и неестественной представлялась практика подворного хозяйства и личного землевладения, приводившая к дифференциации крестьян на дворохозяев и батраков: тот же Муравьев полагал важной задачей «предупредить тяготение … разбогатевших крестьян к шляхетскому сословию…».24 15 И тут-то очень кстати под руку власти подворачивались негативные стереотипы поляка, «кичливого ляха». Пропагандистская полонофобия, как она культивировалась в Северо-Западном крае, была в значительной степени производной от приоритетов символической репрезентации и возвышения крестьянской массы как единого целого. Весьма изобретательно и изощренно творцы официального дискурса старались приписать польскому присутствию свойства внешнего, поверхностного, дробного, искусственного, ложного и т.п., в противоположность понятиям почвы, ядра и массы – атрибутам русскости. С точки зрения социальной иерархии, идеологи из числа бюрократов и публицистов совершали семантическую перестановку в наиболее знаковых оппозициях, устойчивых парах понятий, описывающих соотношение социального «верха» и «низа». Традиционные для империи принципы династической лояльности выстраивали в один ряд оппозицию «верхи – низы :: элита - массы» и такие выразительные дихотомии, как «блеск – серость», «образование – невежество», «сознательное – неразумное» и др. Ныне же стратеги полонофобии, играя на множественности аспектов одного и того же символа, гиперболизировали концепты верха и блеска до состояния, в котором они как бы переключались в новые оппозиции, принципиально иначе освещающие антагонизм социальной структуры. Верх конвертировался в «поверхностность», блеск – в «искусственность» и «фальшь», образованность и интеллигентность – во врожденную склонность к злоумышлению и восприимчивость к «ложным учениям». Словом, вершина социальной иерархии отождествлялась с чужеродной и вредоносной оболочкой. Символическая правдоподобность такого очернения «полонизма» (я не принимаю здесь во внимание меру эмпирического соответствия стереотипа поведению и поступкам конкретных людей или групп людей) достигалась именно за счет того, что атрибутированные поляку негативные качества сохраняли косвенную связь, приглушенную перекличку с традиционной положительной маркировкой его как представителя высшего сословия.25 Вполне закономерно, что свой дискурсивно завершенный вид полонофобия приняла в той сколь неистовой, столь и истовой кампании против семиотики «полонизма», внешних знаков польского влияния в Северо-Западном крае, которую виленская администрация повела с весны 1863 г. В одной из моих не- 16 давних работ сделана попытка доказать глубокую заинтересованность властей в раздувании этого призрака шляхетской и католической Речи Посполитой.26 В чем только не усматривалось оскорбительное и унизительное для русских напоминание о великой Польше – и в величественных костелах с их роскошным убранством и службой, и в заполненных на польском языке ресторанных счетах или аптечных ярлычках на склянках с лекарством,27 и в особом сочетании цветов в женской одежде, и в конской упряжи. Поиск и расшифровка следов польского господства и превосходства над русскими принимали почти маниакальный оборот – внимание самых высокопоставленных администраторов притягивалось к рутинным мелочам быта, к деталям, на которых их взор, наверное, никогда до того не останавливался. Приемы такого нагнетания полонофобии раскрываются при анализе по первичным источникам самой последовательности административных распоряжений. В качестве типичного сюжета этого рода может быть рассмотрена борьба местной власти с женскими траурными одеяниями. Ношение траура в знак скорби по погибшим повстанцам и другим жертвам столкновений с русскими войсками было до весны 1863 г. одной из самых зрелищных и безнаказанных форм политического протеста и гражданского неповиновения в Царстве Польском и Западном крае. Ободряющее влияние, которое эти манифестации оказывали на польских патриотов, деморализуя тем самым многих русских, внушало властям тревогу с самого начала, но администраторы явно не были подготовлены к восприятию женщины – а в Западном крае траур к тому же носили в основном только дворянки – как самостоятельного субъекта политической «крамолы». В некоторых докладах генералгубернатора В.И. Назимова в Петербург женские манифестации описывались в пренебрежительно-насмешливом тоне: «Женщины действительно надели траур, - сообщал он главноуправляющему III Отделением в марте 1861 г., - но эта ничтожная, детская, принадлежащая женщине демонстрация не должна обращать на себя никакого внимания».28 Иногда женский траур становился предметом для злорадных шуток. Так, анонимный аналитик, видимо, из Минской губернии, хорошо знакомый с положением дел в местной администрации и настоятельно советовавший правительству в феврале 1863 г. немедленно сократить 17 повинности крестьян в имениях польских помещиков, предупреждал помещичьи жалобы на убытки таким доводом: «… Теперь жизнь помещиков не так дорога: жены их ходят в трауре, а для траура не нужно изысканности и дорогих материй…».29 Как и Назимов, цитированный автор полагал проблему символической демонстрации польского движения мелочью, несопоставимой с заботами власти о благосостоянии крестьянского сословия. Однако в частном порядке представители российской власти уже в 1861 г. с достойной этнографа, если не модельера наблюдательностью всматривались в женские траурные наряды. Полковник Генерального штаба А.К. Гейнс, руководивший боевыми действиями в некоторых губерниях Царства Польского и в Гродненской губернии, оставил в своей корреспонденции подробные зарисовки увиденных им многочисленных образчиков: «… Их [женщин] исключительные цвета – черный с белым. … На груди у них повешены на черных четках и цепях большие черные кресты с белым распятием и маленькие серебряные медальоны, на одной стороне которых изображен сломанный крест с распятием, под ним одноглавый польский орел, держащий в одной лапе крест, а в другой пальмовую ветвь. Кругом надпись: “Боже, благослови Польшу”. На обороте медали Ченстоховская Божья Матерь, под ней терновый венец… К особенностям женского наряда принадлежат также траурные браслеты, запонки, булавки и другие украшения дамского туалета, с изображением белого польского орла в красном поле, с портретом Костюшки, Иосифа Понятовского, Чарторижского, Мицкевича и других; брошки в виде тернового венка с крестом или якорем посредине, покрытыми пальмовою ветвью…».30 Перейти из обороны в наступление на демонстрацию символики Речи Посполитой удается М.Н. Муравьеву, и причина его успеха не сводилась только лишь к принятию жестоких мер устрашения. Уже через две недели после своего приезда в Вильну, в конце мая 1863 г., Муравьев издал первый из серии запретительных циркуляров касательно наружной атрибутики нарратива о былой великой Польше. Циркуляр аттестовал как “преступную манифестацию” публичное ношение женщинами “черных платьев с плерезами и без оных, черных шляпок с белыми султанами”, а также “условных революционных принадлежностей туалета” – пряжек с соединенным гербом Польши и Литвы, пере- 18 ломленных крестов в терновом венке (символ мучений римско-католической церкви в империи) и др. Ношение траура было специфически женской формой политического протеста, но циркуляр грозил штрафами и взысканиями не только женщинам, но и тем “из лиц мужеского пола, которые будут появляться публично с знаками траура в одежде..., а также носить чамарки, конфедератки, длинные сапоги сверх нижней одежды и другие условные знаки мятежнической партии”.31 Реестр «условных знаков» почти повторяет составленный дотошным Гейнсом, но теперь он приводится в официальном распоряжении за подписью генерал-губернатора! Издание этого циркуляра стоило Муравьеву некоторых служебных неприятностей. Всего через полмесяца из Петербурга, от военного министра Д.А. Милютина (видимо, по прямому поручению Александра II), поступил запрос о скорейших разъяснениях в связи с распространившимися в Европе слухами, будто в Вильне привлечена к уголовной ответственности большая группа женщин. В ответном отношении Муравьев, отметив, что слухи «вероятно были возбуждены негодованиями на уничтожение ношения траура», постарался тем самым лишний раз подчеркнуть политическую значимость подобных манифестаций (будь это дело личных вкусов дам, в Европе не возмущались бы так!) и необходимость решительно и нещепетильно им противодействовать. При этом он уклонился от признания того, что, согласно циркуляру, в случае третьего нарушения запрета на траур нарушительница должна была подвергнуться более суровым, чем денежный штраф, санкциям.32 Впрочем, таких упорных носительниц траура не отыскалось. Много лет спустя Милютин, теперь уже в похвальном смысле, писал в мемуарах, что Муравьев, восстанавливая в крае административный порядок, «не церемонился ни пред духовенством, ни пред помещиками, ни пред чиновным людом, ни даже пред женщинами...».33 Почему же эти запретительные «полонофобные» меры, которые, прими их прежний генерал-губернатор, грозили бы поставить его в комическое положение инспектора дамских брошек, создавали ныне совсем иной, волевой и мужественный, имидж власти? Секрет был прост: гонения на польскую символику, на атрибутику «полонизма» велись при Муравьеве по самому широкому фронту. Это было не что иное, как самая настоящая, азартная охота на «остат- 19 ки латино-польского преобладания», по выражению одного из наиболее воинственно настроенных местных публицистов, считавшего таковым остатком даже звучание органной музыки из открытых дверей костела.34 Подтверждением тому и заключительный акт изгнания женского траура. В июле 1863 г. Муравьев потребовал от могилевского губернатора пресечь замеченные зорким оком из Вильны попытки возобновить ношение траура в новом обличье: «… Женщины хотя и сняли собственно траурный наряд, но … взамен его носят черные платья с алыми платками – называя этот наряд кровавым трауром». Губернатор поспешил представить доказательства собственной и своих подчиненных бдительности в отношении новинок женской моды: «… О существовании так называемого кровавого траура здесь имелось сведение и потому полициею подозрительные в этом отношении наряды преследовались и один раз взыскан штраф, после чего алые наряды с политическим значением, так же как и собственно траур прекратились».35 Столь безоговорочное присвоение «политического значения» этой и другим подобным деталям одежды, поведения, коммуникативных практик и пр. призвано было визуализировать польское присутствие в крае как в одно и то же время поверхностное и повсеместное. По сути дела, это была ритуальная реконструкция польского присутствия, в чем-то превосходившая его эмпирические контуры. То, что может показаться сейчас анекдотически маниакальным выслеживанием и высматриванием мельчайших, невинных реликтов и реминисценций былого величия Речи Посполитой, в сознании проимперски мыслящих людей отражалось убедительной картиной уничтожения той самой всеохватной сплошной пелены, предательски окутавшей тело «русской народности». Иными словами, мы имеем дело не столько с примордиальной, «нутряной» этнофобией, сколько с достаточно рациональной и хладнокровной инженерией публичного дискурса. В истовости распознания следов «полонизма» угадывается спланированная инсценировка. На эту мысль наводят еще более наблюдения над приемами, которые власть пускала в ход для драматизации польского влияния в среде народной массы. Символическая отдача от этой операции была особенно велика благодаря тому, что воображению представал самый момент ускользания так и не об- 20 ретенного сакрального достояния – народной основы, почвы; провидение опасности утраты, угрозы «ополячивания» придавало этому достоянию еще большую ценность. Подобный эффект достигался путем непропорционального сгущения в культурном образе «своего» отталкивающих черт инакости и чуждости. Иногда это была почти болезненная фиксация внимания на каких-либо специфических сторонах крестьянского быта и религиозных обрядов. Вот как проводил эту линию чиновник особых поручений при генералгубернаторе, литератор, эксперт по церковным вопросам и горячий сторонник массовых «обращений» из католицизма в православие А.П. Стороженко (малоросс по происхождению, причем сохранивший малороссийскую региональнокультурную идентичность). «Много обычаев и обрядов католических, привитых к русскому народу за время унии, и до сих пор в употреблении, - докладывал он Муравьеву в июне 1864 г. из поездки по Могилевской губернии. – Например: при встрече крестьяне вместо "здравствуй, Бог помощь" говорят: "нех бендзе похваленый Изус Христус". Обряды православной религии исполняются не согласно уставов вселенских соборов: попы бреют бороды, стригутся, крестный ход совершается как во время унии, колокола повешены на коромыслах и самый благовест производится не так, как звонят в России. Священники по деревням никогда не говорят проповедей, а напротив допускают православный народ, по выходе из церкви, отправляться в костел и слушать казание (проповедь), которое ксендз пропагандист говорит им на белорусском наречии. Это в особенности заметно там, где убогая церковь стоит рядом с великолепной архитектуры костелом и где жители, исповедывающие теперь православие, были некогда униатами. У каждого господского дома, на каждом перекрестке проезжих дорог, … при разделении полей, стоят кресты разных величин, обвешанные полотенцами, и статуи святых…».36 Как видим, в списке признаков отпадения крестян от русских начал перемешаны и действительно острая проблема интеллектуального и духовного уровня приходского православного духовенства (актуальная, впрочем, и для центральной России), и просторечная сельская формула устного приветствия. Примечательно, что сразу по получении этого донесения генерал-губернатор счел нужным настоятельно рекомендовать могилевскому архиепископу Евсе- 21 вию озаботиться тем, чтобы приходские священники имели “неослабное наблюдение” за крестьянами, дабы те “не ходили слушать проповеди в католические костелы”.37 Коренная причина отчуждения крестьян от православной церкви усматривается почти исключительно в диверсии ксендзов (причем употребление ими белорусского наречия явно связывается с представлением о иезуитской “интриге”), а не в упадке нравственного авторитета православных священников, так плохо владеющих искусством проповеди. Последний факт вполне очевиден администраторам, но противоречит мифу о внешней угрозе целости народного тела. Тот же прием, когда наблюдатель патетически “очужачивает” местное крестьянство в своих собственных глазах, находим в корреспонденции уже упоминавшегося А.К. Гейнса: “В 1863 году я видел гродненских крестьян в нашей церкви и никогда не забуду тяжелого чувства, навеянного на меня картиною, виденною мною, - продуктом исторического безобразия. Крестьяне пришли приобщиться в православную церковь, а крестятся католическим крестом, лежат “кжижем” [крестом. – М.Д.] и вообще верно проделывают все, чему их обучали ксендзы в старое время. … Вот он, западно-русский крестьянин – великая охрана России от притязаний старой цивилизованной национальности!”. Гейнс абсолютизирует эти религиозно-обрядовые приметы инакости вопреки тому, что в тех же письмах высказывает гораздо более современное воззрение на факторы ассимиляционных процессов, отмечая, например, что втягивание части населения в экономическую орбиту соседнего народа может оказаться сильнее чувства этнического единства.38 В этом контексте лежание молящихся крестьян «кжижем» не должно было бы восприниматься так панически. Ассоциация польского присутствия с ложным блеском, искусственным «наносным слоем» и обманчивой пеленой дополнялась приписыванием ему зловредного дара мгновенного, неуловимого и почти магического воздействия на русских (вообще, тема колдовских чар в русской репрезентации поляка/польки заслуживает отдельного исследования). Эта мифологема косвенно сказалась на рассуждениях даже высших деятелей виленской администрации о будущности крестьянства Литвы и Белоруссии. Помощник Муравьева по долж- 22 ности командующего Виленским военным округом генерал-адъютант Н.А. Крыжановский в марте 1864 г. в пространной докладной записке рисовал такую перспективу (обратим лишний раз внимание на метафоры сна и пробуждения): «Чтоб со временем вполне воспользоваться преданностью крестьян, чтоб заставить их быть деятельною опорою правительства и порядка, … надо вдохнуть в них жизнь и нравственную самостоятельность, но, вместе с тем, разбудив целое сословие от усыпления, надо направить возникающую в нем умственную деятельность на путь верный… Если правительство не откроет пути этой деятельности, враги наши не преминут направить ее по-своему и скоро ополячат крестьян, так же как они уже ополячили остальные сословия».39 Муравьев никогда не признавал в столь откровенной форме опасность ополячивания православных в большинстве крестьян, но прозрачные намеки на неизбежность этого печального исхода русско-польского соперничества в случае пассивности имперской власти встречаются и в его письмах. «Им [полякам. – М.Д.] необходимо новое засыпление России, и тогда они уже, возобновив мятеж, конечно довершат его с большим для себя успехом: ибо и теперь они едва не достигли своей цели, - так глубока была революционная зараза», - писал он главе III Отделения В.А. Долгорукову 7 марта 1864 г., видимо, под свежим впечатлением бесед с Крыжановским.40 Итак, поляк, с пафосом именовавшийся пришлым и наносным элементом в «исконно русском» крае, в то же самое время мыслился способным извратить внутреннюю ткань русского народного тела.41 Однако в конечном счете такая демонизация поляка была средством самоутверждения власти, демонстрирующей свою связь с народной почвой и корнями. 2. Представления об объекте полонофобии Я далек от намерения доказать, что русификаторская политика в СевероЗападном и, шире, в Западном крае в середине 1860-х гг. предопредляла на тот момент всю совокупность русских негативных представлений и мифологем о поляке, «кичливом ляхе». «Польский вопрос» имел и другие важные аспекты: участие поляков в революционном движении внутри России, историческая судьба коренной Польши. Тем не менее, нет сомнений в том, что администра- 23 тивная практика противодействия польской элите на западной периферии задавала целый ряд центральных для полонофобного нарратива сюжетов. Симметрия между этническим составом и социальной структурой в Литве и Белоруссии (грубо говоря, высший слой=поляки, народная масса=неполяки) позволяла использовать на полную мощь для мифологизации поляка пространственные категории «внутри» и «вовне», легко проецируемые на эффектные и впечатляющие образы. Рисуя поляка внеположенным народной массе, идеологи русификации усиливали в общей теме польского коннотации дробности, беспочвенности, искусственности, а в крайних пропагандистских версиях – инобытия, призрачности, потусторонности, смерти.42 Хорошо известно, сколь охотно оперировал метафорой упыря для дискредитации польского восстания редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков. В свою очередь, пишущие полонофобы местного масштаба стремились сколь можно «доходчивее» реализовать в своих риторических конструкциях оппозицию жизни и смерти. Из-под пера некоторых выходили не обделенные оригинальностью репрезентации полякаврага. Так, в памфлете "Слово русского к мятежным полякам", автор которого скрылся за подписью «С……ъ», народная масса западных губерний противопоставляется мятежникам в следующем ракурсе: «Ужели вы не знаете и того, что в областях, которыми вы хотите ожилить и отелесить скелет Польши, живет около 8 миллионов русских – православных, заявивших недавно пред всем светом, что они не могут вспомнить об вас без ужаса, негодований и проклятий…».43 Русификаторская кампания Западного края рельефно воплотила в себе имманентную смысловую коллизию имперской полонофобии, раздвоенность имперского дискурса в этом вопросе. С одной стороны, в 1863 г. впервые в негативном образе поляка – повторю еще раз, целенаправленно культивируемом “сверху”, - так резко и неприглядно выступили черты не просто бунтовщика, заговорщика и мятежника, противника законной власти, но заклятого врага русского народа, воображаемой единой русской нации.44 Поляк наделялся качествами антагониста народной массы, осмыслялся как чужеродный элемент в общественном организме, на народной почве. Органицистская метафорика играла исключительную роль в символическом возвышении крестьянского насе- 24 ления, и посредством ее поляк отождествлялся с неорганическим, антивитальным началом. С другой же стороны, этот мифический ненавистник народной России не репрезентировал сам нацию-врага, не являлся, в свою очередь, олицетворением единой нации. Иначе говоря, поляк – враг нации, но враг не национальный по своей природе. Вслушиваясь внимательно в правительственную риторику, имевшую прямое или косвенное отношение к подавлению польского восстания 1863-1864 гг. или русификации Западного края, мы обнаруживаем, что власть нередко испытывала немалый дискомфорт от пейоративного употребления слов “поляк” и “польский” и старалась по возможности избежать его или смягчить. В январе 1863 г., сразу после получения из Варшавы известий о начале восстания, Александр II публично заявил перед гвардейцами, что винит в случившемся не "весь народ польский", а только некую общеевропейскую "революционную партию". Царь старался не отступить от универсалистского имперского принципа: нет враждебных народностей, есть неверные подданные. Однако устоять на этой позиции в 1863 г. было нелегко. Иллюстрацией последующих колебаний императора служит собственноручная запись им своей речи, произнесенной 17 апреля 1863 г. в Зимнем дворце перед депутатами от разных сословий и обществ, которые поднесли царю патриотические адреса. Текст (который предназначался для официальной публикации) пестрит правкой – задним числом! – собственных слов, вызванной нечетким видением самой сути борьбы в западных пределах империи. Так, если в окончательной редакции мы читаем слова: “посягательство врагов наших на древнее русское достояние”, то первоначально рука царя вывела нечто существенно иное: “посягательство поляков на древнее русское достояние” – и, скорее всего, именно эту фразу ранее услышали депутаты. В другом месте Александр вычеркнул националистически звучащий оборот, которым начиналась фраза о его гордости единством патриотических чувств народа: “Я как русский...”. Говоря об угрозе войны с Францией и Англией, Александр выражал надежду на то, что “с Божиею помощью мы сумеем отстоять землю русскую”, но в опубликованном тексте вместо двух последних слов читается “пределы Империи”.45 25 Знаменитый своей полонофобией М.Н. Муравьев также старался лишний раз не декларировать польскость восстания, которое он подавил в Литве посредством суровых карательных мер. В текстах его самых широковещательных воззваний к жителям края в 1863 г. (печатавшихся большим тиражом en regard по-русски и по-польски), несмотря на адресованную дворянству и римскокатолическому духовенству беспрецедентную риторику устрашения и принижения, почти не встречается этнически маркированного обозначения высших сословий. Собирательные категории дворянина, помещика, католического священника ставятся в тесную смысловую связь с понятиями мятежа, измены, предательства, коварства и т.д., но не польскости как таковой.46 Не употребляется этнонимов и в другого рода документах первостепенной пропагандистской значимости – инспирированных генерал-губернатором всеподданнейших письмах дворянства каждой северо-западной губернии, содержавших осуждение крамол «революционной партии», заверение в политической благонадежности и мольбу о высочайшем «милосердии».47 В других случаях, когда этнические термины, обозначающие повстанцев, представлялись незаменимыми, Муравьев пытался хотя бы приглушить их звучание. Осенью 1863 г. он распорядился возвести в Вильне часовню во имя Александра Невского, призванную стать специальным местом почитания военных, погибших в боевых действиях против повстанцев, - их имена выбивались на мемориальных медных досках. Ключевая для этого мартиролога надпись была сформулирована не сразу. В предложенной генерал-губернатору версии: “В память павших русских воинов во время второго польского мятежа” – он приказал заменить пять последних слов следующим оборотом: “… При усмирении польского мятежа в 1863 году”.48 Помимо других возможных соображений, Муравьев явно принимал во внимание нежелательность “нумерации” восстаний: таковая, будучи увековечена в металле, подразумевала бы закономерность и устойчивость польского национального движения, повторяемость его вспышек. Известная осторожность власти в оперировании этнонимом «поляк» дала себя знать и после подавления восстания, в ходе реализации русификаторской программы в Западном крае. В этом отношении характерны колебания в выборе 26 юридических дефиниций, возникшие при обсуждении мер по приведению в действие указа от 10 декабря 1865 г. Этот указ, последствия которого неплохо изучены в литературе, возбранял покупку земли в западных губерниях «лицам польского происхождения» и дозволял ее только «лицам русского происхождения, православного и протестантского вероисповеданий».49 В журнале особой правительственной комиссии, редактировавшей проект указа, пока еще без обиняков разъяснялось, что «под выражением “лицам польского происхождения” нужно понимать не вообще католиков, а только поляков и тех западных [т.е. Западного края. – М.Д.] уроженцев, которые усвоили себе польскую национальность». Однако уже через полмесяца министр юстиции Д.Н. Замятнин поднял вопрос о точных процедурах идентификации на практике «лиц польского происхождения», указав на то, что местные «присутственные места … не могут иметь почти никаких сведений о происхождении, национальности и вере того лица, на имя которого совершается купчая крепость», и тем более «таких сведений, которые относятся до образа мыслей и благонадежности лица в политическом отношении…». Оппонентом Замятнина в завязавшейся служебной полемике выступил министр государственных имуществ А.А. Зеленой. Он уверял, что никаких трудностей с определением поляков у местных чиновников не будет (как не узнать поляка?!). По его мнению, гражданские палаты (именно в них регистрировались купчие) должны будут ограничиться «разрешением вопроса: следует ли причислить их [покупателей. – М.Д.] к лицам польского происхождения, а вовсе не касаться собирания сведений о их образе мыслей и благонадежности». Последнее замечание противоречило важному тезису из уже утвержденного императором журнала особой комиссии, согласно которому «различие между владельцами» должно делаться прежде всего «по политическим … соображениям», т.е. «образ мыслей и благонадежность» подлежали учету. В конечном счете Зеленой принял предложение Замятнина о том, чтобы право покупать землю подтверждалось бы специальным «свидетельством», выдаваемым лично генерал-губернатором. И именно при определении того, что же конкретно должен был засвидетельствовать генерал-губернатор, Зеленой сделал существенную уступку. В последний момент из проекта соответствую- 27 щей инструкции он вычеркнул пассаж «[свидетельство о том] что покупщик не польского происхождения», оставив вторую часть условия: «что в допущении его к покупке имения не оказывается препятствия».50 Высшие бюрократы сознательно избежали формулировки, почти тождественной официальному и публичному удостоверению о национальной принадлежности. Санкционировав выдачу правительственных «свидетельств» о «непольском происхождении», власть рисковала бы оказаться перед необходимостью введения аналогичных документов о польском происхождении. Вышесказанное позволяет осторожно постулировать любопытную обратную зависимость в процессах полонофобии. Чем интенсивнее поляк мифологизировался как супостат и враг русскости, тем острее становилась в имперском сознании потребность – подменить этнонациональное содержание понятия «поляк» ассоциативными политическими, социальными, конфессиональными и даже гендерными (коварная полька в качестве символа ненависти к России) значениями. И в оформлении этих ипостасей негативного образа поляка – крамольного «пана», «фанатичного» католика и др. – культурные механизмы полонофобии оказались сопряжены с полонофильством, с традицией сочувственного восприятия Польши в России. В такой метаморфозе не было чего-то противоестественного. Этностереотип - это средоточие символической энергии, вместилище разнородных смыслов, которые могут взаимодействовать между собой. Логика стереотипизации, предельной эмблематизации представлений о «другом» превращала полонофобию и полонофильство как бы в две стороны одной медали – мифа о поляке. В этом пространстве почти не оставалось места для нейтральных, «промежуточных» характеристик польского, свободных от всепоглощающей знаковости. Перерождение положительных черт стереотипа в негативные совершалось именно за счет сконцентрированного в них мифотворческого напряжения, столкновения различных аспектов символа. Как отмечает в своей работе о соотношениях символических систем и социальной практики П. Бурдье, «среди разных аспектов символов… - символов одновременно неопределенных и переопределенных – ритуальная практика никогда явно не противопоставляет такие, 28 которые нечто символизируют, и такие, которые не символизируют ничего и от которых она могла бы отвлечься…».51 Данный тезис, думается, приложим к предмету настоящего исследования: насыщение стереотипа поляка негативными атрибутами производилось путем символической инверсии полонофильского восприятия не менее эффективно, чем посредством суммирования, к примеру, текущей информации о численности повстанцев, охваченных восстанием местностях, перемещениях мятежных отрядов и пр. Оценочный знак менялся на противоположный, но оставалась прежней, если не становилась большей, символическая экспрессия, пластичность образа. И хотя миф о «другом» наполнялся новым содержанием, он сохранял за собой ближайшую функцию – схемы или ключа к «понятному» и унифицированному истолкованию проявлений инакости многочисленных «других». Одним из полонофильских стереотипов, который, претерпев феноменальную трансформацию, способствовал утверждению не столько этнически, сколько социально отрицательного облика поляка, было представление о рыцарственности Польши, о поляке как носителе подлинного европеизма, проводнике европейского просвещения. Рассмотрим этот сюжет подробнее. 3. К полонофобии – от полонофильства? За несколько лет до восстания 1831 г. Фаддей Булгарин, предупреждая правительство о растущем недовольстве польской шляхты, особенно в литовских губерниях, открывал перечень советов о способах примирения живописанием польского национального характера: «Поляки народ чрезвычайно мягкий, привыкший ... к нежному и вместе откровенному с ними обхождению. Они энтузиасты, одарены пылким воображением и рыцарским характером. Стоит только дать направление их энтузиазму, чтоб сделать из них самых верных и приверженных подданных. ... Прокламации, речи, рыцарство, откровенность, ласка сделает из них все».52 Видимо, такая модель построения отношений не была безвозвратно упущена для власти и после Ноябрьского восстания. Хорошо известно, что многие жители русских провинциальных городов весьма благожелательно смотрели на поляков - чиновников и офицеров, принудительно отправленных туда на службу после событий 1831 г. Для русских это были жи- 29 вые образчики европейских вкусов, манер, а зачастую и либеральных политических воззрений. Сочувствие к себе встречали и ссыльные поляки, особенно те из них, кто владел профессиями учителя или врача.53 Настоящий расцвет полонофильство такого рода переживает в первые годы правления Александра II, после знаменитой амнистии 1856 г. Тому способствовала не только смена политического курса, но и активизация светской жизни, вовлечение в круг салонного общения все большего числа лиц и придание ему новых, более разнообразных форм. В Северо-Западном крае сближение русского военного и чиновного люда с польскими помещичьими семьями всячески поощрялось вновь назначенным (в 1855 г.) генерал-губернатором В.И. Назимовым. Впоследствии, после восстания, симпатии русских к патриотическим чувствам поляков, готовность признать за ними первенство в усвоении прогрессивного европейского опыта расценивались в России - и в официальном дискурсе власти и в мемуаристике - как результат рокового самоослепления. Один из авторов пропагандистского журнала "Вестник Западной России" вложил описание полонофильских заблуждений в уста героя своего очерка - простодушного служаки капитана Д.: "Что со мною в это время делалось - не могу рассказать! Нашел какой-то туман. Читаю, бывало, читаю - ничего не понимаю, а кинуть не хочется - как-то лестно. Новым словам выучился… все одобряют… паненьки не гнушаются… как-то помолодел! … Всего не перескажешь; ну чего же более: я сам - поверите ли? - подтягивал в хоре с дымэм пожаров [польская патриотическая песня. - М.Д.]… Как все это делалось? … Не могу дать себе теперь отчета! Туман, просто туман! Свобода национальностей! Дух примирения! Борьба цивилизации против варварства… и Бог знает еще какая фанаберия!".54 Конечно же, перед нами - сатирическая зарисовка, но в ней-то как раз и передан весьма выпукло характерный для полонофильства сплав идеала просвещения, артистизма, книжной культуры с темой молодости ("как-то помолодел!") и феминности ("паненьки не гнушаются"). Парадоксальная лишь на первый взгляд эволюция от полонофильства к полонофобии была ярко персонифицирована в фигуре самого В.И. Назимова. Он принял управление Северо-Западным краем с горячей надеждой упрочить лояльность польского дворянства к престолу и одновременно реабилитировать 30 шляхетский корпоративный этос: польское благородное сословие должно было показать, что любовь к молодому и милосердному императору объединяет его сильнее, чем воодушевляли когда-то крамольные мечтания. Под влиянием этих соображений местная администрация склоняла дворян к выступлению с инициативой "улучшения быта" крепостных крестьян, царским ответом на которую стал рескрипт Назимову от 20 ноября 1857 г., открывший эру гласности в деле крестьянской эмансипации созванием дворянских губернских комитетов. Специфические полонофильские коннотации рескрипта легко ускользают от внимания историков, привыкших видеть в нем составную часть общероссийского процесса подготовки реформы 1861 г. Стоит, однако, задуматься над тем, готов ли был Александр II избрать первым адресатом столь ответственного призыва дворянскую корпорацию какой-либо из великороссийских губерний. Не исключено, что без повышенного в тот период интереса верховной власти к своим отношениям с польской шляхтой рескрипта могло бы и не быть, и в таком случае крестьянское дело в масштабе всей империи нуждалось бы в каком-то ином решающем толчке. Мне неизвестно, доводилось ли Назимову читать когда-либо упомянутые выше аналитические записки Булгарина, но его приемы инспирирования дворянской инициативы и вообще манера обращения с польской аристократией кажутся заимствованными прямо из рекомендаций авторитетного советника III Отделения. В конфиденциальной корреспонденции генерал-губернатора по крестьянскому вопросу (прежде всего в циркулярах губернаторам и губернским предводителям дворянства) в 1857 г. пульсировали слова, явно выполнявшие функцию символического кода - "откровенность" и "доверие". Так, губернаторам предписывалось "помогать" ходу дела, "вызывая доверием к себе откровенные и неофициальные совещания с дворянством…".55 Эта риторика служила завуалированным признанием большей, чем в коренной России, гражданской зрелости дворянства, его способности к сознательной коллективной деятельности. При частных собеседованиях с местной знатью Назимов не боялся затрагивать самые чувствительные струны польской исторической памяти, не исключая преданий о Т. Костюшко и его плане освобождения крестьян.56 31 Декларировать с беспримерной экзальтацией свою веру в политические добродетели польского дворянства генерал-губернатору дал повод приезд Александра II в Вильну в сентябре 1858 г. На большом приеме в генералгубернаторском дворце, едва отзвучала речь царя к дворянству, закончившаяся вопрошанием: «Могу ли я на вас положиться во всем? Забыто ли вами все прошедшее?», Назимов в нарушение придворного этикета громогласно воскликнул: «Государь! Клянусь тебе моею головою, головами жены и моих детей, что это твои самые лучшие верноподданные!».57 Не поскупившись на форму превосходной степени, Назимов словно бы напоминал, что всего неделей раньше царь упрекнул московское дворянство в нерадивом исполнении высочайшей воли по крестьянскому делу. (И заметим, что хотя в трудах дворянских комитетов северо-западных губерний проявилось к сентябрю 1858 г. отнюдь не меньше признаков сословной дворянской корысти, чем у их московских собратий, Александр воздержался в Вильне от подобных внушений и даже намеков на недовольство58). Полонофильство Назимова не выдержало испытания начавшимися в 1861 г. политическими беспорядками в Царстве Польском и Северо-Западном крае и повседневной демонстрацией враждебности и презрения поляков к представителям имперской власти. Перелом в его воззрениях на местное дворянство совершился так резко, точно должен был нарочно проиллюстрировать максиму "От любви до ненависти один шаг". Еще в конце 1860 г. генерал-губернатор, рискуя своей репутацией зачинателя "святого дела" освобождения, поддержал ходатайство виленского губернского предводителя А.Ф. Домейко, направленное в МВД, о пересмотре проектов Редакционных комиссий для литовских губерний, грозивших, по мнению местных помещиков, полным разорением их хозяйств (см. об этом выше). А вот уже осенью 1861 г. Назимов начинает муссировать идею о принуждении каждого местного дворянина к официальному принятию одного из наименований – поляк или русский, – под угрозой перевода всех лиц, которые “не признают себя русскими”, на положение, в лучшем случае, граждан Царства Польского, имеющих собственность в России.59 Подобная дискриминация очевидно выбивалась из привычной практики управления имперскими окраинами: у власти попросту не было административных 32 процедур для опознания и фиксации национальной принадлежности, так сказать легализации этничности. В дальнейшем Назимов переформулировал данную идею так, что ее реализация фактически позволила бы власти немедленно обвинять дворян, которые не захотели бы именоваться русскими, в государственном преступлении: им предлагалось признать, что они "настаивают на предоставление польской народности права господства в западных губерниях…".60 Этот и ряд других замыслов Назимова были, в сущности, радикальнее и "полонофобнее" тех репрессивных мероприятий, которые осуществил его преемник М.Н. Муравьев. Восстание 1863 г. доставило полонофильски настроенным русским деятелям еще более тягостные разочарования. Люди, вольно или невольно симпатизировавшие польскому национальному типу и видевшие в нем прежде всего просвещенного европейца, переживали настоящий шок, узнавая о террористических актах повстанцев против мирного населения, о жестоких методах партизанской войны и пр. Но выход из этого дискурсивного тупика вскоре отыскивается: стереотип словно бы высвечивается с другой стороны, обнаруживает свою смысловую амбивалентность. В стереотипе рыцарственности открывается целый смысловой субстрат, ассоциированный с топосами средневековья. Европейскость поляков остается знаковой, поляки по-прежнему рисуются типичными европейцами, но уже в новом контексте и с оценочной инверсией - они предстают реликтом средневековой, отсталой, канувшей в прошлое Европы. Рыцарственность оборачивается теперь воинствующим фанатизмом, нетерпимостью, авантюризмом и батальной, слепой жаждой убийства. В результате цивилизованность, без всякого ущерба для символической экспрессии стереотипа, перекодируется в отсталость и дикость.61 Амбивалентная структура представлений о рыцарской Польше, их включенность в принципиально различные историко-аксиологические перспективы по-своему убедительно и впечатляюще описаны в уже упомянутом выше памфлете "Слово русского к мятежным полякам". Автор обращался в действительности не столько к повстанцам, сколько к русским, взывая к полонофобным эмоциям последних. Ему не откажешь в полемическом таланте, семиотическом чутье и умении воздействовать на воображение: "Вы имеете несчастную спо- 33 собность возводить дикие наезды и другие насилия ваших предков в эпические подвиги и экзальтировать ими и себя и других, видеть в иезуитских интригах и притязаниях следы мудрости и патриотизма ваших исторических деятелей, в казненных преступниках - польских мучеников. … Вам все прошедшее и настоящее представляется в обратном виде, … вы промахнули несколько веков и все еще считаете себя поляками времен Батория, а русских варварами Грозного… Вам хочется, чтобы в Польше все было нуль, кроме шляхты, чтобы время и события шли назад, а не вперед; чтобы для вас настали вновь средние века, с их liberum veto, конфедерациями, заездами, niepodległośćią, równośćią [независимостью, равенством. - М.Д.] на словах и тиранией и азиатскою спесью на деле…".62 Разумеется, автор не был склонен признавать, что возвышенноапологетическое восприятие рыцарской Польши было присуще и немалому числу русских (хотя намек на это в процитированном фрагменте содержится: "… экзальтировать … и себя и других"). Подобная пропаганда имела целью произвести эффект разрыва исторического времени, противопоставив Польшу и Россию в категориях прошлого и будущего, средневековой (="азиатской") и новой Европы. Одно из ярких свидетельств силы внушения, заключенной в маркированном средневековостью стереотипе поляка, - восприимчивость к нему даже такого признанного полонофила, каким был великий князь Константин Николаевич, наместник в Царстве Польском в 1862-1863 гг. Стараясь предотвратить отказ в Петербурге от реформ, проводившихся им в Царстве совместно с лидером польских лоялистов маркизом А. Велепольским, Константин всеми доступными ему способами доказывал, что восстание - "это не дело польской нации, а чистой революции, которая существует везде [в Европе]". По его мнению, польское высшее общество (союза с которым он искал) лишь симулировало националистические чувства, стараясь купить такой ценой вооруженное вмешательство европейских держав. Однако образ поляка - средневекового обскуранта проникал и в эту универсалистскую трактовку мятежа. К примеру, в мае 1863 г. наместник с негодованием сообщал императору о повстанческом терроризме: “На прошлой неделе опять зарезали в Варшаве одного полицейского агента, и отрезанное ухо его послали при записке к маркизу! Просто не верится, 34 чтоб мы жили в XIX столетии! Теперь здесь царство кинжала и яда, как во времена оны в Италии или Испании”.63 Два года спустя, накануне своей отставки, генерал-губернатор Северо-Западного края М.Н. Муравьев, политический антагонист вел. кн. Константина, посредством той же негативной символики характеризовал неизбывную враждебность польских "панов и ксендзов" к России: "…Крамола и обман есть основа их чувствований и воспитания… Они и теперь ползают и уверяют в преданности, тогда как на душе у них таятся кинжалы, яд и убийства".64 Насколько навязчивым и в то же время емким символом "полонизма" был для представителей имперской власти тот же кинжал (олицетворявший собою коварное и низкое злодейство, средневековое изуверство, религиозный фанатизм и пр.), показывает курьезный рапорт витебского губернатора генералгубернатору К.П. фон Кауфману в мае 1866 г. Губернатор доносил об уклонении православных крестьян одного из приходов от посещения пасхальной заутрени, причиной чему выставлялось слишком соблазнительное и завлекательное устройство ночной торжественной службы в соседнем костеле: "… Была представлена панорама картин страдания Спасителя, которая, при особенном освещении, приводилась посредством машины в движение и представляла зрителям то массы идущих людей, то Спасителя, несущего крест, то Матерь Божию, пронзенную в грудь кинжалом, то бегающего змея. Церковный же орган производил в это время музыку с громом, треском и звоном". Губернатор опасался, что столь натуралистичная репрезентация крестных мук может заронить в душу кого-либо из зрителей тягу к насилию и кровопролитию.65 Свойственные католической службе зрелищность и театральность понимались с этой позиции как потакание примитивным инстинктам толпы и поощрение грубых суеверий черни. "Кинжал" в груди Богородицы наделяется коннотациями отсталости и варварства. В Северо-Западном крае власть тем легче манипулировала стереотипами средневековой Польши, поляка-обскуранта и пр., чем отчетливее просматривалось в них социальное измерение. Во властной мифологии о мятеже 1863 г. "белая", шляхетско-клерикальная ипостась крамольного поляка доминировала над его "красным", нигилистическим воплощением, с которым гораздо чаще 35 связывалось распространение революционного радикализма во внутренней России (впрочем, обе эти фигуры - мятежный пан и разночинец-нигилист - вовсе не были противопоставлены друг другу в полонофобном дискурсе).66 Если манифест повстанческого комитета в январе 1863 г. о даровании крестьянам земли заставил имперскую администрацию поспешить в западных губерниях с увеличением крестьянского надела и переводом крестьян в разряд земельных собственников, то само проведение этих аграрных мероприятий воистину развязало власти язык, позволив перенести на польского пана эмансипаторскую риторику о крепостнике-душевладельце, отточенную в либеральном обществе в годы подготовки реформы 1861 г. Детализированное описание эксплуатации крестьян и притеснений их владельцами становится в служебных документах своего рода речевой формулой. "… Владельцы считали крестьян за грубую, неразумную рабочую силу, не заботясь ни о нравственном, ни об умственном их развитии. … В местностях, изобилующих лесами, помещики преимущественно занимали крестьян гонкою смолы в огромных размерах, разрушительно действующею на их здоровье, а в имениях, расположенных при сплавных реках, … помещики отдавали крестьян в постоянные работники евреям на барки", - уведомлял императора генерал-губернатор М.Н. Муравьев в своем итоговом докладе о реализации крестьянской реформы.67 Социальное измерение "полонизма" подчеркивалось и драматизировалось, - возможно, не всегда сознательно - также изобразительными средствами. Под личным наблюдением М.Н. Муравьева были изготовлены карикатурные рисунки - "сцены из мятежа". В марте 1864 г. генерал-губернатор распорядился литографировать эти карикатуры для раздачи и продажи, дабы компрометировать “безмозглое”, по его характеристике, восстание. Первый тираж, поступивший из Военной типографии, составил ни много ни мало 8974 экземпляра, большинство которых было распространено в пределах западных губерний. Это должно было послужить, по словам Муравьева, назиданием "здешним полякам" и ободрить "русскую публику". Впоследствии возникла идея наладить на основе тех же рисунков выпуск "лубочных изданий для народа". В 1865 г. московский литограф А.В. Морозов получил от виленской администрации заказ на производство 10000 экземпляров 36 карикатур. Заказ был исполнен в срок, но Морозов столкнулся с досадным препятствием: "… Такого содержания картины здесь в Москве продавать не дозволяют…". Новому генерал-губернатору Кауфману пришлось хлопотать о сбыте и этого тиража в подведомственном ему крае. Нетрудно понять причины замешательства московских властей: карикатуры выглядели весьма неблагонадежно, особенно те из них, где были запечатлены сцены пленения мятежников удалыми крестьянами и крестьянками - "Прошу панов с лясу" (s lasu, из леса, т.е. из мятежных отрядов, "банд") и "Русские мужики и бабы берут и вяжут повстанцев". Хотя творец оригиналов озаботился прорисовкой типичных "сарматских" усов на лицах панов, высоких сапог и прочих атрибутов "полонизма", на общем фоне композиции маркеры принадлежности к высшему сословию были много заметнее примет национальности. Московское простонародье могло распознать в унылых, повесивших носы субъектах, конвоируемых мужиками, не польских "панов", а вообще бар, помещиков, офицеров.68 Прямолинейная пропаганда с хорошо различимым крестьянофильским (по излюбленному определению многих историков - "демагогическим") подтекстом была не единственным способом, которым власть утверждала негативный образ пана - угнетателя народа. Символическая амбивалентность стереотипов и здесь сыграла свою роль: достоверность этой фигуры зависела от того, насколько отразятся в ней - теперь уже в пародийном, сниженном, но все же узнаваемом виде - элементы представлений о блестящем и неподражаемом поляке-магнате. С этой целью совместными усилиями бюрократов и публицистов создается довольно последовательный полонофобный нарратив об образе жизни, быте, привычках, нравах и т.п. знати Речи Посполитой. Одним из самых его занимательных и в то же время дидактичных сюжетов стали т.н. "панские фацеции" (от facecia – шутка, увеселение). Речь шла о тех формах проведения шляхетского досуга, которыми Речь Посполитая славилась по всей Европе - эксцентричных и фантазийных эскападах, призванных демонстрировать богатство, щедрость, индивидуализм натуры, благородную неукротимость духа. Теперь же то, что для польской шляхты свидетельствовало о ее происхождении от непобедимых завоевателей - сарматов, перетолковывалось в совсем ином ключе. Так, печатавшийся в "Вестнике Западной России" 37 знаток преданий о фацециях Потоцких и Радзивиллов повествует о том самом, что с такой щемящей ностальгией воспето Адамом Мицкевичем в "Пане Тадеуше", - умопомрачительных кутежах, лихих "наездах" (стычках между шляхетскими кланами из-за проблем наследования имущества и т.д.), любовных интригах, роскошных охотах. Но под заряженным полонофобией пером светскость, утонченность, эстетизм и прочие предполагаемые достоинства шляхты оборачиваются авантюризмом, невежеством, праздностью, социальным паразитизмом и эгоизмом. (Замечу вскользь, что в некоторых аспектах пересказ панских фацеций прямо-таки предвосхищает традицию современных анекдотов о "новых русских"). В конечном счете фацеция преподносилась как симптом исторической деградации польской шляхты, что усиливало коннотации средневекового мракобесия в стереотипе роскошествующего шляхтича: “Фацеция - не случайное явление в жизни одного-другого польского оригинала; происхождение ее объясняется складом ума и сердца, быта и привычек польского панства, историей Польши и связью ее с историей средневекового рыцарства. Польский пан считал своею обязанностью корчить западного барона-феодала, у которого была своя собственная фантазия и который немногим иногда отличался от разбойника и грабителя. Громадное богатство магнатов, выжатое прессом бесконтрольной деспотии из беззащитного холопа, праздная, пьяная жизнь, невежество..., развитие одной панской фантазии с ущербом для развития высших способностей духа, полное отсутствие разумных, общеполезных занятий, развлечений, достойных человека, христианина, гражданина, крайнее развитие тщеславия, высокомерия, самоволия, буйства - все это вместе дало жизнь фацеции, имевшей немалое влияние на ложные отношения пана к окружающей его среде, на извращение и попрание законов божеских и человеческих, на безурядицу политическую, на самое падение Польши”.69 На превращение шляхетской (в противоположность крестьянской) Литвы в хронотоп дремучего средневековья была нацелена также семиотизация ландшафта мятежного края, которая осуществлялась посредством и конвенциональной риторики, и практики управления. Изобилие густых и болотистых, а зачастую и непроходимых лесов на территории северо-западных губерний было са- 38 моочевидным фактом. Однако эта черта ландшафта неустанно и на разные лады акцентируется, обретает значение символа экономической и культурной отсталости польской шляхты. Дискурс власти расщепляет географическое пространство края на два символических измерения, ассоциируя леса со шляхтой и изменой, а открытую местность - с "народом" и верностью. Эта фигура двойного противопоставления была использована Муравьевым в его преисполненном пафоса воззвании к "сельским обывателям" от 2 июня 1863 г.: “...Смело и без боязни станьте лицом к лицу против бунтовщиков, которых страх наказания гонит в леса, а грабеж и разбой вызывают оттуда на ваши селения”.70 Смысловая структура, сопрягающая злокозненного "пана" и дремучий лес, нашла широкое применение в графоманском стихотворчестве во славу усмирителей мятежа, давшем в те годы на редкость богатые плоды. Это шаблонное и незатейливое, хотя и не всегда бескорыстное сочинительство, может быть, нагляднее всего обнаружило высокую степень восприимчивости рядовых верноподданных к воздействию властной риторики. Ограничусь двумя типичными примерами. Помещик Гродненской губернии, отставной подпоручик И.П. Веймарн в январе 1865 г. поднес М.Н. Муравьеву поздравительную "оду", которая начиналась следующими строками: Во время грустного раздора, Когда кичливый, думный лях, Изменник, не страшась позора, Предательски залег в лесах; Когда наемные убийцы Жизнь не щадили и девицы; Когда в Варшаве совершился Богопреступный замысл злой И выстрел дерзкий разразился Над брата Царского главой…71 Связь "кичливого" шляхтича и леса, как видим, дополнительно оттенена рифмой. Другой отставной военный, причем тоже подпоручик, А. КвашнинСамарин весной 1863 г. счел патриотическим долгом предложить для публика- 39 ции в центральной прессе свой опус под названием "Польским панам повстанцам. Мнимым либералам и патриотам". Послание звучало столь зажигательно, что Петербургский цензурный комитет, к тому моменту уже вполне настроившийся на полонофобную волну, не пропустил его, указав на избыток "оскорбительных" слов. Эти последние сплетаются у Квашнина-Самарина в целую череду символических клише: О вы, тщеславные [в другой версии - безмозглые] поляки! Надменный, глупый панский сброд, Охотники до смут, до драки! Заглохший отсталой народ! О! Призраки веков протекших, Фантомы рыцарей, Ягелл, Зачем восстали, для насмешки, Из ваших дедовских могил? В век просвещенья и прогресса, Дорог железных и машин Турниры вздумали средь леса Давать без всяких нам причин!72 Обратим внимание на то, как органично сочеталась полонофобия с прогрессистской риторикой эпохи Великих реформ. Польский мятеж, описанный в терминах "фантомной" средневековости, предстает вызовом всей новейшей европейской цивилизации, рационализму и позитивизму, что подчеркивается оппозицией леса (как места бессмысленных рыцарских турниров) и пронизавшей его железной дороги. Эта же выразительная оппозиция была объективирована и в чрезвычайном административном мероприятии - вырубке леса вдоль полотна железных дорог на всей территории Северо-Западного края. Об устройстве таких довольно широких просек М.Н. Муравьев распорядился вскоре после вступления в генерал-губернаторскую должность в мае 1863 г. Разумеется, прежде всего преследовалась вполне утилитарная цель - обеспечить безопасность движения на открытых незадолго до того линиях, имевших стратегическое значение. Но, помимо того, расчистка пространства вдоль железной дороги заключала в себе 40 доходчивое символическое послание: решительное вторжение в лесные пределы служило метонимией репрессий против крамольной шляхты. Не случайно Муравьев, когда до него дошли слухи о сопротивлении землевладельцев убыточному для них мероприятию, изрек по адресу лесов свирепую угрозу, как если бы это был живой враг: "Если некем будет вырубить леса, я их сожгу". 73 В дальнейшем сама практика подсказала, как можно усилить производимое вырубкой впечатление борьбы с панской Польшей: немалая доля поваленного леса, даже в частных владениях, даром отдавалась созванным на эту работу крестьянам.74 Цивилизующее обновление ландшафта сопровождалось осязаемым благодеянием для лояльной народной массы. 4. Механизмы конструирования полонофобии Попытка аргументировать тезис о полонофобии 1860-х гг. как дискурсивной инженерии, нарочитом конструировании чуждости влечет за собой вопрос о взаимодействии в этой стратегии автостереотипов русских (представлений русских о самих себе), русских стереотипов поляков и польских стереотипов русских. Хорошо известно, что в доиндустриальных обществах образ «другого» или «чужого» не был просто лишь результатом «неподдельного» изумления или отвращения перед непривычным и незнакомым. Скорее «чужой» являлся отображением собственных качеств и свойств данного социума, которые в силу разных причин не могли или не должны были быть опознаны и признаны как собственные.75 С этой точки зрения, образ «другого» создавался не на почве действительного незнакомства, а в устойчивом режиме культурной близости и даже взаимного понимания (пусть даже тщательно маскируемого). Для такой операции требовалось отобрать узнаваемые черты и атрибуты, способные пробуждать эмоции и волновать, из багажа уже имеющихся сведений и впечатлений. Читатель, наверное, уже заметил, что окарикатуренный портрет роскошествующего польского «пана» живо напоминает, вплоть до некоторых деталей (безусловно, не всех, ибо иначе пропадал бы колорит инакости), фигуру отечественного самодура-крепостника, сошедшую со страниц беллетристики социального или близкого к нему направления, как и публицистических текстов 41 эмансипаторов. Упивающийся своими «фацециями» князь Радзивилл (я веду речь о мифе, а не о конкретном представителе славного рода) – чем не пара Кирилу Петровичу Троекурову из «Дубровского» А.С. Пушкина? А если копнуть чуть глубже, то можно предположить, что сама русская антикрепостническая и эмансипаторская риторика вобрала в себя ряд польских мифологем о «московском варварстве». Упрощенно говоря, представление «чужого» о тебе или представление о том, как ты и/или твои соотечественники выглядят в глазах «другого», оказывает влияние на процессы идентификации внутри общества в кризисный момент, после чего бумерангом возвращается «чужому» в форме «наших» стереотипов его самого. Разумеется, такая модель описывает ход двусторонней взаимной этностереотипизации в самом общем виде. Между тем недавняя работа А.С. Мыльникова о структурах этнокультурного взаимовосприятия в Восточной Европе XVI - начала XVIII вв. убедительно продемонстрировала плодотворность применения т.н. “эзотерическо-экзотерического” метода в имагологических исследованиях: “… Эзотерический подход означает выяснение того, что определенная группа думает о себе и что, по ее мнению, думают о ней другие группы; экзотерический подход означает выяснение того, что определенная группа думает о других и что она думает, что другие группы думают, о чем думает она”. 76 Данная перекрестно-многоуровневая формула помогает глубже понять логику многих действий имперской власти в общих рамках стратегии полонофобии. Ограничусь несколькими примерами, показывающими, что знание или догадка о собственном образе в глазах поляков могли как стимулировать, так и, напротив, сдерживать реализацию полонофобных представлений в административнополитической практике. Вполне очевидным механизмом полонофобии было сознательное повседневное инсценирование брутальной роли «варвара-москаля», как она рисовалась русским, знакомым с польским антиимперским нарративом. Особым старанием соответствовать зловещему трафарету отличился казачий генерал Я.П. Бакланов, командовавший в 1863-1864 гг. войсками в подчиненных виленскому генерал-губернатору восточных уездах Царства Польского. Об этом он с откровенностью, может быть наивной, а скорее всего – преднамеренно эпатирующей, 42 повествовал семь лет спустя в мемуарах. По словам Бакланова, он удачно эксплуатировал существовавшее среди польской шляхты предубеждение на свой счет: «…Я человек дикий и варвар, как гунн, и … не питаюсь мясом животных, а пожираю детей». Трепетавшие Бакланова поляки (их отчасти можно понять, только лишь взглянув на портрет генерала) не были оригинальны в приписывании ему каннибальских склонностей – такова была одна из расхожих европейских мифологем о казаке, пришельце из диких степей.77 Но вот реакция самого генерала на это мифотворчество была действительно неординарной. Узнав, что его адъютант, спрошенный одной шляхтянкой о том, «ктурых пан янарал уважа дети, тлустых альбо мизерных», возмущенно отрицал чудовищные пристрастия своего командира, он, Бакланов, строго приказал не опровергать такие толки, а всячески поощрять: «… Подобное настроение умов много поможет к водворению спокойствия в губернии».78 К анекдотическому привкусу истории Бакланова заставляют отнестись серьезно свидетельства об аналогичных, хотя и выраженных не в столь экстремистской форме, приемах М.Н. Муравьева. Племянник виленского правителя сообщал в частном письме в июне 1864 г.: «У Михаила Николаевича только и речи, что о Литве, и выражения его при посторонних и подчиненных об усмиренных уже поляках возмутительны; наедине он человечнее, видно такая система».79 Можно предположить, что той же «системой» объяснялось пристальное внимание Муравьева ко всевозможным направленным против него и его администрации памфлетам, изобличениям, сатирическим текстам и карикатурам, наконец, просто ругательным письмам, присылавшимся в Вильну. В основном авторами этих творений были поляки. Даже в самые напряженные дни подавления мятежа генерал-губернатор находил время для просмотра или заслушивания такой почты,80 и сомнительно, чтобы при созерцании, например, своего изображения в виде оскалившегося уродца, наказываемого повстанческой розгой, им руководило некое извращенное удовольствие. Ознакомление с методами собственной диффамации позволяло нащупать скрытые страхи противника, с прицелом на которые выстраивалась в дальнейшем определенная линия публичного поведения или риторики.81 43 Пропагандисты полонофобии обращали против поляков те или иные черты в монстроподобном образе «москаля», наделяя их значениями польской трусости и малодушия. Цитированный выше А.П. Стороженко в рассказе «Видение в Несвижском замке» - прозрачной аллегории на тему смерти «панской» Польши – вложил в уста поляка, доказывающего бесполезность продолжения восстания, красноречивую тираду: «[Муравьев] подавил восстание средствами, внушенными ему самим демоном, - нас поразили в самое чувствительное место: ударили по карману. Медвежьею лапой расшатал он здание, которое мы и наше духовенство веками созидали, и вот, говорю, приближается то время, когда оно рухнется…». Начавших было спорить собеседников он вгоняет в ужас описанием неминуемых кар, «полонофобность» которых, пожалуй, превосходит реальную репрессивную политику Муравьева: «… С вас следует уже штраф и за то, что вы разговариваете по-польски… Прежде чем вы перейдете плотину замка, всех захватят москали и отведут в Вильну и всех перевешают на Лукишках».82 Другим проявлением перекрестной стереотипизации было преднамеренное и расчетливое подыгрывание противнику, которое, провоцируя его на жесткие меры или утрируя уже предпринятые действия, придавало его образу гротескные черты, выглядевшие тем более убедительно и достоверно, что в них угадывалось отражение повседневной практики. Один из таких примеров - разработка и исполнение распоряжений виленской администрации о борьбе с широко распространенным среди местных католиков обычаем возведения памятных крестов и статуй святых в полях, при дорогах и пр. Власти еще до начала восстания подозревали, что во многих случаях установка таких крестов имела характер политической манифестации или протеста. В июле 1864 г. гродненский губернатор первым всерьез забил тревогу: кресты в последнее время сооружаются "в значительном количестве", причем "с неизвестною правительству целью". Генерал-губернатор Муравьев немедленно отреагировал на донесение своего подчиненного изданием циркуляра - запретить сооружение "вне костелов" "крестов и других каких-либо священных изображений, без предварительного на то разрешения гражданского Имеется в виду одна из самых одиозных репрессивных мер Муравьева – взыскание 44 начальства". Правда, предложение гродненского губернатора о том, чтобы потребовать от землевладельцев и крестьянских должностных лиц отчета о цели водружения всех уже имеющихся крестов (комизм ситуации совершенно прозрачен), - это предложение не нашло у Муравьева поддержки. И дальнейшие события показали, что генерал-губернатор имел все основания опасаться доведения своего приказа до абсурда. Через две недели после издания циркуляра в Вильне было получено отношение консистории Тельшевской римско-католической епархии (Ковенская губерния) - почти исключительно литовской по этническому составу населения. В нем сообщалось, что духовенству епархии строго поручено "несколькократно" огласить циркуляр Муравьева "во всех костелах собравшемуся народу". Казалось бы, католические иерархи заслужили похвалу за помощь власти в противодействии опасному народному суеверию? В Вильне, однако, новость из Тельшева встретили совсем иначе. Генерал-губернатор в весьма суровом тоне указал консистории, что всенародному оглашению в церкви подлежат лишь высочайшие манифесты и указы, но отнюдь не административные распоряжения.83 Иными словами, Муравьев усмотрел в действиях тельшевского духовного начальства диверсию под маской усердия: назойливое зачитывание циркуляра в костелах должно было настроить простонародье, приверженное своим религиозным обычаям, против местной администрации. Мы видим, как на практике работала формула «Что они думают о том, чего хотим мы». Догадка Муравьева о том, что «они думают о нас», была, скорее всего, верной. Вскоре в Вильну начали поступать донесения о ксендзах, которые под предлогом буквального понимания слов "вне костелов" не разрешали прихожанам ставить кресты даже на кладбищах. Полагая, что толковать в таком смысле циркуляр могут лишь те, кто хочет возбудить "неблагоприятные толки в народе" (имелись в виду слухи о насильственном переводе всех в православие), Муравьев наказывал причастных к тому лиц еще более сурово, чем инициаторов водружения сомнительных крестов. Самым же показательным моментом во всей этой истории было то, что утрированный образ полонофоба, на который намекало нарочито буквальное исполнение запрета, нашел свое реальное вос каждого польского землевладельца контрибуции в размере 10% с дохода. 45 площение в некоторых русских администраторах. Так, витебский губернатор Веревкин, уведомляя военных начальников уездов о циркуляре генералгубернатора, самовольно добавил к нему еще один пункт: "…Кресты, сооруженные без дозволения…, должны быть немедленно сняты и преданы огню". Трудно было точнее вписаться в хрестоматийное представление о бездушном варваре-"москале" - переломленный крест выступал неизменным символом страданий католиков под имперским игом! Муравьев немедленно дезавуировал распоряжение губернатора и поставил ему на вид этот акт административного произвола.84 Интригующий опыт манипуляции стереотипом "чужого" в русскопольском конфликте в Северо-Западном крае явили собой некоторые необычные приемы, которые местная администрация использовала для перевода, или, по официальной терминологии, "возвращения" католического населения (как крестьян, так и мелкой шляхты) в православие в составе целых приходов. Это один из тех случаев, когда полонофобы пытались утилизировать не только представления о собственном образе в глазах поляков, но и компоненты тех или иных версий польского «автопортрета». В первые годы после подавления восстания бюрократы разных рангов и уровней усматривали главное препятствие на пути "оправославления" католического населения в фанатизме католических священников и их безграничном влиянии на покорную и безответную паству. Как доносил в октябре 1865 г. исправник Могилевского уезда, "во многих местах" шляхтичи признают, что "если бы было поменьше костелов и в особенности ксендзов, они не задумываясь исполнили бы желание Правительства, боятся только одного, что ксендзы их проклянут и вообще им не будет от них житья".85 Рисуемая столь мрачными красками фигура ксендза выступала убедительным обоснованием очень популярного в среде тогдашних русификаторов лозунга: "Отбросить католицизм за Неман".86 Накал противостояния и соблазн прямого административного принуждения к переходу в "веру предков" были так велики, что в конце 1865 г. даже генерал-губернатор К.П. фон Кауфман, не отличавшийся особой терпимостью к католицизму, указывал в одной из инструкций могилевскому губернато- 46 ру, чтобы чиновники не "проповедовали" православие "именем Правительства, которое отнюдь не должно быть вмешиваемо в разговоры о религии".87 К 1867 г. методы массового перевода в православие заметно обновились, что было бы невозможно без реконтекстуализации общего стереотипа католического священника. Русификаторы, в частности, предприняли попытку организовать "возвращение" целых селений в православие не иначе как "через ксендзов", изъявлявших готовность обратиться в православных священников в собственном приходе.88 Враг становился удобным и эффективным вспомогательным орудием! Наиболее впечатляющие в количественном отношении результаты были достигнуты в Минской губернии, где эту кампанию курировал и направлял энергичный практик русификации А.П. Стороженко, ратовавший за осуществление таких же мер и в Виленской губернии. Из его секретных писем генерал-губернатору Э.Т. Баранову уясняется чрезвычайно любопытный взгляд на ксендза - союзника власти. За этим последним признавалось полное моральное право на воинствующее миссионерство. Об одном из таких священников Стороженко с одобрением писал, что его "закидали пасквилями, в которых называют его рабом московского тирана, Иудою предателем", но он "мало обращает внимания на эти выходки и беспощадно присоединяет Медведовских [прихожан] к православию".89 (Неизбежно возникающий вопрос о том, как смотрели на эти обращения сами обращаемые, каково было при этом их духовно-религиозное состояние и пр., сознательно выносится за рамки данной статьи). Критерии отбора ксендзов, подлежавших "переквалификации" в православных священников, удивительным образом сочетали в себе прагматический, чтобы не сказать циничный, расчет и размашистое мифотворчество. С одной стороны, ставка откровенно делалась на корыстную заинтересованность ксендзов в обращении паствы в православие. "…Не только не фанатик, но скорее неверующий и поклоняется только золотому тельцу, отечество его там, где ему хорошо… Умен, изворотлив, деспот с своими прихожанами, одарен силою воли и нещекотливою совестью" - так рекомендовал Стороженко одного из своих наиболее перспективных протеже, бравшегося оправославить многолюдный католический приход в Виленской губернии. С другой же стороны, русификато- 47 ры, стремясь оправдать довольно рискованное мероприятие, совмещали этот сниженный, меркантильный образ католического священника с мифологемой о его фанатизме и страсти к прозелитизму. Приглашая католиков переводить целые приходы в православие, они апеллировали к идеалу миссионера, спасителя людских душ, который, как предполагалось, не исчезал из сознания самого сребролюбивого ксендза. "…Ксендзы, - развивал эту мысль Стороженко, - вводили в Западном крае латинство, а теперь, по пословице «клин клином выбивают», те же ксендзы обращают католиков в православие. Лучших пропагандистов трудно отыскать, ксендзы по части прозелитизма сих дел майстера".90 Замысел ясен: вредоносная энергия должна быть направлена в нужное русло, на благие цели. Хотя по изученным мною источникам трудно с уверенностью судить о внутренних мотивах столь неординарных поступков ксендзов, можно предположить, что они не оставались безучастными к актуализации стереотипов о них самих. А это свидетельствует о наличии обратной связи в процессах культурной стереотипизации. ***** Рассмотренные в данной статье культурные механизмы имперской полонофобии предстают весьма подвижными и отзывчивыми к потребностям власти в символическом самоутверждении и возвышающей саморепрезентации. В качестве стратегий полонофобии могли использоваться: конструирование враждебной фигуры поляка как антагониста народного, «почвенного» тела России, смысловая инверсия оппозиций, структурировавших восприятие России поляками или русские полонофильские воззрения (например, модель «русский традиционализм versus польский космополитизм» вместо оппозиции «русское варварство – польская цивилизованность»). К этим способам примыкала и полонофобия в форме социального спектакля перед поляками – разыгрывание собственных ролей, увиденных (с разной степенью точности) отраженными в польской ментальности, спекуляции на негативных ожиданиях, связанных с русофобным образом «москаля». 48 Отмеченная взаимная обратимость положительных и отрицательных черт стереотипного видения поляка подкрепляет предположение о том, что этностереотип не является унифицированной жесткой схемой восприятия «другого» или предзаданной матрицей коллективного сознания. Скорее это проект осмысления «другого», открытый альтернативным реализациям. Его можно описать как туго свернутую и ожидающую своего распрямления спираль различных смыслов и значений или – если прибегнуть к другой метафоре – как некий силуэт, который может быть по-разному превращен в объемное, действительно стереоскопическое изображение. Взаимозависимость между стереотипизацией поляка и политической реальностью прослеживается и по другой линии. Мышление имперской полиэтнической элиты довольно медленно вбирало в себя приоритеты современного национализма, так что даже наиболее брутальные усмирители восстания 18631864 гг. и русификаторы Западного края желали «разбавить» концентрацию этнического содержания в понятии «поляк» категориями, более совместимыми с устоями империи, с парадигмой имперской государственности. Поэтому в культивируемом ими образе поляка-врага значения мятежности, космополитизма, необузданного доктринерства, (псевдо)религиозного фанатизма, социальной кастовости, а также целого ряда моральных пороков приглушали идею об этносе как таковом. Носители перечисленных свойств были антагонистами, но антагонистами знакомыми и привычными для защитников имперского порядка. Рискуя вызвать упрек в парадоксализме, скажу, что этностереотипизация в данном случае осуществлялась именно для маскировки этничности. С этой точки зрения, этностереотип являлся составной частью единого дискурсивного пространства, в котором происходило его тесное взаимодействие с воображаемыми конструкциями социальной иерархии, моделями политического устройства, властными имиджами правителей. В результате данного процесса полонофобия наделялась скрытой функцией символизировать внутренние проблемы и болезни общеимперского организма. В частности, в середине 1860-х гг. негативный образ поляка подпитывался целым комплексом тревог и неврозов русского общества, вызванных болезненными эффектами Великих реформ, особенно подрывом традиционных социальных идентичностей. На 49 поляков легко переносились страх за будущность самодержавия и дворянского сословия, сомнения в возможности сближения верхов с народом, неуверенность в прочности религиозных компонентов мировоззрения. Так, в контексте русскопольского противостояния в Западном крае стереотип польской аристократки ненавистницы России и фанатичной проповедницы католической экспансии мог обозначать миссионерскую пассивность и падение морального авторитета православного духовенства, стереотип политически искушенного и мечтающего о шляхетской олигархии «пана» выступал иносказанием дезинтеграции русского дворянства и утраты им этоса высокого служения, и т.д. Полонофобия была одним из тех звеньев «польского вопроса», которые буквально сковывали, если не сращивали его с социальными, аграрными, конфессиональными приоритетами во внутренней политике самодержавия. И это – еще один довод в пользу мнения о том, что объектом т.н. политики на «национальных окраинах» были не только эти самые окраины, но в не меньшей мере – центр, ядро и сердце империи. Głębocki H. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866). Kraków, 2000. S. 261-370, 420-469; Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855-1875. Köln, Weimar, Wien, 2000. 2 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА), ф. 908, оп. 1, д. 104, л. 93‘з’ об. 3 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX - начало XX в.). М., 1999. С. 100-190; Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863-1905). Lublin, 1998; Staliūnas D. ‘The Pole’ in the Policy of the Russian Government: Semantics and Praxis in the Mid-Nineteenth Century // Lithuanian Historical Studies. [Lithuanian Institute of History, Vilnius]. 2000. Vol. 5. P. 45-67; Weeks T.R. Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914. DeKalb: Northern Illinois U.P., 1996. P. 70-109; idem. Russification and the Lithuanians, 1863-1905 // Slavic Review. 2001. Vol. 60, no. 1. P. 96-114. Мою трактовку тех же и близких им сюжетов см.: Долбилов М.Д. Конструирование образов мятежа: Политика М.Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 1863-1865 гг. как объект историкоантропологического анализа // Actio Nova 2000: Сб. статей / Под ред. А.И. Филюшкина. М., 2000. С. 338-408. 4 Kępiński A. Lach i moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa - Kraków, 1990. S. 180. Работа по сходной теме А. Гизы представляет собой серию популяризаторских очерков: Giza A. Polaczkowie i moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800-1967). Szczecin, 1993. В последние годы опубликован ряд тематических сборников, в которых зачастую культурологический и литературоведческий подход к проблеме этностереотипов доминирует над историческим: Поляки и русские: Взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост. А.В. Липа1 50 тов, И.О. Шайтанов. М., 2000; Polacy a Rosjanie. Поляки и русские / Pod red. Tadeusza Epszteina. Warszawa, 2000; Поляки и русские в глазах друг друга. М, 2000. 5 Шильдер Н.К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. М., 1996. Кн. 2. С. 291-294. 6 Kagan Frederick W. The Military Reforms of Nicholas I: The Origins of the Modern Russian Army. New York: St.Martin's Press, 1999. P. 209-221, 238-241. 7 Głębocki H. Fatalna sprawa… S. 262. 8 Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III Отделение. М., 1998. С. 338. Конечно, при оценке этого тезиса надо сделать поправку на искреннее желание Булгарина, обращавшегося к высшим правительственным лицам, представить своих соотечественников в сколь можно более выгодном свете. 9 См., напр.: Захарова Л.Г. Начало Великих Реформ [предисловие] // Милютин Д.А. Воспоминания. 1860-1862. М., 1999. С. 6-7. 10 Knight N. Science, Empire and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845-1855 // Imperial Russia: New Histories for the Empire / Ed. by J. Burbank and D. Ransel. Bloomington, Indiana: Indiana U.P., 1998. P. 132. 11 О роли метафоры пробуждения ото сна в европейских национальных движениях см.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 211-213. 12 Первое издание Материалов Редакционных комиссий для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. СПб., 1860. Ч. 18. С. 3-4, 5. 13 Starr S.F. Decentralization and Self-Government in Russia, 1830-1870. Princeton, NJ, 1972. P. 166-172. 14 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1911. Т. 4. С. 351-371; РГИА, ф. 1180, оп. т. XV, д. 121, л. 247-250 об., 267-274 об. 15 РГИА, ф. 869, оп. 1, д. 517, л. 5 об.-6. Чрезвычайно характерно использование Милютиным этнической терминологии при описании взаимоотношений помещиков и крестьян в Северо-Западном крае. Еще годом ранее Редакционные комиссии, проектируя «Положение» для северо-западных губерний, избегали употребления этнонимов; теперь же соседство слов «литовские» (крестьяне) и «польские» (помещики) начинает принимать оттенок конфронтации. 16 Staliūnas D. Litewscy bialy i władze carskie przed powstaniem styczniowym: między konfrontacją a kompromisem // Przegląd Historyczny. 1998. T. LXXXIX, zesz. 3. S. 383-401. 17 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее - ОР РГБ), ф. 169, к. 42, № 2, л. 41-41 об. Ср.: Staliūnas D. Litewscy bialy i władze carskie… S. 392. 18 Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863-1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Вильна, 1913. Ч. 1 (Виленский временник, кн. VI). С. 434, 435. 19 РГИА, ф. 1282, оп. 2, д. 339, л. 33. Тезис Назимова интересен и тем, что вполне в духе европейского модерного национализма он различает вероисповедание как таковое и «самобытность народного характера». 20 Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг. М., 1965. С. 104; Государственный архив РФ (далее – ГАРФ), ф. 109, 1-я эксп., оп. 38 (1863 г.), д. 23, ч. 13, л. 75-75 об., 77 об. 21 Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas [Литовский государственный исторический архив, Вильнюс; далее – LVIA], ф. 439, оп. 1, д. 26, л. 10; д. 24, л. 1. 22 Еленев Ф. Польская цивилизация и ее влияние на Западную Русь. СПб., 1863. С. 82. 23 [Муравьев М.Н.] Всеподданнейший отчет графа М.Н. Муравьева по управлению Северо-Западным краем (с 1 мая 1863 г. по 17 апреля 1865 г.) // Русская старина (далее – РС). 1902. № 6. С. 495. 51 LVIA, ф. 439, оп. 1, д. 56, л. 11 об. О культурных механизмах подобной актуализации аспектов одного и того же символа в социальной практике см.: Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. С. 168-171. 26 Долбилов М.Д. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863-1865 гг. // Ab Imperio. Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2001. № 1-2. С. 238-243. 27 LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 271, л. 1-4 об. 28 Сборник документов музея графа М.Н. Муравьева / Сост. А. Белецкий. Вильна, 1906. Т. I. С. 30. 29 LVIA, ф. 378, BS, 1863 г., д. 1376-I, л. 6-6 об. 30 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов Александра Константиновича Гейнса. Т. III. СПб., 1899. С. 89. 31 Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа в Северо-Западных губерниях: 1863-1864 / Сост. Н. Цылов. Вильна, 1866. С. 353-354. 32 LVIA, ф. 378, PS, 1863 г., д. 1804, л. 5-6. 33 ОР РГБ, ф. 169, к. 14, № 3, л. 133. 34 Остатки латино-польского преобладания в Западной России // Вестник Западной России. 1864/1865. Т. III, кн. 11 (Май). Отд. III. С. 140-155 (Подпись – «Турист И…»). 35 LVIA, ф. 378, PS, 1863 г., д. 1804, л. 8-10 об. 36 Там же, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1343, л. 1-2. 37 Там же, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1331, л. 174 ‘b’ – 174 ‘b’об. 38 Гейнс А.К. Указ. соч. С. 168, 170-171. 39 LVIA, ф. 439, оп. 1, д. 43, л. 9-9 об. (Курсив мой). Дата подачи записки проставлена рукой М.Н. Муравьева. 40 Голос минувшего. 1913. № 12. С. 256. 41 О связи этой смысловой коллизии со стратегиями символической легитимации империи см.: Долбилов М.Д. Конструирование образов мятежа… С. 401-408. 42 Несомненно, русификаторские мероприятия в Западном крае и их символика коррелировали с экстремистским воззрением некоторых идеологов-националистов на польскую нацию как историческую фикцию: шляхте приписывалось латинское или кельтское происхождение, а поляки-крестьяне объявлялись принадлежащими к нерасчленимой славянской общности вместе с великоруссами, малороссами и белоруссами. (См., напр.: Głębocki H. Fatalna sprawa… S. 420-425). Тем не менее, высшие администраторы Западного края, не исключая М.Н. Муравьева, считали нереалистичной задачу этнической русификации Царства Польского. 43 Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863/1864. Т. I, кн. 3 (сентябрь). Отд. III. С. 54. 44 Об актуализации образа поляка-врага и ее риторических и поэтических приемах в период наполеоновских войн: Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 163-179, 212-213. 45 ГАРФ, ф. 728, оп. 1, д. 2732, л. 1-3 об. (собственноручная запись императором своих слов). 46 Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа… С. 228-236; LVIA, ф. 378, PS, 1863 г., д. 1807. 47 Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг. С. 43. 48 LVIA, ф. 378, BS, 1863 г., д. 816, л. 10-10 об. 24 25 52 Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики… С. 101-102; Staliūnas D. ‘The Pole’ in the Policy of the Russian Government… P. 61-66. 50 РГИА, ф. 384, оп. 12, д. 360, л. 85-85 об., 117-118, 123 об.-124, 126, 147 об., 152 об. 51 Бурдье П. Указ. соч. С. 171. 52 Видок Фиглярин… С. 353, см. также с. 258-264, 338-340. 53 См., напр.: Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики… С. 40-41. 54 Письма из западного края (IX) // Вестник Западной России. 1864/1865. Т. II, кн. 7 (январь). Отд. IV. С. 343-344. 55 LVIA, ф. 378, BS, 1857 г., д. 1266, л. 5 об., 7-8, 9 об., 135 об.-136, 155 об. и др. 56 [Павлов А.С.] Владимир Иванович Назимов. Очерк из новейшей летописи СевероЗападной России // РС. 1885. № 3. С. 573-580. 57 Никотин И.А. Из записок // РС. 1902. № 2. С. 361. 58 Интересное (и довольно самокритичное) ретроспективное объяснение "лирического" отношения имперской администрации к польскому дворянству Северо-Западного края в годы подготовки эмансипации см.: Соловьев Я.А. Записки // РС. 1881. № 4. С. 740-743. 59 ОР РГБ, ф. 169, к. 42, № 2, л. 46-47 (анонимная записка от октября 1861 г., согласованная с В.И. Назимовым). Запись в дневнике П.А. Валуева от 20 января 1863 г. дает основание предположить, что одним из тех, кто поддерживал эту идею Назимова, или даже автором соответствующей записки был близкий великому князю Константину Николаевичу генераладъютант граф С.П. Сумароков: Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. М., 1961. Т. I. С. 204. Х. Глембоцкий атрибутирует сходный проект М.П. Погодину: Głębocki H. Fatalna sprawa… S. 473-474. 60 РГИА, ф. 1282, оп. 2, д. 339, л. 40-40 об. (отношение Назимова П.А. Валуеву от 14 марта 1863 г.). См. также о проекте т.н. «гарибальдийского манифеста» Назимова: Staliūnas D. Litewscy bialy i władze carskie… S. 395. 61 Ценные замечания о двойственности и изменчивости стереотипов поляка в русском общественном сознании, и в особенности представлений о польском европеизме см.: Фалькович С. Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка // Поляки и русские в глазах друг друга. М, 2000. С. 45-71. 62 Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863/1864. Т. I, кн. 3 (сентябрь). Отд. III. С. 51, 52-53. 63 Переписка наместников Королевства Польского: Январь – август 1863 г. / Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego: Styczeń – sierpień 1863 r. Wrocław, 1974. С. 33, 114-115, 214. 64 РС. 1902. № 6. С. 496. 65 LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1331а, л. 3'а'-3'а' об. В ответ на запрос губернатора декан Витебской римско-католической епархии разъяснил, что "действительно по обрядам римско-католической церкви принято в последние два дня Великого поста изображать в костелах страдания Господа нашего Иисуса Христа как можно натуральнее". Декан ненавязчиво поправил губернатора, указав на то, что скорбящая Богоматерь представляется в таких случаях "с мечом в груди", но не кинжалом. (Там же, л. 4-4 об.). 66 Об эволюции русских представлений о польской «крамоле» и их перекличке с польскими представлениями о русской революционной угрозе см.: Горизонтов Л.Е. Поляки и нигилизм в России. Споры о национальной природе «разрушительных сил» // Автопортрет славянина. М., 1999. С. 143-167. 67 LVIA, ф. 439, оп. 1, д. 56, л. 1 об.-2 (копия доклада). 68 Голос минувшего. 1913. № 12. С. 259 (письмо министру гос. имуществ А.А. Зеленому от 25 марта 1864 г.); LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1632, л. 10, 23, 34-34 об.; ф. 439, оп. 1, д. 227. 49 53 И….ъ. Панские фацеции // Вестник Западной России. 1864/1865. Т. III, кн. 10 (апрель). Отд. IV. С. 97-114 (цитата - с. 97-98); кн. 11 (май). Отд. IV. С. 179-199. 70 Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа… С. 104, 229. 71 LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 224, л. 83. 72 Цит. по: Głębocki H. Fatalna sprawa… S. 363. (Курсив мой). 73 Дельвиг А.И. Мои воспоминания. Т. III. [М., 1913]. С. 240. 74 Муравьев М.Н. Записки об управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа // РС. 1882. № 11. С. 427-428. 75 Штихве Р. Амбивалентность, индифферентность и социология чужого // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. I, № 1. 76 Мыльников А.С. Картина славянского мира: Взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 13-14, см. также с. 231-241. 77 Бакланов Я.П. Моя боевая жизнь // РС. 1871. № 8. С. 157. О стереотипе казака см.: Кабакова Г. Свечкоед. Образ казака во французской культуре XIX века // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 55-77. 78 Бакланов Я.П. Моя боевая жизнь. С. 157-158. 79 Отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 254, № 508, л. 87. 80 Никотин И.А. Из записок // РС. 1904. № 2. С. 328. 81 Вполне закономерно, что при разборе бумаг Муравьева после его смерти в 1866 г. собрание всевозможных поздравительных и приветственных посланий ему было оставлено семье, тогда как коллекция полученных им в Вильне «ругательных писем» передана по распоряжению императора в Третье отделение. Власть нуждалась в материалах для изучения русофобии! (См.: LVIA, ф. 439, оп. 1, д. 74, л. 15-16). 82 Вестник Западной России. 1864/1865. Т. II, кн. 6 (декабрь). Отд. IV. С. 229-230. 83 LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1335, л. 1-2, 3, 22-22 об., 23-23 об. 84 Там же, л. 40-40 об., 27-27 об., 25, 26. Теми же соображениями – не переусердствовать с вхождением в образ брутального «москаля» – было вызвано предписание Муравьева губернаторам в декабре 1864 г.: снять «неуместные» ярлыки на дверях почтовых станций, запрещающие говорить по-польски. (LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 401, л. 1-5 об.). 85 LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1331, л. 232 об. 86 Владимиров А.П. Из новейшей летописи Северо-Западной России. История плана располячения католицизма в Западной России // РС. 1885. № 10. С. 101. См. также: Спичаков Л.А. Православие и Римское католичество на Западной окраине России // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1872. Кн. 2. Отд. V. С. 206-233. 87 LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1331, л. 230. 88 В тот же период в виленской администрации начинается интенсивное обсуждение другой нетрадиционной русификаторской меры – замены польского языка русским в римскокатолическом богослужении. См. подробнее: Weeks T.R. Religion and Russification: Russian Language in the Catholic Churches of the “Northwest Provinces” after 1863 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2001. Vol. 2, no. 1. P. 87-110; Staliūnas D. ‘The Pole’ in the Policy of the Russian Government… P. 50-52. Я разделяю мысль Сталюнаса о том, что идея «русского католицизма», несмотря на определенное сходство с культурно-языковой, внеконфессиональной концепцией русской национальной идентичности (сходство, несколько преувеличиваемое Виксом), все-таки подразумевала желательность обращения в будущем таких католиков в православие. 89 LVIA, ф. 378, BS, 1864 г., д. 1331a, л. 58. 69 54 90 Там же, л. 61, 63, 64-64 об.