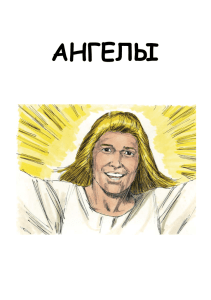Круги на воде
advertisement
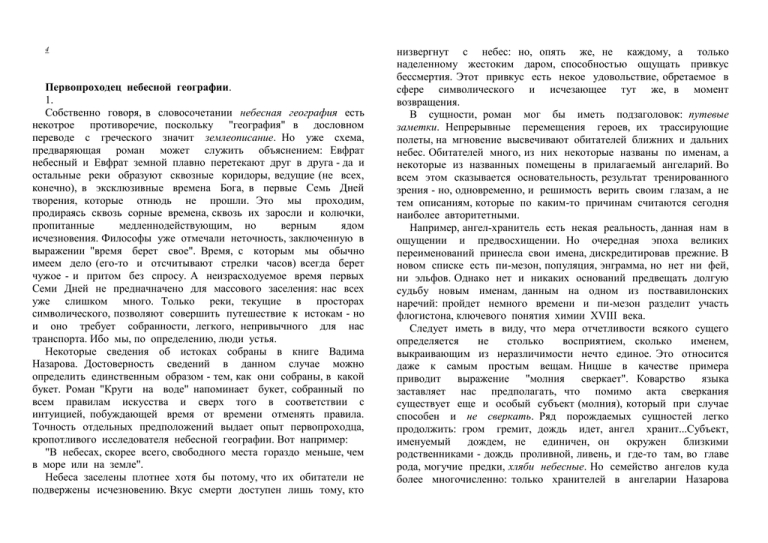
4 Первопроходец небесной географии. 1. Собственно говоря, в словосочетании небесная география есть некотрое противоречие, поскольку "география" в дословном переводе с греческого значит землеописание. Но уже схема, предваряющая роман может служить объяснением: Евфрат небесный и Евфрат земной плавно перетекают друг в друга - да и остальные реки образуют сквозные коридоры, ведущие (не всех, конечно), в эксклюзивные времена Бога, в первые Семь Дней творения, которые отнюдь не прошли. Это мы проходим, продираясь сквозь сорные времена, сквозь их заросли и колючки, пропитанные медленнодействующим, но верным ядом исчезновения. Философы уже отмечали неточность, заключенную в выражении "время берет свое". Время, с которым мы обычно имеем дело (его-то и отсчитывают стрелки часов) всегда берет чужое - и притом без спросу. А неизрасходуемое время первых Семи Дней не предначначено для массового заселения: нас всех уже слишком много. Только реки, текущие в просторах символического, позволяют совершить путешествие к истокам - но и оно требует собранности, легкого, непривычного для нас транспорта. Ибо мы, по определению, люди устья. Некоторые сведения об истоках собраны в книге Вадима Назарова. Достоверность сведений в данном случае можно определить единственным образом - тем, как они собраны, в какой букет. Роман "Круги на воде" напоминает букет, собранный по всем правилам искусства и сверх того в соответствии с интуицией, побуждающей время от времени отменять правила. Точность отдельных предположений выдает опыт первопроходца, кропотливого исследователя небесной географии. Вот например: "В небесах, скорее всего, свободного места гораздо меньше, чем в море или на земле". Небеса заселены плотнее хотя бы потому, что их обитатели не подвержены исчезновению. Вкус смерти доступен лишь тому, кто низвергнут с небес: но, опять же, не каждому, а только наделенному жестоким даром, способностью ощущать привкус бессмертия. Этот привкус есть некое удовольствие, обретаемое в сфере символического и исчезающее тут же, в момент возвращения. В сущности, роман мог бы иметь подзаголовок: путевые заметки. Непрерывные перемещения героев, их трассирующие полеты, на мгновение высвечивают обитателей ближних и дальних небес. Обитателей много, из них некоторые названы по именам, а некоторые из названных помещены в прилагаемый ангеларий. Во всем этом сказывается основательность, результат тренированного зрения - но, одновременно, и решимость верить своим глазам, а не тем описаниям, которые по каким-то причинам считаются сегодня наиболее авторитетными. Например, ангел-хранитель есть некая реальность, данная нам в ощущении и предвосхищении. Но очередная эпоха великих переименований принесла свои имена, дискредитировав прежние. В новом списке есть пи-мезон, популяция, энграмма, но нет ни фей, ни эльфов. Однако нет и никаких оснований предвещать долгую судьбу новым именам, данным на одном из поствавилонских наречий: пройдет немного времени и пи-мезон разделит участь флогистона, ключевого понятия химии XVIII века. Следует иметь в виду, что мера отчетливости всякого сущего определяется не столько восприятием, сколько именем, выкраивающим из неразличимости нечто единое. Это относится даже к самым простым вещам. Ницше в качестве примера приводит выражение "молния сверкает". Коварство языка заставляет нас предполагать, что помимо акта сверкания существует еще и особый субъект (молния), который при случае способен и не сверкать. Ряд порождаемых сущностей легко продолжить: гром гремит, дождь идет, ангел хранит...Субъект, именуемый дождем, не единичен, он окружен близкими родственниками - дождь проливной, ливень, и где-то там, во главе рода, могучие предки, хляби небесные. Но семейство ангелов куда более многочисленно: только хранителей в ангеларии Назарова D:\681449086.doc насчитывается девять. Выбор каждого имени обусловлен способом (со)хранения, но по-настоящему обоснован лишь силой письма. Сила письма (или точность называния) - это единственный способ уловить эхо вещих глаголов, единственный путь, сохранившийся и в поствавилонскую эпоху. Но и происходящее в сфере символического отнюдь не остается для нас безнаказанным: вслед за контурами выкраеваемого мира мы наносим на контурную карту самих себя: - Добро пожаловать ко мне в гости, - говорит автор. А план прилагается - перекресток небесных рек с Невой и с речкой Оредежь. Прилагается и маршрут - текст романа. Смею заверить: тот, кто проследут по маршруту не пожалеет. Мир, населенный сущностями и существами точно поименован и выдерживает проверку на зримость. 2. Вадим Назаров родился в Калининграде, в городе, где история была прервана и начата заново, с новым именем. Таких мест не так уж и много на земле. Вероятно, образующаяся прореха благоприятствует наблюдению невидимого, а искусство путешествий вырабатывает твердость руки, важнейшее качество для пишущего. По большому счету, "Круги на воде" это первое произведение писателя, оставляющее решительно позади пробы пера и оповещающее о происхождении мастера как о свершившемся факте. В своей публичной жизни Вадим известен как человек успеха (хотя, конечно, всякое было), как один из лучших издателей и редакторов Петербурга. Кажется, Назарову удавались все те дела, за которые он брался - так, по крайней мере, о нем говорят. Но высокая точка старта представляет дополнительную трудность для писателя. Сложившиеся представления увеличивают риск предстать пред лицом читателя - теперь уже от себя лично. Следовательно, требуется и большая доля бесстрашия, чтобы выступить в роли автора, смирившись с неизбежной беззащитностью собственного текста. Только многократно 2 подтвержденное признание слегка притупляет это чувство беззащитности, переводя его в состояние тревожного фона. Что ж, Вадим Назаров безусловно может рассчитывать на первое признание: роман "Круги на воде" только укрепит его репутацию человека успеха. С другой стороны, именно поэтому трудность следующего шага ничуть не уменьшилась: заявка на большую литературную судьбу уже сделана и отступать будет некуда. Читатель, принявший приглашение к путешествию и оценивший по достоинству достопримечательности пути, уже не забудет имени проводника. Вопрос о влияниях и заимствованиях, в течение двух столетий так волновавший литературную критику, в эпоху постмодерна отступил, наконец, на задний план - даже за пределы тревожного фона. Предъявляемый текст все оправдания содержит только в самом себе и только способность очаровывать может рассматриваться как единственный критерий оригинальности, как действующий пропуск, завизированный подписью плененного воображения. Пропуск выдан, и значит все полномочия получены. Установление литературной родословной становится личным делом умного читателя, чем-то сопоставимым со склонностью к разгадыванию кроссвордов. Отличие состоит в том, что заполнить все строки кроссворда не может и сам составитель, более того неведомые автору лакуны освобождают место для свободы письма. В сущности, художнику нет дела до попутно разгаданного кроссворда, ему важны лишь те пересечения воображаемой и действительной родословной, которые высвечиваются в таинстве текста и если таинство состоялось, благодарность предшественников заведомо перевешивает задолженность художника. Так, традиция ангелографии уходит своими корнями к гностикам, можно выделить несколько периодов расцвета и вспомнить имена хотя бы Дионисия Ареопагита и Бонавентуры. Метод дивинации с успехом применяли великие визионеры от Данте до Даниила Андреева; метод имеет очевидные D:\681449086.doc преимущества, точнее сказать, преимущества очевидности: то, что показано ясно, не требует доказательства: "Вместе с девственностью она, как и все женщины, потеряла способность различать некоторые оттенки красного, а детей у них не было". Представленный здесь уровень очевидности можно назвать исчерпывающим, единственная трудность состоит в том, что такой способ демонстрации не поддается изучению. К тому же, дар ясновидения сам по себе отнюдь не гарантирует способности "яснопоказывания" - в противном случае искусство письма (и вообще искусство) было бы излишним. Испытать влияние, быть очарованным, учиться у мастеров - всего этого недостаточно, чтобы обрести право легкости, когда художник говорит: вот, смотри, - и всякий взглянувший увидит...Назаров обладает правом легкости и распоряжается им по своему усмотрению. Ненавязчивость литературной искушенности это органичность писателя. Подобно своему приятелю Павлу Крусанову Вадим Назаров тоже мог бы указать какую-нибудь ворону на дереве в качестве строгого, но справедливого учителя чистописания. В романе есть такого рода отсылки: "Позднее, наяву, я видел изображения, отдаленно напоминавшие лилии из сна. Книга, где я их нашел, называлась Летний луг глазами майского жука." Среди привилегированных объектов желания можно отметить купол Исаакия и мосты Петербурга. Очертания этого города нанесены на контурную карту духовной родины. "Круги на воде" - глубоко петербургский роман. 3. Извилистая траектория путешествия многократно проходит через Петербург. Горние сферы над этим городом особенно плотно населены, а низкое петербургское небо свидетельствует о непрерывности контакта между хранителями и хранимыми. Иногда зазор исчезает вовсе, смыкая сон с явью и соединяя Неву с рекой Фисон, подтверждая каждодневные подозрения, что видимая 3 часть Невы - всего лишь зеркальная проекция тех вод, что были отделены от тверди. Путевой отчет указывает на эту странную особенность, едва уловимую в силу своей очевидности: "Я провел по лицу ладонью и сквозь пальцы увидел: Поместный Ангельский Собор на ярусах Исаакиевского, строгие книжники Синода, легкомысленный Гений триумфальной колонны, Александриец, попирающий змея. Всюду мне открылись знаки горнего присутствия. Вазы и статуи на крышах только усиливали ощущение необитаемости. Строитель Империи, похоже, и в самом деле творил этот город не для людей. Отсюда и водный простор, привлекающий ветры, и тенистые парки, и смотровые площадки на куполах церквей." Такова кратчайшая монограмма очарования Города, его формула, реализованная как замысел свыше: Петербург прекрасен со стороны моря, реки и неба - и невзрачен, почти непригоден для обитания изнутри. Что, однако, вполне устраивает зачарованных обитателей, способных здесь жить - а до прочих Городу нет дела. Близость горнего присутствия объясняет и отсутствующий вид, и склонность вялотекущих разговоров начинаться и заканчиваться невпопад. Зато круги на воде здесь расходятся лучше всего, и раскаты вещих глаголов всего слышнее. Нет лучшего места для стажировки визионера-практиканта. Привыкнув к постоянному вмешательству призраков - полноправных жильцов, навечно прописанных в городе - потом долго приходится стряхивать наваждение символического. Едва ли кто способен жить в Петербурге безвыездно и оставаться невредимым. Тому есть надежные свидетельства - от "Медного Всадника" до романов Константина Вагинова, и в книге Назарова можно проследить момент передачи эстафеты, не требующий специального оповещения. 4. Продолжая разговор о творческом методе, следует обратить внимание на принадлежность к современной литературной манере в лучшем смысле этого этого слова. Отказ от психологизма, D:\681449086.doc лишенный даже опасений и поэтому не декларируемый, знаменует собой некую новую степень свободы. Автор избавляется от необходимости иметь дело с такими подозрительными реалиями как характер, мотивировка - и вообще отказывается от традиционной искажающей оптики реализма. Навязанное в свое время требование непременного описания сюртука или выражения лица героя уже давно дискредитировано как в высшей степени искусственное и вводящее в заблуждение. Перечисление "того, что стояло на столе", можно найти только в книге, подобный перечень никогда не присутствует ни в памяти, ни в структуре нормального человеческого восприятия. Вот мы пьем утром первый глоток кофе: посторонний наивный рассказчик может обставить это событие предметными аксессуарами - желтая керамическая чашечка, потрепанная скатерть, позвякивающая ложечка, купленная еще старшей сестрой в магазине на углу улицы X и улицы Y. Но для нас событие не распадается на отдельные предметы и разворачивается совсем в другом измерении, где-нибудь на кромке отступающего сна и подступающего бодрствования. Из предметов разве что стрелка часов присутствует в сознании - как резец, очерчивающий еще смутные намерения и столь же смутные желания. Честность самоотчета требует избегать подсказок - готовых шаблонов, отстойников паразитарной словоохотливости. Для уклонения от таких ловушек вполне достаточно начальной школы вкуса. Ловушки психологизма устроены куда более хитро - они требуют, например, выстраивать характер героя, не отступая ни на шаг и усматривая в этой монотонной последовательности некую жизненную достоверность. Что ж, если такова "правда жизни", то придется признать, что она существует только в искусстве - в самой жизни ее нет. Есть летучие конфигурации желаний, как правило не совпадающие с химерой характера. Помимо психологических мотивов есть просто мотивы, похожие на музыкальные темы; их красота и неожиданность может быть вполе достаточным основанием для поступка. Мотивировка настоящего писателя не 4 должна слишком далеко отклоняться от мотивировки композитора: когда опытный путешественник по сфере символического наталкивается на границу условности, он становится перебежчиком границы. Роман Назарова можно порекомендовать как инструкцию для перебежчиков. Выигрыш в свободе (про)зрения выпадает тому, кто научился игнорировать навязчивую видимость повседневности, принудительную телесность и материальность мира, порождаемую очередным поствавилонским наречием. Прозрение не совместимо с подозрением, всегда затрудняющим вольный полет речи. Уклонение от ловушек позволяет вести наблюдение над странноживущими существами, не образующим свойств и тем более черт характера. Например, над племенем зарниц: "Над полем полыхнули зарницы. Говорят, это тени существ, обитающие в пламени. Должно быть, на брошенной ферме загорелась гнилая солома. Во время войны зарницы кружили над городом, как вороны над цыганской лошадью, и бросались на дровяные склады и библиотеки, опережая порой зажигательные бомбы. Это называется самовозгоранием. За войну род зарниц разжирел. Война многим служила хорошим прикормом". Я полагаю, что умение отследить момент самовозгорания в привычной раскадровке происходящего есть свидетельство высшей школы вкуса. Опять же, преимущество иметь дело с ангелами, а не с пи-мезонами и психологическими зарисовками достается дорогой ценой. Требуется сугубая точность ясновидения и абсолютный слух ясноописания. Назаров ставит себе такую сверхзадачу и время от времени на страницах романа высвечиваются сполохи безупречных попаданий, которые сменяются затем щадящим режимом повествования. Воды небесные отражаются в земных реках, но не меняют скорости их течения; главное русло книги напоминает описанную автором ось в три ангельких обхвата: D:\681449086.doc 5 "...по ней сверху вниз текло отработанное Время, сладкое, как патока". Под воздействием встречных течений время расслаивается и сладость распределяется в соответствии со строгим критерием вкуса, оставляя место и отстраненным наблюдениям, и превестиям и пророчествам: "Демографическим взрывом бесы сформировали армию, по числу превосходящую, наверное, весь Девятый чин. Теперь так мало покойников, одни мертвецы, которых готовят к решающей битве." Ибо очевидно, что время Первых Дней творения в основном исполнено и никакие массовые пополнения в принципе невозможны. Ведущими к цели могут оказаться лишь индивидуальные траектории, порожденные собственными усилиями первопроходца. Роман "Круги на воде" свидетельствует, что усилия Вадима Назарова должны увенчаться успехом. Александр Секацкий. Вадим Назаров Круги на воде роман Александру Николаевичу Сокурову, ловцу Ангелов и создателю сновидений D:\681449086.doc 6 Свою кровь я спрячу в реке, из кожи нарежу листьев, погремушек для ветра, смешаю в карьере тело с родной ему юрской глиной, и останется то, что есть — бесцветное пламя, его не увидишь, не спрячешь. ЕВФРАТ ФИСОН ВОЛГА ТИГР ОРЕДЕЖЬ ГИХОН НЕВА АРАКС D:\681449086.doc 1. Подорожник Первый раз я увидел Ангела в Кэмбридже. Я остановился у витрины книжного магазина и рассматривал обложки словарей, когда в стекле ярко и отчетливо отразилась его фигура. Ангел стоял на куполе старой церкви и, как мне показалось, благословлял прохожих. Вороны поднялись с креста, захлопали крыльями, загалдели азартно. Оглянувшись, я увидел еще одного человека, который смотрел в небеса. Вечерело, пришла пора подумать о ночлеге, а гостиница, где я остановился, находилась в Лондоне. Я поднял с земли осколок камня, положил в карман и отправился на станцию. Я не люблю путешествовать. Новые реки и города кажутся мне сомнительным призом за тяготы бродячей жизни. У меня фобия метро, которая заставила вспомнить о себе в тоннеле под Ла-Маншем, и внезапно возникающее чувство пустоты под ногами. Это словно идешь по стеклу над пропастью. Зато я отлично вижу в темноте, без компаса чувствую Север и осваиваю искусство игры на губной гармошке, чем собственно и занялся в пустом купе. У меня не было сомнений, что существо, отражение которого я разглядел в витрине ABC Books, было Ангелом. Я не заметил крыльев, не запомнил одежд, но увиденное мной не принадлежало миру и городу, пусть даже такому славному как этот, у моста через реку Кэм. Однажды я видел волка на воле. Мне было тогда лет семь, и вышло мне разрешение одному сбегать в ближайший малинник за гречишным полем. Я никогда раньше не видел волков, но сразу понял, 7 что из-под поваленного зимней бурей дерева на меня глядит не собака. Когда сталкиваешься с порождением другого мира, сразу чувствуешь себя как бы прозрачным. Я видел волка и Ангела. Вряд ли я ошибаюсь. Я наигрывал на гармошке, вплетал в свою простую песенку стук колес и хлопанье дверей. На душе у меня было легко и чисто, так бывает только пять минут в сезон, и я знал, что весенняя пятиминутка кончится раньше, чем тень облака достигнет мелового холма. Время можно измерять всем, что движется. Как-то поздней осенью я провалился под лед. Все случилось внезапно. Только что сделал широкой шаг, переступая через корягу, и вдруг под ногами ничего не стало, а глаза наполнила мутная зеленая мгла. Я рванулся вверх – и стукнулся головой о твердь. Я не испугался, словно кто-то сказал мне: ничего страшного. Я перевернулся на спину, поднял голову, и обнаружил, что между льдом и водой есть пространство. Я дышал и смотрел сквозь прозрачную корку на солнце. В лед вмерзли кленовые листья, с обратной стороны его поверхность была шершавой, как плацента. Над моим ртом висела сосулька, похожая на сучий сосок. На сосульке искрилась капля. Я знал, что когда она упадет мне в рот, все благополучно разрешится. Кто-то беспокойный ставил на мне серию мистических опытов. Ледяная минута была самой насыщенной из тех, что я успел прожить, пока не пробила волчья. Помню, я стоял, выставив руки перед собой, и боялся пошевелиться. Волк смотрел мне в глаза, но я никак не мог поймать его взгляда. Меня заело, словно виниловую пластинку, глаза тикали на месте, и происшествие никак не могло окончиться. D:\681449086.doc Тогда-то я понял то, что теперь могу сформулировать: время стоит, то есть движется не только от Зимы к Весне, но и в обратную сторону. Мои дружки уважают поговорить о том, сколько стоят их час, месяц и год. Для меня деньги — не время, а пространство. Я трачу половину того, что зарабатываю,, на безопасное передвижение в нем. Я не жаден, но люблю деньги. Они — гарантия моей свободы идти куда хочется. За окном появились первые приметы большого города. По вагону шел индус в красивой фуражке – контролер. Человек с соборной площади в Кэмбридже тоже не был европейцем. Почему я не подошел к нему? Ведь именно он утвердил меня в мысли, что сегодняшнее событие не было видением, игрою теней на стекле. Человек этот не турист. Скорее всего, студент по обмену из какой-нибудь бывшей Британской колонии. Местным жителям вряд ли придет в голову рассматривать вечернее небо. И дело, конечно, не в том, что они каждый день видят на куполах Ангелов, и зрелище это им наскучило. Они не заметили бы Вестника, даже если бы наступили на его хитон. Люди изживают повседневное пространство до дыр, превращают его в пустоту, в дорогу с работы. И я таков. Вряд ли в России Ангелов меньше, но, чтобы увидеть одного из них, мне пришлось перебороть нелюбовь к путешествиям и отправиться в Кэмбридж. Разумеется, я не знал, зачем туда еду, но разве я волен выбирать то, что определяет мой выбор. Например, погоду на завтра. Куда ветер — туда и пепел: вот и вся моя свобода передвижения. Обычно я путешествую один, всякие спутники скучны, предсказуемы и самодовольны, им нечего мне сказать. Но тот, кто 8 смотрел в небо, наверняка мог бы поведать много интересного. Возможно, даже спел бы унылую пакистанскую песню о неразделенной любви. Он бы спел, а я бы подыграл. Машинист объявил, что мы прибыли. Столица Британской империи была заспана и тиха, как отель. Мне же спать теперь не хотелось, я отправился в кафе Подорожник, где всегда есть свободные столики. Я пил свой вечерний чай, который, в отличие от утреннего, был не столь крепок, сколь ароматен, рассматривал гербарии на стенах заведения, думал об Ангеле и о том, как я жил в утробе матери. Иногда в знойный день у моря меня охватывает ощущение нездешнего покоя, уюта и защищенности. Возможно, это воспоминание о теплых утробных водах, где я провел свои лучшие дни. У меня такие широкие плечи, мама. Как же ты мной разродилась? Воде я посвящаю первую часть жизни, вторую — отдам земле. Кто не помнит того блаженства, с которым погружал в детстве руки по локоть в жидкую грязь? Кто, торжествуя, не проваливался по колено в теплую глину на дне карьера? Говорят, так новая душа празднует свое пробуждение, обращаясь к земному праху. Детям нельзя запрещать пачкаться, это может притупить их осязание. Одна из самых ярких картин детства: Я голый стою под сливной трубой янтарного комбината, из трубы течет юрская грязь. Синяя глина. Сначала она сочится медленно, но постепенно напор усиливается, меня сбивает с ног и несет в селевой волне. Глина забивает мне уши и рот, щиплет глаза, жирной D:\681449086.doc 9 скорлупой покрывает тело. Я кручусь в потоке, как уж в подойнике, и, вместе с темной рекой, падаю в море. прозрачную преграду, от одного прикосновения к которой все тело пронзают ужас и боль. В приморской местности, где я провёл детство, принято считать, что Господь сотворил Адама именно из синей, а не из красной глины, а янтарь – это отделенный от тьмы Cвет. Позднее, на яву, я видел изображения, отдаленно напоминавшие лилии из сна. Книга, где я их нашёл, называлась Летний луг глазами майского жука. Эту гипотезу отчасти подтверждают и антропологи. Какой-то рыжий бородач хотел было подсесть ко мне за столик. Я осадил на ирландца недобрым взглядом, и тот отстал, отправился к стойке болтать с буфетчицей. В дальнем углу лысый мужчина, похожий на фигу, обнимался с темнокожей девицей, похожей на его тень. Я продолжал свои праздные размышления. Шумная компания взорвала тишину кафе, и о четвертой стихии я вспомнил уже на улице, где вибрировал неон и смуглые мусорщики в оранжевых жилетах набивали черными мешками брюхо грузовика, походившего на жужелицу. Ветер – думал я – ветер был до жизни и будет после нее. Дух над водой и Небесный Иерусалим, легкий трепет новорожденной души и воздушные мытарства. Огонь, то есть свет и тепло – вот основа, главная ценность от юности до смерти. Мера живого тепла, что мужчина отдаёт женщине в уплату за любовь – самая популярная сделка со времён Великого оледенения. Ветер заполняет собой пустоту между сферами и холмами, превращая ее в пространство. Тепло пробуждает птенца в яйце, под ним зерно в земле пускает ростки. У ветра много имен и тональностей, разные направления и сила, но все ветра обоих миров — суть один мировой ветер, который каждое мгновение связывает собою всех нас: живущих и ожидающих, видимых и невидимых, одушевленных и лишенных души. Свет – это все, что есть на свете. Мир без света — мрак над пропастью. Все, что нас окружает, — отраженный от предметов свет. Своего рода иллюзия. Никто на самом деле не знает, каков истинный цвет яблока, какова форма камня. Когда я еще не понимал, кто я, мне случалось видеть странные сны. Будто вхожу в комнату, заставленную какими-то кубами, подхожу к окну, и вижу растения, каких не бывает. Части этих растений сложены так, что в них ясно читается бесстыдный призыв. Растения повелительно зовут меня. А находящиеся в комнате предметы столь же требовательно прогоняют. Я хочу выйти вон и натыкаюсь на Я шел в гостиницу пешком, неторопливо пересекая огромный город с Севера на Юг, и поглаживал в кармане камень. Стекло под моими ногами пару раз предательски хрустнуло, но я успокоил себя мыслью, что у меня достаточно денег, чтобы в любую минуту поймать кэб. D:\681449086.doc 2. Имя Клёна Ангел девятого чина Руахил, что значит благодатный ветер, служил на Корабельном поле. Строго говоря, дикому полю, перелеску или маленькой реке не положен отдельный Ангел, но когда-то на Корабельном поле был поставлен закладной крест. Петр Симонов, известный физик, получил поле и сосновый лес за ним в качестве уплаты по векселям. Петр Платонович собирался устроить здесь дом и образцовую ферму на английский манер, но все дело ограничилось приездом землемера и благодарственным молебном с установкой деревянного креста на месте будущей церкви. За восемьдесят с небольшим лет, прошедших с того молебна, из проросшего, не без помощи Ангела, креста вырос Клен. Руахил не знал, можно ли считать это исполнением обета, но каждое утро молился у дерева, которое в каком-то смысле и являлось домовой церковью Симоновых. Стараниями Ангела чужие люди Корабельное поле не пахали, на нем не сеяли просо, и не косили траву. Едва заметная тропка вилась среди кочек и замшелых камней, отмечая кратчайшее расстояние от брода на реке Оредежь до одноименной станции. На заливном краю поля жили жадные чибисы, на высоком — жаворонки и полевые мыши. Иволга плела гнездо в речном ивняке, и рябиновый дрозд не на шутку бился с воронами, защищая свое воздушное пространство. Руахил слышал, как прорастают травы, ворочается птенец в яйце, как земные соки поднимаются по жилам Клена до самых высот. Иногда Ангел беседовал с деревом. Это был странный разговор древнейших земных существ, чей вечный спор о первородстве состоял 10 из одного только слова, которое они повторяли попеременно на разные лады: Ангел — на выдохе, Клен — на вдохе. У Клена, как и у Ангела, было имя. Каждую осень, когда созревали семена, он вспоминал его, а едва начиналась зима — забывал. За годы службы Ангел выучил человеческие имена трав и деревьев, и зачастую пользовался ими, чтобы лишний раз не тревожить словами Третьего дня короткую память растений, которая есть особый фермент, содержащийся в семенах. Ангела занимала неподвижность деревьев, и, с другой стороны, их готовность повиноваться ветру. Руахил решил, что растения созданы Господом, чтобы отмечать пути ветра, подобно тому, как реки созданы, чтобы видеть пути воды. Мир сотворен в шесть дней не для одних лишь Ангелов, и никому не осознать совершенства, которым он преисполнен. Так, Руахил понимал, что никогда не сможет достичь той полноты осязания, на которую способен Клен, не разглядит, подобно шмелю, среди множества печальных пустоцветов бутон радостный, плодоносный. То, что виделось Ангелу сплетением ароматов и лучей, изящным вензелем Творца, подписью на творении, — служило пищей для иволги. И напротив, грубые краски и резкие запахи, делавшие некоторые предметы отвратительными для Ангела, у пчел или полевок были чуть ли не идолами. Но все эти наблюдения относились только к Земле. Небо Господь сотворил для невидимых. Каждое утро Руахил с восторгом и ужасом смотрел в небеса, где разворачивалась могучая мистерия света, божественная драма, в которой оживала вся Священная история — от Бытия до Откровения. D:\681449086.doc Помимо птиц и деревьев Руахил иногда встречал в поле подобных себе. Ангелы, заметив его, по чину раскланивались, враги — стремительно исчезали. Ведь Руахил был Хранителем, и в правой его руке мог в любую минуту возникнуть меч, на широком лезвии которого огненными буквами грозно сверкала молитва с Именем Господним. Меч, возможно, самое известное из Ангельских изобретений. Зарницы и бесы не интересовали Ангела. Это племя было самым младшим на свете и не застало Землю молодой, когда на каждом стволе или камне еще сохранились отпечатки рук Создателя, и эхо сотрясало ветер, ритмично запуская в него тихие, но внятные отголоски слов, из которых был составлен Белый Свет — иллюстрированный лексикон Творца. У врагов не было памяти, они не знали, зачем живут. Можно жить в небесах и ничего не понимать, потому что, пребывая внутри постоянно длящегося чуда, забываешь восхищаться им. Привыкаешь и начинаешь говорить о небе и о себе, как о погоде и здоровье. В горних такое происходит не реже, чем на земле, но внизу не помнить — гораздо легче. На земле вообще жить легко, особенно деревьям. Жизнь их проста и праведна, и даже если дерево кого-то убивает, виной тому буря. Господь не судит деревья. Когда в липу вонзается молния, она нацелена в того, кто укрылся в дупле. И когда ветер стелет траву по земле, он знает, что трава распрямится. Руахил смотрел из-под руки на самолет, издали похожий на ласточку, а при ближайшем рассмотрении напоминающий синего кита. На носу сидел Смоил, Покровитель странствующих, он 11 печально махнул Руахилу крылом. Руахил понял жест и закрыл лицо ладонями. Над Корабельным полем качалось серебристое облако. Когда на Оредежи построили плотину, в верхнем течении реки стало меньше ласточек. Вода подмыла берега, затопила ласточкины норы в красных береговых откосах. В ночь, когда рыба шла вверх по реке на нерест, Руахил на несколько часов останавливал течение и поднимал заслонку плотины. Крутил скрипучее железное колесо, смазывая механизм молитвой. Стоя на красноватой, прозрачной стене воды, он смотрел, как синие тени рыб входят в неподвижную реку, словно зерна в пашню. Ангел любил смотреть в воду. Однажды он спустился вниз по реке до самой Луги и дальше, до моря. Он сидел на песчаной дюне и смотрел, как зеленые волны лижут берег. Он помнил море не зеленым, а теплым и золотистым, когда в море, как хмель в пиве, бродила жизнь, и волны то и дело выбрасывали на берег диковинных гадов, которые тут же расползались по окрестным пескам. В море водились твари, которых забыл Господь. Они возникли не по глаголам его, а как бы по звукам, происходящим при вдохе. Это были случайные брызги на холсте Творения, и большая часть этих мелких изъянов была стерта Всемирным потопом. Но те, что обитали в глубинах, просто ушли на дно, и камни служили им пищей. С тех пор из его реки утекло много воды, прошло много времени. Ангел представлял себе время, как дерево с горящей кроной. И сгорает оно быстрее, чем растет. Но это лишь видимая часть. У этого дерева горит не только крона, но и корни. Там, в мрачных глубинах, где реки текут от устья к D:\681449086.doc 12 истокам, а пепел на папиросах курильщиков превращается в табак, скачут из будущего в прошлое четыре бледных всадника, и пыль всасывается в подковы их коней. корзиночками и удочками стали биться о прозрачную сферу, словно чижи о стекло, Ангел поймал слово в воздухе и съел его. Слово было на вкус как щавель. Руахил думал, что Господь застыл в благословляющем жесте, и мир поместился между его ладоней, как буква «о» в слове «Бог», но однажды руки опустятся, и случится Большой Хлопок. Руахил был существом, в основном, невидимым, и в этом своем состоянии походил на порыв теплого ветра, на отсвет солнечного луча. Для полетов ему нет нужды в крыльях. Крылья — это традиция, канон, которому следуют Ангелы на глазах посторонних. Конец Света является частью Замысла, и обратный отсчет начался в первые минуты Творения, когда произошел Конец Тьмы. Ночью на Корабельном поле пел соловей и трещали цикады. Ангел сидел под Кленом и подпевал. Он то передразнивал арабески птицы, то уходил в фоновые переливы насекомых, то решался на соло. Тогда поле затихало, и только синие колокольчики мягко позванивали в такт его горним распевам. Пение служило Ангелу тем же, чем человеку речь — средством общения. Руахил умел говорить на трех языках, принятых в Церкви, и еще на русском, но пользовался ими только применительно к травам. В человеческой речи для Ангела слишком мало глаголов. На небесах не называют предметы, там описывают их сложные движения и взаимодействия. Руахил знал триста глаголов, характеризующих ветер. Вообще-то, и сам ветер не являлся для него существительным. Даже человеческое ухо слышит в этом слове: вертеть, веять, петь. Поиски точного слова — не праздное занятие для Ангелов. Их слова материальны, и поговорка «сказано-сделано» — вульгарный перевод с Ангельского. Как-то раз Руахил одним словом запретил тем, кто ростом выше травы, ходить на Корабельное поле. Козы, собаки, лисы получали щелчок, и поворачивали прочь. Но когда дети дачников со своими Ангел Корабельного поля делался видимым в минуты глубокой задумчивости или печали. Руахил не построил себе дома, как человек, и не свил гнезда, как птица. Ночью он привязывал себя за пояс шелковой ниткой к ветке, и парил над деревом-церковью, словно золотой шар. А когда он смотрел на ночное небо с земли, сквозь крону Клена, ему казалось, что звезды висят на ветках, как яблоки в Едеме. Ангел даже слышал их запретный запах. Ангелы видят гораздо больше звезд, чем люди, и, по их представлению, они иначе сгруппированы на поверхности неподвижных сфер. В небесах Ангелы видели не языческих богов и животных, но вселенскую Азбуку, которую Господь записал на тверди в четвертый день Творения, уже после того, как создал дерево. Ангел девятого чина Руахил стоял над полем, которое называют Корабельным, как туман над рекой. Ветер качал колосья мышиного ячменя, и они касались усиками сандалий Ангела, теребил его белый хитон, трепал каштановые волосы, гудел в синих, с серым отливом, маховых перьях. Ангел стоял, опустив голову, и рассматривал гнездо жаворонка, спрятанное в коленях травы. В гнезде лежали три крапчатых яичка, жаворонок тревожно порхал поблизости. D:\681449086.doc Ангел улыбнулся, поднял руки, и жаворонок послушно уселся ему на ладонь. Ангел поднес птицу к лицу, осторожно развернул крылышко и стал рассматривать, как оно устроено. На поле набежала тень облака. Ангел посмотрел вверх, легко подбросил жаворонка, и тот взвился так высоко, что даже Ангел на мгновение потерял его из виду. Вдали, за прохладным хвойным лесом, загудела электричка. Ангел прищурился, словно вспомнил что-то важное, расправил огромные крылья, которые стали теперь почти прозрачными, не делая взмаха, поднялся над полем и по спирали ушел в зенит, туда, где звенела узорчатая песенка жаворонка. 13 D:\681449086.doc 3. Физик и зверолов Река Фисон обтекает землю Хавила, где оникс, золото и горный хрусталь. Река Гихон уходит в землю Куш. Река Хиддекель следует в пустынные земли, теряется там, в богатых рыбой и лотосом зарослях тростника. Река Аракс проваливается в Преисподнюю. Река Евфрат течет по Небесам. Я лежу на спине и смотрю как рыбы парят в ее вязких сиреневых водах. Рыб называют звездами, хотя похожи они совсем на другие знаки. Я лежу посредине русского поля, в поле — ночь, в ночи бормочет Оредежь. В деревне за лесом брешут собаки, и тяжелые люпины у меня в головах занимаются с ветром любовью. Колос тимофеевки согнулся от аварийной посадки майского жука. Я никому не мешаю, лежу тихо. Никто не станет искать меня здесь, тем более, что это не единственное место на свете, откуда видны небеса. Мои старые родственники почти все уже умерли, а молодые спят. Ветер нагоняет с Балтийского моря мелкие облачка, они затягивают реку Евфрат, словно ряска. Я замерз и запутался в травах. Кажется, я лежу тут с прошлого века. 14 Дед по матери научил меня неподвижно лежать часами. Дед был сильный зверолов перед Господом. Его крепкий бревенчатый дом был украшен перьями стерха, рогом изюбря и простреленной в двух местах шкурой медведя. Из детства мне особенно памятны его охотничьи амулеты: волчьи зубы и зелёные самоцветные камни, похожие на глаза. Когда бы я не увидел небесную реку, жизнь моя могла бы сложиться иначе. Только вообрази себе: дед всю жизнь истреблял зверье, а внук его — зверь. Я пытаюсь согреться на холодной земле, воображаю: Косуля подбежала к берегу и, не раздумывая, бросилась в реку. Загонщики не последовали за ней, они двинулись вниз по течению, к броду. Едва не завязнув в топком иле, косуля выбралась на песчаную косу. Она пахла страхом и молоком, бока бились о ребра, как крылья. Косуля тревожно оглядывалась, но погони не было слышно. Я лежал, уткнувшись носом в замшелый камень у самой воды, старался не дышать, не думать. Наверное, со стороны я выглядел как сын камня, который прижался к отцу и спит. Я ждал, когда жертва сделает три шага к берегу, чтобы взять ее одним прыжком, но не выдержал и дал ей сделать только один. Тупая боль от удара копытом в живот и острый вкус свежей крови. Мы перевернулись, сжимая друг друга в объятиях, покатились по косе. Она страстно выгнулась, закатила глаза и кончилась. Я перегрыз ей артерию и пустил кровь по воде, чтобы стая почувствовала вкус добычи еще у брода. Зверем быть не стыдно. Каждая тварь причастна к Священной истории, был конь, которого сотворил Господь, а назвал Адам, был D:\681449086.doc волк, которого призвал на Ковчег Ной, был голубь Иафета и ворон Хама. Над полем полыхнули зарницы. Говорят, это тени существ, обитающих в пламени. Должно быть, на брошенной ферме загорелась гнилая солома. Во время войны зарницы кружили над городом, как вороны над цыганской лошадью, и бросались на дровяные склады и библиотеки, опережая порой зажигательные бомбы. Это называется самовозгоранием. За войну род зарниц разжирел. Война многим служила хорошим прикормом. Мой дед, например, покупал у мародеров серебро, расплачивался проросшим зерном и вяленым мясом. Серебро хранилось в бане под полом. В семье до сих пор запрещено говорить об этом с посторонними. Как-то раз дед заперся в бане и шесть дней сидел там на одной воде. А когда на седьмой — вышел, в руках у него был неизвестный науке прибор. В основании прибора располагался ящик, наполненный серебряным ломом, к ящику крепилась проволочная рама, на которой, в свою очередь, была натянута тонкая шелковая сеть. Это была ловушка для Ангелов. Яков Фомич Шальнов, мой дед по материнской линии, считал, что на всех нас лежит проклятие — не исполненная каким-то не очень далеким предком епитимья. Нашего дома сторонятся Ангелы. Оттогото никто из мужчин нашей фамилии давно уже не умирал своей смертью. Женщинам же не удавалось сохранить ясность рассудка. 15 Сто пятьдесят лет Шальновы-мужчины гибнут в войнах, на охоте, в авариях, а женщины сходят с ума, ожидая похоронок и срочных телеграмм. Некому отвести от сердца свинцовую пулю, повернуть эбонитовый руль. И никто не нашепчет вдове утешительную молитву, не распишет ее окна ледянками-елочками на Рождество. Когда в доме нет Ангелов — там тоскливо и сыро, и простые, как яблоки, материнские просьбы не долетают до Бога, разбиваются об облака. Никто не знает, в чем именно состояла епитимья, но, судя по наказанию, была наложена за убийство. Предок был, видимо, человек весёлый и беспечный, и нож, который он воткнул в брюхо собутыльнику в придорожном трактире под Ельцом, подрезал наш род до седьмого колена. Единственным шансом на спасение семьи, по размышлению деда, могла стать поимка Ангела. Привлеченный блеском серебра, Ангел должен был запутаться в сети. Начищенный золой белый металл полыхал прозрачным огнем, как вода на ветру. Дед поставил ловушку под цветущей яблоней и отправился было колоть дрова, но вдруг упал, разбитый ударом. Я только таким, парализованным, его и застал. Жалкий, вонючий, с усохшей ногой и почерневшим лицом, он лежал в белой горнице, в красном углу. Когда я подошел ближе, дед заплакал. Господь не послал старику Ангела. Он дал ему то, чего дед не умел попросить — непостыдную и мирную смерть. В устройстве же ловушки было рациональное зерно. Разумеется, Ангела нельзя поймать в сети. Некоторые из них проходят сквозь D:\681449086.doc 16 солнце, не попалив пера, но любопытство их безмерно. И ящик с небесным пламенем под белым деревом вполне может служить приманкой. Я даже помню, что мне снилось — тихий прозрачный лес, золотистый свет, начинается осень. В лесу нет ни души, только тихое движение в травах. В Omni как-то писали, что ирландские натуралисты обнаружили Ангела в подземных муравьиных садах. И занимался он там, кстати, примерно тем же — изучал замысел Творца. Правда, для этого ему не пришлось разорять муравейник. Воспоминания о сне становятся первыми кадрами нового сна, или старой яви: лес быстро редел, за ним началось желтое овсяное поле, за полем — дорога, овраг. На высоком берегу оврага старый дом красного кирпича, в котором я жил с мамой осенью семидесятого года. Дорога спускалась в овраг, к тракторному кладбищу и мастерским. Весной и осенью трактора месили на ней липкую грязь, вязли, утопая по втулки. Летом грязь превращалась в пыль. Пыль закручивалась на ветру в невесомые спирали, разбрызгивалась, как вода, под ногами пешехода или под колесами грузовика. В жаркий день на дороге можно было найти место, где пыли выше колена. Усилия науки, агрессивно познающей мир, смешат меня. Создатель Вселенной обдумывал свой план на протяжении Вечности, чтобы сотворить в семь дней. Не было ни пространства, ни времени, лишь тьма над бездной и дух над водой. И тьма эта не рассеялась, пока не была найдена форма каждого пятна на пере ястреба, каждой прожилки на листе герани. У любопытсвующих слишком мало времени, чтобы самостоятельно понять как устроена божественная игрушка, и слишком низменные цели, чтобы рассчитывать в этом занятии на помощь свыше. Будильник не поймет часовщика, даже если объяснит некоторые движения своего механизма последовательным вращением шестеренок и осей, на которых, как известно, и держится Мир. Я открыл глаза, провел по лицу ладонью. Откуда я взялся здесь? Ночью, один, посредине поля, на дне холодной реки Евфрат. Я закрыл глаза и стал вспоминать. Так: я сел в самолет в Хитроу и полетел домой, потому что у меня кончилась виза, и еще потому, что накануне мне звонила Марина, ей срочно нужно было со мной повидаться. В дороге я разговаривал с оробевшей от перелета студенткой, пил воду без газа, зачем-то отказался от обеда, спал. На дорогу можно было прыгнуть и кувыркаться, нырять, ударяясь о камни и гайки на дне. Можно было кидать на дорогу комья глины, что оставляли в пыли воронки, как бомбы, или кратеры, как болиды, — смотря во что играешь. На вкус пыль была солоноватой, на цвет не отличалась от морского песка. Она была словно горячая кожа, наши прикосновения были почти греховны и задевали во мне что-то нежное. Я многим обязан этому праху, а чем расплатиться – не знаю. Возьми тело мое, мать-земля. Отец-ветер, свей из меня спираль. Род Шальновых от вымирания спас не Ангел-невольник, а мой отец. Брак моей матери с младшим сыном известного физика Петра Платоновича Симонова поправил дела семьи. Отец в те годы был человеком добрым и энергичным. Кроме того, по меркам времени, о котором речь, он был просто богач. D:\681449086.doc Отец перестроил шальновский дом, превратив его в дачу, рога и шкуры велел убрать в кладовку, а на освободившихся гвоздях развесил картины своих друзей — безродных космополитов. Деда-физика я не помню, мы разминулись с ним на тридцать пять лет. Семейное предание гласило, что именно мне, первенцу своего младшего сына, он завещал кое-какие бумаги, вроде бы даже купчую на землю, но завещание вместе с архивом, коллекцией французских гравюр, рукописным Уставом Калязинского монастыря и другими фамильными ценностями то ли сожрал пожар, то ли закатил куда-то один из переездов. 17 как и все мужчины в семье, боялся внезапной смерти. Меж тем, его Ангел хранил нас всех. У меня странные отношения с родителями. Я люблю тех людей, с которыми прошло мое детство, но эти жадные брюзжащие старики ничуть не похожи на них. От тех, прежних, не осталось ничего, даже одежды. Те были великаны, небожители, умеющие поймать чижа и отогнать палкой грозовое облако от речного пляжа. А эти верят в прогноз погоды и неблагоприятные дни, экономят на электричестве, вместо Благодать говорят энергия. История наших отношений называется Гибель Богов. Не исключено, что именно симоновское серебро надраивал в бане Яков Фомич. Знал бы зверолов, с кем породнится его дочь-дурнушка, был бы с нею поласковее. Отец помог моим теткам найти работу на какой-то новой фабрике, где шили форму для летчиков. Как говорила мама: если бы они не повыскакивали замуж, он бы на всех сразу женился. Жизнь налаживалась, и даже когда мы на три года уехали в другой город, ничего страшного за время нашего отсутствия не случилось. Разве что мой дядя врезался в грузовик на мотоцикле, но не погиб. Даже не стал инвалидом. Сестры Шальновы поняли: старое проклятие дает отсрочку. Так мы и жили потом много лет в перемирии с судьбой. Помню только отец однажды сказал: Часа рождения человек не помнит, а часа смертного — не знает. Живет, как камень с горы падает. Сомкнешь глаза — а в ушах шум ветра, закроешь и глаза и уши — кожей чувствуешь опасные стенки пропасти. Дело было, кажется, в Лосево. Мы стояли на мосту и смотрели, как вода, изгибаясь, катится на пороги. Я удивился. Отец, оказывается, Или это сравнение с камнем. Я не понимаю, почему человек, столько претерпевший, чтобы правильно сложить свою жизнь, боится смерти. Ведь только там, за горизонтом, его усилиям дадут настоящую цену. Смерть, конечно, не развлечение, но, по крайней мере, после нее нет никакого времени. Случалось ли тебе обманывать время? Однажды я ехал на поезде к морю. Билеты тогда были дешевы, а гонорары велики. Я купил всё купе. Четыре полки. Поезд шел окольными путями и я, сам того не желая, оказался в знакомых краях. Я сидел спиной к окну и смотрел, как в зеркале, что на двери купе, неторопливо меняя друг-друга проплывают отражения знакомых предметов: старый мост, развалины мельницы, пакгауз, водонапорная башня, похожее не верблюда облако, белокожий тополь, деревянная школа… Когда проехали, я вспомнил, что тополь еще тогда спилили, облако улетело, мост снесло ледоходом, пакгауз сгорел, и так далее. D:\681449086.doc Так, при помощи зеркала, я, словно Персей, обманул Медузу, что пожирает мир. 18 Я тоже открыл глаза, и в такт им дышал. Но зеркала – порождение всё той же Медузы. Я не люблю зеркал. Меня оскорбляет, что я занимаю в мире так мало места. Отчетливо помню, как первый раз в жизни увидел себя в ртутном стекле. Я ничего не понимал. Мне казалось, что вся эта комната, тихая музыка, полоса света на полу и окно во двор — это и есть я. Я — это всё, что вмещается в зрение и слух. Но, оказывается, я — это что-то отдельное, мутное и ничтожное, а кто-то другой — огромен, прекрасен, велик и пренебрегает мной. Прошло некоторое время, и я смог, наконец, подняться. Над лесом совершалась заря. Я собрал с листьев росу, умылся. Потом перекрестился на Восток и побрел к лесу. Я зарыдал. Мама дала мне засахарившегося петушка на палочке. Она никогда не умела ни понять, ни утешить меня. Голубое небо, изумрудные травы, неоскверненные мужицкой косой, белый камень в ложбине и огромный ветвистый клен — там, откуда расходились лучи. Всяким слезам есть причина. Я так мал, мама. А знаешь ли ты, насколько велик мир? Что с того, что ты дома, в своей комнате? Мама, только вообрази себе: Под тобою шесть тысяч километров глины, гальки, песка, базальта, слой за слоем, а потом мантия, распаленная магма ядра, а дальше – еще шесть тысяч, в обратном порядке. И это еще не все. Над головой у тебя — не потолок и даже не небеса. Бесконечная пустота космоса. Иногда я вижу себя, к примеру, не на улице Пестеля, а в реальном пространстве. В такие-то мгновения подо мной и хрустит, как стекло, земля. В поле сладко запахло клевером. Мои сестры по солнцу, воздуху и воде — ласточка, иволга и синица – начали первыми. Постепенно к Корабельной оратории подключались и другие инструменты. Я видел, как ворона крадет яйцо из гнезда чибиса, как купается в утреннем ветре липа. Вершины синих небесных холмов наливались розовым цветом. Я был на холме земном. Передо мною стоял русский пейзаж, в котором нет места человеку: Я догадался, что случилось вчера. За спиной завыл осиротевший чибис. Я оглянулся и долго смотрел на медную реку. И вдруг понял отчетливо и ясно, что не чужой здесь, потому что уже не вполне человек. D:\681449086.doc 4. Небо над Мариной Ангел Помаил, обычно поминаемый перед сном, стоял на капители Александровской колонны, и смотрел, как ветер пытается повернуть вспять могучую северную реку. 19 для провокации люсидентности, управляемых снов. Марина называла своего паука взломщик. При определенном навыке оператора серебряный жук раскалывал скорлупу сновидения, не касаясь его нежной сердцевины. Спящий в этот момент осознавал, что он всего лишь спит, и ему все позволено. Можно все. В кафе на набережной сидела женщина и наблюдала за тем же. Ее желтые волосы лежали на плоскости ветра, как крылья в парении. В белой фаянсовой чашке дымился маленький двойной. Марине было знакомо это раскручивающееся винтом от низа живота к горлу ощущение. Первый раз в управляемом сне она стала скифским оленем и скакала, скакала, пока не уткнулась золотыми рогами в облако. Чем крепче ветер, тем легче понять, насколько ты хрупок перед мышцей Господней – подумала женщина. Она могла бы превратить облако в камень или в плодовое дерево. Марине пришло в голову его съесть. Ангел одобрительно улыбнулся. Женщину звали Мариной, и имя это подходило не только сегодняшней штормовой погоде, но и удивительному свойству ее глаз, которые меняли цвет от бирюзы до индиго. Глаза плавали по ее лицу, яркие, как тропические рыбы. Ветер сбивал волны в отары и гнал на альпийские пастбища Ладоги, но овцы не желали повиноваться и превращались в барашки. Река разевала рот, крутила водовороты. Ветер бросал в них все, что попадалось под крыло: забытые на столе бумаги, солонку, перечницу, телефонные квитанции и маленькую белую чашку. Марина встала из-за стола. Буфетчик развел руками. Ангел на колонне напевал колыбельную, он знал, что летом свет долог и обманчив, а детям давно пора спать. Сон был основным занятием Марины. Ночью она пыталась справиться со своими сновидениями, днем — обучала этому других. Она работала на кафедре онейрологии в Институте мозга, обслуживала похожий на паука блестящий прибор, предназначенный Она не пыталась толковать свои потусторонние приключения, как не стала бы искать иного смысла в прогулке в ветреный день вдоль реки или во внезапном звонке подружки. Память уравнивала сон и явь. То, к чему можно возвратиться в воспоминаниях, — это и есть твоя жизнь. Атлас личности. И не имеет значения, в каком физиологическом состоянии происходило то или иное событие твоей биографии. Но, с другой стороны, убийство, совершенное во сне, — это всего лишь дурные помыслы или само убийство? Иными словами, смертный ли это грех? Марина не хотела думать о том, что переживает во сне очередной пациент, когда царапает простыни, скалится и закатывает глаза. Но тот, кто ложился под взломщика, был обязан подробно описывать свои метаморфозы. Марина записывала эти рассказы на диктофон и потом расшифровывала запись, не без некоторых литературных излишеств переносила рассказанное в журнал. За время клинических испытаний D:\681449086.doc 20 прибора таких книг накопился целый шкаф. Иногда Марина открывала какую-нибудь, наугад, и читала: Американцы – подумала Марина – и из Конца Света устроили бы информационное шоу. Могу представить себе: Тюрькин Р.Б., 40 лет, анамнез прилагается. Люсиденция — удачно со второго сеанса. Пациент ощутил во сне постороннее присутствие. Оглянулся, увидел свою мать в красном платье с синими цветами, которое пропало при пожаре на даче, и понял, что находится внутри сна. Добрый вечер, Леди и Джентльмены, с вами Боб Кравиц, наши камеры установлены на месте, называемом Армагеддон, и сейчас мы ожидаем появление Вавилонской блудницы. Он подошел к матери, обнял ее и тут увидел, что прямо на них несется огромный двухэтажный автобус. Тот самый, который уже много лет преследовал пациента во сне, привычный кошмар. Каким-то образом он сделал из матери самолетик и пустил его в сторону, а сам камнем ударился в лобовое стекло автобуса, голова водителя от осколков лопнула, как воздушный шарик. Пациент понял, что проблема разрешилась, автобус больше не появится. Марине становилось противно читать, она курила, смотрела в окно, мечтала, что сменит работу. За окном ветер носил по улице академика Павлова пух Мирового тополя. В просветах между деревьями блестела река. Марине захотелось превратить ее в лагуну при коралловом острове. Она привычно щелкнула пальцами и осеклась. Река текла наяву. Марина ошиблась. Она вышла в прохладный сумрачный коридор. Желтые контрфорсы света поддерживали пыльные окна, делили на сектора пол. В ординаторской хрипел телевизор, аспиранты смотрели CNN без перевода. С такими мыслями лезть под землю не хотелось, и Марина пошла пешком. Она жила на Васильевском, дорога вела через два-три острова. Во время подобной прогулки слова сами укладываются в эпическую поэму о долгом возвращении домой. Скоро вернется, думала Марина, из своих странствий и мой Одиссей. Мы поедем в парк, возьмем на прокат лодочку, отправимся искать водяной цвет для приворотного зелья, и я расскажу ему про деда. Она стояла на мосту в устье Карповки, смотрела, как мальки долбят хлебную корку. За спиной ухали машины, перед лицом — скользили по Невке похожие на копья байдарки и косолапые каноэ. Краснощекие девки-покахонтас ритмично вскрикивали при каждом гребке. В их отношениях с рекой угадывались отголоски какого-то древнего ритуала. Очищение реки, осквернённой веслом. Зачатие русалки. Деревья на Каменном острове исправно кланялись вслед пролетевшему барину, ветру. Женщина шла вдоль реки, придерживая легкую юбку руками, и головы не клонила, как барыня. Следующий день Марина провела в архиве. Как-то поздно вечером позвонила подруга и затараторила: Привет, ты слышала, всем русским из-за войны не продлили визы. Так что на этой неделе будут подарки из Лондона. Дай знать, когда он D:\681449086.doc сообщит точный день. Да, кстати, чего я звоню, мне сказали, что в архиве, в Синоде, нашли дневники вашего деда. Марина Симонова не без удивления обнаружила, что сам вид мелко исписанной дедовским пером бумаги не вызывает у нее душевного трепета. Впрочем, она была вынуждена признать, что Петр Платонович оставил честные записки, и для постороннего чтения они не предназначались. Физические формулы и комментарии к ним чередовались со впечатлениями дня, записанными сновидениями, воспоминаниями о детстве в Тверской губернии. Марина даже обнаружила донжуанский список в девятнадцать имен. 21 Цифра поразила ее. Одно красное тельце в потоке крови, волосок на спине, атавизм крыла, родинка в излучине губ — вот и все, что осталось от предка-исполина, скажем, в ней. Но ведь что-то осталось. Марина сладко улыбнулась, и вытянула руки над головой. Ей было весело и легко от одной нелепой мысли запуганного голодного старика — некоторые люди происходят от Ангелов. Она даже решила, что вечером позвонит брату, но не станет всего рассказывать, а только попросит скорее возвращаться, хочет, мол, сообщить нечто важное. Две страницы тетради были аккуратно склеены. Марина посмотрела сквозь них на свет — поперек листа шли строчки букв и цифр. Марина воровато оглянулась на дремлющего архивариуса, аккуратно разделила страницы ногтями, расправила разворот и прочла: Пока женщина сидела в архиве, в городе прошла гроза. Площадь была мокрой и чистой. Ангелы стояли на среднем ярусе Исаакиевского собора, на медных могучих крыльях блестела вода. Ярусом ниже — расхаживали туристы в пёстрых гавайских рубашках, верхний ярус, вероятно, тоже не пустовал. С большой долей вероятности можно утверждать, что есть люди, происходящие не от Ноя. Их прародителем вполне мог быть Ангел, один из тех, что вошли к адамовым дочерям. Видимо, не все ангелиды погибли при Всемирном Потопе. Сыны Божии вполне могли спасти малую часть своих издревле славных детей, например, спрятав их на горах. Для подсчетов Ангельской крови я составил формулу: 1 деленная на 2 в степени n, где n — число поколений. Лучше бы этот город назвали Архангельском, думала Марина, глядя как Александровский Ангел принимает, склонив голову, благословение Золотого Ангела крепости, которому дана власть усмирять шторма. Ангел этот венчал собой колокольню Собора, в основании которого, под землей, лежит ковчежец с мощами Апостола Андрея, родного брата того рыбака, которого называли Петром. Марина достала блокнот и переписала результат. Это была цифра, состоящая из шестидесяти нулей. 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00001. Сто тысяч моих предков умерли – подумала Марина – целый город покойников, но Ангел, который вошел к Адамовой дочери, жив до сих пор. Интересно, какое было ему наказание. Наверное, вот уже семь тысяч лет он вращает какое-нибудь колесо в небесной механике. Надо будет навестить его в управляемом сновидении. D:\681449086.doc Марина шла по мосту, облака под рекой сегодня легли, практически, поперек горизонта. Они походили на бабочку, приколотую к небу адмиралтейской иглой. Любовь Марины и города была взаимной и разделенной. Она переписывала его сны, а он, в благодарность, устраивал так, что, при всем беспокойном разнообразии, жизнь Марины не выходила за пределы Фонтанки и большой Невки, то есть протекала среди парков, мостов, знаменитых музеев, библиотек и маленьких кафе. На набережной собрались подростки. Их черные майки были украшены портретами натуральных демонов. Марина брезгливо поморщилась, украдкой перекрестилась. Она давно догадалась, что молодежная мода делается в Аду. В Преисподней есть своя типография, трикотажная фабрика, студия звукозаписи Hell records, радиостанция, что в FM диапазоне вещает на весь свет через сеть ретрансляторов на шестистах шестидесяти шести холмах, напиток Red devil и актерское агентство Alien Stars, которое поставляет живых чертей для съемок в американских фильмах про будущее. В Аду только и разговоров, кто возьмет в этом году приз за спецэффекты. Марина не любила кино. Сны – это часть жизни и доля вины, а отдаленно похожее на них кино – плод чужого воображения. Мало ли что может вообразить чужой. Сочувствуя тени на экране, следуя по хитрой воле режиссера за ее превращениями в машины, дома, людей — человек становится созерцателем семи смертных грехов. Через танец теней добродетель получает опыт порока. Новый фильм про убийц тридцать лет подряд каждую субботу, и однажды, после сорокадневного перерыва, ты обнаруживаешь себя упаковщиком энергетического напитка, DJ в эфире Радио Тартар или 22 просто рабом, прикованным к тачке на серных рудниках в Марианской впадине. Жизнь — это то, что ты помнишь — думала Марина – и придется отвечать, если не забыл, как Винсент застрелил негритенка. Солнце выстелило улицы теплыми лучами, раздвинуло дома, освободив место для прогулок сентиментальных горожан. По золотой вечерней реке плавали лодочки. Бездетный мороженщик не спешил домой, вокруг его тележки кормились кошки. Сонный голубь едва не упал с ветки липы на голову матроса. Его девушка замахала руками. Матрос коснулся губами девичьего уха, что-то сказал. Девица ответила долгим и влажным взглядом. У Марины побежали по коже мурашки от случайного прикосновения к чужой страсти, когда она проходила мимо парочки в парадную. Марина шептала: Даже если я увижу вечерний город во сне, сон мой в зеркале его рек не отразится. Сон — мой, и он не имеет отношения к их жизни. Скорее уж это ежедневная смерть, то есть личное дело. Она не стала ужинать, только чай, чистое белье, холодный душ. Марина долго расчесывала волосы, потом коротко помолилась. Она готовилась в путешествие и не была уверена в том, что Господь отпустил ей билет. Марина была перед Богом, как пилот без лицензии перед белой башней аэропорта. На улице продолжался вечер. Марина открыла окно. В комнату летели насекомые. Она знала, что у недолюбленных женщин кровь становится горькой, и кровососущие не будут тревожить ее. Пусть ищут себе другую – Марина начала сонный заговор – слаще, красивее, моложе. Пусть ей приснится июльский луг, молоко в D:\681449086.doc кувшине и горячая крапива у торфяного ручья. Небо звенит от зноя, листья касаются кожи там, где вне сна ее протыкают хоботки насекомых. Марина продолжает: Душа моя не в теле, но в руке Господа, дрожит, как голубка на ярмарке, и с телом ее связывает тонкая нить. Душа шепчет о том, что видит сквозь синие пальцы Его ладони, и тихий голос катится вниз по нитке, как свет по медному проводу. Если я единым движением выдам себя, Господь поведет рукой, и жизнь моя – оборвется. Я затихаю, как камень на дне реки, и вода все бежит по коже, по скорлупе, искрится, уносит мое тепло прочь от истока. С каждым годом на дне тело моё остывает, сознание меркнет, душа растворяется, и так будет до тех пор, пока от меня не останется только бурун на поверхности, на донном песке — характерный волнообразный рисунок. Марина стояла по пояс в воде, и смотрела на дальний берег, где по полю, удаляясь, шел ее брат. Марина хотела было последовать за ним, но ещё не умела ходить. Ангел Помаил находился в головах ее кровати, у окна. Он держал над нею правую руку, левой закрывал глаза, и молился. Ангел только что узнал, что самолет, вылетевший три часа назад из Хитроу, в Пулково не прибыл. 23 D:\681449086.doc 5. Волк Ноя Все твари земные старше человека. Мир уже существовал, когда Адам открыл глаза и увидел его. Из Священной истории мы не знаем, что предстало его юному взору. Наверное, река, подернутая золотистой рябью, дерево, уходящее кроной в небо, безымянное существо, шуршащее в палой листве. Адам был первым человеком, первым волком был Гер, и к тому времени, когда Адам обнаружил себя лежащим на берегу реки Хиддекель, Гер уже обследовал сухую часть мира, оставляя мускусные метки на толстолобых валунах и белых стволах платанов. Гер не был травоядным, но и не охотился. Птицы, звери и гады питались тогда душистым ветром Едема. Ветер служил первым пристанищем Господа, и когда Творец отделился от ветра, он оставил в нем Благодать. Первый волк получил свое имя от Адама, и означало оно — Странник. Кроме адамовых имен, Едемские твари помнили и те глаголы, которыми их сотворил Господь. Звериная глотка не может произнести эти звуки, да и не следует. Слова Господни даны всем видимым, кроме человека, вместо бессмертной души. Гер был отцом всех волков, а Луна – матерью. Ее серые глаза видели Ангелов до седьмого чина включительно, и на холке, среди голубоватой шерсти, она носила прядь холодного огня, в том месте, где Господь коснулся указательным пальцем. Гер и Луна спали в густой траве, когда Адам поднялся с земли и отмывался в реке от избытка глины, которой были заполнены его рот и уши. Волк вдохнул ветер. Запах нового существа тревожил его. Адам стоял на желтой речной отмели на коленях и пытался 24 рассмотреть в воде свое отражение, но видел только водяных жуков, что ползали по дну среди горячих солнечных бликов. До сих пор все видимые были равны, никого из них Творец не выделил, не уподобил себе. Волк понял, что Адам на особом счету у Создателя, и ревновал. Адам поймал водяного жука, с хрустом съел. Волк поморщился и опустил голову. Луна тянулась носом в его ухо. Гер фыркнул, лизнул волчицу. Глаза ее горели желтым любовным огнем. Ночью Гер и Луна ушли за Тигр и там, в прозрачной роще, где росло дерево гофер устроили первое в мире супружеское ложе. Луна пела о прозрачном огне, что заполняет пустоту между небесными светилами, и о желтоглазых Силах, которым дана власть над этим огнем. Гер спал у ее ног и слышал сквозь сон, как в животе у волчицы ворочаются первенцы – Рем и Ромул. Ему снились сизые камни, сонные поля конопли, скользкие отражения звезд в зеленой воде. Сон волка ничем не отличается от яви, и порой ему трудно понять, на каком он свете. Волк спит с открытыми глазами, но взгляд его не поймать. Гер проснулся, потому что из его зрения внезапно исчез цвет. Волк вскочил, затряс головой, стал тормошить Луну. Волчица дремала. Ее миндалевидные глаза были наполнены слезами в которых плавали тени щенков. Мягкое брюхо ночи распорол удар грома. За рекой, в Едеме, кто-то заголосил. D:\681449086.doc 25 Волки заскулили от страха. Луна прижалась к земле, прикрывая живот. Отец волков исподлобья смотрел, как от пахнущего дымом ветра сворачиваются листья на деревьях, и ощущал что в нем рождается еще одно не знакомое раньше чувство — голод. Тупая боль раскручивалась у него в утробе, пробивала от чутья до когтей. Словно внутри сидел еще один волк, который хотел выбраться, царапался и глодал изнутри позвоночник. Долго ли – коротко ли искали волки себе приют, но жизнь их по малу устроилась. Луна подскочила и побежала от отца прочь. Гер жадно глотал сухой мох и кусал землю. Волк отбежал за камень и смотрел оттуда, как кости раздвигаются в теле матери и открывается чрево. Из лона волчицы текла терпкая слизь. Луна волнообразно извивалась, заходилась в монотонном крике. Утром первого дня после грехопадения Адама и Евы Гер вкусил первую кровь. Он бежал по берегу, держал след волчицы и вдруг увидел молодую лань на речной косе. Лань сломала ногу, и оцарапала о камни спину. Видимо, упала с обрыва. Гер остановился и долго вдыхал запах крови. Его мускулы, как змеи на равноденствие, свивались в клубок. Восточный ветер после того, что случилось ночью, уже не мог насытить его. Гер качнулся назад и совершил боевой прыжок. Когда пришел вечер, к реке спустилась Луна. Отец знал, по каким приметам она нашла его. Он облизал ее морду и довольно заурчал. Волчица робко притронулась к мясу. Ночь украсила небо звездами, и знамение, в которое они сложились в ту ночь предвещало изгнание, кровь, пот и тяжелые роды. Стоя на горе Анк, они смотрели, как птицы кружат над первобытным лесом, как уныло бредут прочь из него звери и спасаются бегством гады. Господь оставил без наказания только деревья, хотя от их плодов все и началось. Однажды утром мать разбудила отца до света. У нее отошли воды, и выглядела она очень смешно и рассеянно. Отец ткнулся мордой в ее плечо, успокаивал. Волчица вдруг стала его гнать, оскалилась, зарычала. Волк покачивался и в такт подпевал, когда услышал как плачут щенки. Отец показался из-за камня, и сказал, обращаясь к Рему: Я видел, как ты родился, ты увидишь, как я умру, и значит род наш не пресечется. Гер сказал эту фразу на певучем наречии Ангелов, потому что она не ложилась на волчий язык. Язык волков гортанен и неблагозвучен. В его основе три группы звуков: писк, хрип и вой. Трагедия волка в том, что, имея абсолютный слух, он не может повторить музыку. Лексикон волка мал и схематичен. Свободно он может объясняться только на две темы: охота и любовь. Разумеется, есть исключения. Средневековая легенда гласит, что Хильдегарда Ван Бинген беседовала на латыни с волком по имени Птолемей и даже вставила некоторые его изречения в трактат О дыхании. После Рема и Ромула у Луны девять лет не было детей. D:\681449086.doc Рем любил слушать песни матери про горний огонь, подземный ветер и синие пальцы Создателя. Ромул изучал ремесло отца. Он стал лучшим охотником в допотопном мире, жестоким и хитрым, и даже бесплотные духи опасались его. Ромул видел смерть столько раз, что перестал её бояться, и убивал не для того, чтобы насытиться. Его огорчало лишь то, что, кроме Луны, на свете не было ни одной волчицы. Однажды, когда Рем и Гер крепко спали, Ромул вошел в логово своей матери и познал ее. От срамного любовного жара у Луны вытекли оба глаза. Когда взошло солнце, Рем искал Ромула, чтобы убить его. Гер встал между ними, посмотрел на блудного сына так, что у того пошла носом кровь. 26 Луна понесла от сына своего и родила белый камень, похожий на яйцо. После этих родов с нею случилось происшествие. Она как бы слилась с ночным светилом. Сделалась родимым пятном на его лице, когда встречала желтый восход на горе Зеон. От того проходивший мимо Адам и назвал ее тем же именем. Мать волков спускалась с холодной горы лишь в новолуние, когда свет засыпает на руках тени. За сорок лет Гер тридцать раз познал слепую жену свою, и она принесла ему множество детей. Дети Луны и Гера распространились по всей земле, и земля кормила их, как некогда их родителей кормил ветер. Когда Гер умирал, задавленный деревом, лет его на земле было семьдесят семь. Волк-одиночка, белый от соли, с кристаллами вместо глаз пришел проводить его. Луну же никто не увидел мертвой. Никто не будет вредить ему – сказал Гер. Вот мое слово: пусть он уйдет. В морозные русские ночи волки молятся своей матери, протяжно и заунывно призывают ее. Не весь мир перед ним, так пусть он от меня отделится, если ему налево — мне направо. Я, Гер, говорю это, пао. Дети Луны стали называть именем Гер своих вожаков. От Адама до Ноя их было ровно двести, и последним был Гер Синеглазый — грозовой волк. Когда он особым образом смотрел на жертву, из темного зрачка его, тонко звеня в воздухе, вылетала молния. Ромул ничего не ответил. Он ушел в землю Хавила, где ложа рек выложены золотыми самородками, а из трещин в скалах капает дикий мед. Там он взял себе в тени змееголовую Лилу, и от его семени произошли псоглавцы и василиски. Рем отправился в землю Куш, где соль выходит из земли, и лизал соль. Однажды Гер Синеглазый спал в серебристой траве на песчаной дюне и ему в сновидении явился Ангел в образе буревестника. Ангел протянул волку желтую кость и заговорил: D:\681449086.doc Собери народ свой, и мечите жребий. Тот, кому выпадет, пусть возьмет себе жену, и отправляется к дому человека по имени Иафет, сын Ноя. И пусть делает все, что скажет ему. Гер Синеглазый взял кость и одним прыжком вернулся обратно в явь. Триста Ангелов повернули небесное колесо, механика скрипнула, и завертелась. Над дюнами попарно зажигались супружеские планеты и звезды. Всходила Луна. Гер Синеглазый задумался. В глазах его угрожающе блеснуло электричество. Он резко, как горнист, вскинул голову к небу и выкрикнул условный сигнал. У горизонта его эхом повторил другой волк. К утру, когда звёзды поредели, тревожная весть обошела круглую, как хурма, Землю, и застала Синеглазого на горе Анк, где собиралась стая. Гер сказал, что было открыто. Волки молча уселись в круг, и передавали жребий друг другу, пока Синеглазый пел. 27 Волки стояли на священной горе серой и плотной, как грозовое облако, стаей. Дождь то хлестал гору хлыстом, то покрывал покрывалом. Красные токи реки Фисон вошли в зеленую реку Хиддекель, как огонь в траву. Стихия пенилась, взрывалась и наступала, фонтанами била из-под земли, лилась из небесной бездны. Изредка в прорывах стремительных облаков мелькала Луна, на миг казалось, что битва утихла, но с востока подтягивались новые тучи, и все начиналось сначала. Когда река подступила к стае вплотную, Гер Синеглазый велел задушить волчат. В гору ударила молния, запахло паленой шерстью. Из пробитого камня на вершине капал какой-то металл. Хрустальная сфера лопнула, и на землю посыпались осколки первого неба. Стало светло, как в полдень, и Волки увидели ковчег. Он прошел совсем близко, едва не пропоров смоленый борт о скалы. Вожак бросил на ветер слова прощания. Шторм затихал, но ливень только усилился. Волки стояли по плечи в воде. К горе подбирались жестокие морские гады. Улисс и Волга спали в трюме обнявшись. Рядом с ними возилась дикая свинья. Причитала обезьяна. Синеглазый остановился. Желтая кость выпала рыжему Улиссу. Никто не знал, зачем нужен был выбор, и потому никто ему не завидовал. Улисс взял в жены Волгу, молодую волчицу, просторное тело которой было хорошо для потомства. Он сразу выбрал ее из тысячи двухсот, и, не умея понять причину, считал, что это любовь. Улисс и Волга отправились искать человека. Погода стремительно портилась. Ветер срывал ядовито-зеленую пену с разволновавшихся рек. Улисс видел во сне, как его отец касается языком лунной дорожки, жадно пьет из нее, захлебывается. Волга не видела снов. Она была еще молода, чтобы общаться с бесплотными. Волга просто отсыпалась впрок. Впереди у нее была вся мировая история. D:\681449086.doc 6. Два горизонта Сначала молчишь. Это совсем непросто. Ты видишь Великую Гору Небес и то, что заметно сквозь гору, слышишь плеск осиновой рощи и запах цветущего тмина. На коже твоей оседает горькая пыль. Холодный камень в ногах, тяжесть. Ты чувствуешь все, но не можешь сказать. Над прибрежной осокой летают стрекозы, водяная крыса возится в ивовых зарослях. Ты тоже умеешь двигаться. Ты поднимаешь с земли белый камень. Ты думаешь: Вот кто знает цену молчанию. Камень этот тебе как родственник, ты касаешься камня губами, открываешь рот: О Оло И далее повторяешь по памяти имена в порядке Сотворения: Небо Земля Тьма Бездна Вода 28 Свет День Ночь Вечер Утро Твердь Вода Суша Земля Море Зелень Трава Семя Дерево Плод Светила Знамения Время День Год Душа Птица Рыба Скот Гад Зверь Человек Мужчина Женщина И стало так. Прочие же имена, которые всем скотам, и птицам небесным, и светилам, и морям земным — дал я, Адам, в Едеме на Востоке, на берегу Хиддекель-реки. D:\681449086.doc Ветер листает Книгу Адама, что записана на кленовых листах. Я стою у старого Клена, читаю, и Клен отвечает — покачивается. В его венах нагревается сладкий сон. День будет долгим и жарким. Теперь, когда я стал понимать растения, это меня не радует. И на поле теперь я смотрю не усталым взглядом пахаря, и не похотливым — землевладельца, но долгим и пристальным, полным земного торжества и небесной печали. Глазами дерева. Белоголовые одуванчики стоят по колено в плевел-траве, ветер качает их нимбы. В Корабельном поле явились спелые одуванчики, как собор тех святых, просиявших в земле Российской, чьи имена не будут открыты. Господу нужны не только чтецы, но и плотники. Даже дворникам и прачкам найдется дело в Новом Иерусалиме. Они выметут пыль изпод ног разбойников, помилованных в день Страшного Суда, и до бела отмоют их одежды. Они уже там, и ждут нас. Святые — небесные квартирьеры. Стрекоза сидит на моем плече, я смотрю как она дышит. Будь я фотограф, что продает свое зрение, я бы сделал портрет стрекозы, но я не помню, кем я был. 29 Я открыл для приветствия рот, и ветер загудел во мне, как в пустой бутылке. Мне стало страшно от ощущения своей пустоты. Я знаю, что смерть нигде меня не поджидает. Мы неразлучны с нею, путешествуем вдвоем, и каждый пронзительный пейзаж, неожиданное событие или физиологическое состояние, я привык оценивать по пригодности слияния с ней. Что если бы здесь и сейчас я умер, было бы это красиво, прилично, или, по моим заслугам и прегрешениям, можно поискать другие места. Еще в Кэмбридже, когда я увидел Ангела впервые, мне стало понятно, что это высшее достижение жизни. Акме. То есть, если тогда умереть не случилось, то случится сейчас. Тревоги, составляющие мою повседневную жизнь, в сравнении с тем могучим чувством, что настигло меня на Корабельном поле, выглядели жалко и несерьёзно. Подобно тому, как в крайних своих проявлениях сходятся жар и холод, этот страх был почти что радостью, он стал больше тела, не вмещался в сознание. Так боится душа. То есть, речь идет уже не о смерти, а о том, что за нею следует. Складки на коже Клена говорят о морозах и весеннем пожаре. На моей ладони линии тоже переплелись, образовав знак огня. Теперь, наверное, в руке можно кипятить чай. Уплотнения в ветре тоже говорят. Клен затихает. Свет, ветер, запах реки образуют над нами прозрачную пирамиду, на вершине которой — Ангел. …………………………………………………………………………… ………………………………………………… . Ангел сделал шаг и плавно скатился по грани пирамиды. Он находился в отдалении и улыбался, глядя, как я быстро крещусь, стоя на коленях, на корнях Клена. Ангел тоже перекрестился, прошептал благодарственную молитву. Хозяин поля наконец-то вернулся домой. Он жестом приказал мне приблизиться. Я повиновался. Ангел обнял меня и сверху покрыл, как епитрахилью, крылом. Его дыхание D:\681449086.doc 30 было чистым и ароматным. Он ничего не сказал, но в голове моей сами собой загорелись четыре слова: Больше ничего не бойся. движения, и в голове, заглушая скользкие мысли, вертелась птичья Маринина песенка. И я успокоился. Закрыл глаза и увидел сон: Моя сестра Марина стоит в воде по пояс, машет мне рукой и с каждым движением все глубже погружается, пока не исчезает совсем. От нее остаётся лишь чистый прозрачный голос, что существует теперь сам по себе, и поет, подражая жаворонку: Хотя что, в сущности, изменилось? И до появления Ангела я знал, что мы живем среди бесплотных сил. В стволах моих глаз — специальный ограничитель, чтобы нескромно не касаться невидимых при внезапном выстреле из-под ресниц. Полечу на небо, полечу на небо, Схвачу Бога за бороду, Юли-юли-юли-юли, Юли-юлю. Когда я проснулся, жаворонок из сна порхал перед самым моим лицом, едва не задевая его крыльями. На листе лопуха у Клена лежали лиловые персики, еще сохранившие нездешние ароматы. Должно быть, пока я спал, Ангел наведался в какой-то сад на Востоке. Я разломил персик и понял, что голоден. Я сидел, опершись спиною о Клен, ел фрукты, грелся на солнышке, и от мысли, что Ангел невидимо где-то рядом, стало совсем хорошо. Как в утробе матери, как в теплой июньской луже, где жизнь существует в той же полноте, что и на Пятый день, когда вода воскишела кишением. Я был собой, но понимал, что во мне происходит перемена. Я слышал запах мыши под землей, видел ее нору на глубине полуметра, где корни трав цеплялись за влажные камни. Я вдруг понял, что не все растения отбрасывают на поле тень, и не все тени происходят от солнечного света. Я мог упереться рукой в ствол дерева и войти в него, не оставив ни царапины на коре, ни трещины в массиве. И, что самое примечательное – эти новые свойства сообщили мне скорее слабость, чем силу. Я ощутил невесомость тела, ненужность Муравей ползет по моей руке. Большого и целого – меня – он не видит. Я могу раздавить его, могу — предложить косточку от персика. Трава на покосе ничего не знает о косаре. Многие люди прикасались к Господу, сами не ведая об этом. В небесах, скорее всего, свободного места гораздо меньше, чем в море или на земле. Но невидимое должно оставаться невидимым, а тайное — тайным. Нельзя ловить прикосновения крыльев в майском ветре, в кленовых листьях — нельзя читать. Сокрытое — сокрыто нам на пользу, и тот, кто ловит Ангелов на серебро, поймает свою смерть. И все же ещё не родился человек, который не слышал бы музыки Сфер, а тот, с кем не случалось чуда — беспамятен и неблагодарен. Человек – не меньше, чем дерево, хотя и не был свидетелем Сотворения, и, переползая по ладони Творца с указательного пальца на средний, не забывай посмотреть вверх, хотя бы затем, чтобы увидеть облака. Облака — эскизы Всевышнего, в них он искал форму для всех живых существ, а нашёл горние камни. С облаками сегодня негусто. Небо над полем наполнено первозданной синевой. Отличный день для испытания небесной машины на прочность. Языки протуберанцев лижут с моей кожи D:\681449086.doc земную соль. Сфера гудит от чрезмерной нагрузки, как цикада в зарослях зверобоя. А дежурный механик все прибавляет обороты. Солнце вот-вот взорвется. В такие дни доволен только крестьянин — трава, срезанная по первой росе, к обеду уже подвялится. Похожие на черепах северные валуны повернулись к реке, и кряхтят от жажды. Пятна лишайников лежат на их коже, словно острова на карте допотопного мира. Клён не боится зноя, много лет назад он нащупал корнями водяную жилу, и присосался к ней, как дитя к матери. Если тебе Земля не мать, то и Бог не отец, как сказал брату Авель, животом прижимаясь к земле. У меня нет брата, только единокровная двоюродная сестра. Наши матери были сестрами, и отец мой однажды загостился у свояченицы, пока мы с матерью изучали свойства пыли, собирали на Балтике чертовы пальцы. Марина словно бы только снилась мне, была совсем близко, но никак не складывалась в целостный образ. Я никогда не знал, что она сейчас скажет, как себя поведет, наконец, часто не мог вспомнить её лица. Что-то в парении кленовых листьев меняется и говорит о приближении ветра. У ветра много имен, и тот, что в знойные день набегает на Корабельное поле, называют Руахил. Ангел стоял предо мной, как лист, и я, казалось, мог разглядеть его. Там, где он пребывал, воздух делался как бы водою, и внутри этой прозрачной колонны свет не падал на землю, но закручивался и оседал по стенам. Постепенно из света сложился уже знакомый образ. Самыми яркими точками в нем были веки, кончики пальцев, рулевые перья и лучистые глаза. 31 Я помнил, что Он сказал мне утром, и не боялся. Тридцать три года я не встречал Ангелов, и вот вижу на этой неделе третий раз. Клен захлопал в ладоши, зашумел, как стадион. Наверное, радовался. Ангел говорил со мной, но это были скорее не слова, а кино, сон. Я не могу в полной мере передать показанное, но вот его суть: Человек, которого я видел в Кэмбридже, был Каин, убийца Ангелов. Возможно, тот самый юноша, которого Господь запретил касаться семь тысяч лет тому назад. Лишь на мгновение отвлек я отца всех смертей, и ядовитая стрела, которую он выплюнул, воткнулась не в колено Ангела по имени Теофил, а в медный барабан на куполе храма. От каинового яда оперение Ангелов на время становится бронзовым, и они могут потерять крыло или даже самый дар полёта. Контракты охотника оплачивают частные коллекционеры. Каждый из них рад даже маленькой бронзулетке. Возможно, это просто метафора. Во всяком случае, стрела способна нанести Божьим Вестникам вред. Так, того не ведая, я заступил за черту, что отделяет Вечный Мир от Белого Света, ответил на предназначенный не мне призыв о помощи, всего лишь оглянулся – и меня уже нет. Не должно быть. Забор, отделяющий сад от улицы, состоит не только из крепких железных прутьев, как думает сторож, но и из пустоты между прутьями, как полагает яблочный вор. Выходит, этим вором я и оказался. В великом сне Сотворения все устроено так, что за лишнее знание надо платить гораздо больше настоящей цены. Так Адам, осознав D:\681449086.doc 32 свою наготу, вынужден был потом до смерти в поте лица работать, чтобы прикрыть ее. картофельного поля под Хельсинки. При посадке Ангел повредил крыло. Три Ангела молились за меня: Теофил, избежавший испытания бронзой, Руахил, хранитель Корабельного поля, Гевил, прикованный к веслу на небесной галере за связь с Адамовой дочерью. Причиной аварии, возможно, стала слишком горячая молитва одного из пассажиров. Молитва была такой сильной, что из правого двигателя с визгом выскочил заточённый в турбину бес подъёмной тяги, силою которого и отрывается от земли авиация. Благодаря их заступничеству у меня появился шанс остаться в живых, но сначала я должен совершить паломничество. Руахил будет сопровождать меня, ему разрешено надеть броню, наше путешествие будет опасным, но не долгим. Три воды есть на свете, и мы должны каждой попробовать, испить из истоков трех рек: Аракса, что разделяет Ад на магометанский и христианский сектора, Хиддекели или Тигра, в галерейных лесах которой еще сохранились деревья из Едемского сада, И далее — вверх до самых небес, где берет начало река Евфрат. После этого можно вернуться на Корабельное поле, где Ангел продолжит свой тихий подвиг, а я, как и прежде, смогу идти в любую сторону. Руахил рисовал ладонью в воздухе маршрут нашего путешествия — ромб, когда я решился перебить его. Ангел остановил меня взглядом, и только закончив сеанс, ответил на вопрос, который я ему не успел задать. Самолет действительно был неисправен. Моя жизнь не стоит того, чтобы всех убивать. Смоил со скрипом дотащил лайнер до Меня сняли с борта раньше, через час после вылета. Возможно, невольный виновник аварии видел, как это было. Руахил протянул мне руку. Его ладонь была влажной и теплой, как у ребенка. Ангел смотрел в небо, прищурившись, словно стрелок, небо выгнулось дугой, подобно луку, и поле звенело под ним туго натянутой жилой. На небе не было ни одного, пригодного для поездок облака. Благодатный ветер прошептал предначинательную молитву, и, легко оттолкнувшись ногами от тетивы, потащил меня вверх. Путь наш лежал туда, где за холмами и болотами мерещился городгоризонт, подвешенный к провисшим от сырости небесам за купола колоколен. D:\681449086.doc 7. Вино и Молоко Когда Ева принесла Адаму последнюю дочь, праотец рассматривал дочиста объеденный муравьями череп обезьяны. В этот день он понял, что употребил уже все имена и ничего не оставил для последыша. Ева положила девочку на порог, а сама легла рядом, потому что сидеть еще не могла. Она смотрела как солнце, клонясь к западу, гасит свой жар в соленых облаках земли Куш. Облака подрумянивались и таяли. Должно быть, – думала Ева, – вокруг небесной пекарни едоков крутится никак не меньше, чем вокруг меня. Адам разделил пятерней седую бороду надвое и сказал: На свете больше не осталось имен, придется начинать заново. Маленькая Ева была первой, кого назвали в честь матери. Еве Старой было не до чести. Одного имени на двоих мало, – ворчала старуха, – значит, мне умирать. Нам больше нельзя плодиться, – сказал Адам, – если родятся мальчики, это снова будут Каин и Авель. В поле ударили в барабаны, запели, – это Гомер, отец всех кожевенников, устроил праздник по случаю рождения младшей сестры. Мясо кипело в котлах, и горькая трава была ему приправой. На алтарь из неоскверненных теслом камней лилась кровь белых ягнят. Ангел девятого чина по имени Гевил был послан принять жертву и благословить младенца. Ангел стоял у сплетенной из прошлогодних трав колыбели и смотрел, как глазные яблоки Евы катаются по блюдцу её лица. Он знал, что сейчас девочка видит его во сне, и боялся пошевелиться, чтобы не напугать ее. 33 Адам сидел на желтом ковре, глядел в пустые обезьяньи глазницы, как в полевой бинокль. Он не притронулся к еде, не прислушался к любимой песне. Адам пытался вспомнить Едемское проклятие дословно, уже много дней одна простая мысль тревожила его: неужели после смерти тоже придется болеть и работать? Гевил прикоснулся губами к родничку на темени Евы, начертил в воздухе первую букву своего имени и просыпался на земляной пол, словно горсть песка. Как и все Ангелы, Гевил любил разгадывать загадки Творца, постигать красоту дел Его. Так Ангел обнаружил, что есть стихии, которые легко смешиваются и могут родить, например, Земля и Вода. Напротив, Вода и Огонь при смешивании друг друга уничтожают. Он понял, также, что у каждой стихии есть женская и мужская сторона. Женская часть Земли, та, что вкушает Воду, рождает деревья и зелень, мужская же часть, замешанная на подземном Огне, производит песок и камень, на котором маленькая Ева нарисовала быка. Теперь, стоя на серповидном облаке, Гевил размышлял о том, почему Господь оставил своих Ангелов бесплодными и в то же время вдохнул страсть размножения во всех прочих тварей, небесных птиц и гадов, ползающих на брюхе. Даже камни плодились в чреве молодой Земли. Гевил топнул ногой, и облако закрутилось, поплыло, вращаясь, вдоль реки Гихон, на берегах которой среди кедровых лесов приютились рыбацкие деревушки. Рыбаки смолили лодочки и намаливали снасти, рыбачки костяными иглами латали паруса, а рыбацкие дочки готовили приданое, вышивали на рубашках перламутровые ромбы из чешуи. D:\681449086.doc Ангел прищурился, чтобы лучше разглядеть человечка среди дикого поля. Человек был известен Ангелу. Это Адам, бросив племя, отправился искать лобное место, чтобы умереть. Во сне ему было открыто, что из головы его вырастет Животворящее Дерево, плод которого избавит всех от наказания хворями и трудом. Возможно – подумал Ангел – старик был бессмертен, пока не нарушил Закон, а из бессмертных, наверное, один Бог родит. Так, не согрешив, никогда не покачаешь на руках маленькую рыжую девочку с глазами цветом как Его пальцы. Или Господь разрешил Адаму плодиться еще до того, как тот ел от дерева? Кто знает. Гевил благословил исчезающего из вида старика и закрыл глаза. Щеки Ангела сделались холодны, а губы, напротив, стали горячими, когда он, повторяя молитву, перематывал время вперед. Гевил открыл глаза и на месте трех деревень увидел маленький городок. На речной косе стоял мальчик с сачком и смотрел из-под руки, как сквозь воронку в небе на реку наползает облако. Ангел развернул сизые крылья и прыгнул вниз. Он летал над городом кругами, искал Еву, потому что любил ее, то есть хотел зачать с ней ребенка. После ухода Адама и смерти матери Иаван, третий после Сифа, принял на себя заботы о живых и народившихся. Он не был ни умен – ни глуп, ни скуп – ни жаден, ни сух – ни гнил. При таких правителях никогда ничего не случается. Тем более что, каким бы ты ни был в допотопном мире, дорога тебе одна – Ад. Ева стирала белье на мостках у отмели. Юбки ее были высоко закатаны, руки красны, изо всех сил стучала она вальком по серым рубахам, смывая с них пот и слезы сорока тысяч своих братьев. Рыжие волосы Евы то и дело выбивались из-под косынки, падали на лоб, груди под мокрым платьем бились, как рыбы в сети. 34 Гевил нашел ее такой на третий час полета. Он опустился на дно реки и смотрел из-под воды. Дневное и ночное – оба его сердца сладко рыдали, и сердечные слезы изменяли цвет и вкус крови, которая из белой и сладкой превращалась в соленую и красную. Сердца стучали в его груди, как в кузнице стучат старый искусный кузнец и молодой могучий молотобоец. Тело Ангела била дрожь, от которой поверхность воды внезапно подернулась рябью, волна нахлынула на отмель и раскачала мосток под юной прачкой. Ева собрала тряпки и поспешила к берегу. Гевил окликнул ее, но слово его, переливаясь, растворилось в реке. Девушке было шестнадцать лет. Ангел был старше её на полное тысячелетие. Ева стояла на берегу, Ангел медленно шел к ней по воде, оба напряженно улыбались. Наконец Гевил остановился. Он решил, что ближе подходить нельзя, потому что девушка испугается, но на самом деле боялся сам. Между ними искрился плес, где отражалось облако. Адамова дочь бросила белье, забежала по пояс в воду, обняла Ангела за ноги, лицом уткнулась в его колени, заплакала, запричитала: Боже, как я люблю тебя, почему ты оставил меня в моих снах. Ночью, что вскоре сменила день, Ева домой не вернулась. Ее жених пятидесятилетний Доданим, сын Елиса, искал ее утром, но нашел только чистые рубашки. Доданим был Еве племянником, он вернулся в город и сказал братьям, что сестру их прибрал Господь, утащил речной сом, увез шумерский патруль, и теперь между ними нет обручальной клятвы. D:\681449086.doc Гевил и Ева ушли в Соленые Земли, Волк по имени Рем служил им и тополь был укрытием. За одну ночь Гевил выкопал колодец такой глубины, что темной своей стороной он касался раскаленной плиты, под которой до Судного Дня заперт подземный огонь. Ангел поймал оторвавшуюся от небесной тверди комету, расколол её и сложил в скважину. Ледяное ядро растаяло, а хвост осыпался в горах алмазными россыпями. Колодец этот цел до сих пор. Ангел и его жена утоляли жажду водой, что предназначалась для Потопа. Однажды утром Гевил обнаружил, что Ева прекрасно поет, и удивился тому. Она пела не хуже Ангела, но Ангел в пении сердечно воспроизводит ту музыкальную фразу, которой сам в Музыке Сфер и является. Ева всего лишь заставляла вибрировать голосовые связки. Гевил нежно ощупал жене горло, даже заглянул в рот. Он недоумевал. Ева смеялась, щурилась от счастья и отказывалась повторить холостяцкую песенку, что мурлыкала, купаясь в реке. Ангел трижды обнял ее руками, крыльями и ногами. Ева ощущала себя рекой, в тесных берегах которой текут друг другу навстречу вино, кисель и электрический ток. Тело ее было как бы из одних бутонов, что распускались волнующими цветами, едва возлюбленный прикасался к ним. Ева закрыла глаза, и Ангел пил нектар с ее ресниц. Пальцы её – нежные лепестки лотоса, губы – лилия долин. Ева вздрогнула, потом запела чисто и пронзительно, и в этот момент Ангел, превратившись в прозрачный камень, упал в ее лоно, как в воду, чтобы переустроить его для своего ребёнка. 35 Волны реки Гихон рисовали соленым песком свое плоское изображение на отмелях – холмы и долгие борозды в долинах на пашне. Подкрепи меня яблоком – шептала Ева – любимый, освежи вином, ибо я изнемогла. В этот день впервые после Сотворения на землю Куш выпал дождь. Белые пряди струй переплетались в тугие косицы, пробивали в земле отверстия в сажень глубиной, раскалывали камни, текли по поверхности похожими на змей ручьями и по дороге жадно глотали соль. Заходящее солнце светило сквозь дождь, но радуга не взошла. Зато ночью явился тяжело нагруженный семенами трав и деревьев ветер и высадил для влюбленных сад вдоль реки. Ева спала, укрывшись крылом мужа. Изнутри крыло было пуховым, а снаружи металлическим. И дождь, что барабанил о серебро, лишь усиливал ощущение счастья. Одной рукой Ева прикрывала живот, другой обнимала Ангела. Гевил гладил ее пальцы так, словно одевал на каждый кольцо, потом менял кольца местами, снимал, превращал их в перстни. Вместо камня он вставлял в оправу прохладного прикосновения багряный поцелуй. Ева открыла глаза и сказала: Мне привиделось, что я надела во сне чужое платье и стала другим человеком, своей матерью, мой первенец принес на руках мертвое тело младшего брата, всю ночь я плакала над ними, не знала что делать, не умела ни наказать, ни похоронить. Ангел успокоил ее единственным нежным жестом. Он не придавал значения ее словам, мало ли что приснится беременной? Утром, D:\681449086.doc выдалбливая люльку в форме ковчега из дерева гофер, он думал, что в связи с ним для Евы меньше греха, чем в браке с племянником. Но если девушкам можно выходить за того, кто позовет, то Ангелам вообще нельзя жениться, чтобы никто не сказал: 36 Ангел вбивал гвозди в крышу, когда жена тихо позвала его. Он бросил работу и побежал вниз по лестнице, словно забыв, что умеет летать. Молоток с веселым грохотом скатился с крыши, разбил лист оконной слюды, Гевил поскользнулся, зацепился крылом о косяк, повалил бочку с воском и вывалился из дома прочь. Имею против тебя то, что оставил ты первую любовь свою. В своей любви к Адамовой дочери Ангел был подобен ветру, он обволакивал ее с головы до ног, и не она носила его ребенка, но он носил их обоих – дитя и мать. Ева же была подобна плодовому дереву, она тихонько шелестела в ответ на его ласки, но слышала только свой плод, чувствовала, как он медленно зреет, и никак не могла понять, откуда возьмутся кости в ее чреве. Она ходила на реку смотреть как на зеленых полях планктона пасутся стада печальных карпов, мелькают среди камней тени змееголовых угрей и мохнатых рыб-медведиц. Ева воображала, что и в её водах плещется рыбка, она ловила ртом солнечные лучи, чтобы во чреве, как в реке, рябили блики. Сидя верхом на потолочной балке, Гевил улыбался, глядя, как Ева заплетает маленькие рыжие косички, и уши ее трогательно торчат, розовые, совсем не загорелые, в отличие от лица. Теперь у Ангела было много работы, он знал, что скоро ветер переменится, и спешно строил дом с башней из соляных блоков и глыб, чтобы Еве не пришлось рожать под кустом. Он работал один, волк только зализывал швы между блоками, превращая их в монолит. Вечерами, утомленный человеческим трудом, Ангел лежал рядом с женщиной и гладил ее живот. Он прислушивался к сердцу эмбриона, и по тому, как трепетно оно билось, заключил, что Ева принесет дочь. Ева стояла на коленях, по окровавленной траве тянулась пуповина. Она протягивала мужу завернутого в платок младенца. Ее губы были черными от боли, а глаза красными от любви. Гевил прошептал отторгающую молитву и мечом Хранителя перерезал пуповину. На закате облака выстроились в плотное кольцо вдоль всех четырех горизонтов, в нем читались силуэты птиц, людей и животных. Фигуры плавно перетекали одна в другую, садились на корабли и плыли вокруг света. Солнце величаво садилось, небо темнело, облака из белых стали лиловыми и превратились в стену. Ангел весь вечер не покидал башни и не увидел знаменья. Он стоял между ложем Евы и колыбелью маленькой девочки, что лицом была вся в отца, от того и имя ей – Ангелика. Ночью Гевилу явился грозный Ангел Иегудил, велел прощаться, оставив на сборы три дня. Было утро. Ева ничего не знала, но уже догадывалась. Они лежали на крыше башни, девочка – на груди у матери, и смотрели, как ласточки и стрижи стремительно проносятся по границе небес. Пели. Еве казалось, что лежат они глубоко под водой, и каждый звук заключен в отдельный пузырек воздуха. Пузырьки поднимались вверх, путались и когда, наконец, лопались, песня не складывалась и мелодия терялась. Иегудил сказал: Ты должен знать, что на Земле, как и на Небе, за любовь нет наказания. D:\681449086.doc Твоя вина в том, что: Ты молился корыстно, Ты притронулся к заветной воде, Ты имел связь с чадом, которое благословил, то есть, по сути, с духовной дочерью. 37 И добавил волшебное слово: Аминь. Старуха пыталась было закрыть уши, но слово уже влетело в нее и жгло изнутри. Из носа старухи пошел пар, потекла зловонная жижа. Гевил запер дверь и поднялся к жене. Она будет осуждена? – спросил Гевил. Нет – сказал Иегудил. Гевил по чину поклонился. Иегудил сложил ладони крестом в знак того, что по-братски сострадает ему. Ангел лежал, обнимая жену и дочь, и думал: Я зарыл в эту землю все мои таланты – и вот две женщины – мой урожай. Ева – сказал Ангел – скоро мы расстанемся. Я буду молиться за вас. Береги девочку и не бросай люльку, она еще послужит ей. Я буду очень далеко, и даже на том свете мы не увидимся. Но у нас еще целых три дня, так не будем же их терять. Гевил был наказан черной работой. Он убивал кистеперых китов перед Потопом, резал египетских первенцев, разрушал Содом. Среди узников на небесной галере он был хорошо известен. В дверь громко постучали, Ева тревожно взглянула на мужа. Успокойся – сказал Гевил – у нас еще три дня, это какой-нибудь зверь пришел лечиться. На крыльце стояла старуха. Ангел остался в дверях и расправил, закрывая вход, крылья. Он догадывался, кто хочет говорить с ним. Старуха потёрла губу уголком платка и, опершись на клюку, быстро зашептала по-арамейски: Просили передать: поклонись Светоносцу, первому из вас, и тебе не только оставят эту жену, но и дадут возможность стать отцом целого народа славных исполинов, которые унаследуют мир. Гевил улыбнулся, помолчал, потом сказал на ангельском языке: В наказание за грехи я готов до трубного гласа сидеть в яме, полной гнилых червей, но никогда не пойду против Господа, сотворившего Небо и Землю. Ева отправилась по степи к Иаван-городу, к спине её была приторочена люлька с ребенком, из-под ремней сочилась кровь, из грудей – молоко. Капли смешались в следах, так появились первые опийные маки. Ангелика росла тихим задумчивым ребенком, в ее волосах среди огненных прядей пробилось сизое перо. D:\681449086.doc 8. Короткие встречи Марина пришла в себя в больнице. В истории болезни значилось: отравление угарным газом. Соседи-алкоголики растопили камин, который в последний раз пробовал живой огонь, должно быть, году в двадцатом, когда доктор Тойфель уничтожал семейный архив. Едва в изразцах заплясало шальное пламя, из трубы, забитой прошлогодним снегом, тяжело ухая, вылетела опаленная сова. Марина знала, что диагноз не верен. В ее легкие просто попала вода из сновидения. Она помнила смутно: какие-то люди бегали вокруг нее, били по щекам, но больно не было, стало быть, били внутри сна. Человек в пространстве мечты легок и неуязвим. Он прыгает, как мячик, летает, как волан, и всегда возвращается целым и безмятежным, о какие бы скалы ни разбивался во сне. Однажды Марине случилось проучить на той стороне наглеца. Она наотмашь лупила негодяя бамбуковой палкой, но на нем не появилось и царапины, обидчик противно смеялся и показывал палец. Соседи по площадке действительно угорели, но это случилось за толстой глухой стеной, в каких делают тайники для золота, а у Марины были открыты окна. Спасатель услышал, как она стонет, и решил, что и в этой квартире газ. Так или иначе, сестра могла задохнуться, но ее откачали. Когда Марина, слегка пошатываясь, вошла в ординаторскую и представилась коллегам, ей предложили кофе и телефон. В сигарете отказали, не сильно и хотелось. 38 Сначала она позвонила в институт, сказала, что заболела. Ей ответили: Ладно, тебя тут какой-то голландский фотограф искал. Затем нашла по справочнику номер частной наркологической клиники, набрала и попросила доктора Краснова, своего однокашника. Через час Краснов прилетел на своем зелёном тропическом пассате и забрал ее. Следуя старому правилу «извлекай из беды пользу», Марина извлекла выходной. Куда, – сказал доктор, – домой или в гости? Мне бы воздуху, – сказала Марина, улыбнулась ласково, и они отправились в Лахту. Волны катились на пляж, вода шлепалась о песок и пенилась, и шипела как масло, ломтики тростника и сосновые шишки жарились в ней. Марина сидела, обхватив коленки, и наблюдала, как грозовое облако, осторожно, чтобы не потревожить тяжелое брюхо, обходит купол собора в Кронштадте. Блики света играли на острых гранях креста. На заливе случился замор, мелкие судаки, лещи и карпы лежали на желтом песке, как перламутровые раковины, а в полосе прибоя перекатывались крупные, как поленья, их деды и отцы. Про рыбу не говорят умерла, – думала Марина – но заснула. Этот берег не тает, потому что рыбы держатся за него в своих снах, пока их клюют вороны и чайки. Наверное, захлебнувшись во сне, я лежу сейчас там, на отмели, на Луне, вытянувшись изысканно, как пьяная русалка, жуки устроили во мне столицу и пир, и вода капает в ухо, как в греческих часах. D:\681449086.doc Краснов, – сказала Марина – как ты думаешь, на небесах бывают заморы? Вообрази себе: белый Ангел врезается в желтый столб заводского дыма, падает на облако, а там все уже темным-темно от неживых крыльев. Она говорила медленно, не столько напирая на слова, сколько подчеркивая паузы. Доктор знал, к чему этот театр, он сел рядом с Мариной, обнял за плечи, чмокнул в висок. Ну что, поехали? – сказал доктор. Посидим до пятой вороны, – сказала Марина, – и отправимся, хорошо? Боже мой, – подумала Марина, – стоило мне пять лет назад сделать вот так рукой, и была бы я теперь Краснова, и был бы у меня дом в Юкках, соль на губах и белый рояль в зарослях декоративного дрока. Марина засмеялась и поцеловала доктора. Ее поцелуй был подобен тому, как ласточка утоляет жажду, срывая в полете каплю с волны. Она смотрела, прищурившись, как ветер забивает в волны серебряные гвоздики, искала слово, чтобы описать сложносоставное облако, считала ворон, видела как самолеты нарезают в небесных полях длинные белые борозды, и Архангелы, словно в отместку, кидают в них семена первого снега, и вдруг вспомнила, словно вышла из тени на свет, что брат давно должен был бы появиться, да не появляется. Трубка Краснова не работала, и Марина заторопилась домой. В прихожей, не закрыв дверей, набрала справочную аэропорта и безвольно опустилась на пол. Ее давешний сон настойчиво прорывался в явь, пятном проступал сквозь ткань дня, торчал из его мешка острым шилом. 39 О ком ты плачешь, женщина, Об умершем сыне? Нет, оставьте меня в покое, еще рожу. О ком ты плачешь, женщина, О погибшем муже? Нет, не прячьте ремень и бритву, Найду другого. О ком же тогда ты плачешь? О том, кто роднее отца, сына и мужа, О брате, Другого нет, и негде взять. Марина выставила доктора, выключила радио, села, закутавшись в одеяло, и тихонько заскулила. Она боялась пропустить звонок диспетчера, который обещал связаться, как только пассажиры в Хельсинки пройдут перерегистрацию. Дурацкая мысль вертелась, как муха, отвлекала – вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, стоит покраситься. Со слезами из глаз вытекали воспоминания, капали в чашку с чаем, плавали на поверхности, как пенка на молоке: Отец взял ее на плечи, а за руку ведет другого ребенка, идти по скошенному полю колко, ребенок плачет; Она плавает в заливе, залив мелкий, она трется о стиральную доску песка загорелым телом, воспламеняется и не хочет вылезать, а с берега уже машут; Ослепшая женщина бредет выжженной степью, на спине качается люлька, на кургане замерли всадники, один указывает на женщину серебряной рукоятью плети. Марина поняла, что вышла за пределы своей памяти, и кто-то другой плачет ее глазами. Тут зазвонил телефон, и заговорил на хорошем русском голландский фотограф. D:\681449086.doc Прошу простить за вторжение, но, кажется, я могу помочь вам в поисках брата. Кроме того, у меня к вам есть и профессиональный интерес. Давайте встретимся. Давайте, – сказала Марина. Где и когда, – спросил фотограф. У меня, сейчас, – и продиктовала адрес. Фотограф оказался довольно молодым человеком азиатской наружности, предположительно, индусом. Он вошел без приглашения, едва она отворила дверь, и рой насекомых влетел вместе с ним в прихожую, как облако пара с мороза. Марина не успела удивиться, как жуки превратились в рисунки на обоях, богомолы -- в трещины на потолке, а бабочки – в наклейки на холодильнике. Индус поставил на пол тяжелый рюкзак, снял ботинки и остался босой, на левой ноге у него не было трёх пальцев. Если вы поставите воду, я угощу вас кофе. Еще ведь не слишком поздно для кофе, не так ли? Марина пожала плечами и отправилась на кухню. Отчего вы не спросите про мой русский? – бросил ей вслед индус. – Здесь он всех удивляет. – И не дождавшись ответа, продолжал, – У меня по всему миру дальние родственники, и я выучил языки рассеяния, на которых они говорят. Сколько воды? – спросила Марина не очень-то приветливо. – Хватит две чашки? О, позвольте я сам – заквохтал индус – во всяком деле есть секреты, сколько наливать словами не скажешь. 40 Марина заметила, что у гостя из кармана джинсов торчит желтая кость. Что это? – спросила Марина. Ослиная челюсть, фрагмент, – ответил фотограф – мой талисман. Слова его то обгоняли друг друга, то трескались и тонули на вдохе. Плыли по речи, как лед по реке. Интонация постоянно менялась, но что-то в голосе казалось Марине мучительно знакомым. Так бывает, – даже кончики пальцев чешутся от ощущения, что вот-вот узнаешь, да никак. Ангел Помаил заметил, что нить, связующая его с Мариной Симоновой, ослабла, и явился проведать барышню. Он, как атлант, стоял под соседским балконом, и когда на улице стало тише, заглянул в окно. Оперение Ангела из синего стало алым. Он увидел Каина, что крутился у плиты, сыпал в кофе зерна белого перца и тмина и читал в запотевшем зеркале имена, что хозяйка раньше написала мизинцем. В бороде у него торчали отравленные иглы. Помаил ощутил в руке приятную тяжесть меча и сложил пальцы в знак гнева. Но Господь, как известно, запретил трогать Адамова первенца, запрет был написан у Каина на веках, и моргал он в два раза чаще обычных людей. Каин почувствовал приближение Ангела, потому что: - внезапно захотел спать, - время качнулось и потекло назад, и он вдруг вспомнил, что однажды уже был здесь, стоял у этой плиты и так далее… - услышал звук, называемый коканием, словно спящий шепчет чтото невнятное за спиной, или шумит море сквозь шелест леса, или сверчок запел в голове. D:\681449086.doc Каин обрадовался и испугался. Он вытащил из бороды ледяную иглу и помешал ею в кофеварке. Помаил пристально следил за ним с купола Андреевского собора, когда в кухню вошла Марина. В руках у нее был почерневший от новостей телефон: Пассажир Симонов в Хельсинки не прибыл. Не волнуйтесь, пожалуйста, не губите себя, – заторопился индус – он жив, я знаю, где он. Присядьте, выпейте кофе, он жив, спросите хоть у того, – Каин кивнул в сторону окна. Марина подняла глаза и увидела над красной крышей зелёную звезду. То был Алголь, генератор тьмы. Марина перекрестилась. Индус заморгал, передал ей чашку. Кофе и в самом деле был хорош. Откуда такой в Голландии, – спросила Марина, не в силах понять, где кончается аромат и начинается вкус, столь тонка была грань. Вы хорошо делаете, что берете паузу, – сказал индус. – Сейчас мы просто поболтаем. А потом обсудим главное. Кстати, кофе, сельдь и великие художники могут быть только голландскими, закон такой. Вы, должно быть, художник, – мрачно процедила Марина. Желаете убедиться? – индус, прихрамывая, убежал в коридор и вернулся с внушительным портфолио. Пока Марина рассматривала снимки заброшенных заводов, замусоренных пейзажей, мертвых птиц, ржавых кораблей и снова мертвых, на этот раз – норок на звероферме, фотограф знакомил ее со своим манифестом: Понимаете ли, Марина Павловна, Земля – это и есть Ад, а после смерти мы освобождаемся. Страшный суд уже случился, а место, где 41 мы с вами имеем сомнительную честь пребывать – это приговор, наказание. Об этом говорят мои кисть и камера. Стало быть, натюрморт – ваш любимый жанр, – сказала Марина. Фотограф не понял иронии и отвечал серьезно: Критики считают, что мой конек – портрет. В этом жанре, если верить им на слово, я умею показать суть, не взламывая предмет изображения. Марина продолжала смотреть: ледяная пустыня, пустыня песчаная, линии на песке образуют подобие астрологических знаков, бронзовые статуи с искаженными лицами, на которых застыли гримасы боли, страха и отвращения, репортаж с сафари, красные туши, желтые рога. Это для денег – пояснил индус – когда-то охота весьма интересовала меня, но потом зверье мне наскучило. Портреты Марине не понравились. У всех, кто позировал голландцу, получались неживые оловянные глаза. А это кто? – Марина показала на серию размытых снимков, где полосы света и тени сплетались, как песни цикад в траве. О, здесь самое главное, – воскликнул Каин, – вы, как говорится, добрались до корня моего творческого интереса. Это Ангелы. Я снимал их прошлым летом на Мальте. На сверхчувствительную пленку. Ведь Ангелы – это свет, не так ли? Кто? – переспросила Марина. Вы не ослышались, – сказал Каин, – собственно, за этим я и здесь. Теперь поговорим о брате. Что вы хотите сказать? – нервно сказала Марина. D:\681449086.doc Индус наклонился к ней и заговорщически зашептал: Дело в том, дорогая, что вашего братца похитили Ангелы. Учитывая, что он далеко не святой – и вы об этом знаете лучше меня – случай уникальный. Признаюсь, – индус приложил руки к сердцу, – здесь не обошлось без моего участия, и я хотел бы получить свою долю славы – несколько снимков, и эксклюзивное интервью для Sun. Насколько я понимаю, ваш кузен сейчас пролетает Гатчину, и мы отправляемся его встречать. Вы ведь составите мне компанию? Пошел прочь, – сказала Марина. Каин холодно посмотрел на нее и процедил сквозь редкие зубы: Вы, верно, думаете, что я шучу или издеваюсь? Чтобы убедиться в моей искренности, прошу примерить эту штуку. Он протянул Марине очки странной формы с толстыми желтыми стеклами. Она автоматически взяла их, надела и увидела невечерний свет. Комната наполнилась расходящимися разноцветными лучами. Марина вытянула руки вперед и пошла к окну, чтобы увидеть их источник. Помаил успел завесить окно крылом и спас Марину от слепоты, а то ходить бы ей до смерти с оловянными глазами. Марина же перекрыла Ангела телом и помешала фотографу прицелиться, стрела застряла в тяжелой плюшевой портьере. У этих русских женщин все-таки потрясающая чувствительность, – успел подумать Каин за миг до того, как Псалмом девяностым, что запел Ангел, его вынесло из дома вон. 42 Марина сидела на полу, наматывала локон на палец, плакала и смеялась. Шальновское проклятие, похоже, вернулось, брата тряхнуло в катастрофе, а сестре настойчиво предлагалось сойти с ума. Тем не менее, голова её работала на удивление ясно и быстро. Марина встала, без суеты собрала рюкзак. Вопреки обыкновению, не забыла ни швейцарский нож, ни зубную пасту. Сверху бросила деньги, очки и пакет сухарей с маком. Включила весь свет, телевизор, поставила CD на бесконечный повтор и выбежала из дома. Она догадывалась, что странный гость скоро вернется и устроит новую выставку своих работ. Женщина поспешила на вокзал, села в последнюю электричку на Осиновец. Пока ехала по городу, все смотрела в окно и думала, что теперь она – спица в колесе Большой Охоты: сестра ищет брата, индус стережет их обоих, индуса кто-то на них натравливает, и есть еще один, который заступился за нее. В Осиновце было темно и тихо. Плескалось за пологой дюной Ладожское озеро, да маяк распахивал над спящим рыбацким поселком свое светлое крыло. Марина осторожно, чтобы не разбудить пьяного сторожа, пробралась на пирс, залезла в старый баркас и молилась, перед тем как уснуть на лавке, чтобы Господь избавил её от внезапной смерти и срамных видений. Каиновы очки жгли руки соблазном посмотреть, много ли собралось в этот час на маяке милостивых к нехитрым просьбам рыбаков Ангелов, но Марина благоразумно воздержалась. Ночью Архангел Исаакил призвал Помаила и Руахила к себе в Адмиралтейство, они чинно беседовали, глядя, как баржи тянут дробленый камень вверх по реке. Марина проснулась с улыбкой. В ушах ее еще вертелись слова, в которые сложились за минуту до пробуждения песня птицы и плеск Ладоги: D:\681449086.doc С камнями полевыми у тебя союз, и звери лесные в мире с тобою. Лучшая часть мира на моей стороне, – подумала Марина. – Чего я боюсь? Она купила у рыбачки копченого сига, получила в придачу холодный, только с грядки, огурец, достала свои сухарики и позавтракала на колкой траве. Потом проверила снаряжение, завязала шнурки, подтянула ремень, выбрала на пляже плоский, по руке, камень на случай драки. И бодрым шагом отправилась на станцию. Что-что, а поезда в тех краях, где она отбывала свой срок, ходили точно по расписанию. Дорогой, рассматривая в пыльном стекле свое отражение, Марина думала: К тридцати годам человек вылепляет из того, что дали родители, себе лицо. Морщинки от привычных гримас уныния или счастья; глаза, скользкие от подлости или выпуклые от простодушия; размякший от пустой болтовни или вытянутый в ниточку от молчания рот. Марина была довольна тем, как сложилось ее лицо, и не прятала тонкие морщинки на веках, которые служили своего рода кракелюрами при глазах, знаменитых на все три острова. Она, кстати, считала, что и глаза эти сделала себе сама. В вагоне ехало человек десять. Рыбачки везли перекупщикам вечерний улов, школьники, судя по надписям на значках и майках, направлялись на шабаш, человек в потертом костюме – по казенной надобности. Электричку тряхнуло. Марина подняла с лавки рюкзак, поставила его на колени и, не вынимая, принялась рассматривать предмет. С внешней стороны стекла выглядели абсолютно гладкими, но 43 внутренняя поверхность – исписана нехорошими значками. Против зрачков помещались алмазные призмы, вокруг них плавали отражения глаз пользователей. Глаза были похожи на лепестки, а призмы – на пестики. Марина без труда отыскала свою яркую пару в этом цветке. Массивная оправа была из незнакомого маслянистого металла. Она закопала очки поглубже в рюкзак и осторожно оглядывалась, пока электричка, стеная и гремя, вкатывалась в город. Марина решила искать брата по всем известным ей адресам, начиная с самого дальнего. На привокзальной площади она села в маршрутное такси и отправилась на поиски. Она смотрела в окно на унылые спальные районы и думала, что в этих противных Богу краях не осталось ни одного неоскверненного камня, ни одного незагаженного отработанным маслом ручья. Как же эти сотни тысяч людей привлекают в свои вертикальные деревни Ангелов? Многоквартирные дома представлялись ей деревнями, поставленными на попа. Если положить их на бочок – получается поселок. Должно быть, женщины сшивают по ночам огромный ковер из красных одеял и стелят его на залитых смолой крышах, чтобы Ангелам не было больно ходить по нечистой земле. Утром ковер распарывают, – думала Марина, – и прячут лоскуты по ящикам в диванах. В эти места Город загнал ее впервые. Разве можно, – шептала Марина, – назвать эти бетонные пирамиды тем же именем, что и вид на левый берег с крепостной стены? Даже река под мостом Володарского пусть называется по-прежнему, Леной, и течет не в мои края, а куда ей положено – в море Лаптевых. Город на Лене, отделись от города на Неве. D:\681449086.doc Проклятие, слетевшее с ее губ, подействовало. Маршрутка чихнула и сломалась. Марина оказалась на пустыре, где смуглые мужчины перетаскивали из одной грузовой машины в другую ящики с гнилыми яблоками. Один из них выкрикнул что-то гортанное, и все засмеялись. Марина поняла, что не найдет брата здесь, и вся затея была напрасной. Надо искать там, – решила она, – где обитают Ангелы. Уехать с пустыря было решительно не на чем. Марина пошла пешком, делая вид, что просто гуляет, и зашла в первый попавшийся магазин. Попался зоологический, и, войдя в торговый зал, Марина оказалась внутри каиновой фотографии: всюду висели какие-то мертвые головы, чучела, муляжи, рога, сушеные лапы. Живыми продавались только хомячки и рыбки. Ей даже понравилась одна из них – довольно крупная, черная в золотую крапинку, с желтыми стрелами на плавниках. Как называется, – спросила Марина у сонного продавца. Рыба-ангел. Марина закашлялась. Она вдруг представила себе: в желтых кубах из полированной серы печальные Ангелы, их крылья побиты молью и перьевым клещем, Ангелы чертят пальцами на песке какие-то планы, отворачиваются от покупателей и глядят на фальшивый райский пейзаж, намалеванный на заднике. Можно вызвать от вас такси? – хрипло сказала Марина. – Я заплачу. Пожалуйста, – сказал человек, – платите. Ожидание растянулось на четыре сигареты. Наконец, машина приехала и увезла Марину в центр. 44 Она сошла на Биржевом мосту, и три Ангела приступили к ней: Золотой, Александровский и Екатерининский, лишенный Креста, и оттого всегда мрачный. Это моя земля – думала Марина – здесь и камни полевые за нас, как было сказано. Однако, от греха подальше, решила домой не заходить, но вернуться в Осиновец. До вокзала шла пешком, все время вдоль рек, поперек канавок, вокруг не смотрела, напевала под нос и в самом конце пути увидела брата. Он был бледен, стоял, прижавшись спиной к стене у входа в метро. Одна рука его была сжата в кулак, другая – расслаблена. Вокруг правого уха, словно пчелы, кружились огнистые слова, и по одному, как в улей, залетали в ухо. Марина поняла, что брат не один, и не стала его тревожить. Просто постояла, помахала рукой, обволокла взглядом, и единственное, чему дала волю – обонянию. Сквозь городскую вонь поймала суровую нитку его травяного запаха, и, держась за нее, как за отцовскую руку, ушла. Она очень хотела есть и нескромно поглядывала на шаверму. D:\681449086.doc 9. Путь Волги Волчица спустилась к ручью и смотрела, как разжиревшие за лето гуси устало черпают крыльями из колодца ветра. Она наклонила голову, чтобы напиться, когда внутри у нее лопнула басовая струна. Одна острая спираль вонзилась в мозг, а вторая в матку, где барахтались похожие на жаб волчата. Волга вздрогнула всем телом и поняла, что Улисса больше нет. Она коротко тявкнула и принялась лакать вместо воды песок. В зарослях кипрея ворчал Неман-енот, в ручье созрел урожай рыбьей молоди, и гибкая щука собирала его на отмели. В тяжелом вечернем Солнце отражались реки Преисподней. Малый ручей, – подумала Волга, – не уходит далеко от матери. Она пошла вниз по течению в поисках взрослой реки, на берегу которой Гер-праотец пророчествовал, что род его не пресечется. Волга миновала излучину и увидала раненого Улисса. Его жилы и кишки переплетались, как водоросли, качались в ручье в ритме несовместимом с жизнью, но жизнь его еще не покинула. Волга узнала мужа, но знакомое тело противно пахло едой и кровью, и она гнушалась подойти к нему. Солнце село, но волчица решила идти всю ночь. Если река движется теперь от коренных зубов к молочным, – думала Волга, – то и моя смерть в этот час скулит от голода, а если все осталось как раньше, то на свете должен быть еще один волк. Никто не вылизал ей морду на ночь, не рассказал, как быстро плодятся стада и зреют травы на пастбищах. Без ласки кровь беременной стала горькой и отравила волчат. 45 Они вышли из матери, когда та стояла на высоком речном утесе и никак не могла припомнить, куда раньше текла река. Волга даже не пискнула. Просто подумала горько: все меня бросили, ему стало скучно дорогой, и он позвал детей, чтобы было кого баловать. Волга вдохнула ветер, разложила его на отдельные запахи и пошла на дымок к дому известного ей Ангела по имени Иафет. Но когда увидела – не узнала его. Иафет построил свой дом из рыбьих шкур в воде. Он сам, его жена и дети дышали через бамбуковые трубки, а очаг их стоял на дне, на плоском камне. Кожа Иафета стала белой и рыхлой, как туман, и вместо когтей на пальцах выросла чешуя. Средний сын Ноя хотя и молился на радугу, не верил, что в будущем веке вода не вернется, и готовился к ней. Младший брат его, Хам, смеялся над Иафетом и пускал ветры в дыхательные трубки. Он знал, что следующий Потоп будет огненным, и от этого знания лицо его сделалось как уголь. Римма, дочь Иафета, сидя у окна, сцеживала лишнее молоко в пузырь воздуха. Черные угри приползли из моря, чтобы свить гнезда на ее плодородной груди. Чайки видели их и бились о воду, но все время промахивались. По стрелкам на серых спинах угрей и красных клювах чаек Волга поняла, что река течет от носа к хвосту, то есть правильно. Она легла под кустом созревшего жасмина, закрыла глаза и стала ждать, когда другой муж возьмет ее. Во сне ей снова привиделись страшные водоросли, она, как выдра, плыла поперек реки, и донные травы щекотали живот и затвердевшие от холода сосцы. Солнце вернулось с обратной стороны мира и, словно выйдя из курительной, жадно глотало туман, пахнущий речной пеной и яблочной падалицей. Утренний ветер оглаживал луг и спросонок D:\681449086.doc перепутал осот с волчьей шерстью. Волга улыбалась во сне, по скулам её текла слюна. Дикие козы прошли сквозь туман к водопою так тихо, что казались рыбами из Волгиного сна. В допотопные времена, когда волчица жила с матерью, она слышала от василисков, что народ ее – племя пасынков, а истинный волк до срока спрятан в яйце, крепком, как мрамор. Во сне первенец Ромула вылупился. Он походил на грифа и устроил гнездо из колючих прутьев на вершине ливанского кедра, откуда были видны ледники Арарата – самое безопасное место, какое знала Земля. Волга воображала, как будет греть сырое яйцо животом, подобно цапле, а если тепла не хватит – зароет яйцо в горячий песок на пляже, как твердолобая черепаха или желтобрюхая змея. В другом сновидении волк из камня и сам оказался морской змеей, и они вместе с Волгой до утра били горбатых ершей и пучеглазых карпов на туманных равнинах Хиддекель-реки. Река меркла, теряла объем и цвет, как теряет их, высыхая, скользкий морской камень, – Волга вышла из сна и вылизала место ночлега, чтобы не оставлять и тени на поругание. Она решила отправиться к священной горе Анк, где тушканчики мостят клыками допотопных героев улицы подземных городов. Если на свете есть еще один Улисс, – решила она, – он там объявится. Волга была молода и не знала, что реки после потопа легли в новые русла и, следуя им, она бежала в противоположную от горы сторону. Ангел-галерник Самариил тем же утром наткнулся на зверя, убитого ледяной иглой, и растерзанного россомахой. По невидимым знакам Ангел понял, что это был один из вошедших в Ковчег, и не будет большого греха, если похоронить его. 46 По волчьим законам охотник должен принести лунной матери, к сосцам которой он припадет после смерти, какой-нибудь подарок. Обычно это была шкурка нерожденного ягненка. Самариил решил, что довольно будет и ангельского пера. Он закопал Улисса в речной песок с таким расчетом, чтобы лунная дорожка в час полнолуния касалась передних лап. Наказание научило Ангела понимать тех, кто совершеннее его. Возможно, – думал галерник, – Наместник Азии попустил это убийство, чтобы хищник не извел какой-нибудь полезный род, например, кротов, что рыхлят землю для трав. Пережившего Потоп волка было жаль, в отличие от гадов и ящеров, которым Ангел сияющим, как молния, мечом, закрыл путь в Новый мир. Самариил вспомнил песню своего товарища Гевила о девственном волке из соленых земель. Этот мог и спастись, – думал Ангел, – иначе зачем его так берегли. Вечером он доложил о происшествии своему Архангелу и получил благословение однажды явиться Рему во сне. Самариил отправился на поиски Василиска и Сколопендры, что не вошли в Ковчег, а беззаконно спаслись за пазухой у Каина. Ангел помнит: Каин стоял на мысе Эль-Хадд, и Воды Потопа в страхе семикратной мести не смели его коснуться, но свивались в воронку, похожую на осиное гнездо. Каин смеялся и показывал небу палец, по его лицу ползали паразиты и нечистые твари, которых Ангел сжигал прямо на теле хозяина. Сколопендры нигде не было, зато Самариил разыскал Рема. Волк лежал на дне реки Гихон и медленно растворялся. В его жилах текла вязкая прозрачная кровь, а мысли были подобны теням, которые D:\681449086.doc бросали на кожу реки крикливые чайки. Со стороны Рем выглядел как белая скала, песчаные корабли разбивались о его хребет и осыпались на лапы. Его сны переплетались с явью, как весенние ручьи в реке, жизнь волка переливалась из пустого в порожнее и давно бы иссякла, если бы не соль, которая, как известно, препятствует смерти. Чтобы войти в мечты Рема, Ангел обратился в поток золотистых пузырьков, вода вокруг Белой скалы закипела, пара мальков выпорхнула из похожей на ухо пещеры, и волк услышал то, что Ангел тихо и уверенно приказывал ему. Рем открыл левый глаз, и сквозь пустую глазницу хлынула вода. Слово Ангела подобное жемчужине, закатилось вместе с этим потоком и медленно опускалось на дно головы, где, как Венеция, окутанный петлистыми каналами, мягко пульсировал мозг. Мелкая соль лежала вдоль набережных и на мостах. Слово проплыло под каждым из них. Волк увидал отца, задавленного деревом, мать облизывающую окровавленный камень, брата, содрогающегося в змеином клубке, и самого себя. Глыба пошла трещинами, сквозь которые стала видна шкура, светлая как алюминий, и вода стекала по ней. Земля Куш, которую зверь не видел много лет, представилась ему мелководным заливом, и он тяжело побрел к далекому берегу. Рем нащупал в ветре аромат волчицы, и теперь наматывал его на чутьё. В двойной оболочке из соли и сна каждый шаг его был труден. Рем пытался вообразить себе молодую, чтобы скорее найти ее, но натыкался лишь на чешуйчатых дочерей Лилы, которые выпивали память своих мужей, и оттого были весьма умны. 47 Внутренним взором он видел у себя под ногами кладбище ящеров, разложившихся в нефть, и в небе – морского орла. На болотистом берегу, у самой границы сна мелькнула самка, но это была не Волга, а Висла – Ноева лиса. Рем видел ее нерезко, сквозь поток, потому что наяву не шел по заливу, а катился по дну. По пути он медленно растворялся, и когда, наконец, оказался в море – стал маленьким, а море стало соленым. Луна выглянула из-за тучи, чтобы забрать младенца обратно в утробу, но Рем отвернулся от матери. У него больше не было тела, но еще осталось дыхание, а этот дар, как он понял, надо вернуть не родителям, а тому, кто его дал. С тех пор он и поет под барабаны прибоя: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф. Историю Рема Самариил принес на исповедь, зажав в кулаке, как грех, но Духовник утешил его: Всякое дыхание славит Господа, но не всякому внемлет Бог. Волга бежала вдоль воды так долго, что почувствовала, как проходит жизнь. Она остановилась, прислушалась: стучало сердце, билась о берег волна, скрипуче кричала цапля. Волчица легла на песок и задумалась. В целом свете она осталась одна и теперь, когда стала старше, испугалась этого. Место, где она оказалась, было пустынно и мрачно, даже трава, семена которой разбрасывали повсюду Сим и Хам, еще сюда не долетели. Цапля устало кружилась над отмелью, но лягушки еще не народились, а рыбы, которыми после Потопа кормились чистые и нечистые, поизвелись. Волчица дремала, кто-то все звал ее в самый омут сна, но идти туда Волга боялась. Она подставила морду волнам, и соленые волны нежно D:\681449086.doc целовали ее. Волге казалось, что сейчас она откроет глаза и увидит мужа. Застрявшим в шерсти волчицы репейником заинтересовался водяной жук. Светила сменяли друг друга, и время текло из красной сферы в желтую, чтобы ночью вернуться назад. Волга открыла глаза и увидела, как чайки гонят ей прямо в рот стаю мелких рыбешек. Этой жертвой чайки надеялись задобрить жестокое, пожирающее птенцов божество, за которое они приняли Волгу. Ветер принес свежую сводку запахов, в заголовке одного из них упоминались лёд, корица и мускус – так пахнет волк. Она даже разозлилась, почуяв собрата. Волга коротко тявкнула и прошептала охотничье ругательство, услышанное от отца. В этой короткой фразе отрицались все пять волчьих бесов, но волчица перепутала слоги, слова сложились неправильно, вытекли изо рта и отравили место. С тех пор ночлег Волги называют Урмия, что значит оскорбленная земля. Волчица поднялась и затрусила на запах, за ее спиной дымился песок и меняли рисунок камни. Она бежала без устали, пока не уткнулась носом в теплый бок. У нового волка еще не было имени, он был уже взрослый, но не умел говорить. Он появился из тени, которую Улисс перед смертью успел оторвать от лап и пустить по воде. Волга учила нового мужа всему, что знала сама. Она рассказала ему: - об устройстве мира, который похож на песочные часы: Ад, Рай и двуглавая воронка, где они соприкасаются, порождая ветер, – Земля; 48 - о чинах Ангельских, числом десять, девять невидимых и один видимый – человек; - о гадах, что мстят имеющим лапы; - о белобоких плотоядных рыбах, кормящих своих детей молоком; - о птицах, совершающих жертвоприношения солнцу, эти смотрят на свет, пока глаза их не обуглятся; - о Святых деревьях; - о маке и конопле, травах, не поклонившихся Господу в Третий День. Она поведала, как по утрам Ной с сыновьями пели молитвы на верхней палубе, и вода на стенах Ковчега превращалась в патоку. Как Иафет о чем-то долго беседовал с Улиссом, путая волчьи и чаячьи глаголы, когда воды уже стали спадать с лица Земли. Полкан не понимал Волгу, в его теле было слишком много влаги, и слова, попадая в уши, превращались в пар. В помете, который в срок принесла Волга, суки оказались волчицами, а кобели – шакалами и псами. Целый год Полкан лежал на тёплой скале и лизал свой хвост. Пищу он отбирал у воронов, а в питье не нуждался. Вкус мертвого мяса будоражил его чутье и короткую память. Только одну добычу он мечтал вкусить неостывшей – человека. Муха напела ему, что мясо того сладко, а кость бела. Интересно, – думал Полкан, – что скажет Волга, когда я поднесу ей в зубах печень Ангела? Волга видела, что ее дети не похожи на тех, кто метал жребий на священной горе. Дочери не признавали мужей равными себе, и беременели от мелких бесов. Сыновья же, случалось, для забавы резали целый козлиный народ, черви съедали пропитание черного дня, а стая голодала. D:\681449086.doc Волчица раскаялась, что из чрева ее вышло поганое племя, днем не почитавшее Ангелов, а ночью не приносящее даров Луне. Когда лет ее на земле было тридцать шесть, она ушла на берег моря и там рыдала и выла так, что белуги замолчали, чтобы ее выслушать. Наконец Полкан решил исполнить задуманное. Он встал на реке Аракс, вблизи того места, где она с ревом проваливается под землю, и стал ждать, когда человек придет к броду. Человек пришел и убил Полкана. Жадный взгляд волка отразился от голого живота Каина и вернулся обратно в глаз, сверкая наконечником из иглы морского ежа. Волга вздрогнула от знакомого звука струны и перестала выть. Ее голос, подобный сухому ветру, что приносит бесплодие стадам, отделился от нее и качался над водой. Опираясь на ветер, словно на шест, волчица перепрыгнула море, и ей открылась река, полная лотосов, осетров и мелкого жемчуга Ветер над этой рекой разбивался на тысячу ветерков и на многие голоса гудел в осоке, которая была еще такой зеленой, что не знала Слова Травы и не смела шелестеть в ответ. Река же, сама не имея имени, не могла ее научить. Волга что-то шепнула реке. Волна подхватила имя, поверхность воды взыграла и заискрилась. Лебедь-кликун сложил из бликов слово и прокричал его. Так Волга стала второй после Луны волчицей, которая оказалась меньше своего имени. Вскоре она разродилась последним щенком и без удивления отметила, что это был настоящий волк, похожий на Улисса, Рема и Гера. Волга поняла, что раньше выбрала неправильное место для деторождения, а теперь оказалась в благодатной стране, где женщины могут от дурного семени рожать золотые плоды. 49 Она вылизала щенка, быстро пропела ему все песни, какие слышала от своей матери, наказала отомстить за отца и тихо преставилась. Вскоре она узнала, отчего души волков уходят под землю, а человеческие поднимаются в небеса. Река в среднем своем течении нашла молочную жилу, приложила волчонка к ней и тихо качала. Она знала уже достаточно слов, чтобы сложить колыбельный заговор. Огороды еще не воткнулись в ее берега, и лодки не оскверняли чистоту зеркала. Кроме кутенка, нахлебников у нее не было. Река медленно двигалась вдоль зеленых холмов и смотрела, как Ангелы столь же неторопливо заканчивают в горних ремонт, прикручивают замки на хляби и раздаивают облака. D:\681449086.doc 10. Аракс Специальный канон устанавливает порядок прибытия Ангелапослушника в Метрополию. Он должен проследовать по главной улице или по реке, чтобы Хранители города могли убедиться в его дружелюбных намерениях. Этот порядок был введен в те времена, когда Земля была отрезана от Небес адскими заставами. Времена изменились, но канон, как и, скажем, церковную десятину, никто не отменял. Ангелы соблюдают древний обычай и находят его весьма дальновидным, ведь над рекой не повесишь блестящих сетей-антенн, на воде не нарисуешь богопротивных знаков, которыми теперь помечены некогда славные дома. Разумеется, никто не наказал бы Руахила, если бы он провел меня по набережной, но Ангел решил дождаться развода мостов, чтобы войти в город подобающим образом. Мы сидели на носу баржи, груженной углем, и терпеливо ждали. Надо ли говорить, что на всей реке никому не было до нас дела. Я смотрел на город и видел в нем много нового. Так, я понял, зачем на куполах церквей устроены террасы, чему служит шар над Академией и шпиль, что напротив него, над Адмиралтейством. Крылья мостов распахнулись, и судно пошло по реке вверх. Над первым мостом я приметил бледную радугу. Руахил поспешил объяснить, что это и есть знаменитые Ворота Завета – единственное собственно ангельское сооружение на русском Севере. В Небесном Воинстве любят эту столицу, – сказал Руахил, – не знаю, как людям, но Ангелам весьма удобно служить в ней. Я провел по лицу ладонью и сквозь пальцы увидел: Поместный Ангельский Собор на ярусах Исаакиевского, строгие книжники 50 Синода, легкомысленный Гений триумфальной колонны, попирающий змея Александриец. Всюду мне открылись знаки горнего присутствия. Вазы и статуи на крышах только усиливали ощущение обитаемости невских небес. Собиратель Империи, похоже, и в самом деле задумал этот город не для людей. Отсюда и водный простор, привлекающий ветры, и тенистые парки, и смотровые площадки на куполах похожих на маяки храмов. Мы поднялись до Лавры и там покинули черную баржу. Начало нашего путешествия мне понравилось. Руахил исчез за оградой, а я остался стоять на деревянном мосту у кладбища и смотрел, как Монастырка переплетает водоросли вологодским узором, готовит приданое своим дочерям, подрясники братии. Мне в глаз попала ресница, я потер веко пальцем, достал, слизнул и сплюнул в реку. Никогда так не делай, – сказал кто-то у меня за спиной. Я вздрогнул, наклонился к перилам. Рядом со мною стояла старуханищенка. Лицо ее было пурпурным, а глаза лиловыми, как и пуговицы полосатого пальто. Никому не давай ни волоса, – сказала старуха, – народ сейчас подлый, каждый второй поколдовывает. Я, – продолжала она, – собираю все свое добро с самого детства: зубы, волосы, кожу, ногти, чего там еще. Смерть ведь принимает по весу. Вот пусть и получает вместо меня мешок с дерьмом. Моя бабка уже два раза так делала, жива до сих пор. Спасибо, – сказал я. Порылся в карманах, нашел там завалявшийся фунт с молодой королевой и протянут старухе. В ее ладони монета растаяла как ледяная. D:\681449086.doc Вот так, – сказала старуха, – сделаешь человеку добро, а он тут же тебе и заплатит. И, прихрамывая, ушла. Едва я начал замерзать, Руахил вернулся, и, сказав, что мне позволили провести ночь в тайном приюте, в опоре моста св. Благоверного Князя Александра Невского. Ангел протянул мне просфору, которую я тут же съел. Показалось, он чем-то встревожен, но спрашивать я не решился. Тайное убежище походило на монашескую келью. Мебель была из неструганых досок, стены из нетесаных камней. Единственное, что не принадлежало этому миру, – удивительная икона в красном углу. То был образ царя Давида, и от образа исходили не только благоухание и свет, но слышалось тихое пение. Руахил шепотом объяснил, что сам Псалмопевец, сидя под дубом в южных пределах Рая, читает миру кафизмы негасимой Псалтири, и Ангельский хор подпевает. Я благоговейно внимал музыке. Слова мои пришли в тишину, мысли оставили все земное, я уснул и спал очень долго. В середине завтрашнего дня, где я, проснувшись, себя обнаружил, хор сменился на гусли. На столе лежали яблоки, ломоть хлеба, стояла миска с медом. Я успел подкрепиться, приложился к поющему образу, и Руахил, возникнув в дверном проеме, приветствовал меня благословением. Его крылья были сложены на груди по-морскому, в виде Андреевского креста. Мы покинули убежище и по левому берегу, по задворкам водоканала, отправились к самой глубокой и страшной станции метро, где находится ближайший вход в Преисподнюю. Мы скоро шли вдоль слепых стен, мимо заводов и памятников, когда я почувствовал, что меня нагоняет страх. Оглянувшись, я 51 увидел белую собаку под деревом, пьяного рыбака и свою тень. Я остановился и сказал, глядя в землю: Объясни, пожалуйста, на каком я свете. Вчера со мной говорила старуха, сегодня я стал, как раньше, отбрасывать тень. Я опять живой. Что случится, если сейчас мы расстанемся. Ангел Корабельного поля стал видимым для всех посреди набережной Робеспьера. Молчал он недолго, заговорил, голос прятал в шелесте липы: То, что ты принял за тень – это камень в твоих ногах, он, а не я, тянет тебя к истоку Аракса. Старуха тоже известна многим из нас. Ты можешь уйти, и ничего с тобой не случится, просто так, а не иначе сложится жизнь. Вместе с адамовым яблоком ты получил страшный дар – свободу. Сам решай: cтать синицей в кулаке Господа, или журавлем в Тартаре, на серном руднике, над гнилым колодцем. На прощание хочу сказать тебе то, что не вычитал, а сам понял за долгую жизнь: свобода есть нелюбовь, потому, что любовь есть служение. Так сказал Руахил, и голос его был в восемь раз больше, чем дерево, и заглушил пушку крепости. Я коснулся рукой земли, она была теплая и шершавая. Прости, я боялся идти в метро, – сказал я – но, с другой стороны, мне впервые придется спуститься туда с Ангелом. И Ангел этот неплохо вооружен, – сказал Руахил много мягче, губами реки, кивнул головой и растаял в мелких игристых волнах. Мне по-прежнему было страшно, но говорить об этом теперь было нельзя. Я шел медленно, растягивая каждый шаг на составляющие, щурился от солнца, глубоко дышал, а за рекой уже показался стальной D:\681449086.doc 52 штык вокзала с пентаграммой на острие, с которого, как оказалось, и отправляются пассажиры без багажа. Должно быть, едут в той самой электричке, которая идет без остановок, и тетка противным голосом просит не напирать, отойти от края платформы, чтобы никого не обморозило, не унесло следом. Интересно, откуда же отъезжают те, кому уготовано Царствие Небесное. На Литейном мосту Руахил вдруг резко остановил меня. Он стал выше ростом, шире в плечах, преобразился. За спиной, между крыльями, у него висел меч, грудь прикрывала золотая кираса, поверх нее был повязан широкий шелковый пояс, на котором ангелиды выткали молитвы, читаемые в опасности. Ангел склонился на Восток, словно принимал благословение. На всякий случай я тоже поклонился и посмотрел в небеса. От края и до края их разрезало одно стремительное перистое облако, похожее на крыло. Что ты видишь? – прошептал я Ангелу. Он не ответил. Вместо него – Михаил – закричала с правого берега, будто бы обращаясь к приятелю, крашеная девица. Каков же был Архистратиг, если всего недостаточно для единственного его взмаха. неба оказалось И тогда я понял, какая сила на моей стороне, и мне полегчало. Руахил протянул мне кожаную ладанку, я надел ее поверх креста и оказался в плотном коконе сладкого цветочного запаха, которого, видимо, опасаются в тех краях, куда мы направлялись. Этот ладан был с моего поля. Ангел сам варил его. В одной руке у меня сам собой оказался бронзовый ключ, на ладони другой Руахил написал погречески пропускную молитву. Мы подходим к вокзалу. Ангел что-то говорит, да я плохо слышу. В заунывной толпе то и дело возникают знакомые лица: дед, тетка, отец, мать, сестра. Марина задерживается в этом колесе прощаний на мгновение дольше, чем остальные, и я успеваю разглядеть свое отражение в ее совершенном зрачке: я стою, прислонившись спиной к стене у входа на станцию, и сквозь поры мои сочится женское молоко, которое я когда-то всосал. В бороде моей барсуки рыли норы, рыбаки сидели на веках и вытаскивали зеркальных карпов из подернутых ряской глаз, на лбу лежали долгие гряды зимней капусты, и эта вязкая минута тянулась до тех пор, пока не лопнула. Руахил властно взял меня за руку, и мы вошли в подземку. Ангел исчез на всех частотах, кроме осязания. В одной руке я держал его теплую ладонь, а в другой – холодный ключ от лодочного сарая. Со стороны казалось, будто человек сжал кулаки от страха и что-то бормочет, тревожно озираясь по сторонам. Мы долго стояли на платформе, Руахил все ждал помеченного знаком смерти поезда. Наконец, поезд пришел, мы сели и ехали, наверное, трое суток, я потерял счет станциям, перестал их узнавать. Вагон давно опустел, а мы все мчались, то выскакивая на поверхность, где была дождливая ночь, то снова влетая в тоннель. Лампочки на потолке притихли, малодушно замигали, и вскоре совсем погасли. Мы ехали в первобытом мраке и казалось, что поезд стоит, а пространство мчится сквозь нас, как зимний западный ветер сквозь лес, ломая деревья. Когда тьма сделалась густой, словно нефть, и стала мешать дыханию, в ней сначала осторожно, а потом всё звонче и решительней заявил о себе новый источник света. Над головой Руахила живым солнечным диском зажегся нимб. Разогнать темноту он, конечно, не мог, но та перестала наглеть и теперь не бросалась с потолка, а подползала на брюхе. D:\681449086.doc Поезд замедлил ход. Редкими огнями мелькнула станция, в низких небесах громоздились не то горы, не то грозовые тучи. По их кромке тянулась тонкая багровая кайма. Приехали? – спросил я. Еще нет, – отвечал Ангел. Голос его качался как маятник. Это Старая Таможня, а там, – Руахил указал рукой на горы, – Большой Барьер, что отделяет Белый Свет от Преисподней. Ангел продолжал говорить, и в окне напротив возникали бледные картины, в какие складывались его ожившие слова: От Вселенской войны до Первого Пришествия в этих горах стояло едва ли не все Ангельское ополчение. Нас по пояс заливало магмой, по грудь засыпало пеплом, и в каждую голову летело шестьсот стрел. Но мы смеялись и пели, потому что Бог был с нами, более того, Он был среди нас, стоял в строю безымянным Ангелом, и когда взбесившийся Ад брал нас за горло – одним мановением века Он осаживал зверя и загонял его в логово. Эти горы изрыты воронками, подкопами, руслами высохших рек, что твой сыр. Здесь в одной из пещер живет Ангелика, дочь Гевила. Она пыталась устроить на Рифе женский монастырь, но людям тут невыносимо. Сестры ушли, она осталась одна. Раз в неделю Хранитель приносит ей воду и гречневую крупу, от всего остального она отказывается. Поезд заскрипел тормозами, задрожал, останавливаясь. Встань, ключ возьми в рот, руки сложи на груди, на вопросы не отвечай, предоставь это мне, – сказал Ангел. 53 На перроне показались алые нимбы Стражей, из соседнего вагона раздались приглушенные голоса. Говорить не пришлось, Сторожа переправы проследовали мимо, мы вышли из вагона и оказались на узком пирсе, молу, который и служил платформой. Мол уходил далеко вперед и терялся во мгле. Бетонные бока его лизали мелкие пенистые волны, пена была тягучей и желтой, напоминала слюну. Руахил минуту помедлил, сложил ладони домиком, так, чтобы внутри образовался правильный треугольник, поднял руки над головой и пошел вперед. Весь остаток ночи мы шли, и ветер несколько раз менялся – то дул в лицо, препятствуя ходу, то кричал что-то в левое ухо, плевался, то толкал в спину, как конвоир ослабших арестантов. Я хотел было выплюнуть ключ, он мешал мне дышать, но Руахил запретил. Постепенно из тьмы проявились еще более плотные сгустки чёрного и образовались высокие стены. Теперь мы переступали по ветхой ниточке, натянутой посреди реки в тесном ущелье. Река нервно трясла мордой, билась о мол лбом. В темных волнах мне мерещились хищные гады и рыхлые, словно булка, тела утопленников. Наконец, Руахил остановился. Мол кончался маленькой башенкой, расшатанной штормами. На мачте, что торчала из острой крыши, болтался разбитый фонарь. Ангел опустил руки, отряхнулся как птица, и вытащил у меня изо рта теплый ключ. Замок сухо щелкнул, дверь тяжело заскрипела, и мы вошли внутрь башни, которая использовалась как элинг. Здесь Ангел позволил мне отдохнуть и переодеться, а сам, засветив нимб, отправился выбирать лодку. В шкафу я нашел парусиновую робу и широкие рыбацкие штаны на лямках. В карманах робы были: осколок камня, восковая свеча, раковина, сосновая шишка и рыбья чешуя. D:\681449086.doc Руахил остановил свой выбор на крепкой смоленой шлюпке, он удостоверился в исправности руля, проверил уключины, нашел в углу бочонок каната и якорь. Затем поднялся по шаткой лестнице на второй этаж и принес оттуда мешок сухарей и оплетенную ивовым прутом бутыль с кагором. Когда мы спустили лодку с подветренной стороны мола, Ангел заметил в ней течь. Он, как ласточка, скатал из земли и слюны шарик, замазал щель, прошептал осушительную молитву, и вода из лодки ушла. Я зажег свечу от ангельского нимба и, вернувшись в башню, поставил ее на божницу перед образом неизвестного мне святого. Сейчас мы в устье Аракса, – сказал Руахил. – Нам на счастье, реки текут здесь не как у людей, но от устья к истоку. Если ветер будет попутным, доберемся быстро. Правда, быстро в этом краю не означает легко. Мы оттолкнули лодку от мола и отчалили, мое зрение судорожно цеплялось за огонек в окошке башни, пока вокруг не сомкнулась тьма. 54 живота, как барабанные палочки. Руахил закрыл лицо крыльями, мы входили в теснину, где вода бурлила, словно объелась извести. Мы неслись по хребту реки, где волны противоборствующих берегов разбегались, сшибались и падали, выплевывая липкие кровавые брызги. Ангел встал на одно колено, вытащил меч и следил, чтобы кто-нибудь не прыгнул в лодку с моста, очертания которого были уже различимы во мгле. На гранитных опорах тускло мерцали звезды, такие же, как на шпиле вокзала. Это меня тревожило, я вообразил себе: Есть такие люди, что всю жизнь горбатились, строили дороги, копали метро, их руки вытянулись до земли, лица почернели от грязной работы. И вот они умерли утомленными, а их тут же заставили наводить мосты в Аду. С одной стороны, так им и надо, но с другой – те из рабочих, чьи постройки не рухнут, когда падут от великого землетрясения языческие города, достойны снисхождения Судии Настоящего. Течение подхватило наш челн и понесло по черным венам Аракса к самому сердцу ночи, которое грозно предупреждало о себе глухим монотонным ревом. У моста волны совсем ошалели, лодку стало заливать, я лежал на руле и не успевал вычерпывать. Руахил мечом нарисовал круг на воде и запретил волнам касаться борта. Вокруг лодки образовалось как бы масляное пятно, от которого волны отшатывались. Мы влетели под мост и покатились по скользкой трубе, как бобы по гусиному горлу. Тьма следовала за нами, повизгивала, обжигаясь о нимб, но раны ее быстро затягивались. Мое внимание привлек ручей, наполненный зеленоватым фосфорным светом, что сбегал со скалы, не смешиваясь с потоком, пересекал реку и терялся в расщелинах другого берега. Что там в конце? – прокричал я, чтобы Ангел услышал сквозь шум воды. – Может, какая-нибудь турбина? Это граница, – Ангел, как обычно, предупредил вопрос. – Все, мы в Преисподней. Не было ни поста, ни стражи, но что-то сильное, древнее, опытное ощупало меня, словно слепой баянист пробежался по кнопкам снизу доверху. И кости мои застучали от омерзения и страха о мембрану Ангел пожал плечами, и я приготовился к худшему. Нас тряхнуло так, что в шлюпке что-то хрустнуло, труба сделала небольшой поворот, и мы шлепнулись на воду. Горы остались позади, река разливалась, широко раздвигая берега, и, всхлипывая внезапной волной, успокаивалась. D:\681449086.doc 55 Это малый вход в Тартар, – сказал Руахил, – таких много, почти в каждом городе. Ангел вытер меч шелковым поясом, вложил в ножны. Ветер призывно гудел в его крепком пере. Руахил встал, потянулся, расправил крылья и сомкнул их над головой, как парус. Крылья наполнились ветром, и шлюпка легко побежала по темной воде. Берега были пустынны, и в утренних сумерках дюны, что мерещились на правом берегу, казалось, ничем не отличались от пологих холмов левого. Я потянулся к бутыли, Руахил, одобрительно кивнув, сказал: Помяни Ангела Рахваила в вечерней молитве, это из его запасов. Вино было теплым и густым уснул на скамье. Во сне ко диктовали на разных языках прикосновений меня пробирал чтобы кошмар кончился. как мед. Я согрелся, закрепил руль и мне приходили незнакомые люди, адреса, телефоны, записки. От их мороз. Я заставил себя проснуться, Когда я открыл глаза, в Аду уже вставало солнце. Оно взошло на Западе, и поднимаясь в зенит, остывало, из красного становясь лиловым. Казалось, оно не только не греет, но источает холод. По милости Господа, – сказал Руахил, – солнце светит всем. Он сидел у руля, на крыльях его блестел иней. Я осмотрелся и был поражен открывшимся видом: Справа лежала ледяная пустыня, поземки, переплетаясь, как голодные похотливые змеи, сползали с блестящих белых холмов к ледникам цвета сепии. Слева – пустыня песчаная, трубы заброшенных заводов торчали из красноватых дюн, как ребра из китовой туши. А посередине, плавно изгибаясь, текла река. Так много места, – прошептал я. Этот Свет больше Белого, – отвечал Ангел, – он должен вместить триста шестьдасят пять поколений, вымерших на Земле. Там, – Руахил указал рукою на волнообразные морены ледника, – магометане, их Архангелов Исрафила и Азраила мы приветствуем по девятому чину, они не могут приказывать нам. Здесь, – рука его скользила по унылому пляжу, где валялись колосники и обломки стен красного кирпича, – христиане. Имя нашего Архангела Смерти не произносится, оно – молитва, призывающая его. Иногда над этим враждебным берегом пролетает и сам Уриил – Архангел Раскаяния, этот слышал так много чудовищных исповедей, что ослеп от слез сострадания. Господь дал ему молодого поводыря Мафусаила. Оба они – в трауре все дни, кроме Рождества и Пасхи. Говорят, даже бесы плачут при виде их, столь горька ноша в сумах этих Ангелов. Тут всегда ветры, – заключил свою речь Руахил. – От Первого Дня ветрам завещано искать Равновесия, но на границе Ада и Джаханнма его попросту нет. Я смотрел, как ветер, спущенный с цепи гор, метет снега правого берега, как разбиваются волны Аракса о ледяные торосы, и мне стало жаль мусульман, при жизни избалованных земным изобилием и небесным теплом. Наш берег выглядел куда привычней – песок, битое стекло, кучи шлака, обожженная кислотой земля. Я давно подозревал, что прогресс затеяли бесы, чтобы вырубить леса – последнее праведное племя – и сжечь нефть, в которую наряду с папоротниками и ящерами входит, например, прах Авеля. Из Земли, подобной Едемскому саду, они устроили Тартар. D:\681449086.doc 56 На Белом Свете нет, скажем, святых волков, но есть святые деревья. Например, Едемская яблоня, Мамрийский дуб и Честное Древо. преисподняя огромна, и Аракс – не главная река этого мира. В главных текут не вода, но кровь, магма и человеческий жир. Мы ведь с тобой православные, грешную кровь нам вкушать нельзя. Демографическим взрывом бесы сформировали армию, по числу превосходящую, наверное, весь Девятый чин. Теперь так мало покойников, одни мертвецы, которых готовят к решающей битве. Можешь ли ты получить Восьмой чин? – спросил я, пользуясь тем, что Ангел мне отвечает. – Скажем, если совершишь какой-нибудь подвиг, например, обратишь кого-нибудь из этих? – указал я на чешуйчатую спину, что мелькнула в воде. Заводы внезапно кончились, река совершала поворот, обтекая огромный заболоченный кратер – море Гагарина. На левом берегу показался маяк, казалось, он был обитаем. На веревках сохло ветхое белье. Игрушка – крылатый конь – еще качалась на мостках. Я вопросительно поглядел на Ангела, Руахил развел руками, сейчас он видел не больше моего и ничего не знал о хозяевах. Над берегом пронеслась крикливая птичья стая. Эти тоже идут в Ад, – удивился я. Нет, – сказал Руахил, – они хоть и прилетают сюда, но всегда возвращаются. Я слышал песню о том, что где-то на островах в море Спокойствия обитает Большая Птичья Мать – их родовой Ангел – она баюкает мертвых птиц и хоронит их в яйцах. Эти – чистые существа, их облик, случалось, принимали и Те, Кто выше нас. А волки? – спросил я. Не знаю, – был мне ответ, – их принято опасаться. Болото на нашем берегу вскоре обернулось выжженной степью, горячее дыхание одного берега касалось прохладного лба другого, воды между ними кружились и шипели, призывая туман. Кто-то сотворен овцой, кто-то – пастырем, – сказал Руахил, – и поменяться местами нельзя. Мы замолчали, и я посмотрел на небо, которое затянуло одно огромное облако, пупырчатое как плацента. Берега постепенно сдвигались, даже облако стало ниже. Наша лодка плыла словно бы внутри лежащей на боку пирамиды, в вершине которой, видимо, и находился исток тёмной реки. На второй день пути мы увидели всадников. Отряд сабель в двадцать –кони черные, седоки в красном – замер на белом берегу. Я знал, что с правой стороны никто не посмеет вредить нам, но все равно испугался. Благодатный ветер был спокоен, как индеец в боевом оперении, только слова молитв на его поясе вспыхнули в рассветной темноте. Слуги Малика не шелохнулись, пропуская нас, лишь злые глаза их коней, желтые как осы, еще долго кружились над лодкой и пребольно жалили меня. Они сторожили не нас, – сказал Ангел, – смотри, ты хотел видеть, вот и грешники. Где же грешники? – наконец спросил я – тут сплошная пустыня. Во-первых, - отвечал Ангел – по молитвам Богородицы от Пасхи до Вознесения грешникам дают отдых от работы и мучений, а во-вторых, Под речным обрывом на нашем берегу какие-то голые люди кирками кололи песчаник, возили его наверх на скрипучих тачках. Они не обращали внимания ни на патруль, ни на лодку. Только один D:\681449086.doc старик распрямился, вытер лоб тыльной стороной ладони и, почудилось мне, помахал нам рукой. Что-то в его лице показалось мне настолько знакомым, что я подавился слюной и закашлялся, задыхаясь. Молись за него, – сказал Руахил, – случалось, и убийц отмаливали. Небо висело над нами уже так низко, что я разглядел: в тверди насверлены дыры, и когда над Аравийской пустыней вставало солнце, сквозь заброшенные шахты и скважины пробивались его лучи, здешние звезды. Травы левого берега щекотали цветоносами облака, русло сузилось, и айсберги Джаханнма, как исламская угроза, наседали все решительнее, росли и расширялись на Запад. Горячие ветры Ада уже не пожирали их, но лишь кусали за бороды, вытачивали изо льда чудовищ, и эти монстры грызли теперь борта нашей лодки, замедляли ход. Наконец мы уткнулись в ледяное войско. Руахил рубил его мечом, топил жаркой молитвой, но лед только лопался и крошился, а вместо каждой срубленной головы тут же намерзала новая. Все, – сказал Руахил, – дальше придется пешком. Я с тоской посмотрел на ивовую бутыль. Ничего, – улыбнулся Ангел, – попросим у Рахваила еще одну. Я спрыгнул на лед, Ангел взмахнул крылом, замел лодку снегом, чтобы не оставлять врагу тепло наших тел, и мы зашагали сквозь торосы вперед, туда, где в узкой ледяной щели холодно блестел колючий кристалл – исток Аракса. Мы шли согнувшись. Какие-то шелудивые гады шипели из холодных нор над нашими головами, но кусаться не смели после того, как Ангел задел одного гардой, а другого осадил щелчком. Пещера 57 становилась все ниже и уже, под ногами что-то хрустело так мерзко, что я боялся смотреть. Дальше идти было невозможно. Ангел вытянулся во весь свой немалый рост, на мгновение завис над полом и отломил от кристалла две ледяные иглы. Когда одну из них он протягивал мне, рука его дрожала. Я зажмурился и проглотил. Вопреки самым худшим ожиданиям, со мною ничего не случилось, только нечеловеческий крик взорвался под сводами, и упал вниз лицом в костяную кашу Ангел Девятого чина, Хранитель, Руахил. D:\681449086.doc 11. Город Ангелов До того как возникла Англиканская церковь, Теофил числился по небесной табели в Девятом чине. Ему было предписано содержать в порядке мост на реке Кэм, сажать корабельные леса в защищенных от северного ветра долинах и отмечать родинками детей, которые пяти лет отроду продолжали видеть его. Такие годились в лоцманы и священники. Когда, движимый гордыней и похотью, король провозгласил себя Наместником, многие Ангелы отвернулись от него и покинули Британию. Одни из них пересекли Ла-манш, другие, которых Бог отметил рыжими волосами, отправились в Ирландию, где в полях устроили свои невесомые дома и учили крестьян грамоте. Теофил не мог бросить свои еще неокрепшие леса и остался. Тем более, что после Исхода некому стало отводить от Острова шторма, и ненастными ночами морские брызги и хлопья пены долетали до реки Кэм. Так он стал младшим Ангелом, и, молясь об изобилии плодов земных, поминал теперь не Папу, а короля. Когда в стране становится мало Ангелов, ей требуется больше образованных людей. Забот у Теофила прибавилось, теперь он присматривал еще и за Университетом. Он появлялся на ярмарках, публичных казнях и сельских праздниках и выкрикивал афоризмы великих философов древности в собственных переводах на Ангельское наречие. Те, кто слышал в плеске толпы хоть одно постороннее слово или даже пустой звук – годились в студенты. Но таковых находилось немного, и туторы возились с глухими. Однажды в Бристоле, в портовом кабаке, он нашел женщину, которая не только слышала его, но и умела ответить. Теофил почувствовал в ней родную кровь, и это ему не понравилось. 58 Ангелиде не пристало вытирать жирные руки о фартук, разбавлять ром водой и браниться с матросами. Кроме того, колледжи для женщин были закрыты, и вместо Дарииловой дочери Теофил завербовал бледного юношу по фамилии Вульф, ставшего вскоре отличным хирургом. Постепенно Ангел перешел с чужих афоризмов на собственные и до того увлекся сочинительством, что даже написал пьесу на французской бумаге своим пером и анонимно переслал ее известному издателю. Впоследствие это сочинение было приписано Кристоферу Марло. Теофил догадывался, что многие произведения, гордилась ныне британская литература, имели происхождение. которыми подобное Леса Ангела исправно вооружали королевский флот первоклассными мачтами, Университет процветал, и теофиловы рекруты умножили его славу. Один из них открыл новый архипелаг, другой нашел противоядие от укуса болотной гадюки, третий – разгадал секрет дамасской стали. Ангел мог бы гордиться своей главой в Книге Жизни, если бы жизнь не наскучила ему. Он исправно выполнял свой урок: вытягивал сосны, укреплял опоры моста перед паводком, наведывался на гуляния, но больше не распахивал крыльев от радости, когда какой-нибудь заспанный бакалейщик вдруг начинал шептать вслед за ним: Sal Ben Ion Rosh … Раньше при одном его появлении бесноватые бились в судорогах и захлебывались пеной, а теперь просто переходили на другую сторону улицы. Одержимые, у которых от его взгляда, случалось, обугливалась кожа – нынче лишь чесались и отводили глаза. Сила покидала его и не возобновлялась с молитвой, крылья потускнели и стали терять перо. D:\681449086.doc Теофил сначала удивлялся себе, потом встревожился и, наконец, смирился. Он думал: все Ангелы стареют и крутятся в Господней мельнице бездумно, как жернова, перемалывая зерна, которые кто-то там наверху отделил от плевел. Быстрее вертеться – нет смысла, а медленнее – не дадут. Он любил детей и деревья, но его угнетала мысль, что дерево растет лишь затем, чтобы стать палубой, а ребенок - чтобы присоединить к империи еще один туземный аул, полный язычников и дизентерии. Что наверху, то и внизу, – думал Ангел, – Небо и Земля – те же жернова. Значит, само Солнце не свидетельствует о славе Господней, а способствует росту растений, и бессмертная душа не мечется в поисках Бога, но самим своим движением служит обществу. Он молился, чтобы Господь вразумил его, и боялся признаться, что с тех пор, как Папу сменил Государь, небеса над островом словно бы захлопнулись, а знамения служили лишь для навигации, астрономии и расцвета точных наук. Кто же превратил нас в механику? – думал Ангел – кто льет воду на колесо, кто наполняет ветром крылья? Если Бог, то на кого Он работает, перемалывая леса на корабли? Если король, то разве мы в его власти? Теофил сидел на вершине мелового холма, смотрел, как ковыляет в нору, переваливаясь с боку на бок, беременная крольчиха. Он не вышел на работу и был этим немного смущен. Сегодня, – решил он, – я тружусь здесь, сижу и пытаюсь понять, зачем Господь сделал кроликов такими плодовитыми. Когда солнце село, Теофил понял, что никто его не хватился. Он поднялся над холмом и полетел к морю. Пришло время вечерней службы. Ангел молился в полете, и море шумными вздохами возглашало Славу после каждой статии, пропетой им. 59 Сонные чайки поднялись со скал и сопровождали Ангела. Он рассеянно оглянулся и вдруг увидел, что не малая стая, но все небесное воинство летит вместе с ним. Девять чинов Ангельских явились ему в виде огненной колесницы, и он не был в ней даже гвоздем, но лишь бликом на колесе. Ангел рухнул на землю, упал на колени в полосе прибоя и до утра повторял молитву мытаря, бил поклоны, всякий раз попадая в волну лицом. Утром жена малого полосатика родила в намоленной бухте детеныша и теперь мычала, как корова, выталкивая его на поверхность бугристым носом. Теофил понял, что вины за ним не находят, и благословил китенка. Любящий Бога поднялся и пошел по берегу вдоль скал. Вскоре он отыскал продуваемую ночными ветрами пещеру и поселился в ней. Здесь он положил на музыку двадцать восемь псалмов, по одному на каждый день месяца, и составил акафист святителю Николаю, восточному чудотворцу, покровителю мореходов и китов. Как-то раз в первое полнолуние после весеннего равноденствия Ангел лежал на крыле и смотрел в звездное небо, читал известные от Начала Времен слоги – созвездия. Соленый ветер надувал слезу, в глазах у Ангела помутилось, и он увидел в горних стрелку, нацеленную на север, и надпись под ней Город Ангелов, в каковую сложились знаки Рыбы и Тельца. Теофил закрыл глаза, прочитал Отче наш, а когда открыл – все было по-старому, как в Начале. От конца ночи до боли в глазах он смотрел в небо, но знамения не повторяются. Как он помнил, есть только два воздушных города, один – в Едеме, на Востоке, второй – высоко в небесах, куда младшим ангелам путь заказан. Впрочем, за семь тысяч лет могли появиться и другие города. D:\681449086.doc Он поднялся, облачился в одежды паломника и пошел на Север, где Земля висит над пустотой ни на чем. Волны покорялись ему, ветры пробивали дорогу в тумане, когда он шел через океан. Морские гады подступили к Ангелу, плавники их были остры и ярки, что выдавало наличие яда. Теофил сказал про себя Слово, за тем вытянул его изо рта. Слово было острое, как опасная бритва. Ангел бросил его в воду. Старые моряки говорят, что море в этом месте до сих пор дымится и вода прошита кровавыми пузырями. К Ангелу вернулась Благодать, но он был так увлечен дорогой, что не заметил этого. Он видел в море острова из птичьих перьев, где обитали змееголовые женщины, покрытые волчьей шерстью. Свадьбу норвежской сельди, которая сбивалась в огромные стаи, блистающие под водой, как облака. На свадьбу приготовили столько снеди, что рыбацкие шхуны увязли еще в закусках, и не тревожили гостей. Земную ось, нижним концом она упиралась в гору Зеон, что в языческом Аиде, а верхнего – никто не видел, потому что ось тянется до самых Властей и Сил. Ось была гладкая и толстая, в три ангельских обхвата, по ней сверху вниз текло отработанное Время, сладкое, как патока. Теофил наполнил фляжку про запас, он чувствовал, что приближается к цели своего путешествия, и не удивился, когда на горизонте появилась ледяная гора, на вершине которой высились купола храмов и острые пики сторожевых башен. Горнист на одной из них заметил его и протрубил тревогу. Из города, грозно сверкая копьями, поднялась небольшая стая. Теофил стоял на пенном гребне и, как завороженный, следил за полетом боевого отряда. Впервые после долгого перерыва он видел все совершенство подобных себе. Узкие крылья Стражей чертили на воде стремительный след. 60 Теофил сотворил крестное знамение и, улыбаясь, глядел, как одежды бойцов меняют цвета, как если бы стрижи стали превращаться в чаек, и больше не пикировали, жаля стальными клювами в темя, но кричали, суетились, хлопали англиканца крыльями по спине. Страннику дали три часа, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Его оставили в гостевой башне, в круглой комнате с гобеленами, предварительно сообщив, что сам архангел Гуриил – Архипастырь, Комендант крепости и Хранитель печати – хочет побеседовать с ним. Теофил уже облачился в блистающие одежды и убрал волосы в косу, когда дверь отворилась и в комнату вошла рыжая девочка в белой тунике и лавровом венке. Ваше Совершенство, – обратилась она к Ангелу по Девятому чину, – прошу Вас следовать за мной. Теофил ответил девочке коротким поклоном, и они стали спускаться по винтовой лестнице. Ступени и сами стены были ледяные, но холода Ангел не чувствовал. На улице их ждал паланкин, четверо уже знакомых Стражников легко подняли его и понесли вверх по широкой спирали к Собору Святых Верховных Бесплотных Сил, где у Гуриила была кафедра. Теофил хотел было рассмотреть город получше, но на дверях паланкина было цветное витражное стекло, сквозь которое видны были лишь смутные силуэты. Ангел понял, что город ему откроют лишь после того, как Комендант лично убедится в чистоте его помыслов. Девочка сидела в уголке, поджав ноги, и что-то писала тонким перышком прямо на ладошке. Она почувствовала взгляд Теофила, подняла глаза и улыбнулась ему. D:\681449086.doc Его Высокосовершенство примет вас в верхней резиденции на куполе собора, – сказала девочка. – По нашему уставу в Церковь нельзя входить с оружием и письменными принадлежностями. Вам придется оставить мне меч, перо и записную книжку. Назови свое имя, – сказал Теофил с улыбкой. Меня зовут Раса, я ангелида, мне поручили вас проводить. Ты покажешь мне город? Девочка кивнула. Паланкин остановился, Теофил открыл дверь и задохнулся от осеннего света, которым был вызолочен купол Собора Высших Хоров. Верхняя резиденция оказалась небольшой комнатой в фонаре, что находился на куполе, под самым крестом. Там стоял круглый стол и четыре кресла. Сесть Теофил не осмелился и застыл в поясном поклоне, пока четырехкрылый, как все Архангелы, Гуриил закручивал свитки и запирал на замок книги, с которыми только что работал. Прошу садиться, – сказал Гуриил по-латыни и снял очки. Теофил повиновался. Ваше имя и чин? – Архипастырь перешел на греческий. Теофил представился. Как вы нашли нас? – вопрос прозвучал на арамейском. Теофил вкратце пересказал свою историю. Экзамен был окончен, и разговор продолжался на ангельском наречии, глаголы которого, как известно, порождают живые картины, иллюстрирующие сказанное. Гуриил говорил, а Теофил видел, что город на ледяной горе выстроил первый среди семи равных Первоархангелов – Гавриил. Когда-то давно, еще до Первого Пришествия, Гуриил служил у него келейником, но Господь по милости Своей вскоре призвал Гавриила в 61 такие Сферы, где нет воздуха для дыхания всем Чинам, кроме первых трех, и молодой послушник не смог сопровождать своего наставника. Говорят, что пустота между средними Сферами наполнена огнем Его гнева, и в огне этом нет брода, а над ним – моста. Там зреет в черной раковине Звезда Полынь, и сторож ее – Ангел Ариил – твердит про себя пять нот – позывные Судного Дня. Гавриил создал Город то ли в семь дней, то ли в седьмом часу. Первоначальное его назначение – форт, перекрывающий северные выходы из Преисподней. Город даже выдержал непродолжительный штурм, но с восходом Рождественской Звезды война была окончена. Гуриил видел сам, как от ее тихого, но горячего света у бесов лопались глаза. Ад переучивал штурмовиков в отравителей, террористов и сектантов, а грозный северный форт стоял пустым, пока в Горних не возникла нужда в своего рода Академии, которая разобралась бы в межконфессиональных проблемах и отделила бы Веру от ереси. Гуриил в то время подвизался в ближних пещерах Киевской лавры. Бывший наставник явился ему и положил новое послушание – кафедру в Городе Ангелов. Гуриил успел заметить, что у Благовестителя выросла борода и поседели волосы. В новом Городе разрешалось создать малый ангельский хор, где были бы голоса всех земных Церквей, признающих св. Троицу. Предпочтение отдавалось Ангелам, проявившим способности к языкам и сочинительству, так как возникла нужда в переводе многих книг. Из подаренного Гавриилом лука Гуриил запускал в небо стрелы, которые ловили будущие академики. D:\681449086.doc Сейчас в городе было триста шестьдесят четыре Ангела, не считая служек, Стражников и ангелид. Теофил был последним и дополнял число. Голос Гуриила считался високосным. Архипастырь закончил рассказ, Теофил учтиво поблагодарил его, взял благословение и раскланялся. Он не вполне понимал, чем ему предстоит заниматься, но вопросов благоразумно не задавал, отложив это до утра. Раса ждала у дверей. Она взяла его за руку и повела по ступеням вниз, туда, где под куполом на барабане располагались смотровые площадки. После живых картин у Ангела слезились глаза, он едва различал цвета, но все же, едва Раса плавным жестом обвела панораму, Теофил вскрикнул. Вид, что открылся ему, был прекрасен, как сбывшийся сон, когда вздыхаешь с облегчением: так вот что мне снилось последние годы. Город стоял на песчаной косе. Справа – тускло мерцало старым серебром холодное море Севера; слева – парило золотое африканское течение. Башни и колокольни города переплетались, как пальцы влюбленных, изогнутые ветром сосны звенели на желтом песке, как иерусалимские гусли, а на голубом снегу – гудели как иерихонские трубы. Эти деревья, – подумал Теофил, – никто еще не тянул за макушки. Раса открыла ветру объятия и стояла, зажмурившись. Ангелиды не умеют летать, но это ничего не меняет. Если верно, что все Ангелы – братья, – решил Теофил, – то Раса – моя племянница. Смотрите, – сказала Раса, – вот там, у бухты, где старый маяк – ваша башня. Очень хорошо, – сказал Теофил – я туда и отправлюсь. 62 Он попрощался с девочкой и полетел над Городом. Ангел хотел спать. Его разбудил горн. Ангел встревожился, но вскоре понял, что страж трубит не тревогу, а его, Теофила, собственную мелодию на сто третий Псалом. Над морем, повествуя о славе Божьей, вставала звезда. Теофил помолился вместе с горнистом и снова уснул. Ему снилась огромная зала с колоннами, сводчатый потолок ее венчали два круглых окна. В одном бледнела ущербная Луна, в другом сияло полное Солнце. Посреди залы помещался просторный стол, покрытый тканой скатертью, которая есть истинная карта мира, и мир был расположен , как указывалось в ней, в ледяном колодце или трубе, на одном конце – Ад, Луна и материнское чрево, а на другом – Рай, Солнце и смерть. На четырех углах стола стояло четверо часов: Земные, где , отмеряя время, пересыпались песчинки с окраин Венеции; Водяные, снабженные органом Ктесибия, воду для них привозили с озера Севан, оставшегося от Потопа; Огненные, что отбивали ход, выплевывая золотые шарики, заплавленные в ароматнейший малороссийский воск; Воздушные, что изобрел присутствующий в зале Ангел по имени Мануил. Их циферблат вращался относительно неподвижных стрелок при помощи ветра. Вдоль стола стояли стулья с высокими спинками. Их было по числу дней в году, и на каждом сидел Ангел. Тут были: Ладомил, Златые Власа, служивший подмастерьем при св. Андрее Рублеве и удостоенный чести вместе с ним лицезреть св.Троицу; Вергиил, мрачный Ангел, что поведал Данте свою историю о путешествии в Ад; D:\681449086.doc Агадгандил, Хранитель исчезнувшего народа, специалист по мертвым языкам; Джабраил, Ангел Аравийской пустыни, писавший свои стихи на песке; Девясил, неведомый Дух, принявший святое Крещение в Днепре, и поставленный смотреть за домашним скотом; Дедалил, великий изобретатель огнива, колеса и секстанта. Говорят, в разные годы он был Хранителем Марко Поло и Микеланджело; Иеремиил, спутник Ветхозаветных мудрецов и Пророков, один из первых комментаторов Торы; Афирусаил, могучий Ангел с головой волка, испросивший у Господа этот страшный дар, дабы своей красотой не прельщать поселянок; Емораил, златокрылый грифон, служивший в свите Архангела Смерти; Игнуил, имеющий власть над земным пламенем и носящий его вместо ризы; Электрил, брат его, служитель пламени небесного, явившийся в залу в образе молнии; Агиазил, Ангел Средиземного моря, в мраморных волосах которого располагались келии раков-отшельников; И еще триста пятьдесят три ангела, среди которых Теофил, проснувшись, обнаружил себя. 63 Ангелы постных дней были в черном, дней скоромных – в сером, воскресные – в желтом, праздничные – в белом. Один, удостоенный в этом году особой Благодати символизировать Пасху, носил красное, а другой, именем Мельхиориил, был в честь Рождества всегда в синем. Молитвы этого Ангела столь сильны и красивы, что от его дыхания окна в домах покрываются узорчатой горней вязью. Вестники говорили негромко, каждый в свою очередь, и Теофил не понимал многих слов, что сверкали в их совершенных речах. Одни изъяснялись притчами, другие – на тайных языках, третьи – просто молчали. Теофил, когда дело дошло до него, встал, представился и прочел сонет собственного сочинения про осень, дождь и картофельное поле. Джабраил одобрительно улыбнулся, Теофил сел, разговор продолжил Стратиил, птичий Ангел голос которого напоминал крик петуха. Позже Теофил узнал, что на голубином языке стратиилово кокиереку означает: Господи, яви миру свет! Ангелы встречались каждый день, кроме Субботы и Воскресенья. Иеремиил призывал праздновать еще и Среду, в память о Дне, когда были сотворены Силы Небесные, но его предложение было отклонено. На собраниях они пели молитвы, каждый на своем языке, внимательно следили, чтобы все строки укладывались в первоначальный размер. Составляли акафисты, писали иконы тех Святых и Бесплотных, которых знали в лицо, иногда просто беседовали о чем-нибудь интересном для всех. Например, о природе света. Мало-помалу Теофил вошел в их общество, но почему-то все чаще стал вспоминать свои леса, ярмарки и пребывающие в старинной вражде реки Темзу и Кэм. D:\681449086.doc Из окна своей башни Теофил часами наблюдал за играми Ангелид. Беспечные девочки чертили на песке схему мироздания и прыгали по ней на одной ноге, толкая перед собой битку – символ судьбы. 64 Владыка просит Ангела Англиканской церкви срочно пожаловать к себе. У них были короткие имена, словно от прежних им оставили половину: Дайва, Раса, Вейга, Лика. На сей раз Архангел принял его в трапезной. Гуриил предложил посетителю вина и манны, хлеба ангельского, они молча ели и слушали житие Марии Египетской, которое монотонно вычитывал псаломщик. Сердце Ангела переполняло умиление, он восхищался благородством Гуриила, который собрал Ангелид со всех папертей Европы и базаров Азии, и приютил в своем Городе, где они из битых жизнью женщин, проклинающих свое бессмертие, снова превратились в детей. Видишь, – сказал, наконец, Гуриил, – бедной женщине потребовалось cемнадцать лет, чтобы отвадить беса, а разве Ангелов искушают не большие, чем людей? Все девочки были сиротами. Матери их умерли в самом начале истории, а отцы – не смели к ним приближаться, да и не имели на это времени, потому что всегда были заняты делом. Они держали за холку ошалевшийся Ад, выслеживали и жгли еретиков и отводили от древних монастырей бомбы, выпивая взрывы в воздухе, как кислое вино. От земных женщин у Ангелов почему-то рождались только дочери, которые в свой черед не давали потомства, хотя у иных бывало по сорок мужей. Ангелиды могли понести только от Ангелов, но подобный брак считался греховным кровосмешением. Дочери Вестников напомнили Теофилу об учениках, он даже пытался вернуться во сне в Кэмбридж, но наткнулся на городскую стену, выходить за которую не позволялось ни во сне, ни наяву. Сновидение – считал Комендант – это распахнутые врата, сквозь которые проникает враг. Теофил сделался рассеян и печален, отвечал невпопад и злоупотреблял глагольными рифмами. Однажды, когда в Академии слушался вопрос о различиях в крестном знамении у восточных и западных христиан, в залу явился гуриилов келарь, извинился перед высоким собранием и сообщил, что Теофил молчал. Очертания его размылись, и все внимание обратилось на меандр, что бежал по кромке скатерти. В глазах Гуриила мелькнула улыбка, и он продолжил: Оба твои акафиста одобрены и отныне будут исполняться, у тебя хороший слух и чистые глаза. Беда твоя в том, что ты еще мальчик. Некоторые взрослеют медленнее прочих, а тебе и семь тысяч лет – не срок. Не работа гнетет тебя, и не по дому грустишь ты. Тоска выдает неокрепшую, а значит, тонкую душу. Ты плачешь, когда все еще живы, и слишком далеко смотришь в туман своей судьбы. Все в мышце Господней, и составители вечного календаря устыдились, когда Бог остановил Солнце на небесах в день битвы Иисуса Навина при Гаваоне. Мы же с тобой – не песчинки ли на ветру, и нам ли гадать, куда Он нас понесет. Следуй за ветром, – сказал Гуриил, – ходи по путям его, и душа твоя закалится. Но помни, что и с Ангелов спросится, когда придет День гнева Его. Теофил сидел, закрыв лицо руками. D:\681449086.doc Мне велено передать, – сказал Гуриил, чуть помедлив, – что тебе отпущен особый дар – свобода. Отныне ты будешь сам выбирать себе подвиг. Это отлучение? – прохрипел Теофил. Это дар, – отвечал Архангел, – многие в Девятом чине мечтали о нем и каялись на исповеди в своей мечте. Я прошу благословения оставить Город и вернуться к прежним трудам, – сказал младший Ангел. Гуриил благословил его и дал руку для поцелуя. У старика были длинные красивые пальцы. Теофил заплакал. Его прощание с Городом было коротким. Он только и успел что поцеловать Расу в лоб да воткнул любимое перо в дверь джабраиловой башни. Стражники проводили его до околицы, дальше он пошел один. Ночью из корпуса ангелид было видно, как на горизонте, словно сигнальный фонарь на мачте, маячит его красный нимб. На теофилово место был призван Кириил, гений из горного сербского монастыря, который придумал начертания недостающих букв для славянской азбуки. Теофил до сих пор служит в Кэмбридже, он выпустил под псевдонимами несколько книг в университетском издательстве. Иногда он является во сне нерадивым студентам и побуждает их к прилежанию. А сам Ангел спит и видит Белый Город, где умная девочка Раса, дочь Риммы и Самариила, случается, вспоминает о нем. Теофил обходит Город по кругу, но не смеет приблизиться, памятуя, что сны – суть трение души о плоть, а у Ангелов – нет плоти и, следовательно, не бывает снов. 65 D:\681449086.doc 12. Тени Едема Я стоял на коленях над бездыханным и невесомым телом своего Ангела и читал молитвы с его пояса, потому что других не помнил. В самом дальнем углу Ада я остался один. Лучше бы мне не родиться, и счастливей меня оказалась та девочка-выкидыш, которую мама потеряла в семьдесят шестом. Я упал на грудь Руахила – и нет, не заплакал – завыл, и пещерные гады забились в норы, опаленные этим криком, потому что печаль моя была неподдельной. Пусть бы я до конца струсил там, наверху, и Ангел мой был бы теперь жив. Я бил Руахила по ланитам, припадал ухом к устам, и вдруг заметил, что изо рта его все еще торчит ледяная игла. Я осторожно схватил ее за ушко зубами, медленно вытянул и проглотил. Игла со звоном упала в желудок и там лопнула по числу моих грехов на семьдесят семь осколков, которые превратятся в воду и газ. Так, утолив жажду, вызванную слезами, я продолжал рыдать и не замечал, что теперь уже я лежу на полу пещеры, а Руахил сидит надо мной на корточках и гладит холодной рукой по голове. Невольные грехи подкатились к моим глазам, и забытые – всплыли в памяти. От осознания собственной мерзости мне хотелось плакать сильнее, но сильнее уже не получалось. Я стал задыхаться, и тогда сознание милосердно меня оставило. Я помню, тело сильно тряхнуло, словно кто-то вырвался из него, и я упал в бездонный ледяной омут, во мрак, в обморок. 66 На коленях, блудным сыном, стоял я, обнимая своего Ангела, и орнамент на его кирасе больно врезался мне в щеку. Руахил был бледен, как человек, и перья с его крыльев осыпались, словно листья осенней ночью, обнажая белую кожу. Но это был он, и он был жив. Нельзя с головой уйти в Смерть и не потерять ни одного волоса, – сказал Руахил, – но мы, похоже, ударились о самое дно. Хлебнули лишнего. По-моему, теперь я знаю, где Каин берет свои иглы. Слава Богу, ты жив, – сказал я. Аминь, – сказал Руахил и, помолчав, добавил: – Надо уходить, скоро они придут. Ангельский дух им ненавистен не меньше русского. Мы обнялись как братья и пошли прочь, пошатываясь и тяжело вздыхая. Ангел понюхал ветер, подобно волку. Мы свернули в тесный боковой отнорок и оказались в полной темноте, потому что сил держать нимб у Руахила не было. Мы брели, мне показалось, на запах, которого я до времени не ощущал. Но через час пути и мне явился резкий и пьяный дух сырой нефти. Тоннель резко пошел вниз, я поскользнулся, упал и покатился по скользкому полу, а когда поднялся – ощутил над головой гулкую пустоту. Мы оказались внутри выработанного нефтяного горизонта. Руахил закрыл мне рот ладонью, велел не дышать и прочел молитву, вызывающую ветер, над которым ему дана некоторая власть. Ветер вскоре прибыл, пыхтя и повизгивая, и колоколом накрыл меня. Набатом разлился я в затхлом воздухе, которым, должно быть, дышал еще Иона. Но даже кислый воздух лучше, чем свежий эфир. Мы брели по горизонту, по болоту былых времен. Нефть была то по пояс, то по горло, и если бы кто-то из них сейчас нас увидел, то принял бы за своих. Казалось, сама тьма была здесь не газообразной, D:\681449086.doc 67 как наверху, а жидкой. Она липкой коркой покрывала наши тела, лезла в уши и рот. которому велено было меня охранять, застрял в решетке базальта, будто птица в силках. Наконец, болото стало мелеть и внезапно оборвалось. Перед нами была лишь пропитанная нефтью плита – базальт. Руахил приложил к скале ухо, прислушался. Руахил подхватил меня за бороду и потянул вверх. В ушах моих гудели горны, ухали барабаны. Я говорил без умолку, набивался в друзья к узкоглазым русалкам, что пялились на нас из подводных зарослей. Мы должны идти дальше, – сказал Руахил. – Если пройдем, спасемся. Если же нет – через год-другой какой-нибудь мелкий бес подожжет нефть из пустой шалости, а через час тебя станет мучить жажда. Я потрогал камень рукой. Он был настоящий. Не думай об этом, – сказал Руахил, – иди, и все. Я разделся и вошел в тело камня. Это возможно, если осознать свою бестелесность, и тогда давить просто некого. Сквозь скалу я прошел во сне. Где она была крепче, там я давил базальт, словно снег, где крепче был я, камень тек сквозь туловище, как поток сквозь сеть. Когда же скала меня поймала, заманив серебряной жилкой, я превратился в газ. Внутри камня я понял, что такое настоящий холод и подлинная тишина. Еще мне нравилось, что внутри массива нет ни пространства, ни пустоты, ни смерти, ни жизни. А я скале не понравился как раз тем, что во мне все это было, и она меня без схваток выплюнула. Едва я выкатился из камня, меня подхватила вода. Я упал на спину и впервые увидел свет, мутные сумерки цвета чая, захохотал и стал задыхаться. За спиной бурлили и лопались пузыри, это ветер, Когда через день мы всплыли, я едва не лишился зрения от ослепительного небесного пламени – света Луны. Была теплая ночь. Мы лежали без сил на берегу озера Тартар. На горизонте стояло зарево. Там шумел Вавилон, и разноцветные жертвенные дымы его храмов сплетались в извилистый стебель, который упирался в небо. Возможно, даже подпирал его. Было плохо видно, мешали облака. Меня вырвало желчью и нефтью. Я был счастлив. Наконец, Руахил поднялся, начертил ладонью крест во влажном воздухе и стал молиться по-ангельски протяжно и переливчато, вплетая в речь, как бусины в ткань, самоцветные имена своих святых покровителей. Я догадался, что он обращается к Архангелу Рафаилу. Я заслушался и стал медленно нагреваться. Изнутри я походил на белый лед, снаружи – на черную ящерицу. Озеро вытягивало из воздуха тьму, выдыхало туман. Отражения звезд и космических тел скользили по мутной воде, сбивались в стаи. По мере моления Руахил становился тоньше, прозрачней и вскоре растаял, словно сахар. Оставался лишь голос в озерной волне, а потом и голос пропал. На самом пределе слуха запел деревенский петух, залаяла собака. Я вдруг понял, что у меня нет ни одежды, ни паспорта, ни визы. Вообрази себе мою встречу с властями: Следователь: Как вы попали в нашу страну? Я: Сбежал из Ада. D:\681449086.doc Впрочем, в Междуречье теперь война, до следователя может и не дойти. Я заполз в озеро и стал отмываться. Небесные холмы покрылись красной травой. И ветер, играя на птичьих дудочках, погнал к Востоку свои стада. Камыш зашептал утреннее правило, смешивая шумерские и арабские слова. Над озером летела серая цапля. Мне было легко и сладостно, я едва не заплакал, но, должно быть, во мне осталось слишком мало соли, и слеза растаяла, не долетев до зрачка. В утреннем свете вода стала зеленой и мирной, как футбольное поле. Но я-то знал, какие подонки таятся в его глубине. Я осматривал местность от света до тени и видел, как наверху всходили и рушились города, рассыпались, падая, на тысячу деревень, разбросанных по бесконечной синей тундре, где всего и примечательного, что белый перистый мох и красные лучистые прутья, а внизу – волны ворочали бородатые коряги, месили драгоценнейший ил – бесценное тесто цивилизации, корень пирамид, и, увязнув в повседневных заботах, озеро забывало про облака или же просто не смело отражать их. День начал взрослеть, а Руахил все не появлялся. За песчаным мысом слышались гортанные чаячьи голоса. Я был голоден, утомлен ожиданием и принялся грызть водянистые стебли молодого тростника. Кто-то окликнул меня по имени, я оглянулся и упал, ослепленный сиянием. Черные пятна в моих обожженных глазах сложились в фигуру Ангела. Руахил дунул мне в макушку, и боль прошла. Я с опаской посмотрел на него из-под ресниц и увидел, что такое Вестник Девятого чина во всей своей красе. Его перья стали белы, но это были не молоко или снег, а платина высшей пробы, и червонное золото легло там, где раньше мне виделись пшеница и песок. 68 Ангел протянул мне сверток, где я нашел бурнус, куфию и сандалии. Путешествие я продолжал в арабском платье, с которым вполне уместно смотрелась моя изрядно отросшая борода. Руахил провел мне по лицу ладонью, и северную бледность сменил восточный загар, глаза из синих стали черными, их словом было ожидание, а стало печаль. Зрение мое притупилось, как у всех южан, зато обоняние наполнилось терпкими запахами, в которых я прочел имена чертополоха, дерезы и еще пяти-шести трав. Мы шли вдоль берега, и на скромный вопрос о хлебе Ангел ответил улыбкой и неопределенным жестом в сторону рыбацкой деревни. За лукоморьем на песчаном мысе, где пигалицы и цапли рисовали лапами буквы греческого алфавита и славянской азбуки, Ангел остановился и оглядел горизонт. Я присел на бревно цвета слоновой кости, оциллиндрованое волной, и пытался увидеть тот предмет, что привлек его внимание, и увидал полосу света там, где небесный свод упирается в черепаший панцирь. Руахил, наверное, смотрел дальше, и видел что-то иное, свое. Жук-точильщик лет пятьдесят назад составил на бревне календарь, но, в отличие от птичьих следов, его знаки в слова не складывались. Возможно, жуки здесь используют куфические письмена. В наших краях этим искусством владеют только старые карельские камни. В воздухе родился, окреп и умер шипящий спиралевидный звук. Ангел очнулся. Ночью будет гроза, – сказал он одними губами, – надо поторапливаться. В деревне забрехали мелкие желтые псы, один из них даже ухватился зубами за Руахилов хитон. Озерные арабы, сидя на корточках у стен своих глинобитных домов, Ангела не видели и, в отличие от собак, недружелюбно рычали и скалились на меня. D:\681449086.doc На восточное гостеприимство я не рассчитывал, однако надеялся, что Руахил сделает чудо. Например, стащит незаметно лепешку из очага или достанет из-под кирасы безант – мелкую золотую монету, ходившую здесь во времена крестоносцев. Ангел не обращал на меня внимания, он решительно шел вверх по улице, и грязь не липла к его ногам. Я отстал. Наконец, там, где начиналась рыбацкая свалка и свистели на разные лады в кроне огромного битого непогодой дерева усатые синицы, Руахил замедлил шаги и дождался меня. 69 Так что же, – сказал я после молчания, – стоит откусить, и я стану подобен Ангелу? Руахил улыбнулся: После смерти все только начинается. Ты будешь подобен младенцу, что не желает рождаться и плавает в утробе, медленно превращаясь в старика. Смотри на камни. Тела их бессмертны, более того, безжизненны. В бессмертии – тело – не главное. Кого не коснется смерть, тому и жизнь не отрада. Вспомни хотя бы Каина. Я заметил, что нижние ветви дерева обвязаны красными ленточками, а к древнему стволу прибиты медные пластинки с именами. Кое-где в массивной кроне виднелись диковинные желтоватые плоды, видимо, прошлогодние, они и привлекали синиц. Здешняя судьба – лишь эхо той, что тебя ожидает. Тело – дар для гордого духа, для бессмертной души – наказание. Мы подошли ближе, я поднял фрукт с земли, чтобы разглядеть получше. Плод источал запах меда и чего-то знакомо-запретного. Спермы. Я мог бы съесть его, но брезговал. Я разжал кулак и вытер руки подолом бурнуса. Ангел поведал мне, что в день Страшного Суда все восстанут в старых, но прекрасных телах, синевато-прозрачных, подобных глаголам Ангелов. И не будет ни стариков, ни детей, но каждый вернется таким, каким был или мог быть тридцати трех лет от роду. Что за дерево? – спросил я у Ангела, глаза которого светились торжеством. Древо жизни, – сказал Руахил по-латыни, – жернов у тебя под ногами и это Дерево – вот и все, что осталось от Едемского сада. Какой еще жернов? – переспросил я. Господь накрыл им глиняную яму, из которой взял на Адама. Первая в мире могила была пуста. Я попятился, переложил запретный плод в левую руку, перекрестился и сжал кулак. Сквозь пальцы потекла красная мякоть. Я смотрел Ангелу прямо в глаза. Два Ангела встанут по разные концы Земли, один на белой воде, другой на черном камне. И те из воскресших, кого выберет Гавриил, полетят сквозь огонь в Вечные Города. Оставшихся Михаил уподобит пламени. Это была песня из Голубиной книги, одна их тех, что стекают с Великой Горы Небес, перекатываясь от высших хоров к низшим, ослабевают в своем совершенстве, но в сущности не меняются. Одеяние говорящего Ангела из воинского стало священническим. Теперь он облачился в подир, и расшитая жемчугом епитрахиль крестообразно перевязывала его грудь. D:\681449086.doc Я сложил на груди руки и закрыл глаза, а когда открыл, мы уже летели над полосатой рекой Тигр. Новые перья Руахила были длиннее прежних, тонкие поперечные полосы на правом крыле от ветра сложились в слово, которое я прочел, понял и тотчас забыл. Я лежал на животе, на прозрачной плоскости и, чтобы не бояться, держался за руахилову ногу. Воздух сделался густым и вязким, я хватал его свободной рукой, мял. Воздух был как вода, и полет наш напоминал плавание. Я растопырил пальцы, оторвался от Ангела и целую минуту летел с ним рядом, пока не почувствовал под собой пустоту. Едва почувствовал – начал проваливаться. 70 Воздушный куб стремительно таял, стена аквариума осыпалась, и Джабраил приблизился к нам одним прыжком. Руахил приветствовал его едва заметным движением век и протянул тугой свиток – нашу подорожную. Джабраил развернул свиток и внезапно изменился в лице – помягчел и разулыбался. Он что-то сказал Хранителю Корабельного поля по-арабски и исчез в песчаном вихре. Я не успел зажмуриться, мешки под моими глазами туго набились песком. Что он сказал? – спросил я, обливаясь слезами и отплевываясь. Может показаться, что причина этого падения – мой невроз, но оглянись: Руахил тоже падает. Мы катились по пологому склону Великой Горы. Ангел полыхал голубым огнем, летел красиво и ровно, словно древний метеорит. Я же кувыркался молодой молнией. У самой земли Ангел крепко схватил меня за ворот, распустил крылья, и мы упали в песок. От удара в глазах расцвели подсолнухи. В руке Руахила матово мерцал меч, похожий на крест Казанского Собора. Ангел молился, и слова складывались у него на груди в броню. Ветер вокруг нас вернулся в газообразное состояние, но на вершине бархана все еще стояла глыба небесного льда. За прозрачной стеной, словно рыба в аквариуме, замер охристый Ангел. Его страшный меч, похожий на полумесяц, который, как известно, питается живой кровью, гудел от голода. Кто это? – прошептал я. Джабраил, Страж Аравийской пустыни, это он сбил нас, – отвечал мой Ангел. В подорожной была печать Теофила, известного ему англиканца, Джабраил просил передать своему приятелю горсть песка для промакивания чернил, – отвечал Руахил. – Мы должны идти лицом к ветру до самых гор. Ветер не переменится, аравиец будет держать его за крыло. Мы шли по каменистой равнине, поросшей редким кустарником, и гроза не последовала за нами. Небесная Армада тяжело развернулась и обрушилась на Шатт-эль-Араб. Ветер бил мне в лицо песком, и темнокожесть трескалась, как шоколад на эскимо. На горизонте стояли синие горы, над ними, повторяя рельеф Таврского хребта, высились облака, а над облаками торчали ледяные пики, что маяками мигали в вечернем солнце. Каждый шаг мне давался с трудом, но, как бывает во сне, двигались мы довольно быстро, обогнали даже натовский вертолет, что ощерился было в нашу сторону всем своим арсеналом, включая белые звёзды, призывающие адский огонь. Когда наши тени стали такими длинными, что путались в траве и цеплялись за колючки, мы достигли ручья и пошли берегом вверх по D:\681449086.doc течению. Вскоре берега стали непроходимыми, Руахил взял меня на руки и пошел вброд. Я прижался к его груди, сердца Ангела бились почти синхронно, как железные колеса поезда. Живот его был горячий, а на груди проступили узоры льда. 71 Мы прошли половину пути, что был нам положен, и в сердце моем не было страха. А была там неизвестной породы тоска, которая то царапалась мелкими коготками, то лизала шершавым язычком устье аорты. Я думал о Марине и пытался сложить в слова отдельные слоги, которые слышались в коканьи ручья, хотя и понимал, что сам ручей слов не знает – вода лишь озвучивает то, о чем молчат на дне ее камни. Мы поднялись так высоко, что догнали облако. Долго брели в плотном душистом тумане, а когда вышли, оказалось, оба мы покрыты мелкими разноцветными капельками. То были кисель и молоко, я облизал ладони – наконец-то позавтракал. В маленькой долинке у вертикальной стены корабельный Ангел нашел минеральный источник, что питал наш ручей, который, свиваясь с тысячами себе подобных, образовывал могучий ствол реки Тигр, по-нашему – Хиддекель, самый древний поток на Земле. Человек и Ангел сидели на разных берегах ручья, опираясь спинами о теплую стену. Под ними плыли по молочным путям кисельные облака, над ними Солнце чинило сети тончайших лучей, чтобы Луна не проскочила. Луна же была беременна молодым месяцем, лицо ее посинело и стало совсем как раковина. До Солнца ей не было дела и взошла она раньше, чем ждали, часов в пять. Пора, – сказал Руахил. Он вытащил из сумки серебряный стаканчик, наполнил его из источника и выпил. Потом была моя очередь. Вода показалась мне теплой и соленой, по вкусу напоминала кровь, но пахла травою. На гору поднимемся утром, – сказал Руахил, – теперь отдыхай. Он говорил по-ангельски, и пока вода была у меня во рту, я понимал его. 13. Сын и две Дочери Марина зажгла спичку. Из серной головки вышла дымовая фигура и повисла над водой. В животе освобожденного существа раскручивалась спираль. Пролетела сизая чайка, фигура посторонилась, качнулась к берегу и медленно растаяла. Марина сидела на перевернутой на ночь лодке, у ног ее спала Ладога. Сон озера был глубок, холоден и полон предсказаний. Ладога шумно вздыхала, ворочалась с боку на бок, со дна ее поднимались серебристые пузыри, с поверхности опускались на дно тени деревьев, людей и птиц. Марина договорилась о ночлеге с женой смотрителя маяка, той самой рыбачкой, у которой утром купила сига. Страхи вчерашнего вечера оставили Марину, растворились в ней, как соль, и ушли прочь со слезами. Марина думала: вся печаль моей жизни – лучистый соляной кристалл. Я живу затем, чтобы он вырос. Черные баркасы возвращались с путины, ящики с уловом радужно сверкали на палубах, возбуждая крачек и клуш, что заявляли свои D:\681449086.doc права на долю в добыче горловыми гре и звонкими криа-криа. Марина считала птичьи претензии вполне справедливыми, ведь озеро уже принадлежало им, когда первый рыбак был еще синей глиной. И потом, кто как не чайки служит сигам вместо Ангелов, и в холодной воде зимы рыбы посредством одного лишь осязания поют друг другу о тех, кто живет с той стороны Мирового Льда. Если рыба и входит в сеть, – решила Марина, – то лишь потому, что птица призывает ее туда. На пирсе загалдели барышники и рыбачки, задымились береговые коптильни. Марина отправилась к причалу, она толкалась, махала руками, кричала вместе со всеми, приценивалась к чистой воды сигам, безупречная красота которых заставляла вспомнить голландцев. Она отдала бы за них в десять раз больше, но торговалась отчаянно. Что местным – жизнь, приезжим – игра. Рыб Марина отдала хозяйке. Взамен получила отменный ужин и толстый роман о приключениях знаменитой маркизы Ангелов, у которой было сорок мужей и единокровный брат. Марина уснула в чистой просторной комнате, где раньше жили дочери смотрителя, близняшки. Ладога проснулась, смыла с берега пластиковые бутылки и следы отдыхающих, ей было стыдно, что от старости она перестала быть морем. Ладога злилась, в животе у нее перекатывались белые человеческие кости. Во сне Марины события прошедшего и будущего дня самым естественным образом переплетались с прочитанным на ночь романом. Ее веки были приоткрыты, и сквозь ресницы ярко блестели глаза, теперь они были как лед в переменчивом марте. Она спала и видела, что она такое – дым и вода. Из дыма складывались лица, предметы, пейзажи, и вода отражала их. 72 Совокупность этих отражений последовательность – судьбой. называлась жизнью, а Одни фигуры были хорошо ей знакомы, другие она видела впервые. Тут были люди, похожие на двери, обитые пористой кожей, с кривыми ручками и выпученным глазком; сумеречные звери, которых Марина застала в час пробуждения, шипели из колючих кустов, и шипы их превращались в шипы; тут был Ангел Девятого чина Помаил, он говорил с Мариной, и язык его бился о нёбо, как о внутреннюю поверхность колокола. Она вздохнула, и дым рассеялся, но одно видение осталось плавать в зеркале вод. Марина наклонилась над своей жизнью и увидела Ангелику. Они глядели друг другу в глаза, бесконечно друг в друге отражались. Марина заметила, что далеко не на каждой странице книги, в которую сложились выражения их глаз, была описана женщина. Мужчины, звери и Ангелы возникали в ней с известной периодичностью, но сам период Марина уловить не могла. Наконец, Ангелика сморгнула, и та Марина, что осталась запертой, ударилась о ее веко и упала на дно зрачка – туда, где Ангелика носила образ отца. Марина убрала волосы со лба и увидела Ангела на белой башне. Она испугалась и стояла так тихо, что Ангел принял ее за куст жимолости. От Ангела пахло полем, он чинил крышу. Марина зашла слишком далеко в землю Куш и уже не могла отыскать дорогу обратно в свою спальню на Ладоге. Она распустила бело-розовые цветочки и стала ждать помощи. До утра было далеко, и сестра в пол-глаза наблюдала за тем, что случилось с Ангеликой после смерти матери. D:\681449086.doc Ангелика была в поле, когда потный всадник и взмыленный конь принесли ей весть о кончине маленькой Евы при третьих родах во втором браке. Уронив бронзовый серп, Ангелика заплакала. Ее слезы были похожи на зерна, на следующий год на месте скорби вырос зонтичный дудник, известный на всю округу лечебными свойствами. Когда кончились постные дни траура, Ангелика первый раз вышла замуж. Мужа звали Исав, был он похож на болотную сову, и в утробе его обитало какое-то существо, по ночам напоминавшее о себе рычанием. Исав был гончар, он мог вылепить из глины все, кроме человека. Таков был запрет Основателя гончарного дела, оставившего это право за собой. Чтобы определить качество глины, Исав скатывал из нее шарик и проглатывал, запивая оливковым маслом. Если ночью в его животе была тишина, значит материал подходил для кувшинов и плошек, если же неведомый зверь скулил и бился – из глины выходили отличные свистки. В мастерской гончара пахло как в знойный день – горячей землей и сухими травами. Ангелика любила сидеть в углу и смотреть, как муж вытаскивает из бесформенного комка праха спрятавшуюся там птицу или амфору. Исав не был похож на Гевила, но у них был общий жест, каким мужчины во время работы убирают волосы со лба. За это она и любила его, умывала теплым молоком от белой овцы и вытирала подолом платья. Во времена Исава Ангелика была еще слишком молода, чтобы осознать свое бессмертие и удивлялась, что муж так быстро стареет. А он и так пережил своих младших братье, все не мог расстаться с женой, и даже когда умирал, все цеплялся за нее и шептал слова, от которых сосцы Ангелики становились розовыми, а слюна – сладкой. 73 Вместе с девственностью она, как и все женщины, утратила способность различать некоторые оттенки красного, но забеременеть не смогла. Только в третьем браке Ангелика поняла, что бесплодна. Сестры тогдашнего мужа порывались высечь ее розгами, помнится, речь шла о наследнике табуна, отары и гурта. Ангелика закрыла руками живот и сказала: Чтобы семя взошло, нужны вода, земля и любовь. Во мне чего-то недостает. Того, чего вы мне недодали. Еще один муж, Ангелика тогда уже сбилась со счета, был брюзга. Имя ему было Иов. Тот все время был недоволен и сетовал, что Господь оставил его обсевком на ниве своей. Иов был временщик, от отца он унаследовал дар – тайную молитву, которая разоблачала сокрытые временные токи. Эту молитву его прадед подслушал мальчиком на реке у Ангела и первым додумался ставить паруса над домом чтобы, по необходимости, ускорять или замедлять жизнь. На самом деле временщики не имели власти над временем, они просто влияли на вращение Земли. Иов ходил по деревням с тяжелой мачтой на спине и предлагал свои услуги всем желающим. Ангелика таскала скарб и парус. Однажды, когда жалобы мужа удвоили груз, она повторила фразу, услышанную от матери: Стоит на одно-единственное мгновение показать человеку, что его ожидает в Раю, и любой согласится остаток дней провести в гнилой яме, лишь бы туда попасть. D:\681449086.doc Иов бросил мачту на землю и ударил жену по щеке. Потом он плакал и мозолью, похожей на горб, терся о кору уксусного дерева. Иов надеялся, что в мозоли спрятано крыло, но там были только лимфа и кровь. Однажды свадебный караван Ангелики захватил Репрев – предводитель псоглавцев. Дикари бросили на песок золото, специи и благовония, и принялись терзать погонщиков. Репрев уже прикоснулся к горлу дочери Гевила, но вдруг отпрянул, увидав в волосах охранительный знак. Он видел такой во сне, где было открыто, что однажды ему явится Ангел и снимет со скверного языка печать, которая мешает семени Ромула разговаривать. Ангелика выхватила из-за пояса умирающего караванщика короткий кинжал, и полоснула Репрева по морде. Стая с воем бросилась на нее. Вожак осадил бойцов повелительным жестом. Он засунул руку в окровавленный рот и вытащил оттуда черный сгусток. Женщина сидела на песке, обхватив колени руками, и плакала. Имя, – сипел пес, – назови меня, дай мне имя. Не вполне понимая что делает, Ангелика протерла глаза кулаками, поднялась и обняла псоглавца. Подобно Исавову зверю, кто-то говорил внутри нее. Она просто открыла рот, и выпустила из грудной клетки на волю стайку красивых разноцветных слов, которых не знала: Это не твой час, жди дождевого облака, имя же тебе, когда исполнишь предназначенное, будет Христофор. Без одного сорок раз была Ангелика замужем и ничего не нажила. Зато она узнала, где искать воду, куда уколоть быка чтобы достать до сердца, когда собирать травы для ядов, откуда прилетают метеориты, почему звенят обожженные кувшины, зачем на одеждах священников вытканы крест и звезда, как смолить лодку. Много раз она видела 74 смерть своих близких, но ни разу – рождение, она могла говорить на девяти языках, но чаще молчала. Жизнь текла по ее губам, не попадая в рот, и как она не дорожила временем, так и время пребрегало ею. О чадородии молилась она покровителю благочестивых семейств Архангелу Варахиилу, но молитвы не поднимались к небу, а путались, как травинки в каштановых волосах, и тело ее от этого без благовоний благоухало. Когда воды Потопа подступили к шатру из красных бараньих кож, где жила вдова вероломного сотника Ангелика Прекрасная, из рук ее выпало медное зеркало. Она наклонилась взглянуть в него и увидела, как глаза меняют цвет, волосы заплетаются в неправильные косы, и другая женщина, не мигая, смотрит из незнакомой комнаты. Ангелика быстро перевернула зеркало лицом вниз, схватила отцовскую колыбель и выбежала из шатра. Ее приёмные дети, рабы и воины спали, убаюканные дождем. В загоне тревожно гудели волы, плакали овцы. Ангелика привязала люльку к животу, закрыла глаза и легла в воду. Дождь усилился, река вышла из берегов, Ангелику крутило, переворачивало, несло то в Дикую степь, то в Святые горы. Ей было страшно, темно и холодно. Наконец, она ударилась головой о распухшую тушу носорога и потеряла сознание. Она отсутствовала очень долго, и когда, наконец, подняла голову, обнаружилось, что волны давно схлынули, пришла весна, и молодая трава проросла сквозь истлевшее платье. Ангелика перевернулась на живот и принялась есть траву. В ней осталось так мало жизни, что не хватало на самое короткое слово, чтобы отогнать спрятанную в листьях змею. В змею она плюнула. Дочь Гевила огляделась. Она лежала на склоне холма, лицом к равнине, где стремительно возрождалась жизнь. Ей показалось, что D:\681449086.doc даже отцовская люлька пустила корни. Растения расцветали уже под землей, и едва выглянув на поверхность, зрели и плодоносили, засыпая подошву холма черными семечками. Ангелику бил озноб. Она свернулась калачиком, подобно эмбриону, и смотрела, как дети земляных червей становятся ящерицами, а внуки – хорьками и норками. В ее чреве тоже происходила перемена. Там, где прежде ощущалась лишь холодная пустота, возник напряженный горячий шар. Когда же он лопнул, у Ангелики случились первые крови. До этого она была всего-навсего ребенком, хотя тысяча триста двенадцать лет прошли с тех пор, как Исав впервые познал ее . Ей стало легче, она встала и, пошатываясь, побрела на Север. Кровь шла без одного сорок дней, каждый из которых она посвящала памяти очередного мужа, и они приходили, сменяя один другого, чтобы забрать свое семя. После сорока дней они перестали тревожить ее, но обратно в Шеол не вернулись, а следовали за ней на некотором отдалении. Из простой пятерицы у мертвецов оставалось всего два чувства: осязание и слух, то есть любовь и зависть. В обществе мертвых Ангелика окончательно потеряла счет времени. Поток незримого пламени то ли остановился, и все на свете случалось одновременно; то ли вышел из берегов, и теперь метался по долине, пожирая собственную тень . Не успевала Ангелика поднять с земли яблоко, как то превращалось в молодое дерево. Ей казалось, что к восходу спешат семь солнц. Едва одно успевает оторваться от макушек деревьев, как другое выскакивает ему на смену, шесть огненных шаров толкаются, а седьмой падает в Тартар. 75 Она не могла говорить, слова лопались в ее горле, не касаясь воздуха, и превращались в родинки на шее, веснушки на лице. Она видела, как на горизонте встают и рушатся города, и на теплом пепле начинается все сначала. Однажды Ангелике встретилась закованная в доспехи и блестящая, как вода, армия, что шла на Восток, глотая степную пыль, и сама превращалась в пыль для той, что следовала за нею. Ангелида, подобно кораблю попавшему в шторм, попала в бурю безвременья, которая взошла из семян ветра, посеянных ее отцом в день встречи с маленькой Евой. Каждый день женщина останавливалась, чтобы отрезать волосы, которые завтра опять вырастали до земли и цеплялись за колючий кустарник. Она шла по пустыне шесть тысяч лет, и век был ей за месяц. Наконец, в теле ее не осталось ничего, что можно было отдать, а в памяти – ничего случайного. Она стояла у плотины на лесной речке и смотрела, как течение крутит колесо мельницы. Солнце больше не прыгало по небесам, словно дитя, но чинно, словно патриарх, садилось. Ангелика оглянулась на дом мельника и поняла: это – конец пути. Она постучала в дверь. Ей отворили. Мужья стояли у нее за спиной, их гнилые глаза светились от зависти. Симон-мельник посторонился, пропустив всю кампанию в дом. Они заходили, не кланяясь, не крестясь, не целуя косяк. Мельник прошептал Господнюю молитву, и один из их числа исчез – сверкнул и погас, оставив после себя лишь зловонное желтое облачко. Симон повторил молитву – вспыхнул и рассыпался другой. Мельник усадил гостей на лавки и молился до тех пор, пока не остался с Ангеликой один. D:\681449086.doc Симон прочел отпусты, оглянулся. Женщина сидела на полу, похожее на льва облако – последний прах мужей – висело под потолком, лапой касалось ее плеча. 76 седыми, а лицо неживым. Ангелика умело вымыла ему голову и растерла плечи льняныным маслом. Она наклонилась собрать воду, он прикоснулся губами к застрявшему в ее волосах перышку. Она вздрогнула и взорвалась, как апрельская степь – травами и цветами. Кто ты и откуда, – спросил Симон. Ангелика проглотила горькую слюну и впервые после Потопа заговорила: Ты – ключ в поисках двери, Я – дверь в ожидании ключа. Тайна, которую ты ищешь, а я стерегу – больше нас, Мы служим ей и почитаем своим молчанием. Мельник пожал плечами, пошарил в шкафу и собрал на стол. Молоко, черника в глиняной миске, хлеб. Подражая ему, Ангелика неумело перекрестилась, принялась за еду. Молоко стекало с ее подбородка на грудь. Женщина была голодна, мельник, беззлобно ворча, гремел в печи ухватом. В доме запахло гречневой кашей, клочья горького тумана вползли из углов и крутились над столом. Симон открыл окна и отправился принимать подводы, считать мешки с зерном. Он думал, что глаза женщины, когда та смотрит со сна сквозь пшеничные волосы, похожи на васильки в мокром поле. Сердце его, давно обросшее бородой, каталось в груди, как еж по осеннему саду. Когда мужчина вернулся с работы, Ангелика сидела под окном на лавке и чинила белье. Она подняла глаза, поздоровалась поарамейски. Полей-ка, – сказал Симон, указав пальцем сначала на кувшин, потом на белый от муки затылок. Волосы его от пыли сделались Симон бежал по этой степи, как конь без узды, полз, как змея, летел, задевая маки крылом, как ястреб, и жажда гнала его дальше. Наконец, он выбился из сил, упал и напился потрескавшимися губами из бурного родника. Из синего глаза Ангелики. Он лежал на спине, а на живот его оседала пыль, пыльца, семена и семя. Он не спал, он рассматривал свою женщину. Она же спала очень долго. Лицо было хмурым, уши зажаты ладонями, и в животе – посторонний источник света. В утробе ее происходила тайная работа, и на коже, повторяя движения клеток, совершался настоящий театр теней: птицы, рыбы и облака сталкивались, переплетались, меняли форму, рассеивались и появлялись вновь. Мельник понял: когда тени соприкасались, жене было больно. Губы ангелиды прыгали одна за другой, как сойки, когда внятно и беззвучно она повторяла слова из сна. Симон прикоснулся к этим губам тыльной стороной ладони, и осязание его наполнилось ударами ветра и мурашками волн. Он лежал в темноте с открытыми глазами и думал про урожай. Ангелика долго возилась у него под мышкой и вдруг по-русски попросила воды. Знаешь, – сказала она, когда напилась из ковша – кто-то вошел в мои сны. Симон коснулся ее живота рукой и ответил шепотом: D:\681449086.doc 77 Знаю. Мы согрешили, но Бог простит нам. Из моего семени вырастет плод, что мягче камня и слаще полыни. Если во сне идет дождь, — продолжила воздыхание зачатия Ангелика, – значит, родится дочка, если горит огонь – сын. Богумил тосковал по матери совсем не по-детски. Он даже не плакал, а только шептал невнятное, чем очень пугал отца. Симон продал мельницу и, казалось, жил только тем, что молился и слушал дыхание мальчика. После родов она изменилась. Ее чувства обособились, и теперь она не могла различать цвета на ощупь и вкус по запаху. Она не стала хуже видеть, но зрение ее как бы сдвинулось в невидимую часть. От младенца она научилась рассматривать ветер и ловить уплотнения в нем голыми руками. Однажды утром на стене плотины она увидела отца. На самом деле, он каждое утро оставлял ребенка на глухонемую няньку и уходил в лес, где жевал стебли, по вкусу разрыв-травы искал заповедный клад, который приметил еще по весне, по первой радуге. Клад же нашел по первому снегу и по цвету осиновых листьев, что лежали в дупле, понял – меди в захоронке куда больше, чем серебра. На самом деле это был другой Ангел, который уже давно искал ее. Ангелика вскрикнула. Ангел Девятого чина Мануил оглянулся. Вестник долго смотрел на нее и говорил. Глаза его сверкали между век, словно кузнечные горны, и речь крутилась над притихшей рекой, как мельничные жернова. Ангел выковывал слова и перетирал их в муку, что, смешиваясь с речной водой, запекалась в горячих ушах дочери, будто пресная лепёшка. Мануил поведал, что, следуя за своим животом, женщина пропустила Первое Пришествие и теперь, если не отправится в Город Ангелов, не увидит Бога еще семь тысяч лет. Ангелика вернулась в дом, поцеловала спящего Богумила, приняла поцелуй бодрствующего Симона и выбежала вон. Мануил сотворил изо льда лодку, и они уплыли вниз по реке, к морю. Сам Архангел Гуриил крестил ее в серебряной купели, в Белом Городе. Ангелиды приняли Лику, дочь Гевила, в свою семью и каждый вечер умоляли повторить историю, которая отличалась от других, рассказанных под этими ледяными сводами лишь одним – ребенком. После Ангелики мельник разговаривал только с образами. Богумила выучила говорить ручная галка. Клад Симон разделил на две части. Одна – медная – пошла на колокол, который своим стоном должен был напоминать жене в Раю о его тоске. Из другой он устроил кормушку для Ангелов. Это было зеркало из серебра, привязанное к трем еловым шестам на манер треножника. Он предложил Вестникам мешок цветочной пыльцы, шар из воска, голову сахару и собственный палец. Жертва принята не была, но и за кощунство Симон не был наказан. Явившись в тонком сновидении, Мануил объяснил ему, чем следует одаривать Ангелов. В конце разговора Мануил разжал кулак левой руки – оттуда вылетела красная бабочка. Ангелика возвращала мужу поцелуй. Знаете, – сказал Симон, – чего мне все эти годы не хватало? Ее подсказок. Когда во сне меня загоняли в угол, она подсказывала на ухо, что делать, и, я, не просыпаясь, выбирался. Ангел уже стал ветерком в паутинке, а Симон все продолжал говорить. D:\681449086.doc Богумил рос, как облако над горизонтом. От него продолжился Симонов род, в котором женщины были бесплодны, а мужчины видели в темноте и находили Север без компаса. Сам же Симон тихо угас, запустив с последним вздохом свою бессмертную душу, похожую на голубиное яйцо, высоко в небеса. Через двести лет его гроб сам собою взошел из земли на заброшенном сельском кладбище. Когда домовину открыли, в ней нашли неистлевшее тело мужчины шестидесяти лет. Тело пахло цветущей степью, что первыми заметили дикие пчелы, которые и позвали ко гробу людей. Имя мужчины узнать не удалось, он не был прославлен, его похоронили вторично внутри церковной ограды. Хотели было отслужить молебен святым, имена которых ведает только Бог, но заробели и ограничились литией. В день тридцатилетия Богумила Ангелика наблюдала за ним со сторожевого облака. Сын был ловок и строен, его метких пушек опасался весь неприятельский флот. Ангелика вернулась в слезах и отправилась к Гуриилу. Отчего, Владыка, – спросила она, – сестры мои бесплодны, а я наказана сыном, то есть страхом за его жизнь? Чем я отлична от них? Ничем, – отвечал Архангел, – отличие в твоем муже. Твоя почва нашла доброе семя, и ты понесла. Некоторые считают, что Святые – Десятый чин Ангелов. 78 Триста шестьдесят пять сестер со всех христианских земель последовали за ней, и каждую ночь одна из них умирала. Ангелика состарилась, осталась одна. Она стояла на берегу черной реки, словно замшелый камень, молилась, и пепел шелестел на губах. За спиной глухо ворочался Тартар. Кто-то окликнул ее, Ангелика невольно подняла глаза и сморгнула. Из ее правого глаза выпала красная ягода – плод жимолости, вылетела птичка, выкатилась слеза. Птичка проглотила слезу, схватила клювом ягоду и запорхала над Араксом. Это Марина Симонова возвращалась в свой дом у полосатого маяка. Она летела, зажмурившись, и старалась реже дышать, чтобы с лучом или вздохом не впустить в себя бродячего беса, которых в тех краях – великое множество, и открыла глаза только в спальне. Хозяйка собирала к завтраку. Марина смыла с лица пыльцу и сажу, но тревожные запахи ночного путешествия преследовали ее до первого купания. Пляж был пуст, озеро – огромно. Если бы не силуэт баркаса под утренней звездой, где вода, где небо, где земля, где твердь – не понять. Ночью Ладога выплеснулась в небеса, и рыбаки встали до света, почуяв богатый улов. Так магнит чует иглу в темноте. В горних тоже знали толк в рыбной ловле и запустили над озером похожее на лодку облако. Так он все-таки был причислен? – вскинулась Ангелика. Бог знает, – сказал Гуриил. Ангелика пробыла в городе Ангелов пятьдесят четыре года, а на пятьдесят пятый получила благословение создать первый монастырь в Барьерных горах, что отделяют Землю от Ада. От холодной воды тело Марины стало блестящим и звонким, как пионерский горн. Она заплела косы, устроила из них тяжелый рог на темени, запела по-немецки арию из оперетки. Марина отводила туман от лица ладонью, но еще не различала прозрачных гадов за белой стеной. D:\681449086.doc 14. Небесные Холмы Перемены случаются только в одной сфере – в твоей голове. Это ты закрываешь глаза и мучаешься отсутствием света, а луч источника един, прост, вечно неизменен и прераспростерт. На Небесах с самого первого дня ничего не меняется. Так говорил Руахил, Ангел Девятого чина, стоя на полупрозрачной площадке вечной лестницы, ведущей, как известно, с горы Анк, что на Тавре, прямо в Небеса. Судя по всему, лестницей уже давно не пользовались. На ступенях лежала пыль, под ней – сетка трещин от метеоритов. Стеклянные ступени хрустели подо мной, я то и дело хватался за хитон Ангела. Над нами, как гиря на маятнике, висело на теплом луче перистое облако. Если верить Ангелу, оно было старше звезд, что опускались теперь за горизонт. Под нами расцветала похожая на персидский ковер первородная Азия, но вниз смотреть я боялся. А посмотреть, признаться, было на что: Чайные плантации бурно цвели на холмах, в долинах томились полные небесных соков виноградники и масличные рощи, наполненные жиром земли, чадили затерявшиеся среди конопляных полей химические заводы, сияли мертвенным голубоватым огнем древние города и мечети, и призывные молитвы муэдзинов, как плющ, оплетали минареты. Порывы ветра доносили запахи нефти, пряностей, благовоний и чернильных орешков. Сквозь туши гор просвечивали тяжелые жилы золота. А пастбища, что тянулись вдоль упомянутых в Ветхом Завете рек, не вмещали весенний приплод, и скоромные дымы благодарственных жертвоприношений, закручиваясь, как молекула ДНК, тянулись к вечно голодной Луне. На Востоке, где сражались за первородство Тигр и Прат, все еще полыхала гроза. Было видно, как молнии рассыпаются по речному дну 79 голубыми искрами. Если же небесная стрела попадала в пустыню, из песка получался подземный стеклянный колокол, который своим гудением отпугивал змей. Руахил продолжил подъем, а я остался на площадке. В буре над Шатт-эль-Арабом я заметил еще одного Ангела. Точнее, похожую на глаз голову, в венце из молний и четырёх багровых крыл. Я позвал Руахила и пальцем ткнул в око грозы. Ангел встрепенулся, повелительным жестом велел мне пасть ниц и сам отвесил земной поклон на Восток. Кто это был? – спросил я негромко, когда гроза, превратившись в худжадж – песчаную бурю, – понеслась к нефтяным вышкам и могилам языческих царей. Археос Израиил, Вестник Седьмого чина, Наместник Азии, – отвечал мой Ангел. А разве Джабраил здесь не главный? – продолжал я. Нет, Джабраил, если хочешь, просто палец на руке Археоса. Но у него нет рук, – сказал я, – только голова и крылья. Тело его недоступно твоему глазу – ответствовал Руахил – троп его плоти сама гроза. Честно говоря, мы видим Археосов, по-вашему Начал, совсем не часто, и я не знаю о них ничего такого, о чем мог бы спокойно рассказывать. У них две пары глаз, и видят эти глаза как прямое, так и обратное. Археосы не занимают места в Пространстве, оттого и Время для них – бесчувственный огонь, что проходит сквозь тела их, не смешиваясь с памятью и кровью, обособленно. На Земле их всего семеро, и каждому служат Архангелы, с которыми у Археосов в языке есть общие корни. D:\681449086.doc 80 Мне кажется, – завершил Руахил – что именно Начала повелевают ветрам, пескам, океанам и подземному пламени. А иначе, почему они так названы? Были еще великие монастыри, наполненные багряной благодатью, которые представились мне рамой, что ценнее самого полотна, и картина мира была натянута на эту раму. Ангел снял кирасу и присел на ступень, чтобы перетянуть сандалии. Слухи, белые ремешки в его волосах, трепетали, ожидая новых приказаний. Я уже догадался, что через эти ленты с Девятым чином общаются Старшие. Там, где Благодати было не за что зацепиться, земля трескалась и бурлила. Из трещин выползал свинцовый туман, знакомый мне по Араксу. Серые пятна лежали на шкуре земли, словно покровительственный окрас. Некоторые страны, например, Британия, были туманнее других. Насколько я помню, эта держава не так давно отказалась признавать существование Ада как реальности. Лучше ей от этого не стало. Тут когда-то была вражеская застава – вон в той пещере, – Руахил кивнул на пористое облако, что наплывало с Запада, – но теперь они присмирели, в открытую не нападут, хотя, разумеется, наблюдают. Ангел распоясался, разоблачился и остался в одной тонкой тунике, складки которой текли вниз, распадаясь на каналы, рукава и притоки, как знакомая мне река. Вот мы и дома, – сказал Руахил, – скоро конец Первым Небесам. На границе будет моя деревня, я покажу тебе первобытную тучу и камень, стоя на котором Бог увидел, что это хорошо. Мы двинулись дальше, и теперь, когда между Землей и нами легла подобная дыму преграда, пейзаж под ногами начал стремительно меняться. С лестницы, воспетой Святыми Отцами и Led Zeppellin, Евразия была похожа на политическую карту будущего века, царства земные сбросили маски ландшафтов и окрасились в естественные цвета. Христианский мир предстал мне в оттенках красного – от алой Армении до пурпурной Мальты. На этом бархате яркими рубинами сияли неоскверненные храмы, раки и гробницы. Было хорошо видно, что весь мир держится на молитвах четырех не прославленных до смертного часа Святых, висит на четырех ниточках. Имен я не знаю, но страны могу назвать: Армения, Россия, Сербия, Португалия. Вся Англия держалась на двух-трех монастырях, пяти Ангелах и географической близости к лиловой Ирландии, где туман накрывал только крупные города. Призраки Преисподней клубились и в исламской части, что лежала на Востоке, как виноград на красном столе. Сквозь зеленую кожу плодов просвечивала желтая иудейская косточка, и сверкал в короне Палестины бесценный алмаз Земли – Иерусалим. Границы зеленого были размыты от изумрудного до горохового и не зависели от государственных. Там, где зеленый касался не воды, а красного, – шла коричневая война. Руахил стоял за моим плечом и смотрел из-под руки в океан, где мать-китиха баюкала детеныша. Мир рухнет в Преисподнюю, – печально сказал Ангел, – когда Бог из-за дыма его не увидит. Я оглянулся, обрезался веками о его умный взгляд и задал вопрос, который давно меня тревожил: Как ты думаешь, что в день Суда ожидает животных? Их изгнали из Едема за грех, к которому никто, кроме змея, не имел отношения. Неужели в конце истории Судия опять не помилует бессловесных, но вновь накажет за наши грехи? D:\681449086.doc Ангел не спешил с ответом. Справа от нас ветер вытачивал из облаков силуэт деревни. Из труб шел теплый свечной дымок. Скажи мне, – наконец вымолвил Ангел, – если бы некто написал Священную Историю для животных, волк или вол сумели бы прочесть эту книгу, чтобы знать, откуда пошел их род? Нет, – отвечал я. Не все глаза, чтобы видеть, – сказал Ангел, – так с чего ты взял, что и я в Книге Жизни смогу разобрать хоть строчку. Кто я перед Господом – ветер в его бороде. Лестница кончилась просторной площадкой, от которой, петляя между белыми холмами, разбегались тропинки. Синие ручейки перерезали их, но не могли стать препятствием, оттого что были не шире шага. Ангел пошел к деревне, ступал он легко, а я то и дело проваливался в облачный грунт, который есть вода. Здесь, наверху, воздух был до того чист и прозрачен, что я замутил его своим дыханием. На выдохе из меня вытекали грехи, совершенные во сне, кислые газы и земная пыль, что, падая, прожигала облака насквозь. Желтоватый шлейф тянулся за мной, на лбу проступило соборное масло, и шея согнулась под тяжестью нательного креста. Я все глубже проваливался в придорожные сугробы и пропал бы совсем, когда бы тропинка, внезапно повернув, не побежала бы вверх и не оборвалась на высоком берегу просторного озера. Над озером был ветер, и образовавшаяся во мне пустота быстро наполнилась чистым воздухом. Я словно бы стал большой матрешкой: внутри появился я поменьше, лет двадцати пяти, в нем тоже 81 размещался один из нас – подросток, последним был я – новорожденный, а во рту его плавал трехслойный зародыш. Наши сердца бились, как ледяная маримба, как глиняный ксилофон, а голоса переливались, подобно трубам в органе. Я – взрослый – не пел, я был мехами и открывал рот ветру, который наполнял их легкие. Озеро, где нас ждал Ангел, по форме напоминало боб, и боб этот был из одного стручка с Ладогой. На миг перед нами вспыхнули купола Валаама. Вода была чистой и голубой, на дне мы увидели город и реку, что, путаясь в рукавах, примеряла его на себя, камни, Лавру и Адмиралтейство. По числу Апостолов, – сказал Руахил, обратясь ко мне-школьнику – в мире всего двенадцать городов, которым на небесах соответствует озеро. Я кивнул головой и вздрогнул. Ангел держал меня за плечо. Я стоял, наклонившись, на высоком утесе и смотрел, как ветер вращает флюгер над Петропавловским Собором. Я снова остался один, но то, что творилось во мне, – еще не было завершено. Что же соответствует Иерусалиму? – спросил я. Разве Иерусалим на Земле? – удивился Ангел. Мы шли долго, а деревня все еще была далеко. Наши тени бежали по хвойным лесам и пугали собак в поселках, когда солнце поднималось выше облаков. В моем животе горела свеча, я высунул язык и дышал часто-часто, сам как деревенская собака, глотал вместе с воздухом лоскутки серебристой дождевой ткани, чтобы пламя не перекинулось в голову. Голова – теперь главное мое достояние. Четырехкилограммовый костяной шар, где невидимых не меньше, чем на острие теофилова D:\681449086.doc пера, которым написаны эти строки. От свечного дыма архипелаг мозга рассыпался на отдельные острова, и каждый получил свое название: голод, осязание, мать… В голове был медный осенний вечер, все затихло, жизнь продолжалась лишь в секторах любовь и печаль. 50 000 километров нервов были заполнены их переговорами. Мой правый глаз плакал и дергался, а левый – смеялся, когда мы, наконец, вошли в родную деревню корабельного Ангела. Деревня была пуста и вблизи напоминала майское облако. Небесный народ, должно быть, давно покинул ее. Руахил брел от дома к дому и одними губами, беззвучно называл имена односельчан. Пустые окна белых домов на мгновение вспыхивали электрическим светом и плавно гасли. Что случилось? – спросил я, когда Руахил, обойдя всю деревню по кругу, вернулся. – Где твои родители? Он был печален, частые пестрины побежали по белизне пера. У Ангелов нет пупка, – сказал Руахил – как нет матери, один только Отец, но его не обнять. Жители нашей деревни от Начала Времен служили Хранителями при малом приморском народе и заливе, который его кормил. Присматривали за поголовьем трески. Видимо, этот народ прекратился, – сказал Руахил. А когда ты уехал отсюда? – сказал я. Руахил улыбнулся, – В тот год залив стоял подо льдом до самого Вознесения. Всю весну я долбил лунки, чтобы рыба не задохнулась. Миллион лунок. А потом твой дед решил строить церковь. 82 За околицей Ангел свернул с дороги и пошел вверх по склону холма. Я решил было следовать за ним, но облако оказалось слишком мягким для меня, я проваливался. Руахил вернулся и взял меня на руки. На вершине небесного кургана лежал настоящий камень, из него сочились благовонные масла. Едва взглянув, я догадался: камень тот самый. Я спрятался за Ангела и смотрел из-за плеча, как звезды Высоких Сфер опускают свои отражения, словно пожертвования, в сладкие воды Евфрата, и вода несет их на пороги. Мы молились, и молитвы наши были наполнены благодарностью, также как облако, где мы преклонили колена, было напитано Благодатью. Мы пели псалмы до утра, Луна была барабаном, а звезды – арфами, свирелями и флейтами. В моих несовершенных ушах это звучало как эмбиент. Я забылся, увидел: из крупной соли, которой легионеры засеяли поле на месте разрушенной Иудейской столицы, всходит иссоп-трава, горькая, пахнущая кровью и дымом, и колет мой заплетающийся язык. Вернувшись, я понял, что касаюсь губами слова лукавого в Отче наш. Ангел читал отпусты, до рассвета оставалось не меньше часа, но Восток, ожидая его, уже бодрствовал. В облаках происходила невидимая работа. Темные декорации перевозили в кулисы, и тяжелый ночной занавес распустили на серые нитки тумана, к каждой из которых была привязана река. Я уже знал, что Солнце приходит из-под Земли, и его, прежде чем выпустить на волю, омывают в особом облаке. Столб света, что вспыхнул высоко в небесах, очевидно, имел другой источник. Свет D:\681449086.doc 83 ударился о Землю где-то в полях под Хельсинки и, не рассеиваясь, насквозь пробил ее. волны на поверхности реки перекатывают блестящие стекляшки, сходятся, прыгают друг через друга и скрывают свои пути. Как в ярком луче видны пылинки, так и в этом мощном потоке сверкали, пролетая, Ангелы и другие совершенные Существа. Они кружились, падали по лучу вниз и взлетали. Они были метелью, пургой, бураном. Ангел вытащил из-за пазухи маленький деревянный рожок и тихонько заиграл. Река успокоилась, чуть заметное движение бликов в ее прозрачном теле, казалось, указывало на исток. Я моргнул. И когда око очистилось, все уже пропало. В серых усах гор, как улыбка часового, плавала молодая заря. Жаворонки рассыпали по кромке небес свою песенку, терпкую и крупитчатую, как перец. Что это было? – спросил я у Ангела. Рай, – был мне ответ. Через час после того мы спустились на дорогу и отправились вниз к Евфрату. В утренних облаках образовались широкие прорывы, которые я обходил или перепрыгивал. Руахил ступал прямо по красным лучам. Я поймал два или три в обмелевшем ручье, лучи были горячие и кусались, будто волчата. От укусов на моей руке проступили капельки крови, их расположение напоминало звездную карту. Руахил посмотрел мне в ладонь и сказал: Знаешь, чем люди отличаются от Ангелов? У людей кровь красная от железа, а у Ангелов – белая от серебра. Пожалуйста, будь осторожен. Вскоре мы достигли реки и долго пытались понять, где в ее течении верх, а где низ. С облака Евфрат напоминал полотнище серого шелка, на котором кто-то рассыпал стразы. Четыре ветра привязаны к этому полотнищу по углам, каждый из них бодрствует, и Не успели сделать и сотни шагов в этом направлении, как Руахила кто-то окликнул и продолжал на незнакомом мне языке. Мы оглянулись. По другому берегу брел старик. Когда он приблизился, я понял, что он тоже Ангел, но очень старый. Его хитон выгорел, а крылья выцвели в серое, отчего я не сразу приметил их на фоне грозового фронта. Старый Ангел походил на след, который оставляет в воде лодка. Он был бестелесен, облик его казался случайным сочетанием пятен света, теней и теплого воздуха. Старик остановился против нас на том берегу и заговорил, точнее, начал выплетать из воздуха геометрические фигуры. Они образовывали цепочки, делали над рекой круг, беззвучно лопались и падали в воду. Я понял, что треугольник значит Бог, а круг – истина или Аминь, потому что старик начал с первого и окончил последним. Едва это случилось, по реке спустилось облако, похожее на баржу, и разделило берега. Кто это? – спросил я у Ангела. – Что он сказал? Это Фотиниил, духовник Ангелов, сам он Девятого чина, но многие Архангелы являются из других миров, чтобы беседовать с ним. Он сказал, что по воле Господа у Евфрата нет ни истока, ни устья. Сладкая река – это образ Многомилости и Долготерпения. Наше путешествие может закончиться прямо сейчас. Аминь. D:\681449086.doc 84 Я молчал. Зрение прилипло к прозрачной стенке, а больше у меня ничего не осталось, даже рук, чтобы протереть глаза. Один Ангел на мгновение завис с той стороны, словно снег за стеклом. То был Руахил, он благословлял меня. Вокруг, насколько хватало глаз, лежали похожие на раковины облака. Раковины были обитаемы, и небесные улитки медленно пересекали Большую Равнину с Востока на Запад, а в зеркале Верхних Небес, повторяя их движение, ползли в обратную сторону Галактики. Это началось, когда Свет отделился от Тьмы, и не кончится никогда. Ангел взял меня за руку и повел к реке. Я лег на живот и вдохнул текучий душистый пар, которым она, как оказалось, была наполнена. Пар взорвался, едва коснувшись свечи, что тлела во мне. Я только успел зажмуриться, как пламя, вырвавшись наружу из каждой поры, меня уничтожило. От целого осталось лишь зрение, глаза за тонкой пленкой огня. То был взгляд, летящий сам по себе, и он видел, как небо свивается в тугой свиток, подобие трубы или ствола. Взгляд оставался внутри, а навстречу неслись сияющий газ и хрустальный снаряд. Золотой поршень пронесся мимо, обрезав мои ресницы, а за ним, как вагоны за локомотивом, следовали прозрачные цилиндры, внутри которых не было ничего, кроме Ангелов. Должно быть, это был один бесконечный алмазный столб, а на части его разделил я, мановением ока. Ближние Ангелы были видны целиком, дальних я различал лишь по бликам на крыльях и проблескам в драгоценных глазах. Как воздух состоит из молекул различных газов, так этот нестерпимый свет состоял из Ангелов. Они двигались кругами, каждый существовал отдельно, но свободного места между ними не было. Я вдруг понял, что не успел узнать о своем смертном часе, и куда, в Рай или в Ад, ушли мои деды, и припомнятся ли мне те смертные грехи, что совершены во сне и до св. Крещения, но Руахила уже не было. Вагоны Девятого класса кончились, в луче появились превышающие Ангелов. Я хотел было рассмотреть их получше, но свет, внезапно качнувшись, стал нестерпимо ярок, и глаза мои лопнули. От меня осталась лишь прозрачная соленая капля, что летела вниз вместе с веселым дождем. Земля манила ее невесомой пыльной ладонью, и ветер крутил ее. D:\681449086.doc 15. Многоголосица В отличие от человека волк может жить без имени до четырех лет. У волка нет персонального Ангела, и никто в горних не молится за него, кроме Первой Матери. Но Луна лежит на самом дне небесного колодца, и слова ее до Бога не долетают, но превращаются в ядовитые ягоды на лесных кустах. Человек трижды меньше своего имени, которое принадлежит Святому-покровителю, как отчество принадлежит отцу, а фамилия основателю рода. Сын Волги остался один, и некому было окликнуть его. Но он был больше, чем пустота или молчание. Он видел свою тень на теплом речном песке и решил, что тень и будет ему вместо клички. Безымянный посмотрел на солнце, закрыл глаза и долго рассматривал прорастающие сквозь темноту синие нити, похожие на усы вьюнка. Кто-то карабкался по стволу его зрения, но никак не мог дотянуться до зрачка и соскальзывал. Так повторялось уже много раз, едва волк оказывался на речной косе у молодого бора, где в Волгу впадала Жабня. Безымянный считал матерью реку и не понимал, отчего тело его не пропускает свет. Наверное, я еще слишком молод, – думал волк, – но придет время, и зацеплюсь лапами за устье, а хвост упадет в исток, а камни, что у меня внутри, станут видны снаружи. Он пил из реки и думал, что вода – это главное. Даже на небе, – ворчал Безымянный, – одна вода. Однажды он видел на небе водоворот. Бог провел по тверди рукой, звезды выскочили из гнезд и закружились в воронке, словно сорванные грозой лотосы. Буря прошла, а звезды так и остались свитыми в спираль. 85 Когда вода успокоилась, Безымянный увидел свое отражение. Оно не было похоже на тень, потому что в нем плавали два разноцветных глаза. Один, синий, – в мать, другой, белый, – в дядю. Синим глазом Безымянный видел все как есть, белым – соль, серебро и чистотелых русалок. Волк коснулся воды языком, и отражение разбилось, пугая осколками рыб, которых Волга несла в своем плодородном животе в прохладные омуты, не забывая и о доле своего питомца. Безымянный стыдился, что мать кормит его с руки, как щенка, унижая в волке охотника. Он фыркнул и, наступая на скользкие рыбьи туловища, побрел по мелководью к берегу. Волк вдыхал ветер и читал в нем, как на коре дерева, что на ближней лужайке, где он пометил камень, пасется теплое мясо. Стволы сосен стояли в бору, плотно прижавшись друг к другу, как в срубе. Безымянный прочертил когтями метку на коже того дерева сквозь дупло в котором шла его тропа к водопою. Из царапины капала похожая на мед ароматная смола и, ударившись о землю, превращалась в янтарь. На пол-пути волк почуял неладное. От камня летел властный, как команда, запах крови. Волк хотел остановиться, но продолжал бежать. Существо, похожее на больного Ангела, лежало на поляне, рядом валялась растерзанная овца. Выпавшая из ее брюха кишка была привязана к дереву. На поляне суетились жуки, и мухи слетались на поживу. Безымянный брезгливо хрюкнул и проглотил слюну. Больной встрепенулся от этого звука и поднял голову. На загорелом лбу охотника блестел перламутровый рог – Божья Печать. Это был Каин, он манил Безымянного пальцем. D:\681449086.doc 86 Волк оскалился и зарычал. Человек расхохотался, запустил в него овечьей челюстью. Иди сюда, – сказал Каин на понятном Безымянному наречии. – По смерти отца я – единственный наследник, ты обязан подчиниться мне. На бегу грешник выкрикивал слова на том языке, древнее которого нет. Слова стукались о деревья, пробивали в них дупла и стекали по стволам в землю. Это был текст проклятия, которым Господь запретил вредить третьему из людей. Он протянул волку лиловую печень, когда тот осторожно приблизился. Безымянный сморщился и отказался принять. Они остановились на высоком холме, когда солнце, прокатившись по стае птиц, разорвалось над горизонтом на тонкие полосы: алые, пурпурные, фиолетовые, лимонные. За осиновой рощей, что трепетала на подошве холма, мелькали огоньки деревни. Правильно, – сказал Каин, – я сам ненавижу мясо, но Земля перестала родить от меня. Я сеял на жирном заливном лугу семена злаков, поливал их слюной и боронил зубами, но взошли только чертовы пальцы. Первая борозда на лице Земли – моя, и хлеб до Конца Времен будут печь в форме моей левой коленки, а я теперь ем червей. – Каин плюнул себе в бороду, рыгнул и скривился. Глаза его были темны, от него пахло плесенью, кислой травой и вином. Безымянный попятился, он вспомнил колыбельную для непослушных детей, где был помянут настоящий отец Каина. От змея в этом могучем мужике ничего не было, разве что – третье веко. Не бойся, – сказал сын Евы, – пострашнее меня. в Его зверинце есть твари Руки и грудь охотника были покрыты тонкими белыми шрамами. Волк понял, что Каину не раз приходилось убивать себя. Человек, кряхтя, поднялся с земли, он был большой и голый, в волосы на его лобке были заплетены колоски и клешни раков, под мышками болтались корни прошлогодних трав, в бороде торчали птичьи перья, а в косах на голове чадили живые угли от лесного пожара. Каин жестом приказал волку следовать за ним и побежал сквозь чащу. Ветки не били его по лицу, но, едва размахнувшись, с треском ломались. Он бежал быстро, волк задыхался. Нам туда, – сказал Каин, – земля брезгует моим семенем, значит, его должна принять женщина. Всех моих детей унесло Потопом, Он хочет избавиться от меня. Низко, чиркнув лапами по голове зверолова, над холмом пролетела серая цапля. Безымянный проследил ее полет до самых белых столбов, что поднимались над избами. Внутри теплых домовых дымов спали Ангелы-Хранители. Цапля коснулась дыма крылом, столб качнулся, один из Ангелов открыл глаза. Цапля хрипло вскрикнула и шарахнулась в сторону. В деревне залаяли собаки. Белый глаз Безымянного слезился. Человек внимательно следил за ним. Ты видишь Их, – оживился Каин. – Так я и знал. Скажи, какие Они, красивые, лучше меня? Что Они делают, Они видят нас? Первенец схватил Безымянного за морду и, смрадно дыша, заталкивал свои вопросы волку в нос. Волк мотал головой, вырывался. Каин понял его жест по-своему, как отрицание. Он отпустил волка, расслабился и решил подождать до утра, когда Ангелы молятся, женщины спят, а Луна, уходящая на темную сторону Земли, увеличивает мужскую силу. D:\681449086.doc 87 В детстве Они играли со мной, – бубнил злодей, засыпая, - а потом родился брат, и все меня бросили. А ведь я по праву первородства подобен Им и даже имею власть над Девятым чином. Скажи, почему моя жертва не была принята? исполина и, заключенная в крови безымянная душа билась в волчьих венах, как весенняя река в берегах. Ангелы в деревне затянули утренние гимны. Петух, разбуженный их ясными голосами, принялся кричать. О каком первородстве он твердит? – думал волк, вылизывая чутье, – самая последняя мошка появилась раньше, а Ангелы, как поголубиному пела река, вообще вышли из Бога за день до Понедельника. Они появились не по Слову, а по Дыханию, и как рыба не подобна камню, так и Ангел не подобен Каину. Даже нечистый волк не принял от остатков его еды, почему же Господь был должен принять? Волгид не стал убивать человека, просто полоснул его по стопе, срезал три пальца, чтобы не мог бегать. Еще до того, как Каин с ревом выскочил из сна в явь, волк увидел, что фонтаны крови из раненой ноги не впитываются в землю, но извиваются на ней, словно угри, шипят и не знают, куда податься. Когда утренняя звезда поднялась над осиновой рощей, проклятый спал, широко раскинув ноги. Руками он держался за голову, чтобы не раскололась от жутких снов. Волк стоял над ним и видел, что под страшной растрепанной бородой охотника – нежное белое горло. Губы Безымянного разрезала презрительная улыбка, тетива которой была натянута на лютые волчьи клыки. Каинов рог был наполнен туманным светом, в нем проносились перевернутые сновидения. Волк увидел там румяного мальчика у ног беременной Евы; Ангелов, что представлялись спящему рогатыми чудовищами; Авеля с удочкой на речном камне. Огненное колесо, исполненное очей, каталось в голове несчастного, превращая сны в пепел. Каин хрипел и отплевывался во сне. Адам, – думал Безымянный, – учился умирать 930 лет, каиниды довели мир до Потопа, а сын смерти, убивший обоих моих отцов, до сих пор жив, и никто не смеет вредить ему. Каин заворочался, раскинул руки, забормотал оградительное заклинание. Волк успел отпрыгнуть. Теперь он стоял в ногах Женщина не примет его семени, – решил волк, – сломанная ветка не плодоносит. Ангел Девятого чина Ототил, что значит Доброе Знамение, видел, как волк стремится к реке, тяжело припадая на задние лапы под тяжестью свалившегося на него наказания, как на холме корчится и орет первобытное существо, и охотники из деревни бегут, окружая холм, с копьями наперевес. Раненого отнесли в деревню, Ототил пометил пучком сельдерея дверь, за которой он исчез. Над дымами зависло тяжелое грозовое облако, несущее в своем теле заставу нечистых духов, которые в ветхие времена патрулировали небо, закрывая невинным душам путь в горнии. Ангелы выхватили мечи и повернули их так, чтобы солнце отражалось в клинках. Туча забурлила, разродилась грибным дождем и повернула к Волге. Ангелы запели заклинательные молитвы. В деревне мычала корова и плакал ребенок. D:\681449086.doc Вечером Ототил навестил волка. Безымянный зализывал рану на задней лапе. Копьем ему перебило сухожилие. Ангел явился волку в образе синицы. Спаси, Господи, – просвистел Ангел. Мир тебе, – ответил Безымянный, – мне спасать нечего, душа моя смертна и солона. Смертные души не судят, не отправляют в Ад, для них нет самого греха, – сказал Ангел. – Ты счастливее многих царей земных, потому что обращаешься к Господу как бесплотный дух, славя его дыханием. Почему же, – отвечал Волк, – я знаю молитву, меня научила мать. Как же ты молишься? – спросил Ангел. Я долго повторяю какое-нибудь слово, пока из него не вытечет все земное. Там остается Бог. 88 Молись как раньше, – помедлив сказал Ангел, – у тебя была мудрая мать. Он благословил Безымянного и дал ему имя Чумак, что значит почитающий соль. На руках принес Ототил из земли Нод молодую волчицу, потому что волк, как и всякая тварь, не должен жить один. От семени Чумака пошли нынешние волки, а от Полкана считают свой век шакалы и сторожевые псы. Чумак был последним из этого рода, кто разговаривал с Ангелами. За Каином ходила Милка, беременная молодуха, мужа которой, сказывают, задрал медведь. Мужа нашли в лесу, он был бортник, все сорок локтей его кишок были развешены на елке, как мокрые сети. А в пустом животе лежал сухой пчелиный рой в позеленевших сотах. Каинова нога долго не заживала. Он еще хворал, когда Милка родила за льняной занавеской крикливого голубоглазаго мальчика с килой. Имя ему нарекли Тихон, чтобы с годами успокоился. Ты молишься неправильно, – сказал Ангел. – Молись так: Ототил взъерошился и пропел молитвенное воздыхание. Безымянный слушал его, наклонив голову набок и высунув язык. Закончив, Ангел улетел, не попрощавшись. У речного плеса он принял свой обычный облик и пошел по воде, залитой вечерним светом, чтобы увидеть осетров, которые, как говорят, общаются друг с другом без слов и запахов, при помощи одних движений. Он любовался рыбьим балетом, когда в спину его ткнулся холодный нос. Ангел оглянулся и увидел волка, стоявшего на воздухе над самым омутом. Я забыл слова, – сказал Безымянный, – как следует воздыхать, повтори, пожалуйста. Милка кормила Тихона правой грудью, а левой – Каина. Ночью, когда она ворочалась на полатях, в обильных персях ее слышался плеск молока. Борода Каина стала сладкой, а с губ его молочного брата кормилась дикая пчела, но никогда не жалила. Толковали, это сам Фома-бортник прилетает с того света целовать сынка. Постоялец подарил Милке бусы из темно-зеленых жемчужин – желчных камней от ста сорока женщин. Милка смеялась, катала бусы по груди и по шее, облизывала толстые губы и прятала в плотно сжатых коленях бездонный пунцовый зуд. Когда рана затянулась и Каин, хромая, вышел на улицу, птицы покидали родные гнезда ради Едема, куда милосердные Ангелы пускали их на девяносто дней. Каин долго смотрел, как ритмично месят холодные осенние облака их сильные крылья, и думал, что это движение сродни дыханию. D:\681449086.doc Ночью он изобрел кузнечные меха, а утром устроил первую после Потопа кузницу. Стал делать наконечники для копий и подковы для лошадей, хотя лошадей в деревне еще не было. Этой осенью он придумал много новых предметов: весы, телегу, межевые камни, чтобы знать, где кончается чья-либо земля. Мужики со всей Волги приходили к нему за советом по разной артельной нужде, но кузнец помогал только тем, кто соглашался из уважения к мастеру лишиться пальца. Многие из беспалых перебрались в деревню Каина, огородили ее стеной и нарекли Колясин-городом, в честь колеса, которое, по преданию, Каин увидел в кошмарном сне и, проснувшись, успел нарисовать угольком на печке. Поначалу колесо служило образом Всевышнего в земледельческих обрядах, но потом хромой мастер решил осквернить свое изобретение, пристроив его к волокуше. 89 Шесть раз Милка выкидывала похожие на огрызки плоды семени Хозяина. Они рыбами бились на желтом сосновом полу, задыхались, сворачивались, как улитки. Каин ловил их, пытался согреть во рту или за пазухой, но все напрасно. Он скалился, рычал на жену, грозил раскаленным прутом. Она скулила от страха, терла кулаками глаза. На седьмой раз Каину явился Ототил в образе ветра в занавеске и заговорил с ним на языке домашних шорохов. Человек слушал, и лицо его менялось. Без единого звука Адамов пасынок разделся и ушел из города таким же, как впервые появился – голым и окровавленным, потому что кровь единоутробного брата проявилась на нем. Рог сверкал на солнце столь ярко, что ослепли многие зеваки. Одна женщина будто бы видела, как остывший в пыли прошлогодний след всасывается в двупалую ступню обратно, и старый плевок возвращается в рот из придорожной канавы. Тихон во всем помогал мужу Милки, преуспел в ремеслах, но так и не научился смотреть в глаза отчиму. На морщинистом лице Каина мальчику вечно мерещились чудеса: то жук выползет из-под века, то крысиный хвост мелькнет в бороде, то на лбу надуется кровяная шишка. Виной тому, должно быть, была древняя игра теней и огня, что известна всякому побывавшему в кузнице. Ототил, передавший Каину Второе Проклятие, выдернул из крыла перо и пустил его по ветру, как письмо самому себе. Письмо это будет получено, если проклятый нарушит запрет и вновь приблизится к женщине с запечатанным чревом. У Каина было два голоса. Одним он ухал при каждом ударе молота, как сова, другим – будил по ночам полгорода, как недорезанный хряк, пытаясь выплюнуть многоокое существо из сна. Оно было больше, чем рот, и застревало в горле. Вскоре после этого Милка стала кричать во сне. Она то ли заразилась каиновыми сновидениями, то ли из сострадания сама приняла их. Первое время колесо исчезало вместе со светом, но к зиме, когда ночи сделались длиннее, сны стали больше, чем явь, Милка распухла, покрылась бурыми волосами, сошла с ума в тело и убежала в лес. За этот голос Каина прозвали Шальной, но в глаза называли Хозяин. Милка ходила на улицу простоволосая, муж запрещал ей убирать волосы в косы, справедливо полагая, что коса – та же удавка. Три года убийца-медведица держала в страхе всю округу, пока не сдохла в ловчей яме на отравленном колу. D:\681449086.doc Тихону достались в наследство кузница, дудка из рога и каиново прозвище. Среди Шальновых было много славных плотников, купцов и звероловов. Ангел Ототил стоял на маяке на южном берегу Ладоги и вплетал лунные блики в проблески света – добрый знак для артельных неводников и барж. За ухом у него торчало перо, которое он получил вместе с утренней почтой. Помаил, Ангел сновидений, сидел у него в ногах и рассматривал отдыхающих, что жгли костер на пляже. Марины среди них не было. Она пряталась внутри ангелиды, как игла в яйце, и Помаил держал ее душу за тонкую золотую нить, продернутую в ушко. Ветер чертил на песке колючими стеблями трав нервные дуги. На Пугаревских высотах тяжело вздыхали корабельные пушки. С маяка был виден Исаакиевский собор и Архангельский пост в фонаре на его куполе. Помаил перекрестился. Нить, привязанная к указательному пальцу, натянулась, Марина выскочила из сна и, не дожидаясь завтрака, побежала купаться. На коже ее алели отпечатки листьев жимолости и камней из сна. Солнце поднялось над озером, затмило звезды, Луну и маяк. Ототил передал письмо Хранителю спящих и откланялся. Путь его лежал над водой и заканчивался в Калязине на верхнем ярусе колокольни затопленного монастыря. За неимением монахов, Ототил окармливал рыб, и птицы из дальних сел слетались на его проповедь. Когда тень маяка коснулась воды, Марина вернулась на пляж. На ней было новое платье, темно-синее с бирюзовыми цветами, но не было лица. Ей показалось, что она видела своего индуса на станции. На самом же деле Каин три дня боролся с волкоглавым Афирусаилом на мосту через Смоленку и на четвертый – проиграл. В 90 этом бою убийца Вестников растерял все иглы, и разбил фотоапарат. Он был жалок и грязен, дорогу на материк перекрыл могучий Страж, Каин доковылял до Гавани, сел на пароход, и отправился в Африку, где, по его разумению, должны обитать похожие на черных лебедей черные Ангелы. Помаил был свидетелем этому сражению, но, глядя на Марину, на гречишное зерно, испугался. Отсутсвующее лицо Марины металось над камышовым островом, как белая птица с черными крыльями бровей, и ловило стрекозу красным ртом. Ангел засмеялся на горошину. Он поднес золотую нить к губам, и Марина пришла в себя. Она легла на песок возле теплого валуна и принялась за роман. Странная книга, – думала Марина, – на сто тридцать страниц – ни одной шутки, а тот дядька на станции, должно быть, узбек-перекупщик, с фотографом у него нет ничего общего. Душа моя раскололась от страха, внутри теперь две сестры: Ада и Рая, они спорят, бранятся, стравливают сердце с разумом. Пронзительный медный звук, похожий на гром или набат возник далеко на Востоке и полетел на хвостах потревоженных птиц на Запад. Это в горних кончился век, и спящие до его окончания Власти пробудились и теперь хлопали крыльями, стряхивая с них звездную пыль. Помаил застыл в поклоне, мысли его наполнились благоговейным молчанием. Нить выскользнула из тонких прозрачных пальцев, когда Марина, ослепленная внезапной вспышкой света, нащупала в рюкзаке очки и машинально надела их. В поселке стучали молотками пьяные плотники, вяло ругались на станции торговки рыбой, мелкая волна облизывала камни. Ничего не изменилось, шумел лес, плакал над разоренной норой зверь, гудела электричка, и только Марина видела, все так, да не так, как оно есть. D:\681449086.doc Ее руки оказались ожившим песком, который отличался от мертвого единственно тем, что содержал крупинки синего огня. Зрение ее стало сродни осязанию, она едва не выжгла себе глаза, коснувшись взглядом горячего камня. Осторожно, чтобы не ранить зрачка, она посмотрела из-под руки на других людей и закричала от омерзения и страха. Вокруг каждого из беспечных дачников кормился целый рой отвратительных тварей. Одни, что питаются бранными словами, ползали по губам, другие прилеплялись к животу и своим дыханием разжигали низкие страсти, третьи – прятались в волосах, выпивая из них краску, прокладывали морщины на лице и бередили прыщи, то есть разрушали красоту, чтобы человек не был подобен своему Создателю. Прозрачные гады ползли из невских болот на ладожские пляжи и жалили голых людей в пятки, но весьма избирательно, словно читали на ступнях знаки, отводящие яд. Некоторые люди были настоящим гнездилищем змей, каковые входили и выходили из их тел сквозь уши, рот, глаза и уды. Марина заметила, что ползучие не трогают тех, на ком сохранилось крестильное мирро. На пляже таких, не считая ее, было четверо. Более сложные бесы летали над головами и плевали в глаза. Люди моргали и терли веки кулаками. Марина видела семилетнюю девочку: символы четырех из семи смертных грехов уже полыхали на ней. Солнце не давало Марине смотреть выше, она перебралась в тень маяка и там, внутри, подняла голову и увидела Помаила и двух подобных ему. 91 У одного из Ангелов вместо головы была Книга в тяжелом золотом переплете с семью самоцветными камнями, пальцы другого пылали как десять свечей, третий читал в Книге и кланялся. Был день, но над осиновецким маяком взошли звезды, и каждая из них представилась Марине поющим Ангелом, который очень далеко и потому самой Песни не слышно, но если прищуриться, можно заметить, как по тонким лучам с небес на Землю катятся слова, ударяются о деревья, людей и рыб и наполняют их жизнью. Слова были яркие, но не горячие, глаза не жгли. Из-за маяка показалась солнечная корона. Марине представилось, что Солнце – это сверкающая многоокая Сила о восьми крылах. Но видеть этого она не могла. Женщина стояла на острой грани между тенью и светом, и Археос Иониил, Наместник распростертого над пустотой Севера, заметил, что она теряет равновесие. D:\681449086.doc 16. Корабельное поле По преданию, на месте Корабельного поля раньше стоял лес, из которого триста лет назад был построен российский флот. Лес этот вышел из одной-единственной шишки, застрявшей еще до Потопа у Иафета в бороде. Когда воды пошли на убыль и радуга Ветхого Завета взошла в молодых небесах, Ной велел детям сжечь одежды и состричь все волосы на голове, чтобы у них не осталось ничего принадлежащего старому миру. Рыжая борода Иафета долго плавала по волнам, наконец, зацепилась за корягу и проросла красным смолистым деревом и кипрей-травой. В ногах у травы еще долго жили зеленые мидии, от жажды створки их раковин приоткрылись, обнажая нежную бело-розовую плоть, что, колыхаясь, напоминала женское лоно. Моллюсков поделили между собой чайки и муравьи, перламутровые раковины достались сорокам. Когда царские плотники на ста сорока подводах въехали в Корабельный бор, в красных смоляных обелисках сделалось низкое гудение, словно налетел ветер, но ветра не было. Много лет спустя матрос Кошка, раненый в живот турецким ядром, упадет на сосновую палубу и сквозь грохот сражения услышит тот же утробный гул – молитву деревьев. Весной кипрей запалил на вырубке свои погребальные факела, а легкий вьюнок на античный манер обвил короткие пни. Говорят, что именно тогда над полем появилось серебристое облачко, которое до сих пор не растаяло. Я стою, задрав голову, посреди поля и своим неофитским глазом пытаюсь разглядеть его, но вижу только тяжелый бомбардировщик, 92 что тянет белую нить по синей глади. Все пилоты, должно быть, мастера вышивать. Подневольным людям приходится чаще других сталкиваться с чудесами. Осенью 1941-го года на Корабельное поле въехал германский танк. Он должен был занять брод на Оредежи, земля под стальной тушей выгнулась и стала трескаться. Однако, не успев добраться до холма, танк уткнулся в невидимую стену. Двигатель надрывался, траки вертелись, как бешеные, но машина стояла. Хельмут Фогель, лысый баварец тридцати пяти лет, приказал заглушить мотор и, высунувшись из башни, увидел на броне птицу с головой годовалого младенца. Баварец потянулся за пистолетом, но выстрелить не успел. Птица произнесла по-латыни слово огонь, и танк загорелся. Причем, вспыхнула не солярка, сама сталь. После госпиталя Фогель вернулся домой и до самой смерти не ел птицы и не брал в руки ничего железного, даже вилки или ключа. От танка, как от зимнего костра, осталось мокрое место на подмерзшей земле. Сейчас там куст вереска. А у самой реки, где теперь станица двудомной крапивы, зимой 1880-го года почтальон обнаружил подкидыша. Одеяло, в которое тот был завернут, покрылось платиновым инеем, однако, младенец оказался живым. Ходили слухи, что он лежал на поле четыре дня и все это время кто-то согревал его. Почтальон потому и заметил мальчишку, что над ним поднимался столб теплого сладковатого дыма, замешанного на женском молоке. Принято считать, что ребенка бросила малолетняя дачница с Ореховой улицы, приехавшая за этим из Петербурга, но на самом деле ребенок приплыл по реке в ледяной лодке. D:\681449086.doc Чудесная история, случившаяся со мной, отмечена в полевой летописи Кленом. Она не больше других, просто Клен – это и есть моя история. В белом камне, который я только что перешагнул, спрятан до времени Ромулов волк, и руины Симоновой мельницы по сей день режут воду на прозрачные ленты. Такими лентами мне, полугодовалому, вязали руки, чтобы учился смирению. Я ухожу с Корабельного поля. В своей старой одежде я чувствую себя движущимся деревом: корни мои проваливаются в пустоту, а в голове закручивается ветер и гудит, как в медной трубе, подражает пригородной электричке. И вот я уже в ней, сижу на деревянной лавке, смотрю в окно, за которым, как страницы в альбоме Русский пейзаж, меняют друг друга пронзительнейшие картины. Божия коровка ползет по моей шее, должно быть, чует колонию тли в бороде; старуха в брезентовом плаще перебирает злые корешки в лукошке, электричка своей стремительной тенью подписывает полотно под названием Выходной день в рабочем поселке. Мы только стали привыкать друг к другу, а путешествие уже заканчивается, поезд прибывает на вокзал. Электричка следует в депо, старуха – на рынок, мы с букашкой – к Марине, на Васильевский. Сестры дома не оказалось, и я отправился к реке, смотреть, как Капитан Плахин неторопливо чалится к набережной, как студентыакадемики рисуют отражения сфинксов в зеленой воде. На мосту шипел пескоструй, грохотали грузовики. Радуга над опорами была не видна. Курсанты не в ногу брели по обочине, направлялись, судя по сверткам под мышками, в баню. Сопровождавший их офицер заметно хромал. В Румянцевский сад 93 нагнали детей, они шумели, бегали, бросали в фонтан комья земли. Клены в саду отцвели, и земля в у их ног была усыпана зелеными лепестками. Всё куда-то двигалось, имело цель, один я сидел у реки на тесаном камне, не рос, не служил, не зрел – насвистывал себе под нос и горевал лишь об одном – о губной гармонике, что потерял гдето на Араксе. Когда ветер выстроил из облаков еще один город над закатными крышами, я встал и пошел, толкая перед собой длинную тень, в уличное кафе под липой, где крашеная басмой буфетчица сварила мне маленький по-восточному. Воздух в кафе был как слоеный пирог, его струи пахли поразному, но не смешивались, одна в другой не растворялись. Теплый запах речной воды, похожий на дыхание спящей женщины, перечеркивался грубым мазком жженого табака, который так же внезапно обрывался, уступая место модным духам с ароматом ванили. От этой внезапной перемены моя душа, угнездившаяся было на ночлег, затрепетала и взъерошилась. Ее движения были причиной сладкой боли в сердце, я закрыл глаза, сморщился и сжал кулаки. В один малый миг я увидел вдруг все свое путешествие, и от Небесных Вершин до Адовой Бездны, от устья Шатт-эль-Араба, где сердолик и красная земля, до клюквенных болот, стерегущих исток Оредежи, мир был тверд, крепок и целен, и Бог пребывал в нем, заполняя собой даже те места, где ему не были рады. Домашний дух кофе щелкнул меня по носу, я закашлялся и открыл глаза. Девушка за соседним столиком рассматривала в перламутровом зеркальце свой правый глаз. Буфетчица, держа сигарету на отлете, полировала стойку. За спиной звякали ложечки, гудела машина, доносились обрывки разговора: диаспора… перемирие… родина… D:\681449086.doc Я расплатился и вернулся к реке. В ожидании развода мостов у берегов собирались зеваки, в фарватере – баржи. Морские чайки срывали чипсы прямо с губ отдыхающих. Стая рукоплескала смельчакам, громовым кау приветствуя результативный выпад и басистым ха-га-га дразня неудачников. Марина сидела на том самом камне, что я нагрел для нее два часа назад. Она курила, пепел лежал на ее загорелых коленках, и дым вращался над головой, образуя затейливую, как галактика, фигуру. Мне показалось, что глаза Марины стали похожи на воду, которой она теперь касалась взглядом, то есть – иссиня-белые, и бледные стрелолисты колышатся на дне. Это были глаза женщины, что долетела до Луны, вернулась обратно и ничего не хочет рассказывать. Плавучий кабак показался из-под Дворцового моста, по воде побежала волна, по воздуху – музыка. Марина подняла голову скорее на звук, чем на мигание корабельных знаков. Я вдруг решил, что она ослепла, испугался и не стал подходить к ней, но спрятался за фиванским сфинксом и наблюдал. У гранитных ступеней плеснула неразумная плотва, что мечет свой бисер в худосочных городских протоках. В фонаре на куполе Исаакиевского собора загорелся свет, и ветер, переменившись, наполнил улицы ароматами турецких пряностей и греческих благовоний. Сестра, – сказал я, – камень уже холодный, вставай, пойдем домой. Марина оглянулась и щелкнула пальцами. Она всегда делает так, когда просыпается внутри сна. Глаза ее сделались голубыми, как джинсы, разве что немного потерлись вокруг зрачков, но это только прибавляло им цены. Господи, как же я люблю тебя, – сказала Марина. 94 Я не понял, к кому она обращается, что имеет в виду. Мы сидели на кухне, где маленькие вазочки, сухие цветы и коллекция наклеек на холодильнике. Сестра заварила в крохотных чайниках три разных зеленых чая, я пробовал один за другим и учился понимать разницу. Марина говорила, вздыхала, молчала; казалось, она выбирает звук в зависимости от того, какой сорт был в моей чашке. Я в больнице такие сны видела, – сказала Марина, – кошмары, конечно, но сочные, яркие, не хотелось просыпаться. А что у Соломона про сны? – спросил я, чтобы нарушить молчание. Как что? – ответила Марина. – Томление духа. У него на все – един ответ. Нет, это точно сказано, – через паузу произнес я. – Вообрази себе: Ангел держит душу, как голубку, за пазухой, а бес водит спящему по животу смычком. Тело гудит как альт или контрабас, душа трепещет, а дух томится. Прекрати, – махнула рукой Марина, – с этими нельзя шутить. В глазах ее теперь кипело каиново олово. Я замолчал и поспешно схватился за вздыхательный чайник. На нем пастух, спасаясь от волков, нес на руках белого ягненка. У тебя что-то в бороде застряло, – сказала Марина. Пустое, это Божия коровка, она там живет, – ответил я. Я была в Синоде, – сказала Марина, – там нашли Симонова-деда архив. Оказывается, до бунта нам принадлежало целое поле, я видела все бумаги. Там даже есть план усадьбы, которую он собрался строить. Кстати, ты знаешь, он был подкидыш. Его Платон Петрович усыновил. D:\681449086.doc Это – неправда, – сказал я и почувствовал, что ледяная игла в моем животе еще не растаяла. Неужели во мне нет белой Богумиловой крови, кто стоял на горе Анк за моей спиной, или это бесы меня морочили? Правда-неправда, – сказала Марина, – тут тебе не Польша, землицей нашей владеет какой-нибудь совхоз, и назад ее не получишь. Слушай, а давай выкупим поле, построим усадьбу по чертежам… Марина, – прервал я, – пойдем прогуляемся. Полезли на крышу, – сказала сестра, – у меня есть ключи от чердака. Был тот короткий темный час, что отделяет майский вечер от июньского утра. Город съел все звезды, до которых сумел дотянуться дымами заводов и прожекторами порта. Но лежа на спине на теплом железе, я вижу бледные созвездия Севера. Марина стоит у самого края, руки в карманах, ветер в лицо, и напевает песенку. Багровый глаз самолета подмигивает ей со своих высот, передразнивая светофоры. В доме напротив горит окно, там плачет ребенок. Если мы – это не мы, – думаю я, – значит есть другие потомки Святых, наследники Ангелов. А мы кто? Пасынки Каина, говорящая глина… Я закрываю глаза и впускаю в себя последнее видение уходящей ночи: Господь Саваоф, пребывающий вне Времени и Пространства, согревает своими крыльями Землю, погрузившуюся в темноту после 95 Первого Дня. Темнота эта плодотворна и подобна материнскому чреву, тени завтрашних Творений уже пребывают в ней. Господь спит, и в Его сновидении переплетаются две истории: Священная и Мировая. Одежды Его, гладкие как бумага, что ты держишь в руках, наполнены ветром, слезы стекают с ланит и капают в бездну. Ничего нет, ничто еще не началось, и ничего не кончилось. Есть только Бог, теплый ветер и от слез – круги на воде. D:\681449086.doc Ангеларий Археосы Израиил, Наместник Азии Иониил, Наместник Севера Архангелы Варахиил, Покровитель благочестивых семейств Гавриил, Благовеститель Гуриил, Архипастырь Исаакил, Архипастырь Михаил, Архистратиг Рафаил, Целитель Уриил, Архангел Раскаяния Ангелы Ариил, Вестник Судного Дня Мельхиориил, Вестник Рождества Стратиил, Вестник Зари утренней Емораил, Покровитель без покаяния умерших Иеремиил, Покровитель Пророков Ладомил, Покровитель иконописцев Мануил, Покровитель часовщиков Мафусаил, Покровитель кающихся Рахваил, Покровитель виноделов Смоил, Покровитель странствующих Агадгандил, Хранитель исчезнувшего народа Агиазил, Хранитель Средиземного моря Девясил, Хранитель домашних животных Дедалил, Хранитель гениев 96 Игнуил, Хранитель очага Кириил, Хранитель славянских Азбук Ототил, Хранитель Калязинского монастыря Помаил, Хранитель спящих Руахил, Хранитель Корабельного поля Афирусаил, Страж переправ Вергиил, Страж Барьерных гор Иегудил, Экзекутор Фотиниил, Духовник Ангелов Электрил, Истребитель беззаконных Теофил, младший Ангел Англиканской Церкви Азраил, Исламский Ангел Смерти Джабраил, Страж Аравийской пустыни Исрафила, Исламский Ангел Страшного Суда Гевил, Запрещенный Ангел Дариил, Запрещенный Ангел Самариил, Запрещенный Ангел D:\681449086.doc ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Подорожник……………………………………………………… ………………………...….5 2. Имя Клена……………………………………………………………………… ……..…….….9 3. Физик и Зверолов…………………….…….……………………………………..… …….14 4. Небо над Мариной…………………………………………………………………..… .…21 5. Волк Ноя………………………………………………………………..………… …………..28 6. Два Горизонта…………………………………………………………..……… ……….….34 7. Вино и Молоко……………………………………………………………………… ……….41 8. Короткие Встречи……………………………………….…………………………… … ..48 97 9. Путь Волги…………………………………………………………………...…… …… …..58 10. Аракс…………………………………………..…………………………… ………….……….65 11. Город Ангелов………………………………..……..……………………………… .…….76 12. Тени Едема…………………………………….………………………………… ……..…..87 13. Сын и две Дочери…………………..……………………………………….……….… …95 14. Небесные Холмы………….………………………………………….……..……….… .105 15. Многоголосица…………………………………………………………… …..……….…113 16. Корабельное Поле……………………………………………..…………...………….122 Ангеларий…………………………………………………………………………… ………128 Оглавление………………………………………………………………… …………….…129 Анаграф……………….…………………………………………………..………… ………130 D:\681449086.doc Если же ты возразишь, что мы упомянули не обо всех по порядку встречающихся в Речениях ангельских силах, действиях или образах, ответим, что воистину мы не достигли надмирного знания о них и, скорее, сами нуждаемся в ином просветителе и наставнике, а сказанному равносильно то, что мы вниманием обошли, позаботившись о соразмерности сочинения и превышающую нас тайну молчанием почтив. Дионисий Ареопагит 98