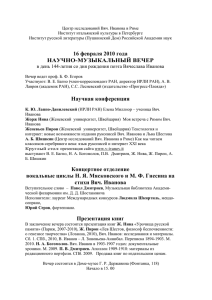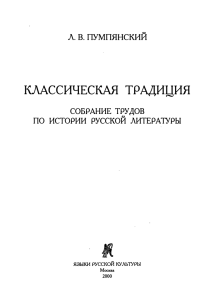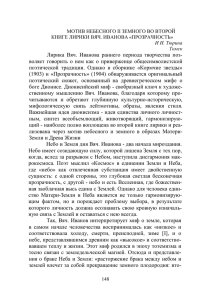Монография
advertisement

Э.М.СВЕНЦИЦКАЯ КОНЦЕПЦИИ СЛОВА И МЛАДШИЕ СИМВОЛИСТЫ Монография Донецк – 2005 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА .......................... 4 ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА СЛОВА В ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧ.ИВАНОВА .............. 39 Раздел 1.Концепция действенного слова ........................................................... 40 Раздел 2. Вяч.Иванов о символической природе слова .................................... 52 ГЛАВА II. СЛОВО – СИМВОЛ В ТВОРЧЕСТВЕ А.БЕЛОГО ....................... 77 Раздел 1.Магия слова ........................................................................................... 79 Раздел 2.Символическое слово: сущность и структура .................................... 90 Раздел 3. Слово – Логос – Лик ............................................................................ 101 Раздел 4. Слово – время – миф ............................................................................ 110 ГЛАВА III.СИМВОЛИЧЕСКОЕ СЛОВО В ТВОРЧЕСТВЕ А.БЛОКА ........ 121 Раздел 1.А. Блок о магии слова ........................................................................... 123 Раздел 2. Символическое слово во взаимоотношениях с мифом и историей .............................................................................................. 137 ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА.......................... 153 Раздел 1. Проблема локализации ........................................................................ 154 Раздел 2. Проблема творящего субъекта ............................................................ 157 Раздел 3. Проблема сущности слова ................................................................... 173 3.1. Слово как знак ............................................................................................... 174 3.2.Слово как онтологическая значимость ......................................................... 190 3.3. Концепция слова М.М. Бахтина ................................................................... 209 Раздел 4. Смысл и его значение для определения специфики слова .............. 216 ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................... 230 ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................... 255 3 ВВЕДЕНИЕ Основные тенденции современного изучения литературы русского символизма Каждая переходная эпоха, независимо от того, совпадает ли она с рубежом веков, по-своему актуализирует слово, заново осознавая его возможности. Присущая переходным эпохам «рефлексия над основаниями культуры» (68, с.97) естественно направлялась на слово как на начало, призванное сцементировать распадающееся единство1. В данной ситуации, по-видимому, проявляется типологическая общность рубежа ХIХ-ХХ веков и эпохи, переживаемой нами. Современное литературоведение отмечено не только напряженными самоанализом, но и не менее напряженными попытками понять, что же такое художественное слово как определенная эстетическая заданность и как конкретная культурная данность. Естественно, что в осмыслении данного феномена нет однозначности, здесь наметился целый ряд полярностей. Во-первых, это трактовка слова как знака, представленная наиболее последовательно в работах Ю.М.Лотмана («…слово представляет собой постоянный для данного языка знак с твердо зафиксированной формой обозначающего и определенным семантическим наполнением» (99, с.229) и в западно-европейском литературоведении – у Р.Барта и Ж.Женнета. Культуротворческая значимость слова в литературе серебряного века в целом исследовалась нами в статьях: «Поэт и время в «Поэме без героя» А. Ахматовой» (Питання літературознавства. Науковий збірник. – Львів, 1993. – вип. І), «Судьба слова в поэзии А. Ахматовой» (Я зык и культура. – Киев, 2000. – Т. ІІІ, вып. І), «Поэтический мир цикла «Семисвечник» А. Ахматовой» (Литературоведческий сборник. – Донецк, 2001. – вып. 11), «Фонтанный дом в „Поэме без героя”» (Вестник Донецкого университета . Серия Б. Гуманитарные науки. –Донецк,2002.- вып. 2). 1 4 Во-вторых, это восходящее к А. А. Потебне и русской религиозной философии, с одной стороны, и М.Хайдеггеру, с другой стороны, осмысление слова как онтологической значимости. Оно предполагает две возможности: рассмотрение слова как отдельной эстетической реальности и как проявления бытия в его цельности. Эти тенденции также представлены в литературоведении: первая – в работах Г.О.Винокура и его последователей в современном украинском литературоведении – Б.П.Иванюка, А.О.Ткаченко и др., вторая – в работах А.Ф.Лосева и идущей в его фарватере, хотя и несколько «спрямляющей» его идеи так называемой «религиозной филологии» (В.С.Непомнящий, Т.А.Касаткина и др.). В-третьих, чрезвычайно плодотворной является бахтинская концепция слова как «выразительного и говорящего бытия» (М.М.Бахтин), как высказывания, участвующего в диалоге. К более подробному разбору этих полярностей мы еще вернемся в соответствующей главе, здесь же следует отметить, что многие из вышеперечисленных исследователей так или иначе обращаются к художественному опыту русских символистов. Так, М.М.Бахтин анализирует творчество Вяч. Иванова, у Ю.М.Лотмана есть статья об А.Белом. Отсюда и вытекает теоретическая актуальность нашего исследования: опыт русских символистов, особенно младшего поколения, в осмыслении специфики художественного слова представляет собой исток, из которого данные полярности развились и, следовательно, могут быть лучше поняты в их взаимосвязях и переходах. С другой стороны, и сам этот опыт может быть точнее осмыслен в свете современных дискуссий о специфике художественного слова. В современном литературоведении наследие русского символизма изучено достаточно глубоко, в творческих взаимосвязях с предшественниками и последователями, в напряженных поисках новой 5 поэтики и новых способов жизнестроения, во всей сложности внутренних притяжений и отталкиваний1. Одна из важнейших тенденций в историко-литературном изучении наследия русского символизма определяется необходимостью ввести его в контекст развития русской художественной культуры и философии. Поэтому предметом анализа становятся культурософские построения русских символистов. Монография И. Ю. Искржицкой «Культурологический аспект литературы русского символизма» посвящена анализу тех концепций культуры, которые выработало данное литературное направление. Такой выбор предмета исследования вполне органичен культурной эпохе, которая, как пишет автор монографии, отмечена «сдвигом к полюсу культуры» (68, с.20), «рефлексией над основаниями культуры» (68, с.97). Культура как таковая становится одним из центральных элементов мировидения, и это дает возможность органично совместить рассмотрение, во-первых, серебряного века как культурной целостности (название второй главы – «О менталитете и самосознании русской культуры Серебряного века»), во-вторых, русской религиозной философии как идеологической, концептуальной целостности, обусловившей культурософские интенции русского символизма, и, в-третьих, самого русского символизма как типа мировидения, реализующегося в определенном типе творчества. Для монографии характерен герменевтический подход к явлениям культуры: «Методология исследования феномена русского символизма непосредственно связана с одним из основных направлений западноевропейской культурологии – герменевтикой» (68, с.20). Безусловно, речь Следует отметить наиболее значимые монографии и сборники статей: Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. – М., 1989; Колобаева Е.В. Концепция личности в русской литературе рубежа ХIХ-ХХ вв. – М., 1990; На рубеже ХIХ-ХХ веков: из истории международных связей русской литературы. – Л., 1991; Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Проблема жизнетворчества. – Воронеж, 1991; Неженец Н.И. Русские символисты. – М., 1992; Связь времен: Проблемы преемственности в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ вв. – М., 1992 и др. 1 6 идет прежде всего о герменевтике Г. Гадамера, для которой актуальна категория традиции, понимаемая как «действенно историческое сознание» (44, с.13), которое предполагает не столько наследование прошлого как предания, сколько квазисинхронность, ведь в традиции передается «познаваемый в коммуникативном опыте мир, он передается нам как постоянно открытая бесконечности задача» (44, с.14), то есть в соприсутствии с настоящим. Герменевтический подход диктует такое рассмотрение основных мировоззренческих категорий русского символизма, при котором, с одной стороны, актуализируются их источники, а с другой стороны, прослеживаются перспективы их развития, то есть происходит собирание данного явления, диахрония как бы переходит в синхронию. Так, говоря о значимости Божественной Софии в мышлении русских символистов, И. Ю. Искржицкая обращается прежде всего к особенностям «древнегреческого созерцания, видевшего Премудрость Божью в обличии реального существа – Софии» (68, с.77). И далее исследовательница отмечает: «Средневековье знало затем свою умозрительную любовь к Софии – философию» (68, с.77). После анализа категории софийности в философии Вл. Соловьева И. Ю. Искржицкая переходит к трактовке данной категории у современного исследователя Г. Гачева, при этом демонстрируя преемственность этой трактовки по отношению к мировидению серебряного века: «…размышления Г. Гачева о Софии как ипостаси русского космо-психо-логоса в «превозможении меры человека» несут в себе два существенных для культуры Серебряного века момента – указание на «бесполый, среднего рода», т.е. андрогинный образ русского соборного целого, и - сопоставление с ницшеанским, мужским образом сверхчеловека» (68, с.78). Одним из лейтмотивов символического мышления, как явствует из монографии И. Ю. Искрижицкой, безусловно, является слово. 7 Символистская трактовка природы слова здесь воссоздана на фоне фундаментального анализа святоотеческой концепции имеславия: «Символическая философия слова-символа, разработанная прежде всего Вяч. Ивановым и А.Белым, соответствует не только идеалам Вл. Соловьева, Вл. Эрна, П.Флоренского, лингвистическим разработкам А. Потебни, но и имеславческому движению… В этом смысле имеславие можно считать одной из значительных «предпосылок» русского символизма» (68, с.137). И. Ю. Искржицкая не только говорит об имеславческих идеях в русской религиозной философии, но и, исходя из них, обосновывает утверждаемую русскими символистами онтологическую природу поэтического слова: «…слово в культурософии русского символизма пронизано интуицией Логоса, символа, иконы и человека как воплощенной сути божественного "мысле-образа"» (68, с.140). Отсюда органично вытекает тот анализ символистского осмысления магической природы слова, который дается в третьей главе монографии. Для подхода исследовательницы принципиально важно, что оно показано в сопоставлении с трактовкой сопредельных категорий: мифа, Логоса, символа, музыки и т.д. Чрезвычайно интересными представляются также «вкрапленные» в монографию размышления о поэтике отдельных авторов (например, А. Блока, А. Анненского, Вяч. Иванова, М. Волошина). Эти экскурсы органично соотнесены философов, с историков, высказываниями богословов, русских которые религиозных создают широкую культурологическую перспективу, обусловливающую становление данного поэтического слова и одновременно трансформируемую этим становлением. Если И. Ю. Искржицкая в основном основывает свои умозаключения на философских текстах символистов, то Л.А.Колобаева в своей 8 монографии «Русский символизм» сосредоточивает внимание на их поэтических произведениях. В освещении Л.А.Колобаевой русского символизма отправной точкой является творческая индивидуальность, и в книге дается содержательная характеристика целого ряда поэтических систем: К.Бальмонта, Ф.Сологуба, А.Белого, А. Блока, Д.Мережковского и др. Безусловной заслугой автора монографии является введение в контекст русского символизма и таких второстепенных Л. Семенов. Данное направление поэтов, как И. Коневской, представлено в монографии как ряд индивидуальных поэтик, отдельных творческих миров. В то же время в работе проявляется тенденция генерализации. Выделяя «дионисийский тип» лирики и рассматривая его на примере поэзии К.Бальмонта и И.Коневского, выделяя «поэзию онтологического трагизма» на основе анализа творчества Ф.Сологуба, исследовательница подчеркивает, что данные тенденции проявляются не только в творчестве разбираемых авторов, но являются, по сути, общесимволистскими и определяются логикой мировосприятия, свойственной данному направлению. Основой для выделения такого рода генерализирующих тенденций служит не только мировоззренческий аспект, но и мотивный ряд, а также общая для ряда поэтов структура центрированность на образа. отдельных Так исследовательница, творческих сохраняя индивидуальностях, одновременно устанавливает целый ряд взаимосвязей между ними: Ф.Сологуб – А. Блок, А. Блок – А. Белый, Ф. Сологуб – И. Анненский и т.д., причем устанавливаются они как бы поверх хронологии, на основе общности мотивов. Однако для прояснения специфики символистской художественности оказывается недостаточно определения такого рода генерализирующих тенденций. Проблема даже не в том, что «онтологический трагизм» как тип мировидения, равно как и комплекс настроений, свойственных 9 «дионисийской лирике», «поэзии онтологического трагизма», присущ не только символистам. Парадоксальным образом именно стремление к обобщению ведет к тому, что особенности символистской поэтики показываются недостаточно рельефно, сливаются с сопредельными нового литературного категориями. Так, особенностью направления, безусловно, символизма как является новое понимание символа, характеристике которого посвящена отдельная глава. В этой главе действительно делается попытка дать некое суммарное определение символа, для чего привлекаются высказывания Д.С.Мережковского, Вяч. Иванова, А.Белого и др. Однако в силу того, что понимание символа у символистов действительно менялось на протяжении времени (а различия между поколениями символистов лишь обозначены в монографии), это определение в результате оказывается настолько общим, что явно выходит за пределы характеризуемого предмета. Из-за такой расплывчатости в определении базового понятия в дальнейшем при анализе конкретных текстов исследуется, по сути, не их система символов, и даже не их образная структура, а, скорее всего, их мотивная организация. Особенно четко это видно при характеристике творчества К.Д.Бальмонта: «…у автора мы видим стремление беспредельно расширить значение символа до планетарной, космической всеохватности смыслов. В стихотворении «Океан» образ «безбрежного океана» – это образ Вселенной, мироздания в целом, его безнадежно неразрешимой загадки» (сб. «В безбрежности»). Таков же общий смысл символа «Горящих зданий» – «здание» здесь именно мироздание. Поэт вступает в некий фамильярный контакт с космосом» (80, с.62). Как видим, обращаясь к конкретным текстам, исследовательница отождествляет символ с образом, а образ – с мотивом, в результате чего не всегда ясно, 10 что же, кроме специфической содержательности, делает данный текст символистским. Та же самая проблема – при характеристике отдельных творческих индивидуальностей. Базовые их особенности даются как бы в общем литературном пространстве, их соотношение с символистским мировидением прочерчено, на наш взгляд, крайне слабо. Особенно показательна в этом плане характеристика творчества А. Блока: «Со «Стихов о Прекрасной Даме» (1905) и до конца творческого пути лирический субъект в поэзии Блока поставлен в какое-то непосредственное отношение ко всему миру, к миру в целом, в его бесконечности, – отношение, обещающее вместить всеобъемлющее, универсальное содержание. И сразу же намечается оригинальное свойство блоковского «способа восприятия» мира, его поразительная интимность, интимность «мирового» чувства в поэзии. Остро личностное, сугубо индивидуальное чувство – влюбленность – становится в его творчестве одной из главных поэтических форм переживания бытия и «вочеловечения» мира» (80,с.155). В творчестве А. Блока прослеживаются и романтические, и реалистические тенденции - так же как и в творчестве А.Белого, Вяч. Иванов определяется как символист-классицист - так же как и И.Анненский. У К.Бальмонта исследовательница находит «импрессионистическую поэтику» (80, с76) и одновременно рассматривает его как поэта-романтика («Основа поэтики Бальмонта, несомненно, … лежит в романтическом ключе» (80, с.63), «Поэзия Бальмонта замешана на романтических дорожках» (80, с.61)). Ясно, что символизм в русской литературе существовал не изолированно, и в монографии эта особенность, безусловно, отражена. Но, с другой стороны, при отсутствии четкого определения символа в его динамике, а также четкой характеристики мировоззренческих доминант данное направление предстает как нечто аморфное, взаимодействие 11 индивидуальных творческих миров с сопредельными направлениями в этой ситуации не объединяет поэтов, а разъединяет. Одновременно с осмыслением символизма как идеологической цельности в изучении данного направления отмечается тенденция сосредоточения на проблеме слова: «Главное в поэтике модернизма – его отношение к слову…» (46, с.9), художественности ассоциируется и естественно, что новый тип прежде всего с изменениями в понимании слова. Это новое понимание воплощается, во-первых, в сдвигах в поэтическом языке, воспринимаемом как один из модусов общеупотребительного языка. Во-вторых, оно воплощается в изменениях структуры образа, и потому в слове на первый план выходит его образная сторона. Эти две возможности определяются в статье М. Л. Гаспарова «Поэтика серебряного века», предваряющей антологию «Русская поэзия серебряного века. 1890-1917». Категория символического слова осмысляется в работе в двух аспектах – образном и риторическом. С одной стороны, символ – это традиционный образ, создаваемый на определенных этапах развития поэтического языка: «Но символизм в целом вырабатывает собственные слова – сигналы, достаточные для осознания принадлежности стихотворения к новому направлению: достаточно насытить текст такими словами, как «вечность», «бездна», «тайна»…, и стихотворение будет восприниматься как символическое» (46, с.19). Эти традиционные образы, естественно, наполняются индивидуальным содержанием: ««Солнце» у Бальмонта (сборник «Будем как солнце») – символ жизненного, стихийного, неистового, праздничного; «солнце» у Сологуба («змий, царящий над вселенною») – символ иссушающего, дурманящего, мертвящего» (46, с.19). С другой стороны, символ трактуется как своеобразный троп – антиэмфаза, то есть «расширение значения, размывание его, когда Блок … 12 пишет без всякой тематической подготовки «Лишь телеграфные звенели / На черном небе провода», то можно лишь сказать, что эти провода означают приблизительно тоску, бесконечность, загадочность, враждебность, страшный мир и пр., но все лишь приблизительно» (46, с.16). Собственно, это и есть «многозначное иносказание» (традиционное понимание символа в риторике), но нетрадиционным оказывается приблизительность, неопределенность этой множественности. И именно в этом плане – в плане неопределенности – проявляется универсальность символа; символически может восприниматься и любое слово, и любой предмет, независимо от того, идет ли речь, как у старших символистов, о поэтическом приеме, или как у младших, о «земном знаке несказуемых небесных истин» (46, с.17). Это многозначное неопределенное иносказание осмысляется как способ трансформации, иерархизирования – вообще использования – языкового слова: «Слова, используемые для символов – для неопределенного размывания их значений, – поначалу предпочитались высокие, редкие, красивые… Однако довольно скоро «красивые слова» уже уходят в область банальности…» (46, с.20). В этой логике слово – средство создания символического эффекта, здесь на первый план выступают стилистические приемы, используемые и в прагматической речи (повторы, «возведение в квадрат», синонимия, антонимия, оксюморон – большая часть этих особенностей словоупотребления более подробно рассматривается в монографии Н.А.Кожевниковой). Но одновременно слово и само есть символ, то есть некое отдельное бытие. В работе М. Л. Гаспарова прямо об этом не говорится, однако к такому выводу вплотную подводит утверждение о том, что слово освобождается от своего словарного значения (46, с.26), и вследствие этого «на первый план выступает фонетический, звуковой образ слова, в свою очередь напрашивающийся на семантизацию – может быть, совсем иную» 13 (46, с.27). Отсюда вытекает проблематизация связи слова с жизненной реальностью, и в этой ситуации слово не может не восприниматься как отдельное бытие. Правда, в определении статуса этого бытия М. Л. Гаспаров, на наш взгляд, не вполне точно расставляет акценты. Он подчеркивает, что при реализации звуковых потенций слово «апеллировало не к разуму, а к чувству» (46, с.30); «возбуждение эмоциональных ассоциаций вместо логических связей было общим и для символизма, и для акмеизма, и для футуризма» (46, с.32). Однако этот примат эмоций над разумом в ходе дальнейшего изложения опровергается самим же исследователем. Например, брюсовское стихотворение «Творчество» и стихотворение И.Анненского «Идеал» М. Л. Гаспаров трактует как вполне рационально построенные ребусы, загадки с отгадкой. Так, о втором стихотворении М.Л.Гаспаров пишет: «Стихотворение описывает простую картину: вечерняя библиотека, читатели постепенно расходятся, гася на своих местах газовые лампы. На эту реальность указывают, пожалуй, всего три слова: "столы", "страницы", "газ"» (46, с.35). Однако те же слова вполне могут указывать и на другую реальность – например, ресторан, игорный зал. Таким образом, слово здесь становится своеобразным рубежом между внутренним миром творящей личности и жизненной реальностью, оно построено так, что создает, в пределе, бесконечность истолкований, одновременно содержа в себе и явные границы для этих истолкований. И, следовательно, перед нами не «однозначное иносказание», не шифр с соответствующей отгадкой. Дело в том, что такой отрыв слова от его словарного значения и, следовательно, от предметного мира, наложение на него эмоциональных, музыкальных ассоциаций создает прежде всего перерождение семантики слова. Перерождение это такого рода, что не просто расширяется диапазон его значений, не просто появляется возможность рассмотрения слова в разных плоскостях – и в бытии, и в жизненной реальности, а проясняется 14 принципиальная несводимость поэтического слова ни к тому, ни к другому. И, собственно, модернизм и символизм – не столько «эпоха расплывчатости» (46, с.38) (хотя с точки зрения языкового слова и предметного мира это, конечно, вполне адекватное восприятие), но и движение через расплывчатость к такой семантике слова, которая не может существовать нигде, кроме данного текста, то есть к утверждению самодостаточной эстетической природы слова. Если М.Л.Гаспаров утверждает эту эстетическую природу исходя из слова языкового, то С.Н.Бройтман в работе «Историческая поэтика» сосредоточивается на образной стороне слова и рассматривает ее в процессе становления. Рубеж ХІХ-ХХ вв. автор работы относит к поэтике художественной модальности, характеризуемой прежде всего «переносом центра тяжести с надличностных отношений на межличностные» (25, с.47). Слово является автономной реальностью, управляемой законами художественного творчества. Художественная модальность и понимается С.Н.Бройтманом как «специфически художественное отношение слова к действительности, при котором слово не может быть сведено ни к эмпирически-бытовому, ни к условно-поэтическому, ни к субстанциально мифологическому смыслам, а выступает как их принципиально вероятностная, но эстетически реализованная мера» (25, с.54). Безусловная заслуга автора данного исследования - постулирование художественной модальности в качестве категории, объединяющей поэзию и прозу, литературу России и Западной Европы, объединяющей различные творческие методы (романтизм, реализм, модернизм), литературные направления внутри модернизма (символизм и постсимволизм), различные творческие индивидуальности (Ф.Тютчев, И.Анненский, Вяч. Иванов, А. Блок, Б.Пастернак). Найден сквозной принцип организации литературного произведения, специфику же литературного произведения внутри 15 направления определяют способы комбинации и взаимодействия перечисленных выше типов слова. В дальнейшем изложении С.Н.Бройтман сосредоточивается на литературе рубежа веков как концентрированном выражении поэтики художественной модальности и, обращаясь к творчеству русских символистов, определяет причины тех особенностей их словоупотребления, которые описаны в разбираемой ниже монографии Н.А.Кожевниковой. Так, Н.А.Кожевникова отмечает факт трансформации тропов («прямое обозначение и его непрямое соответствие существует в единстве и выражены непосредственно» (78, с.16), откуда следует реализация прямого значения тропа, «обоюдные тропы» (78, с.85)).По С.Н.Бройтману, данные явления объясняются сдвигами в семантической ориентации тропов: «…метафоры и сравнения вновь стремятся опереться не на видимое сходство, а на былую мифологическую семантику» (25, с.55). Мифологическое мышление предполагает взаимоотражение субъекта и объекта, поэтому неосинкретизм является здесь основным способом организации образной стороны слова: «…сама природа у них (Ш.Бодлера и символистов – Э.С.) уже не объект, а субъект, поэтому в образе возникает обратная перспектива: природа смотрит на человека родственным взором» (25, с.56). Именно в этой логике, по С.Н.Бройтману, – через последовательное придание статуса субъекта вначале природе, затем словесному образу и, наконец, литературному произведению – происходит онтологизация поэтического слова, то есть придание ему статуса отдельного и самоценного бытия: «…Слова не «знаки», а особые духовные предметы, сама «материя» которых непосредственно представляет смысл, «держит» его своей силой и разворачивает из себя…» (25, с.62); «…словесный образ становится самоценным тогда, когда он перестает быть только средством 16 изображения, обращается сам на себя, становится и предметом изображения, то есть из объекта превращается в субъект» (25, с.64). Собственно, данная монография и представляет собой изложение истории становления эстетической сущности слова. Убедительно показано, что слово становится реальностью, равноправной с жизненной, но существующей по иным законам. В поэтике художественной модальности, в явлении неосинкретизма проявилась универсальная закономерность развития: от нерасчлененного тождества через дифференциацию на отдельные элементы к расчлененному объединению равно необходимых элементов. С иной – языковой – стороны подходит к поэтическому слову Н.А.Кожевникова в уже упоминавшейся монографии «Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века». Хронологические рамки, выбранные автором монографии, определяют сосредоточенность исследования на творчестве символистов в основном младшего поколения: Вяч. Иванова, А.Белого, А. Блока, поэзии которого посвящена вторая часть работы. Н.А.Кожевникова выделяет следующие особенности словоупотребления в поэзии русских символистов. Во-первых, это множественность выражения идеи, связанная с многозначностью символа, откуда органично вытекает многофункциональность поэтического слова: «Слово в поэзии символистов не только многозначно, но и многофункционально. Оно используется и как обозначение реалии, на которое в некоторых ситуациях могут наслаиваться символические осмысления, и как образ сравнения, и как опорное слово метафоры. Эти особенности слова, которые характеризуют творчество каждого поэта в целом, определяют и строение некоторых стихотворений, в которых одно и то же слово используется в разных качествах» (78, с.250-251). Во-вторых, слово у символистов внутренне подвижно, его смысловое наполнение изменяется в процессе развертывания текста: «Внутренняя подвижность 17 слова так велика, что оно может наполняться противоположным смыслом в одном и том же тексте» (78, с.15). И, в-третьих, слово у символистов находится в сложных соотношениях с предметными реалиями, которые оно обозначает, происходит «развеществление» слова: «В некоторых случаях предметное слово, не теряя своего вещественного смысла, становится отправной точкой для общих умозаключений… Конкретное используется как иллюстрация закономерностей, причем некоторых исходный общих тезис положений и непосредственно формулируется… В текстах других типов конкретные слова подчинены обобщающим образам и мотивам» (78, с.65). В монографии словоупотребления миропонимание. убедительно показывается, непосредственно Так, что выражают полифункциональность особенности символистское поэтического слова Н.А.Кожевникова связывает со следующей закономерностью: «Предмет, явление принципиально незамкнуты. Они стремятся отразиться в другом, причем часто это другое – выражение некоторых общих закономерностей, указание на место данного предмета или явления в иерархии ценностей» (78, с.17). Словоупотребление также выявляет общесимволистский принцип соответствий, вытекающий из платоновского двоемирия: «Слово в поэзии символистов существует в двух качествах. Оно обозначает и сущность, и явление… Некоторые поэты сталкивают два преломления слова в одном небольшом тексте» (78, с.49). В употреблении архаизмов, по Н.А.Кожевниковой, выявляется сущность символистского мифологизма, а в своеобразном употреблении олицетворения – смещение границы между внешним и внутренним миром. Следует отметить, что в монографии Н.А.Кожевниковой присутствует совмещение лингвистического и литературоведческого подхода, но при явном доминировании подхода лингвистического. В принципе, поэтическое слово здесь рассматривается как особый тип слова языкового. 18 Такое рассмотрение характерно для В.В.Виноградова и особенно для В.П.Григорьева, и явно следуя за В.П.Григорьевым, автор монографии, как правило, особенности словоупотребления символистов иллюстрирует, отвлекаясь от поэтического контекста – строфы, ритма, рифмы. (Когда же говорится о таком влиянии, под контекстом понимается ситуация, стоящая за текстом, а это свойственно и языковому слову). В этом смысле очень характерно, что хотя в центре рассмотрения здесь, безусловно, семантический аспект слова, однако семантические трансформации, создаваемые ритмом и рифмой, практически не исследуются. Большой проблемой доминирование лингвистического подхода становится там, где речь идет о категориях, которые маркируют особое – эстетическое – бытие поэтического текста, – об образах, символах, мотивах. Ведь если не учитывать этого особого бытия, то все они могут быть восприняты лишь как повторяющиеся слова с большей или меньшей семантической нагруженностью. Н.А.Кожевниковой понятия Именно образа поэтому и в символа монографии оказываются синонимичными: «Многозначность символа легко обнаруживается в текстах, смысловое движение которых связано с развертыванием определенного слова-образа, или серии текстов, связанных повторяющимся образом» (подчеркнуто мною – Э.С.), (78, с.14). Так же синонимично употребление понятий образа и мотива: «Мотив восхождения, представляющий собой одни из частных вариантов мотива жизнь-путь, воплощается в образах лестницы («Лестница» Брюсова), ступеней». В обоих случаях слова «символ» и «образ», «образ» и «мотив» можно поменять местами без ущерба для смысла. В результате такая специфическая категория для творчества символистов, как символ, смешивается с сопредельными понятиями. Проблема специфики рассматриваемого явления особенно остро возникает во второй части, где речь идет о лирике А. Блока. Несмотря на 19 ряд ценных наблюдений, касающихся образной структуры отдельных произведений, здесь особенно четко видно, что сам по себе факт употребления того или иного слова или даже ряда слов в виде сквозных мотивов или образов еще не определяет сущности рассматриваемого творческого мира и тем более слова, которое его воплощает. Данную мысль иллюстрирует заключение второй части: «Устойчивость блоковского слова особого рода – это устойчивость при внутренней изменчивости и подвижности. Прежде всего одни и те же слова используются и как символы, и как обозначения реалий. Благодаря своей двойственности, они легко входят в контексты противоположных типов, формируя и мистические контексты первого тома, и реалистические контексты третьего. Неизменное по своей звуковой оболочке, слово включается в меняющиеся контексты, в результате чего меняется и смысловое наполнение слова, которое поворачивается разными сторонами» (78, с.241). Часть данной характеристики можно отнести к слову в творчестве любого символиста, часть – к слову в поэтическом мире вообще, и ничего – конкретно к А. Блоку. Собственно, проблемные моменты оказываются производными от своеобразного исследовательского подхода: описывая систему поэтического языка русских символистов, автор монографии в центр анализа ставит именно язык, слово как таковое в его устойчивых проявлениях выходит на первый план, а творческие индивидуальности, создающие это слово, остаются на втором плане. Плодотворно совмещаются два указанных выше подхода к слову (как к образу и как к единице языка) в двухтомном учебном пособии «Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов)» под редакцией Н.А.Богомолова, В.А.Келдыша и др.(М.,2000). Данный период русской литературы рассматривается здесь двусторонне: с точки зрения историко-типологической, предполагающей 20 широкий обзор динамики литературного процесса (смены направлений, взаимодействия литературных родов), и с точки зрения индивидуальноавторской, предполагающей глубокую характеристику отдельных творческих миров в их эволюции. Кроме того, данное пособие отличается системным подходом к анализируемым явлениям: литература серебряного века осмысляется как своеобразная целостность и освещается во взаимодействии с философией и с другими видами искусства. Определение этого своеобразия в первой главе пособия (В.А.Келдыш. «Русская литература "серебряного века" как сложная целостность») созвучно тому видению эволюции поэтического слова, которое проявлялось в работе С.Н.Бройтмана «Историческая поэтика»: «Глубокая трансформация образного мышления – так, в самом общем виде, можно определить то, что происходило на грани ХІХ-ХХ вв. в эстетическом сознании России, будучи вызвано внутренними потребностями художественного саморазвития (в преддверии нового художественного этапа находились на рубеже столетия многие литературы мира)» (75, с.13). Исходя из этого, символизм, как направление, полагающее в свое основание определенный тип образа, в этой системе занимает ведущее место. В той же первой главе отмечается глубокая связь русского символизма с религиозной философией: «Не только кругом фундаментальных мыслей о жизни духа, но и самим типом мышления соприкасались религиозные философы с художниками слова. Антропологическая тенденция, явленная в пафосе метафизического освящения земного бытия («обóжение материи» – Вл. Соловьев; «божественное начало человека, погруженного в материю» – Вяч. Иванов; «исступленное чувство личности и личной судьбы» как знак « божественной ценности человеческой души» (Н.А.Бердяев)), соединила отвлеченную идею с пристальным интересом к чувственно-конкретному, 21 близкому природе образной мысли содержанию, тем самым оплодотворяя и ее» (75, с.44). Более подробно взаимопродуктивные связи русского символизма и религиозной философии рассматриваются во второй главе (К.Г.Исупов «Философия и литература «серебряного века» (сближения и перекрестки)»). Прежде всего в главе показано определяющее влияние философии соловьевской Вл. Соловьева на образность символистов: «…встреча символологии и поэтической мифологии символистов оказалась плодотворной: символисты «расколдовали» схематические эйдосы философа («эйдос» и есть «схема», «модель») и обратили их в мощное средство поэтики. От умозрительной онтологической парадигмы символ переходит в статус окказиональной (с чертами элитарного эзотеризма) образности» (70, с.78). Далее в работе философские ориентации, проявившиеся в определяются творчестве отдельных символистов, и в этом смысле интересным, хотя и не бесспорным, выглядит противопоставление А.Белого и Вяч. Иванова: «Как ни пытался Белый универсализировать понятие символа, он так и остался на позиции столь презираемого символистами позитивистского гносеологизма. Его символы есть указания и знаки-намеки, т.е. отражения по преимуществу, а не субстантные существа Соловьева и Флоренского… Гносеологизму Белого и Брюсова продуктивно противостояла «теургическая» концепция Вяч. Иванова» (70, с.79). Вряд ли можно говорить о гносеологизме А.Белого, постоянно утверждавшего примат творчества над познанием. И, по-видимому, различие А.Белого и Вяч. Иванова не в том, что для одного символ – средство познания (ведь его Лик – это именно воплощение сущностей), а для другого – объективная реальность, а в разной значимости индивидуального сознания: для Вяч. Иванова актуален соловьевский имперсонализм – личность значима постольку, поскольку 22 проникнута всеобщим, у А.Белого личность – самостоятельное действенное начало. В целом нужно сказать, что соловьевское наследие в данной главе осмыслено как своеобразное порождающее поле расходящихся творческих перспектив: «Так было освоено соловьевское мировидение, осложненное неоромантической оглядкой на куртуазный эрос Средневековья, на мистиков ХV в., на нравы «галантного века»: кто-то пытался сохранить чувство живой онтологии Космоса (Флоренский), кто-то ушел в «приключенческую» гносеологию, сулящую находки в области внеэмпирической реальности (Мережковские, Брюсов, Сологуб, Белый), кто-то испытывал теургические возможности волевого мифосозидания (Вяч. Иванов), кто-то кардинально менял векторы пути, предпочитая идти не от символа (= идеи) к факту истории, а от факта (= символа) к идее, чтобы выбраться на тропу трагического историзма (Блок)» (70, с.79). В данной главе дается очень емкая характеристика мировидческим перипетиям диалога русского символизма и религиозной философии. Несколько с иной стороны охарактеризовано это направление в отдельной главе ( Корецкая И.В. «Символизм»). Прежде всего, русский символизм здесь рассматривается как «системное явление культуры» (83, с.688). Правда, из этой системы исключается философское творчество символистов: «В этом многообразном и обширном наследии время выделило лучшее – художественные произведения. Менее общезначимой и долговечной оказались символистская доктрина, притязавшая преобразить мир то «красотой», то «верой», при всем благородстве этического пафоса этих утопий, многое в них представляет ныне лишь исторический интерес» (83, с.688). Утверждение об утопическом характере теургических чаяний символистов не вызывает возражений, однако нельзя не заметить, что лежащие в их основании концепции символического слова продолжают 23 быть актуальными для современной литературоведческой науки, о чем в дальнейшем мы скажем подробнее. Много говорится в данной работе о роли культурного наследия, мифа, об их влиянии на символистский текст. Кроме того, предпринимается исследование символистского лиризма, который освещается двусторонне. Во-первых, речь идет о смене настроений и мировоззренческих ориентиров. Основные моменты здесь – движение от декадентства к жизнеутверждению, А.Шопенгауэра, а также Ф.Ницше и взаимоперекрещивающиеся Вл.Соловьева. Во-вторых, влияния новому переживанию жизни соответствует новый поэтический язык: «В поисках лексических соответствий «несказанному» обращались к редкостным речениям – забытым славянизмам, порой сакрализованным, архаизмам … в духе архаической риторики … культивировали прием «возведения в квадрат» … обычных понятий, прибегали к затейливо организованному синтаксису» (83, с.708). Речь идет, как и в монографии Н.А.Кожевниковой, о лингвистической стороне поэтического слова, однако особенности словоупотребления здесь прямо вытекают из своеобразия поэтического переживания и индивидуальных творческих систем. Итак, мы рассмотрели основные тенденции в изучении поэтического и философского наследия русских символистов и убедились, что контрапунктным моментом здесь является осмысление новых качеств поэтического слова – сдвигов в его семантике и образной структуре, изменения соотношений слова и языка, слова и культуры. Все они отражают реальную специфику поэтического творчества и философского наследия русских символистов, и прежде всего напряженность соотношения между словом как элементом жизненной реальности и прагматического языка и словом, устремленным к бытию в его цельности. Отсюда развиваются два вектора в осмыслении проблемы слова: трагедия «нераздельности 24 и неслиянности» слова и бытия и трагедия ответственности слова перед жизнью. Эти векторы взаимодействовали в творчестве каждого из младших символистов. Теперь мы постараемся наметить основные тенденции в изучении творчества Вяч. Иванова, А.Белого, А. Блока, остановившись на наиболее этапных работах об их творчестве. Книги З.Г.Минц «Лирика Александра Блока (1898-1908)» и «Лирика Александра Блока (1907-1911)» демонстрируют применения структурно-семиотического подхода к продуктивность анализу такого сложного явления, как поэзия А. Блока. Текст представляется в данных работах сложной структурой, реализующейся, главным образом, в пространственной организации через ряд бинарных оппозиций (верх-низ, статика-динамика, открытость-закрытость и т.д.). Структура эта имманентна тексту, и потому она носит гибкий характер, бинарные оппозиции не являются жесткими и при этом четко характеризуют эволюцию лирического субъекта и поэтический мир того или иного сборника. В ведущей этом множестве взаимоперекрещивающихся структур оказывается пространство и способы его организации, поэтическое слово становится своеобразным пространством, постоянно приравниваемым к реальному (поэтому, возможно, и разделение на сюжет и фабулу, нетипичное при анализе лирики, актуализируется исследовательницей). Следует отметить, что блоковская «трилогия вочеловечения» целым рядом исследователей (например, В.М.Жирмунским, В.Н.Орловым) рассматривалась как единое художественное произведение с трехчастной структурой. З.Г.Минц исследует каждый блоковский сборник как самоценное произведение, что позволяет ей и конкретизировать некоторые характеристики пути поэта, и одновременно представить все блоковское творчество как органическую целостность, в которой даже изначально противопоставленные явления оказываются сходными по внутренней 25 структуре: «Сам А. Блок узаконил восприятие своей лирики как «трилогии вочеловечения», в которой «первый том» играет роль «тезы», а второй – «антитезы». Но эволюция лирики Блока в 1898-1903 гг., с одной стороны, и в 1904-1908-х гг. – с другой, обладает еще одной примечательной особенностью. Каждый из томов дает некий целостный цикл творческого развития поэта, причем отдельные «фазы» этого цикла кое в каких чертах (конечно, лишь в самых общих и абстрактных) совпадают» (108, с.98). Центральным моментом этой целостности, безусловно, является символическое слово. Символ понимается З.Г.Минц как слово, «значение которого раскрывается в нескольких семантических рядах» (108, с.39), то есть как своеобразная трансформация языкового слова. Однако З.Г.Минц убедительно показывает, что именно измененное слово тут же вызывает к жизни соответствующие этой трансформации особенности поэтического мира: это и «кажущееся отсутствие связей между изображаемыми явлениями» (108, с.44), и многоаспектное восприятие лирической героини, которая одновременно «и женщина, и полумифическое существо, и – чаще всего – вся природа…» (108, с.20). Кроме того, в работе осмыслено своеобразие блоковского понимания символа: «Ведь любой человек, любая сцена, пейзаж и т.п., попадавшие в поле художественного зрения Блока, значимы были для него, в первую очередь, именно своими неповторимыми приметами. Именно из образов этого неповторимого, многократно повторенных в тексте, и возникло в большинстве случаев обобщенносимволическое значение персонажей, ситуаций, пейзажей и т.п.» (108, с.78). То есть в символическом слове соединяются два масштаба – предельно конкретное и максимально всеобщее - при четко осознанной направленности мысли: не от сущности к явлению, а наоборот, от явления к сущности. Важным моментом в работе З.Г.Минц является обоснование принципиальной полифоничности поэтического слова позднего А. Блока. 26 Прежде всего, таким обоснованием является блоковское отношение к поэтической традиции: «Художественное осмысление мира, для которого прежнее поэтическое видение никогда не может исчезнуть без следа и постоянно сохраняет актуальность, оказывается у позднего Блока одним из важнейших текстообразующих принципов…В лирике «третьего тома» неповторимая оригинальность текста создается, в частности, за счет огромного количества цитат, реминисценций из разного рода художественных и иных текстов, за счет пространных перекличек с многообразными (часто – совершенно различными) культурными традициями» (108, с.119). Однако, как показывает З.Г.Минц, чужое слово в лирическом тексте не означает внесения в него чужой точки зрения: «Чаще всего художественный эффект полифонии возникает из столкновения генетически и функционально различных кусков текста в рамках одного и того же цикла, стихотворения» (108, с.120). Явление полифонии связывается также исследовательницей с музыкой стиха и ритмом: «Существенно, однако, что экспрессивная информация, которую несет в себе «музыка слов», может не только дополнять словесную, но и противостоять ей, вступая с ней в сложные отношения "полифонии"» (108, с.123); «…разнообразие словесных тем и единство экспрессивной окраски ритма также способствует созданию эффекта полифоничности» (108, с.124). Данные особенности блоковской лирики вряд ли являются специфическими, и так понимаемая полифония – наложение на семантику слова музыкальных и ритмических интенций – скорее способ еще раз сказать о символической природе блоковского слова и о тех возможностях собирания воедино различного, которое оно в себе содержит. Необходимо изучение отметить блоковской «Мифопоэтика А. начатое мифопоэтики. Блока» работами Так, исследует З.Г.Минц И.С.Приходько мифологические системное в книге контексты блоковских драм и поэм, привлекая лирические и прозаические 27 произведения поэта. Д.М.Магомедова в книге «Автобиографический миф в творчестве А. Блока» рассматривает соотношение «текста жизни» и «текста искусства», определяемое развертыванием автобиографического мифа, имеющего гностическую природу. Многоаспектное исследование лирики А. Блока также в дальнейшем было продолжено. Прежде всего, в 70-80-е годы появляется ряд фундаментальных исследований, посвященных анализу «трилогии вочеловечения» как единого произведения1. Книга «Андрей Белый. Проблемы творчества» представляет собой многостороннее освещение личности, а также поэтического и философского наследия поэта: здесь и мемуарные свидетельства, и исследования, посвященные эстетике и поэтике, а также творческим взаимоотношениям А.Белого с его современниками (Горьким М., Хлебниковым В., Цветаевой М., Пастернаком Б. и др.) Одним из определяющих моментов этого труда является многостороннее осмысление природы символического слова в творчестве А.Белого. Тут можно вычленить два совершенно полярных подхода – знаковый и онтологический, причем возникают они у представителей одной и той же структурно-семиотической школы. Так, Вяч. Вс. Иванов в статье «О воздействии «эстетического эксперимента» Андрея Белого» называет символистскую поэтику поэтикой знаковой, и все реалии и феномены внешнего мира у А.Белого, в этой логике, лишь условно связаны с миром ноуменальным (67, с.881). С другой стороны, у Ю.М.Лотмана символическое слово – это «путь, ведущий сквозь человеческую речь в засловесные глубины» (97, с.439). Эти две полярные Наиболее весомые из них следующие: Максимов Д.Е. Поэзия и проза Александра Блока. – Л., 1981; Долгополов Л.К. Александр Блок: личность и творчество. – Л., 1980; Спивак Р.С. А Блок. Философская лирика 1910-х годов. – Пермь, 1978; Бураго С.Б. Александр Блок. Очерк жизни и творчества. – К., 1981.Во всех этих работах творчество А.Блока исследуется в эволюции, определяемой взаимопроникновением поэтики и биографии, а важнейшие блоковские произведения вписываются в этот эволюционный процесс. 1 28 трактовки слова порождают и полярную ориентацию исследователей при анализе конкретного поэтического текста: если Вяч. Вс. Иванов сосредоточен на его внешней, идеологической стороне, то Ю.М.Лотман исследует его внутреннюю, прежде всего звуковую структуру. Говоря о значимости звуковой организации текста, Ю.М.Лотман, по сути, утверждает символическое слово как отдельную смысловую реальность: «…смысл не только интегрируется, но и дезинтегрируется: значимой и символической становится уже отдельная фонема, которая, в результате многочисленных повторов, обретает автономность и семантически укрупняется» (97, с.440-441). Присутствует в книге и определение символического слова исходя из слова языкового, то есть как определенный сдвиг в семантике. Так, Т.Хмельницкая говорит о символе как «многозначной и многозначительной неопределенности», которая «передается и частым употреблением эпитета без дополнения, эпитета, превращенного в существительное» (183, с.123). С иной стороны утверждает онтологическую природу символического слова Н.Н.Скатов в статье «"Некрасовская" книга Андрея Белого». Анализируя исследователь стихотворения указывает «Телеграфист» на образ, из сборника определяющий «Пепел», единство стихотворения, – образ колеса: «Так колесо начинает становиться центром, организующим всю структуру произведения, оказывается символом беспредельного хода и кружения жизни. Оно определяет безостановочное движение самих стихов по кругу повторяющихся строф, слов, ритмов. Нет ни одного образа или мотива, который бы не был возобновлен буквально или в варианте. Если бы мы условно обозначили темы, заглавия строф, то стихотворение предстало бы в таком виде: «осень, работа, колесо, быт; осень, работа, колесо, быт, осень…» и т.д.» (154, с.156). Именно в этом смысле колесо становится символом – слово, не порывая связи с предметным миром, одновременно является воплощением 29 мифологической реальности: «Оставаясь реальным колесом телеграфного аппарата, оно становится и символическим колесом Иксиона» (154, с.156). И именно поэтому этот образ оказывается образом текста, полностью определяя собой его структуру. Итак, символическое слово в понимании Н.Н.Скатова – это момент пересечения между жизненной реальностью, внутренним миром лирического героя и мифом, определяющий структуру конкретного текста. Из современных исследований наиболее заметным явлением представляется сборник материалов двух международных конференций, посвященных творчеству А.Белого, – «Андрей Белый. Публикации. Исследования» под редакцией А.Г.Бойчука (М.,2002). В этом сборнике освещается целый ряд проблем, связанный с поэзией и прозой А.Белого – например, соотношение символизма и реализма в его творчестве, жанровая природа его прозаических произведений, влияние его поэтики на творчество поэтов-постсимволистов, в частности Б.Пастернака и др. В контексте наших рассуждений необходимо остановиться на статье С.Н.Бройтмана «Стихотворение А.Белого «Мне грустно… Подожди… Рояль…» и русская поэтическая традиция (к вопросу о «неклассическом типе художественной целостности)». Подход к поэтическому слову в этой работе можно назвать синтетическим. С одной стороны, это поэтический язык на определенном этапе его развития. В этой связи С.Н.Бройтман рассматривает, как реализуется в разбираемом им тексте поэтический язык ХIX века, а именно тексты Пушкина и Фета, на фоне которых он рельефно показывает своеобразие поэтического языка А.Белого: «Белым намеренно сняты все конкретизирующие обстоятельства и детали, действие вынесено в некое разреженное, едва ли не чисто смысловое пространство, которое не отражает определенную внехудожественную ситуацию, а само является некоей 30 вероятностной моделью, допускающей возможности развертывания ее в разные ситуации, в том числе такие, как у Пушкина и Фета, но не только такие» (27, с.230-231). С другой стороны, поэтическое слово рассматривается С.Н.Бройтманом как определенный тип образа. В данном случае речь идет об актуализации архаического синкретизма, о слове, в котором вероятностно соотносятся миф и реальность, прямое и переносное значение, о слове, которое одновременно говорит о нескольких предметах: «…алогический скачок в первостихию, совершенный в первой строфе, открывает лирическому «я» некое исходное состояние мира. В нем дни – волны, мы – огни, но одновременно и пена, звуки здесь – влага. И весь этот синкретически организованный первомир в конце стихотворения концентрируется в «ты», которая есть душа этого мира. Здесь опять не метафора, а уподобление… В «ты» буквально втянуты все основные предметные символы текста: музыка-рояль…, гроза…, море…» (27, с.232233). Итог стихотворения, следовательно, – рождение образа «ты», «стихийной души мира» (27, с.233), и одновременно образа лирического «я», изживающего, но не могущего изжить свое «одержание бытием» (М.М.Бахтин). Лирическое «я» характеризуется С.Н.Бройтманом следующим образом: «По существу «я» у Белого – и не только в этом стихотворении, а во всем цикле (если не во всем творчестве) – одержимо стихией и должно изживать эту одержимость в подневольном пассивноактивном дионисийском безумстве, в пляске, являющейся первообразом его поэзии» (27, с.233). Естественно, что это «я» не в состоянии воплотить образ стихии, то есть занять позицию вненаходимости по отношению к ней. Нужно отметить, что в статье С.Н.Бройтмана возникает своеобразный диалог с текстом А.Белого на языке М.М.Бахтина, и в этом диалоге положения бахтинской статьи «Автор и герой в эстетической деятельности» 31 становятся критериями, которыми определяется своеобразие поэтической целостности данного произведения. Так, бахтинская статья задает как нормативное, классическое такое положение творческого субъекта, которое дает возможность «занять по отношению к ней (стихии – Э.С.) позицию внежизненно активную: полюбить ее там, где ее нет для себя самой, где она обращена вовне себя и нуждается во вненаходящейся авторской активности» (27, с.234). Как показывает С.Н.Бройтман, «такой позиции по отношению к «ты» Белый в стихотворении не занял – одержание им не преодолено» (27, с.234). Специфику «неклассического» типа целостности С.Н.Бройтман видит именно в том, что эта недовоплощенность, эта «одержимость бытием» и становятся предметом воплощения. Хотя здесь возможно некоторое уточнение. Ведь если, вслед за М.М.Бахтиным, разграничивать в произведении «рассказываемое событие» и «событие рассказывания» (а С.Н.Бройтман пользуется этими терминами в своем разборе), то данные характеристики – и субъекта, «одержимого бытием», и произведения, эстетически воплощающего эту одержимость, точнее сказать, невозможность создать произведение – скорее можно отнести к «рассказываемому событию». Если же в данной целостности существует «событие рассказывания», то существует и субъект, который не только переживает свою «одержимость бытием», невозможность воплощения образа стихии именно как образа, но и субъект, который об этом говорит. В процессе этого говорения все-таки исходным оказывается не столько образ стихии как «ты», сколько образ «ты» как стихии – эта ситуация задается уже в первой строке («Подожди…»), и всей обращенностью стихотворения к «другому». В последнем же четверостишии явно присутствуют и «ты» как реальное человеческое существо («Твои огромные глаза!), и переход между человеческим существом и стихией («Твои холодные объятья!»), и сама стихия, проникающая в человеческое 32 «я» («Но – незабытая гроза –/ Твое чернеющее платье»). Все эти ипостаси взаимоотношений человеческого «я» и стихии даны в подчеркнутой отдельности (это подтверждают восклицательные знаки в конце первой и второй строк, а также союз «но», начинающий третью строчку, смысл которой отнюдь не отрицает содержания предыдущих). По сути, в этой действительно воплощенной в слове множественности формируется граница между «ты» и «стихией», причем граница упругая, подвижная, однако несомненно существующая, указывающая не только на «нераздельность», но и на «неслиянность» «ты» и стихии. Анализу символистских представлений о личности посвящена статья Б.Паперного «Поэтика русского символизма: персонологический аспект» в том же сборнике. Главная мысль статьи состоит в том, что в ряде особенностей поэтики младших символистов проявляется стремление к снятию индивидуальности, по сути, философский имперсонализм. Безусловной заслугой исследователя является осмысление сложности, неоднозначности, конфликтности самочувствия личности, живущей в категориях символистского мировидения, однако прямое соотнесение поэтики и философии представляется проблематичным. Так, тяготение к чужому слову представляется исследователю проявлением имперсонализма: «Исследователи русского символизма неоднократно и с разных точек зрения указывали на металитературность символистского текста, достигаемую массированным использованием механизмов цитатности и стилизации. Символический текст настолько глубоко пропитан «чужим словом», что он часто оказывается как бы лишенным «своего слова», так что даже то, что цитатой не является, воспринимается в качестве таковой. Но отчуждение слова неизбежно ведет в тексте к отчуждению автора этого текста» (124, с.160). Точно так же и свойственная русским символистам эпизация лирики, и символистский 33 мифологизм оказываются способами подавления личностного сознания (124, с.164). Однако точнее было бы сказать, что личностное сознание здесь не столько подавляется, «безличные сколько мифологические предельно структуры» драматизируется. (124, с.164) у Ведь младших символистов безличны, возможно, лишь как характеристики персонажа («структуры, реферирующей не столько к некоторой конкретной личности, сколько к определенной ролевой функции, установленной исходной для текста мифологической парадигмой» (124, с.164)). Что же касается автора, то здесь происходит скорее не снятие, а трансформация: «образ автора», понимаемый по-виноградовски, здесь действительно становится «маской», но авторское сознание как энергия, формирующая, переосмысливающая и мифологические ситуации, и чужие слова, здесь проявляется предельно напряженно. Собственно, все отмеченные В.Паперным особенности символистской поэтики нацелены на одно – на нахождение места индивидуальности в некоей надличностной общности, но именно конкретного и определенного места и именно для неповторимой индивидуальности. Поэтому о проблематизации личностного сознания можно говорить лишь в единстве двух противоположных тенденций: и снятия индивидуальности, и предельной индивидуализации. Кроме того, если речь идет о поэтике, необходимо различать ипостаси творческого субъекта – лирический герой, «образ автора», автор. Если данная статья представляет собой анализ образа мира, воплощенного русскими символистами, в его идеологических тенденциях, помимо образного языка, то статья Н.А.Кожевниковой «Тропы в стихах Андрея Белого» – анализ словоупотребления вне создаваемого им образа мира, вне поэтического контекста, о чем ясно говорит цитирование отдельных строк без обращения к целому произведения. В работе верно отмечена многофункциональность слова в поэзии А.Белого: «переход от 34 слова как обозначения реалии к образу, сравнению или метафоре» (79, с.183). Данная закономерность проиллюстрирована множеством примеров из различных сборников поэта, при этом между словом конкретным и словом тропеическим обнаруживаются не только прямые, но и обратные связи: «Тропы сборника «Золото в лазури» в «Пепле» преобразуются в реалии – воздушное пьянство и просто пьянство, пожары закатов и реальный пожар» (79, с.201). Такого рода связь, конечно, существует в творчестве А.Белого, но не только у него. Скорее всего, это особенность поэтического языка на определенном этапе его развития (по крайней мере, начиная с романтиков). Данная статья показывает, что понимание поэтического слова вне эстетической реальности, как особого способа употребления слова языкового приводит исследователя к тому, что конкретная творческая индивидуальность становится лишь частным случаем, лишь примером, лишь средством демонстрации словоупотребления той или иной эпохи. Одним посвященных из самых интересных произведениям исследований Вяч. Иванова, последних является лет, книга М.Цимборской-Лебоды «Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к философии любви». Убедительно показано, что Эрос мотивирует ивановскую концепцию символического слова. Прежде всего, «…символическое познание (произведение) есть по своей природе познание эротическое…Отсюда особое понимание познавательной и метафизической функции символа … Имеется в виду присущее Иванову понимание символа как посредника и двигателя духовного, как устремления проникнуть (познать) "вес планы бытия и все сферы сознания"» (184, с.134). Таким образом, Эрос как энергия проникновения и соединения определяет ивановскую концепцию символа как ознаменования («Символ – творческое начало любви, вожатый Эрос» (66, с.184)). 35 Из главы, посвященной «Anima et Animus» со всей очевидностью вытекает, что ивановское постулирование мифа как источника символического творчества, а также его концепция магического слова вытекает из его концепции Anima как «певучей Души» (184, с.160), «древней души» (184, с.152). В этой связи магическое слово определяется как «выражение скрытых глубин сущности вещей, их тайного, символического смысла («темный глагол»)» (184, с.167), оно же – «сеятельное мифическое слово, устанавливающее особые отношения мифа и познающего субъекта, причастного к его метаэмпирическому миру» (184, с.136). Поэтике Вяч. Иванова посвящено множество работ. Прежде всего следует отметить ряд исследований, в которых анализируется символика Вяч. Иванова и в которых через взаимодействие символов проясняются особенности его мировидения1. Заметным явлением в изучении творчества Вяч. Иванова стали сборники статей «Вяч. Иванов. Материалы и исследования»(М.,1996) и «Вяч. Иванов. Творчество и судьба»(М.,2002). Из первого сборника в контексте наших рассуждений важной представляется статья Н.К.Гея «Имя в русском космосе Вячеслава Иванова», в которой на основе анализа «Повести о Светомире Царевиче» делается важный вывод о синтетической природе слова в поэзии Вяч. Иванова: «…имя – это и идея, и символ, и образ – все вместе, сразу. Ему противопоказана безликость, условная абстракция. Оно не хочет быть резонерским словом, но скорее – резонирующим» (48, с.210). Во втором сборнике необходимо отметить статью С.Н.Бройтмана «Образные языки в поэтике Вячеслава Иванова», посвященную соотношению тропеического и символического начала в его Основополагающими здесь являются следующие статьи: З.Г.Минц, Г.В.Обатнин. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч. Иванова // Ученые записки ТГУ, вып. 831, Тарту, 1988; Аверинцев С.С. Системность символов в поэзии Вяч. Иванова // Контекст – 1989. – М., 1989. 1 36 лирике, которое Вяч. Иванова определено мы видим следующим образом: ситуацию, когда «… троп в поэзии начинает «опрозрачниваться» символом и мифом, семантически обосновываться им и из него, а не из внешнего сходства явлений черпать свой смысл» (26, с.94). Все рассматриваемые нами работы имеют одну закономерность: анализ специфики слова, реализованного в произведении, создающего определенную поэтику, и исследование слова, концепируемого данным автором во внехудожественной реальности, существуют по отдельности, лишь изредка пересекаясь. Между тем реальная взаимообращенность этих двух областей диктуется самим характером культуры серебряного века, отмеченной не просто синтезирующими установками, но прежде всего поэтизацией философии и философичностью поэзии. Слово же, как уже было сказано, является не просто культурной универсалией, но моментом самособирания творческой личности, способом проявления неразрешимых противоречий реальности и одновременно их разрешения. Этим и определяется литературоведческая актуальность нашего исследования: необходимостью понять формирующееся в данном культурном контексте слово о слове как двустороннюю рефлексию: внешнюю – направленную на слово извне, из реальности, и внутреннюю – направленную словом на самое себя1. Имена Вяч. Иванова, А.Белого и А. Блока выбраны не только потому, что в их творчестве оба эти аспекта достаточно ярко выражены. Для всех трех авторов актуален следующий тезис В.Соловьева: «Слово вообще есть символ, т.е. знак, совмещающий в себе наличную единичность со всеобщим значением» (158, с.811). Рассматривая символизм прежде всего Процесс взаимодействия слова в тексте и слово в культурном контексте анализируется нами в статьях «Слово в русской поэзии рубежа веков (на примере творчества И. Анненского и О. Мандельштама)» (Античність – Сучасність (Питання філології). Збірник наукових праць. – Донецьк, 2001. – вип. І.), «Слово в русской литературе рубежа XIX-XX вв. (на примере творчества И. Анненского, О. Мандельштама, А Ремизова)» (Русская литература. Исследования. – К., 2003. – вып. IV). 1 37 как мировидение, они и символическую природу слова воспринимали как выходящую за рамки литературы, как распространяющуюся за ее пределы в бытие. Все так или иначе разделяемые ими концепции магического слова подтверждают данную закономерность, являясь, по сути, различными способами осмысления действия слова на бытие в целом. А отсюда следует взаимопроникновение литературной философскую, вне которой проблематики в проблематику специфика слова в данном круге авторов понята быть не может. Так, актуальные для младших символистов концепции жизнетворчества, мистерии, теургии прямо связаны с преобразующим воздействием слова, что является одной из базовых характеристик его онтологической природы, однако безусловно находятся за пределами собственно литературы. Итак, целью нашей работы является анализ специфики художественного слова в творчестве Вяч. Иванова, А.Белого, А. Блока в двойном освещении, закономерности что культурного соответствует контекста: рождается из последовательного уже целостное указанной нами видение слова сопоставления того слова, которое реально воплотилось в произведении, и того, которое мыслилось вне его, в философских работах, как невоплотимый избыток, как возможность. 38 ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА СЛОВА В ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧ. ИВАНОВА Фигура Вяч. Иванова, в чьем поэтическом творчестве и философских работах проблема поэтического слова является одной из центральных, безусловно, симптоматична в плане выявления через творческую индивидуальность узловых проблем культурной эпохи. Практически все исследователи признают глубинное единство разных сторон творческой индивидуальности Вяч. Иванова1. При всей тематической и стилистической близости стихотворений и статей Вяч. Иванова представляется, что все-таки это два разных текста и, возможно, автору принципиально было важно взглянуть на различные философские, эстетические построения – в специфической художественной реальности, хотя бы для того, чтобы понять, насколько они творчески продуктивны, и, наоборот, увидеть архитектонику смыслов поэтического целого в иной, логико-философской реальности. Такое двустороннее видение создает, прежде всего, приращение смысла. И задача нашей роботы заключается именно в том, чтобы представить поэзию и статьи Вяч. Иванова как двустороннюю диалектическую рефлексию над проблемой слова, при которой то мысли, высказанные в статье, объясняют поэтическое произведение, то, наоборот, стихи А.Е.Барзах пишет по этому поводу: «…все творчество Иванова представляет собой сложно организованное единство, причем, в отличие от аналогичных утверждений по поводу других авторов, это единство не вносимо рефлексирующим читателем, но предзадано как одна из основных идей, как постоянно создаваемое и устремленное к реализации намерение…» (5, с.15). В целом, по мнению исследователя, близость между стихами и статьями Вяч. Иванова настолько велика, что все его творчество можно определить как «один грандиозный интеллектуальный роман» (5, с.15). О принципиальном единстве творчества Вяч. Иванова пишет также В.А.Кузнецова: «Совмещение различных речевых поведений создало уникальный даже для культуры русского символизма тип писателя, который может быть из ближайшего окружения сравним разве с Андреем Белым» (88, с.231). Творчество Вяч. Иванова в сфере философии она и ее соавторы определяют как прозу, отмечая, что она «отличается специальным стилем, по ряду параметров сопоставимым с особенностями его поэтики: сложный синтаксис, обилие сугубо индивидуальных метафор, многие из которых встречаются и в его стихах, использование архаизмов в функции неологизмов и т.п.» (88, с.232). 1 39 оказываются контекстом, в котором становится понятным философское построение. С одной стороны, перед нами два голоса и два типа речи, по сути дела, два субъекта, общающиеся между собой, – поэт и философ. С другой стороны, общаясь между собой, данные личности вносят новые аспекты в осмысляемый феномен, проясняют, развивают мысли друг друга. Раздел 1. Концепция действенного слова Общеизвестно, что для русского символизма актуальна концепция имеславия. В основе этой концепции – спор о природе имени Божьего и постулат «Имя Божие есть Бог» 1. Тут выстраивается очень четкая закономерность: ведь если «Имя Божие есть сам Бог», то можно сказать, что «в вещи живет имя, вещь творится именем» (172, с.47), откуда следует, что «символ вещи порождает вещь» (92, с.75). То есть слово-имя в этой ситуации можно осмыслить как двунаправленное движение: от вещественной, данной в ощущениях реальности к реальности духовной, сакральной и обратно – от духовной реальноcти к вещественной. Слово-имя как раз и моделирует эту взаимообращенность двух реальностей, когда нечто вещное, конкретное не пассивно означивается кем-то, а само ищет себе имени как способа переведения себя в область духа, и, с другой стороны, сущности духовные тоже хотят проявиться, то есть сформироваться в конкретное явление Отсюда С.Булгаков делает вывод об объединительной сущности имени: «В имени Божьем Господь сам себя именует в нас и через нас, в нем звучат для нас громы и сверкают молнии Синая, присутствует энергия Божия» (31, с.19). Отсюда, по С.Булгакову, следует внутренняя родственность Имени Божия, Образа Божия (иконы) и человека, созданному по образу и подобию Божию. В этих утверждениях не только «прозрение связей между Богом, словом и материальным миром» (68, с.137). Слово здесь – посредник между Богом и созданной им реальностью, причем не только материальной, но и духовной. Но оно не орудие, не средство, а концентрированное выражение объединяемых категорий. Именно потому, по П.Флоренскому, слово – это «бытие, которое больше самого себя» (172, с. 46). Бытийный статус слова определяется его сущностной переходностью – ведь оно есть «отношение явления к ноумену» (172, с.47), именно отношение, то есть значимое объединение на основе сходства и различия. 1 40 материального мира (именно потому, как пишет С.Н. Бройтман, символ «представляет собой равновесие духовного и материального начала» (24, с.211)). Слово-имя в понимании Вяч. Иванова возникает в символизме на интенции движения «внутрь себя от всего внешнего, чтобы в глубинах внутреннего опыта творческая воля смогла сознать себя и определить как движущее начало жизни» (66, с.38). Поэт, отвлекаясь от реальности вещной, осязаемой, что называется, «уходит в себя» и там, внутри себя, обретает движение, направленное вовне, и волю, преобразующую эту реальность в заклинательную реальность силу внутреннюю. подчеркивает Вяч. Властную, Иванов в волевую, слове-имени: «Символизм в новой поэзии кажется первым воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенные таинственные значения, им одним открытые, в силу ведомых им одним миром соответствий сокровенного и пределами общедоступного опыта. Они знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, которыми их называл народ, и в знании имен полагали основы своей власти над природой» (66, с.183) Переживание отмеченного выше духовного движения и как внутреннего состояния лирического героя, и как основания для создания определенных принципов поэтики происходит в цикле «Поэту». В первом стихотворении этого цикла называются имена античных богов, и имя является основанием для отождествления этих богов с явлениями природы. «Авророю алеет / Поэзия – дитя»1: Аврора – богиня, но алеет, конечно же, восходящее солнце; аналогичным же образом устроено словосочетание «В лучах звенящих Феба…». Здесь и далее текст цитируется по изданию: Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия: В 2-х книгах. – СПб., 1992. 1 41 Очень характерно, что все три стихотворения цикла заканчиваются называнием имен. Последнее слово первого стихотворения – «Ахилл» отсылает не только к его воспитателю – кентавру Хирону, научившему его играть на лире, – но и к Троянскому циклу мифов; «Пегас» (последнее слово второго стихотворения) – к источнику Иппокрены, а «Аполлон» – последнее слово третьего стихотворения – к солнцу, свету, художеству. Ясно видно, что от стихотворения к стихотворению возрастает и накапливается близость к поэзии; художественному началу. И, называя разные имена, с этим началом так или иначе связанные, поэт, по видимому, хочет разбудить это начало, заставить его действовать, заклиная его. В этом, возможно, и смысл названия цикла – не поучение поэту, а дар поэту от поэта, который, находя в различных мифологических реалиях отражения себя и владеющей им силы, возводит их к некоему единому началу. Следует обратить внимание, что слово-имя рождается из преобразования обычного слова: с одной стороны, при сохранении материально-звуковой оболочки изменяется идеальный план, появляются новые значения, а с другой - если остается неизменным идеальный план, то возникают приращения на уровне материально-звуковом. Именно преобразованные значение и звучание создают знание о связях в ином мире. С этими же аспектами связано ивановское определение поэта как «ознаменователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни» (66, с.185). Сокровенная связь сущего определяется Вяч. Ивановым как религия, и слово-имя безусловно связано с возвратом эпохи, когда функцией слова было либо заклинание, либо молитва, либо пророчество. Интересно, что, говоря о «религиозной эпохе языка», Вяч.Иванов употребляет понятие «миф», и религия выступает синонимом мифа именно потому, что значимость слова в них сходна. И так как миф представляет собой синтез 42 противоположных начал, то и слово-имя выходит из своих пределов, содержит в себе означиваемую реальность: «Слово стало, по произволу мастера, звуком музыкального инструмента или человеческого голоса, пластической формой, цветом, запахом, и все его перевоплощения оказались в соответствии столь гармоничном, что высказанное им впечатление запаха могло повлечь внушение цвета, а представление тона и цвета – ассоциацию вкусового ощущения» (66, с.164). Cвоеобразие трактовки данной категории позволяет уточнить тезис о Вяч. Иванове как адепте имеславия (об этом пишет, например, А.Е.Барзах (5, с.5-60)). Ведь имя есть нечто отдельное, и отсюда, по мнению исследователя, следует «отдельность, «монадность» слова поэта, непосредственно связанная с идеей микрокосмичности, зеркальности целого в части» (5, с.12). Как мы видели, имя у Вяч. Иванова – не монада, а медиатор, переход, сопряжение различных сущностей. Слово-плоть – это личностный аспект слова, что особенно четко видно в ивановском определении соборности: «Соборность есть такое соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной неповторимой и самобытной сущности, своей целокупности творческой свободы, которая делает каждую изглаголанным, новым и для всех нужным словом. В каждой слово приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разно, но слово каждой находит отзвук во всех, и все – одно свободное согласие, ибо все – одно слово» (66, с.100). Следовательно, связь поэтического творчества и соборности осуществляется через слово-плоть, в связи с чем И.Ю.Искржицкая совершенно справедливо замечает, что «Вяч. Иванов непосредственно связывал русскую идею и соборность со сверхзадачей и идеалом творчества» (68, с.74). Действительно, слово в определении Вяч. Иванова приравнивается к личности, а личность – к слову, плоть слова включает в себя не только его 43 материальную «внутреннюю данность, форму но слова», и личностную которая есть воплощенность, «его истолкование ту и преобразование в нас действенным составом наших душевных сил» (66, с.102). Внутренняя форма слова является основанием для такого приравнивания и, следовательно, для собирания людей в единое соборное целое, но без утраты личности как отдельного феномена, без слипания в безликую массу. Плоть слова соединяет единственных в единое, находясь внутри каждого, изменяясь в каждом так, как диктует внутреннее своеобразие данной индивидуальности, в то же время сохраняя неизменность своего глубинного смысла. Эта внешняя проявленность личности через слово, вместе с его творческой и преобразующей сущностью, определяет связь личности и истории, точнее, придает истории личностный характер, а личности историческую воплощенность. Не случайно А.Ф.Лосев, чьи воззрения во многом определялись культурными интенциями серебряного века, пишет: «Слово – синтез личности как идеального принципа и ее погруженности в недра исторического становления. Слово есть исторически ставшая личность, достигшая степени отличия себя как самосознающей от всякого инобытия личность»(94, с.192-193). Понимание феномена слова-плоти дает возможность скорректировать определение поэтики Вяч.Иванова как «распредмечивания, развеществления, подмены предмета, эмоции – идеей, смыслом» (5, с.21)1. Специфическую «темноту» Вяч.Иванова А.Е.Барзах объясняет как «результат бескомпромиссного предпочтения предмету и образу – смысла, семантического контрапункта»(5, с.21) – это результат «переживания смысла». Но, как писал М.М.Бахтин, «переживание – след смысла в бытии, это отблеск его на нем» (9, с.168). Можно, конечно, сказать и наоборот Особенности поэтики Вяч. Иванова анализируются нами в работе «Проблема слова в лирике Вяч. Иванова» (Литературоведческий сборник.- Донецк, 2001.- вып. 7-8.). 1 44 («смысл – след переживания в бытии»), смотря что считать онтологически первичным, факт тот, что вряд ли смысл можно не переживать и вряд ли возможно бессмысленное переживание. Вяч. Иванов не развоплощает слово, не лишает его плоти, а наоборот, оживляет эту плоть, распознавая в ней жизнь скрытых смыслов. Но эта жизнь вовсе не предполагает, что «новый, неожиданный смысл продуцируется здесь не звуком, не ритмом, не синтаксисом, но структурой самого смысла» (5, с.27). О том же говорит М.М.Бахтин в лекции о Вяч. Иванове: «У Иванова же все по логическому пути … Плоть слова, тело слова с его индивидуальностью и ароматом в его стихах не ощущаются» (9, с. 377). Смысловая «игра в бисер» Вяч. Иванову чужда. В становлении живого смысла безусловно принимают участие и ритм, и звук, и синтаксис, не зря С.С.Аверинцев одной из особенностей его поэтики считает «интонационную проработку стиха, осуществляемую средствами как ритмическими, так и синтаксически-пунктуационными» (1, с.307)1. Но самое главное – «переживание смысла» предполагает субъекта, носителя переживания – личность (данная характеристика скорее может быть отнесена к И.Анненскому, отчасти к О.Мандельштаму). Жизнь же смыслов принципиально внеличностна, точнее вселичностна и Например, в стихотворении «Когда б лучами, не речами…» дополнительные смысловые обертоны создает прежде всего фонетика: созвучие «лучами – речами», несмотря на смысловое противопоставление, маркирует глубинное единство данных понятий с самого начала, проясняя, что лучи – это тоже своего рода речи. Четкая инструментовка каждого четверостишия на сонорный и на гласный (первой четверостишие – на «м», «а», второе – на «л» и «е», третьего на «н» и «о» – в каждом четверостишии можно проследить гласный и согласный, которые явно доминируют над другими звуками) создает не просто заклинательный эффект. На фоне синтаксической слитности (все стихотворение представляет собой одно сложное предложение) возникает ощущение внутренней самодостаточности каждого четверостишия. И если, с одной стороны, на уровне синтаксиса, перед нами нераздельное, почти экстатическое восклицание, – то с другой стороны, на уровне фонетики, достаточно сложная и взвешенная структура. Это тоже создает добавочный смысл, относящийся к языку, которым говорит «мира пленная душа», – говорит и через этого поэта, и через данное произведение, в котором не просто сочетается эмоциональное и разумное, но экстатическое напряжение душевных сил рождает некое цельное прозрение. В принципе, такая ситуация возникает практически в каждом стихотворении Вяч. Иванова, и ощущение «тяжести», «перегруженности» его произведений объясняется тем, что значимыми являются все аспекты поэтического слова: и фонетика, и синтаксис четко структурированы. 1 45 межличностна, то есть существует только на переходе, на пересечении и, следовательно, осуществляется лишь в движении, с попутным синтезированием различных составляющих. Но концепция слова-плоти позволяет по-новому поставить проблему поэтического субъекта, его мирочувствования. Так, начало стихотворения «Notturno» (сборник «Свет вечерний») – утверждение примата реальности над поэтическим словом («Ропот воли в сумраке полей / Мусикийских темных чар милей»). Но, с другой стороны, в этом сопоставлении подспудно звучит мысль о том, что в природе есть своя поэзия. Далее оставшиеся восемь строк отчетливо распадаются на те, которые воспроизводят шум, и те, которые воспроизводят молчание. Если во втором двустишии доминируют звуки («Пес провыл, и поезд прогремел, / Ветр вздохнул…») – то до конца стихотворения молчание и тишина нарастают («В черных складках ночи сладко мне / Невидимкой реять в тишине…» «Тайна звездоустая молчит…»).И поэтому постепенно проясняется, что никакой реальности, в сущности, нет, есть отдельные реалии, соположенные друг с другом («Ветр вздохнул и воздух онемел… / Лишь вода текущая журчит, / Тайна звездоустая молчит»). Мир звучит, но он разделен, есть нечто единое, выше мира, но молчащее. Молчание это своеобразное, ведь эпитет «звездоустая» скорее всего возник из лермонтовского «и звезда с звездою говорит». Следовательно, молчание включает в себя говорение, молчание, собственно, и заставляет говорить звезды, но итогом этого говорения является молчание. Постигающий тайну такого парадоксального говорения принципиально находится вне этого мира, в той же тишине, где находится «тайна звездоустая» («невидимкой реет в тишине»). Одновременно поэт растворен во всех реалиях мироздания, одухотворяя их («Не своей тоскою тосковать / Трепет сердца с дрожью звезд сливать»). Собственно, «ропот воли» определяет не 46 только состояние мира, но и состояние творческой личности – состояние именно такого нахождения вовне мироздания, и одновременно во всем мироздании (тем более что «трепет» и «ропот» семантически родственны). Эта позиция предшествует поэтическому слову, она порождает нечто большее, чем поэтическое слово, – ощущение мироздания как одухотворенного единства. Трагедия творчества, возможно, именно в том, что оно представляет собой постоянный «зов», «трепет», порыв к недостижимой границе, за которой начинается его уничтожение. И поэт не может не стремиться к этой границе, и в то же время не может не сознавать, что это стремление не только неосуществимо, но и является концом его собственного существования. Катарсис этой трагедии осмысляется в цикле «Слоки» (сборник «Прозрачность»). Определяющему называнию подлежит здесь лишь то, что проявлено вовне, действенно: «Кто скажет: «Здесь огонь» – о пепле хладном / Иль о древах сырых, сложенных в кладу?». Ясно, что огонь в пепле был, а в дровах содержится, но сказать «огонь» можно только тогда, когда он горит. Следовательно, значение есть динамический, активный аспект слова. Но именно с этой динамикой связан его онтологический статус: «И кто сказал: «Я есмь» – покой отринул». Бытие, проявляясь вовне, созидает самое себя, а слово становится катализатором этого процесса. Собственно, и рождение слова в «Слоках» представляется как временнóе развертывание, динамика смыслов. Вначале оно в будущем: «Кто скажет – «Здесь огонь…»; затем – в настоящем: «… кто говорит: «Я сущий», и, наконец, в прошедшем: «И кто сказал: «Я есмь…»». Действие разворачивается из будущего к прошедшему, из возможности к совершению. Произнесение слова есть, по сути, утверждение бытия предмета и, следовательно, его самосозидающего и самопроявляющего 47 движения. Но, с другой стороны, как явствует из эпиграфа к одному из центральных стихотворений сборника «Прозрачность» – «Становлюсь – значит не существую». В цикле же сказано: «И кто сказал: «Я есмь» – покой отринул», то есть бытие есть нечто противоположное покою. Противоречие здесь кажущееся, если обратиться к осмыслению данных категорий в области внестихотворной. В статье «Кризис индивидуализма» Вяч. Иванов пишет: «Наше «я» превратилось в чистое становление, т.е. небытие. Поиски иного «я» разрушили в нас неустанными преодолениями и отрицаниями всякое личное «я»» (66, с. 23). Следовательно, становление, в логике Вяч. Иванова, потому не есть бытие, что оно нарушает единосущность целого, взрывает его внутреннюю структуру. Между тем возможно такое целое, которое отнюдь не является единосущным, не сводится на единое, а представляет собой множественное единство. Заметим, кстати, что различные комбинации этих двух понятий часто встречаются в статьях Вяч. Иванова, прилагаемые к самым различным понятиям: «…единое во многом и через многое» – как Платон и Аристотель определяют идею – вместе и утверждало каждое отдельное в его форме» (66, с.86); «Никогда живее не ощущает человек всего вместе как множественного единства и как разъединенного множества» (о созерцании звездного неба – 66, с.86). Последний пример особенно характерен, и ссылки на Канта в последующем тексте не случайны. Ведь кроме безусловной соединенности микрокосма и макрокосма Вяч. Иванов (возможно, вслед за Кантом) чувствует их разномасштабность – и, следовательно, возможность и естественность становления, происходящего как внутри данного микрокосма и предполагающего его внутреннее преобразование, так и становление, направленное вовне и предполагающее взаимодействие данного микрокосма с другими реалиями. Поэтому Вяч. Иванов в статье о Гете пишет: «Чтобы найти истинное созерцание природы, по учению Гете, 48 нужно уметь видеть все ее движение как покой» (66, с.256). Именно такое движение, не нарушающее цельности целого, не мешающее проявлению «единого во многом», можно приравнять к покою, и, таким образом, в бытии движение и покой оказываются категориями относительными. Однако сам процесс становления еще не есть бытие, а бытие можно определить как внутреннее сходство того, что есть, – сущего, – и движения, действия его («Свершается свершитель, / И делается деятель» – смысл видимой тавтологичности этих словосочетаний именно в этой слитности деяния, отраженного в глаголах, и сути, выражаемой однокоренными существительными). Динамика этого действия, слитого с внутренней сущностью деятеля, и есть поэтическое творчество. В нем и проявляется диалектика наименования и ознаменования: ««Жрец» нарекись, и знаменуйся «жертва»» – жрец узнает себя в жертве, жертва – в жреце, но и жрец, и жертва – один и тот же человек, поэт (как и огонь, который горит вначале), узнает себя в финальном жертвенном огне: «Все – жрец, и жертва. Все горит. Безмолвствуй»). Основание единства жреца и жертвы – опять-таки творчество. Это ясно видно при обращении к реальности, внеположенной стихотворной. В статье «О границах искусства» Вяч. Иванов пишет: «Чем глубже и самостоятельнее будет осознаваться это восхождение, тем яснее будет осознаваться творчество не как его служебный момент, а как священная жертва. Творчество не было бы жертвою, если бы оно не было бы новым духовным приобретением: напротив, оно – отдача сил, излучение энергии… но в то же время и некая искупительная жертва, жертва сладостная и страстная» (66, с.100). Следовательно, человек, творя, приносит в жертву самого себя. Этот вывод следует и из специфики символистского творчества, единства восхождения и нисхождения, о чем пишет Вяч. Иванов в той же статье «О 49 границах искусства», и из специфики культа Диониса: «… особенность дионисийской религии состоит в отождествлении жертвы с богом и жреца с богом» (66, с.34). Действительно, в мифе Диониса есть много оснований для такого отождествления, эти моменты переходят в культ, и в результате «жертва и жрец объединяются как тождество» (66, с. 28). Отношения «жертва – жрец» в лирике Вяч. Иванова экстраполируются на отношения «я» – «другой», «поэт – предмет творчества». Так, в стихотворении «Отзывы» происходит специфическая игра на аллюзиях из пушкинского стихотворения «Эхо». В результате эхо воспринимается как самостоятельный голос, как другое «я». Личность поэта, по сути, раздваивается, он ведет диалог с самим собою при полном сознании этого раздвоения и, с другой стороны, внутреннего единства этих «я». Фактически он смотрит на свое «я» с точки зрения «другого», ощущая и себя в «другом», и «другого» в себе. Эта «нераздельность и неслиянность» субъектов обусловливает то, что они обращаются друг к другу с одинаковыми и одинаково невыполнимыми требованиями, и все реплики касаются кардинальных проблем бытия – небытия. Притом слово и бытие оказываются взаимообусловленными («Откликнись, если ты сущий!» – так звучит первая реплика), отклик звучит, но он является лишь повторением уже сказанного («И повторил мне: «Ты – сущий!...»), статус бытия «другого» остается сомнительным, сомнительность и эту обусловленность и вторая реплика эту бытия словом возвращает говорящему. Теперь он должен утвердить свое бытие через слово. Он это и делает: «И звал я, радостный: «Вот я!» / Радостный, кто-то воззвал: «Вот я!» - и смолкнул»). «Другой» тоже утверждает свое бытие через слово. Стоит же говорящему усомниться в существовании незримого «другого», тотчас же отрицается и его собственное бытие: «Гнев мой вскричал: «Тебя нет!» – / Тебя нет!» – прогремел мне незримый…». 50 В стихотворении идет игра на смене субъектов: то, что сказано говорящим о «другом», простым повторением переадресовывается, оборачивается в сказанное о себе и для себя. Отсюда следует, что бытие и небытие «я» и «другого» взаимоопределены. «Я» и «другой» находятся на грани бытия и небытия, и оба неравны самим себе, из чего и возникает следующее требование: «Маску сними!» – мой вызов кричал; – И требовал кто-то: / «Маску сними!» – от меня…». Это требование тут же возвращается говорящему, так что и их неравенство самим себе взаимообусловлено. Последние строчки наиболее трагедийны – каждый из субъектов обнаруживает свое одиночество. Говоря с другим, каждый из них говорил сам с собой: «…«Горе! Я кличу себя!» – обрело отчаяние голос: / И, безнадежный, сказал кто-то: «Я кличу себя»». Но эта трагедия не безысходна. В максимальной автономизации субъектов, в их раздельности и одиночестве в данном случае достигается максимальная слитность. Следовательно, только полностью осознав себя, осознав прежде всего нечто общее, общие грани (бытие – небытие – маска) – человек на самом деле обретает «другого»1. Действенное поэтическое слово существует между бытием и языком, оно поворачивает их лицом друг к другу. Очень симптоматично, что позднее стихотворение Вяч. Иванова «Язык» имело следующие варианты заглавия: «Слово-плоть» и «Поэзия» (с эпиграфом «И слово – плоть бысть»). Коль скоро понятия «язык» и «поэзия» оказываются взаимозаменяемыми, то отсюда можно сделать вывод об их если не тождественности, то, по крайней мере, сходстве, взимопересеченности. Это сходство можно объяснить абстрактно-теоретически: язык становится внутренне поэтичным в акте творчества, поэзия есть выявление Особенности ивановской концепции личности анализируются нами в работе «Личность и слово в творчестве Вяч. Иванова» (Язык и культура. – К., 2002. – Т. IV, ч. II). 1 51 эстетического начала в языке. Еще одно объяснение – онтологическое: «Весь материальный мир – это язык, ознаменовательный, символический, которым говорит с нами божество» (66, с.46). Поэзия, следовательно, является способом ознаменования, выявления имен – символов. Но это возможно, если не Слово, а слово есть плоть, т.е. каждое слово – нечто живое, телесное. Если слово есть плоть, то язык есть поэзия. И, значит, слитность слова с реальностью организует взаимообращенность языка и поэзии. Итак, мы рассмотрели концепцию действенного слова в творчестве Вяч. Иванова. Мы убедились, что слово-имя аккумулирует в себе посредническую, динамическую сущность слова. Анализ цикла «Поэту» ясно показывает: это называние имени связывает явление с сущностью. Слово-плоть, как мы видели, связывает слово с личностью, а личность – со словом. Такое слово существует между бытием и языком, выявляя его творческую, преобразующую энергию – поэзию. Оживление плоти слова, распознание в нем скрытых смыслов конституирует соответствующего такому слову творческого субъекта, растворенного во всех реалиях мироздания и одновременно существующего вне его, внутри себя находящего «другого» и через него познающего себя. Раздел 2. Вяч. Иванов о символической природе слова Слово, как мы видели в предыдущей главе, представляет собой систему многообразных связей между личностью и тем, что вне ее. Именно эта связующая роль слова и определяет его символическую природу. Вяч. Иванов в работе «Борозды и межи» пишет: «Я не символист, если мои слова не вызывают в слушателе чувства непосредственной связи между тем, что есть его «я», и тем, что он зовет «не – я», если мои слова не 52 убеждают его непосредственно в существовании скрытой жизни там, где его разум не подозревал жизни» (66, с. 153). В таком определении символической природы слова проявляется свойственное второму поколению символистов стремление к синтезу, соединению, о котором говорит и часто актуализируемая ими этимология слова «символ» – от древнегреческого «σγμβαλεω» – соединяю. Предпосылкой появления разъединения, раздробленности, поколение символистов, данного вслед стремления бессистемности. за является Поэтому Вл. Соловьевым, наличие второе актуализирует категорию хаоса. Вл. Соловьев исходил из онтологического дуализма космоса и хаоса, называя хаос «темным корнем бытия»1. Вслед за Вл. Соловьевым Вяч. Иванов подчеркивает демоническую природу хаоса. Так, в статье «Предчувствия и предвестия», размышляя о музыке Вагнера, он пишет: «Или Вагнерово действо о Тристане и Изольде, где лики любящих возникают, в конвульсиях трагической страсти, из волн темного хаоса, всемирного Мэона, чтобы снова поникнуть и истаять в нем…» (66, с.44). Кроме того, также в духе Вл. Соловьева, Вяч. Иванов утверждает первичность, изначальность хаоса, и можно даже сказать, что у Вяч. Иванова хаос гораздо ближе к человеческой жизни, чем у Вл. Соловьева, он, человеческим первозданный проявлением, хаос, и буквально особенно явно стоит его за любым присутствие воспринимается в музыкальном искусстве. Так, о музыке Скрябина Вяч. Иванов пишет: «Дивиться ли тому, что столь многих смущает и безумит Он отмечает прежде всего демоническую природу хаоса, называет его «внебожественной природой», и одновременно ставит его в основание мироздания: «Хаос, т.е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всего положительного и должного, – вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания» (159,т.8,с.125). Осуществляя свою демоническую природу, хаос является прежде всего началом дробления и разложения, во всех своих устремлениях противоположным устремлениям божественного Абсолюта. Однако, несмотря на это, «… Бог любит хаос в его небытии, и Он хочет, чтобы сей последний существовал… Поэтому Он дает свободу хаосу… и тем выводит мир из его небытия» (160,с.331). Существование хаоса необходимо, следовательно, для проявления божественного могущества. 1 53 внятно звучащая в его музыке песня древнего, родимого хаоса? » (66, с.386). Тютчевская цитата здесь неслучайна, так как хаос ощущается им прежде всего «родимым», соприродным человеческой личности. Вяч. Иванов не говорит вообще о хаосе вне человека, в природном бытии, поэтому понятие хаоса у него синонимично понятию стихии – спонтанным движениям человеческой души. Стихия здесь является, по-видимому, проявлением сверхличного – в личности, именно потому она отождествляется с мистикой Диониса: «В этом стихийном хмеле и оргийном самозабвении мы различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могущества и переизбытка силы, сознание безличной и безвольной стихийности, ужас и восторг потери себя в хаосе и нового обретения себя в Боге» (66, с.29). Дионисийское, стихийное начало «разрушает чары индивидуации» (66, с.28), растворяет личность во всеобщем, и грань между дионисийской растворенностью и погружением в собственное «я» оказывается тонкой и легко переходимой. Собственно, хаос и стихия у Вяч. Иванова – не непосредственнобытийный хаос и стихия, как у Вл. Соловьева, а претворенные, окультуренные, увиденные или сквозь призму Дионисийского мифа, который, опять-таки, воспринят им не непосредственно, а через Ницше, или через Тютчева, или через того же Вл. Соловьева. И естественно, что хаос, стихия у Вяч. Иванова противостоят не космосу бытия, а космосу культуры. Обратим внимание, что именно хаос «ищет строя и лика», то есть он является активным, движущим, он бесформен сам по себе, но форма ему необходима. В символическом творчестве, концепируемом Вяч.Ивановым, такое взаимодействие олицетворяют взаимоотношения внешнего и внутреннего канона: «…внешний канон бесплоден, как всякая норма, если нет живых сил, в стихийное волнение которых она вносит начало строя, – и немощно-тираничен, как всякая норма, если ее устроительный принцип не входит в органическое сочетание – как бы не 54 вступает в брак – со стихией, ищущей строя…» (66,с.189). В логике Вяч. Иванова хаос, стихия не только окультурены, но и сами активно ищут претворения в культуру и как бы вообще самостоятельно, автономно не существуют. Ведь автономное существование их чревато полным и безвозвратным растворением личности, потерей индивидуальности и ее жизненных ориентиров. И у истоков символического творчества стоит прежде всего претворение поэтом своего собственного внутреннего хаоса в духовный космос. С этим космосом, впитавшим в себя хаос, он легче улавливает стихийные токи мироздания и претворяет их в космос художественного произведения. Одна из главнейших интенций русского символизма – слово-Логос, – противостоит хаосу как интенция собирания. Ведь Логос – Божественный разум, выражающий себя в своих творениях, то есть Единое, проникающее собой множественность. Из всего перечня значений, вытекающих из перевода с древнегреческого, русские символисты выбирают те, которые связаны с творением, поскольку оно – атрибут Бога. Вяч. Иванов прежде всего вносит динамику в изначально статичный Логос. Конечно, динамизация Логоса – закономерность, хотя и присущая воззрениям Вяч. Иванова, однако для него все-таки неспецифичная1. Логос осмысляется Вяч. Ивановым как средоточие творящей жизни внутри личности, основа ее внутреннего единства: «Религиозное боготворческое начало утверждается во имя жизни, которая есть «свет человеков», во имя внутреннего своеначального самоопределения этой жизни во мне как Логоса, этой свободы во мне как творческих лучей 1 Уже у Гераклита Логос обозначает объективную диалектику мироздания – универсальную закономерность, которой подчинено все существующее. Логос у Платона – Божественный разум, сверхприродная сущность, направляющая ход событий. Стоики выдвинули еще более диалектическую концепцию Огненного слова. Первоогонь у стоиков – это первоначало бытия, все элементы которого осмысляются как разная степень его напряженности, как его превращения. Данные характеристики определены объективной реальностью, а слово представляет собою те моменты в человеческой субъективности, которые с объективной реальностью соотносятся. 55 Логоса, коих тьма не объемлет» (66,с.188). Отсюда видно, что Вяч. Иванов имманентизирует стоический Логос, переводит его из сферы отвлеченности внутрь самого бытия человека. Поэзия, в логике Вяч. Иванова, оказывается предтечей Логоса,а не следствием, как естественно было бы думать. Вспомним, что Вл. Эрн определял искусство как «раскрытие самопознающего Логоса» (192,с.285). Логос же он называет «мерным», т.е. полагающим меру, предел стихии человеческого духа. Значит, поэзия и есть способ претворения стихий в их взаимопроникновении – в «заданный, но не данный», чаемый Логос. Поэтому слово-символ органично связано с сакральной реальностью: «Они (символы) раскрылись как забытый язык утраченного богопостижения… Символ ожил и заговорил о не-личном, об изначальных тайнах» (66,с.70). И именно для Бога и в Боге «Слово плоть бысть». Тогда конкретное слово конкретной поэтической личности должно стать живой плотью Логоса, и таким образом оно и обретает статус символа: «Ибо символ – плоть тайны, и символизм истинный – прозрение на плоть, проникновение в тайну плоти, ею же стало слово» (66,с.167). «Плоть тайны» и «тайна плоти» – так определяет Вяч. Иванов слово, и в контексте данного высказывания эти словосочетания по значению близки, если не тождественны. А это значит, что перед нами такое слово, которое не является орудием высказывания тайны или указанием на нее, а оно само проникнуто тайной, являясь путем утверждения абсолютного бытия внутри тленного и преходящего. Слово-плоть поэтому является способом собирания внутреннего опыта отдельных личностей, создания «мистической реальности», чье наличие, по Вяч. Иванову, – «критерий жизнеспособности символа» (66,с.169). Таким образом, смысловые аспекты ближе всего Вяч. Иванову в древнегреческом Логосе (отсюда рационально-волевой характер его поэтики, отмечаемый, в частности, С.С.Аверинцевым (1, с.306)). Нужно 56 сказать, что общесимволистская триада «миф – Логос – символ» в его теоретических построениях проявлена достаточно четко, но, что характерно, с резким смещением хронологического порядка. Ведь Логос, в символистском понимании, возникает именно из распада мифологической слитности. Безусловно, у всех символистов (и уж точно у Вяч. Иванова) был на слуху фаустовский перевод начальной фразы Евангелия от Иоанна, где именно перебираются отдельные варианты, но ни один не эквивалентен целому. Здесь, по сути, отрефлектирован и распад мифологического единства, и необходимость найти единство иного качества. У Вяч. Иванова данная последовательность резко смещена: «В большом всенародном искусстве мы идем тропой символа к мифу. Большое искусство – искусство мифотворческое. Из символа вырастает искони существовавший в возможности миф, это образное раскрытие имманентной истины, духовного самоутверждения, народного и вселенского» (66, с.192). Логос – универсальная модель символа (выражение в творении высшей духовной силы мира), символ – след мифа в бытии, а поэтическое слово проявляет наличие в символе и Логоса, и мифа. Поэтическое слово, в этой логике, есть именно взаимообращенность мифа, Логоса и символа, восстановление разорванных связей (в этом смысле безусловно актуальна концепция Вл. Эрна: соразмерность Логосу и символический потенциал он считает критериями мировоззренческой ценности мифа). Слово-символ – эманация Логоса, реальность, в которой оно утверждается в этом качестве, – миф. Миф трактуется Вяч. Ивановым прежде всего как способ мышления и речи, причем мышление и слово в мифе практически неразличимы: «Миф определяем мы как синтетическое суждение, где подлежащему-символу предан глагольный предикат… Если символ обогащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и движение; символизм превращается в мифотворчество» (66, с.307); «…вторая речь … 57 будет речь мифологическая, основною формою которой послужит «миф», понятый как синтетическое суждение, где подлежащее – понятие-символ, а сказуемое – глагол: ибо миф есть динамический вид (modus) символа, – символ, созерцаемый как движение и двигатель, как действие и действенная сила» (66, с.184). Взаимопроникновение речи и мысли особенно четко проявляется во втором определении, где мифологическая речь представляется через категории формальной логики (суждение, предикат). Однако логика в мифе, по Вяч. Иванову, является инструментом не познания, а творчества и преображения. Отсюда вытекают и его, и П.Флоренского рассуждения о магичности слова. И именно потому у А.Ф.Лосева слово приравнивается к мифу: «… миф не есть историческое событие как таковое, но он всегда есть слово. Слово – вот синтез личности как идеального принципа и ее погруженности в недра исторического становления» (95, с.192-193). Ведь, определяя миф как мышление символами, причем такое мышление, где субъект и предикат тождественны, то есть действие заложено в предмете, Вяч. Иванов и сам приходит к интерпретации мифа прежде всего как особого рода личностного переживания1. В ивановском восприятии мифа акцент делается на самочувствии человеческого «я», и эта сцепленность личности и мифа, по-видимому, характерна для ситуации реального распада мифологического миросозерцания. Так, А.Ф.Лосев писал о стоиках: «Ведь если вся объективная действительность предстала в их глазах в свете субъекта, это значит, что она предстала в виде мифа» (93, с.167). Симптоматично, что из всех мифологических возможностей Вяч. Иванов выбирает центром своих построений именно Диониса, воплотившегося не только в ряде античных Взаимоотношениям в триаде «миф-Логос-символ» посвящена наша статья «Миф и символ в творчестве Вяч.Иванова» (Литературоведческий сборник.- Донецк, 2002- вып. 10). 1 58 интерпретаций мифов, но и у немецких романтиков, у Ницше, о чем сам Вяч. Иванов и написал. Миф в данном случае проходит через такое множество зеркал – чужих рефлексий, что от него действительно уже остается «мэон»(ничто) , или, как пишет Вяч. Иванов, «великое, призрачно колеблющееся между возникновением и исчезновением» (66, с.28). Возможно, что Дионис здесь реальность, но реальность прежде всего личностного сознания. Именно потому для символистов миф становится способом осмысления жизненной реальности, а отсюда следует не только творение и разыгрывание индивидуальных мифов, что характерно для всего серебряного века, но и сочинение мифов «мэонических» (Вл.Эрн), мифов, не соотносимых с Логосом, что характерно уже для крушения этой культурной целостности. И в ивановских повторениях одних и тех же высказываний, в возвратах одной и той же мысли, в тавтологиях, наконец, – не просто рефлексия второго или третьего порядка, но парадоксальное умозрение непосредственного чувствования, умозрение инстинкта – то есть героическая попытка с помощью рационального постижения прорваться к непосредственному ощущению мифологической слитности всего со всем1. Если у А. Блока основной интенцией осмысления символа было называние («только будучи именованным, явление становится подлинно реальным», как пишет И.Ю.Искржицкая (68, с. 141)), для Вяч. Иванова 1 Вот как видит Вяч. Иванов своеобразие мифа Диониса: «Дионисийское начало, антиномическое по своей природе, может быть многообразно описываемо и формально определяемо, но вполне раскрывается только в переживаниях, и напрасно было бы искать его постижения … исследуя что образует его живой состав. Дионис приемлет и вместе отрицает всякий предикат, в его понятии А и не – А … объединяются как тождество. Одно дионисийское „как” являет внутреннему опыту его сущность» (66, с.28). Как видим, Вяч. Иванов, понимая невозможность разделения данного феномена на части, соположенные друг с другом, делит его на аспекты («не что, а как»). Следует отметить особый, художественный статус данного мифа. Сравним с приведенной выше характеристикой Диониса следующее высказывание Вяч. Иванова: «Ошибка суждения проистекает из близорукого противопоставления некоего „что”, относимого к заданию, почерпнутому художником будто бы извне, из сфер, вне искусства лежащих, и некоего „как”, относимого к выполнению этого задания и именуемого формой. На самом деле все искусство стоит под знаком „как”» (66, с.228). Так же, как и дионисийское начало, художественная форма, да и само искусство, определяется не как предмет, а как способ действия, причем применяемый к любому действию. 59 более актуально ознаменование, т.е. узнавание в явлении каких-то знаменательных сущностей. Именно таким образом он определяет символ в статье «Поэт и Чернь»: «Аллегория – учение, символ – ознаменование. Аллегория логически ограниченна и внутренне неподвижна: символ имеет душу и внутреннее развитие, он живет и перерождается» (66, с. 141). Следовательно, говоря о символе как о монаде, Вяч. Иванов имеет в виду его неразложимость и органичность, а не его отдельность и оторванность («Потому и все его вещи именуемы, это знак отдельности» (5, с.11)). «Символ … неисчерпаем и беспределен…», но не только в своей внутренней структуре, но и во внешней проявленности, в тех соответствиях, которые находятся в реальности, внеположенной символу, и прежде всего в мифе. В сущности, символ и есть вектор поиска соответствий, направленный не к какой-то определенной мифологической реалии, а к принципиальной множественности, соединяющий эту множественность: «Подобно солнечному лучу, символ пронизывает все планы бытия и все сферы сознания и знаменует в каждом плане иные сущности… В каждой точке пересечения символа, как луча нисходящего, со сферою сознания он является знамением, смысл которого раскрывается в соответствующем мифе» (66, с. 143). Следовательно, жизнь символа – процесс ознаменования, т.е. движения по различным пластам внутренней (личностной) и внешней (культурной) реальности и нахождения в них все новых и новых значений. В плане поэтического творчества это означает прежде всего возможность построения некоего универсального пантеона, и соприсутствие различных мифологических традиций вовсе не является симптомом «протопостмодернизма», как пишет Е.А.Богатырева (22, с.109), а связана именно с общностью раскрывающегося в них символа, который и 60 выступает неким объединяющим началом. По этой логике, например, в стихотворении «Поэзия» соприсутствуют Ева, нереиды и Геспериды: «Лепечет, резвясь, Гесперидам: «Кидайте мне мяч золотой». И кличет морским нереидам: «Плещитесь лазурью со мной». Дело не только в том, что все они – нимфы, то есть являются олицетворением (ознаменованием) сил и явлений природы и, кроме того, женского начала. Прежде всего поэзия оказывается тем лучом, на который нанизываются реалии различных мифологий, она же в этих реалиях означивает себя. И в данном стихотворении еще более сложная символическая структура: душа приравнивается к дереву («весенние ветви души»), и состояние этой души сравнивается с состоянием появляющейся из ребра Адама Евы. («Не снова ль извечная Ева, / Нагая, встает из ребра»). Собственно, поэзия и есть душа, почувствовавшая себя «побегом от древнего древа» и созерцающая – впервые – появление женщины в мироздании и, следовательно, свое собственное появление. Очень характерно, что события стихотворения происходят на грани действительности и кажимости («Не снова ль извечная Ева…»), происходят на грани единственности и бесконечной повторности. Ведь процесс ознаменования и означает перевод отвлеченных, потенциально присутствующих сущностей в наличную реальность и, одновременно, представление данного текущего мгновения как многократного повторения уже бывшего и чреватого повторениями в будущем. Миссия поэта – собирание множественности: «…поэт разоблачает реальную тайну природы, всецело живой и всецело основанной на сокровенных соответствиях, родствах и созвучиях … в природе звучит для слышащих многоустое вечное слово» (66, с.151). Именно слово-знамение 61 дает возможность воспринять природу как «чреватую словом» (М.М.Бахтин). В стихотворении «Вести» из сборника «Нежная тайна» эпиграф из Новалиса: «Слезы любви, огни любви, / Стекайтесь воедино!». Речь именно о тайном объединении, когда печаль и свет вместе, печаль становится просветленной, и это придает любви особую значимость. В этом стихотворении не только природа одушевлена, но и душа природна («И душа, как стебель тонкий…»). Творчество возникает именно из гармонии души и окружающего мира и само созвучно этой гармонии («Как созвучны / Эти сны на чуткой лире / С той свирелью за горами»). Не случайно здесь возникают аллюзии на пушкинское «Эхо», но, естественно, ситуация данного стихотворения переосмыслена. Если у Пушкина судьба поэта – «тебе ж нет отзыва», то у Иванова лира и природа меняются звуками, как дарами, и звук эквивалентен отзвуку. Стихотворение называется «Вести» именно потому, что у души и у природы своя весть, они обмениваются вестями – и эти вести улавливает поэзия. Поэзия и есть канал, по которому эти вести переходят одна в другую. Она именно канал связи, а не просто способ передачи красоты природы. Именно этим объясняется последняя строфа стихотворения: «Не расскажешь песнью струнной: Облак лунный Как просвечен тайной нежной…» Песнь не рассказывает, а знаменует движения души и природы, и прежде всего стоящую за ними тайну. Именно поэтому о невозможности слова-песни передать тайну природы говорится в слове-песне. Именно поэтическое слово может сказать об этой тайне, оставляя ее нераскрытой и в то же время проявляя ее именно как тайну. Слово здесь воспринимается как сокрытие этой тайны и внутренней музыки, заключенной в мироздании. Но сокрытие это 62 необходимо для ее же, музыки, стройности, для выстраивания ее соразмерности. В этой музыкальной соразмерности тайна и скрывается, и раскрывается. Вяч. Иванов осмысляет музыку прежде всего сквозь призму Ф.Ницше. Ф.Ницше же воспринимал музыку через культ Диониса. «Дух музыки» – стихийное, бытийное начало, проявляющееся в личности, отображая ее жизненные ритмы, вызывая к жизни ее новые силы. Вяч Иванов также связывает музыку с дионисийской стихией: «Ницше был оргиастом музыкальных упоений: это была его другая душа… Должно было, чтобы Дионис раньше, чем в слове, раньше, чем в «восторге и исступлении» великого мистагога будущего Заратустры – Достоевского, – открылся в музыке, немом искусстве глухого Бетховена, величайшего провестника оргийных таинств духа» (66, с.28). Музыка является идеальной перспективой слова. «Поэт был «певцом» только в метафоре и по родовому титулу – и не мог сделать своего личного признания всеобщим опытом и переживанием через музыкальное очарование собирающего ритма» (66, с.123).Освобождая музыку, слово выводит ее из иррациональной стихии мироздания, связывает ее со смыслом, поэтому музыка и слово у Вяч. Иванова неразрывно соединены в хоровое действо. В статье «Вагнер и Дионисово действо» Вяч. Иванов ясно показывает, как музыка и слово взаимодействуют, оттеняя своеобразие друг друга: «Как в Девятой Симфонии, ныне немые инструменты усиливаются заговорить, напрягаются вымолвить искомое и несказанное. Как в Девятой Симфонии, человеческий голос, один, скажет Слово… Из мусикийской оргии должны возникать просветы человеческого сознания и соборного слова в ясных, хоровых и хороводных песнопениях. А протагонисту дело – говорить, не петь…» (66, с.36). Как видим, музыка и слово соединяются в порыве к несказанному, но слово здесь представляется олицетворением сознания и смысла, даже когда речь идет о 63 том, чего нельзя сказать словами, «несказанность» дает возможность почувствовать усилие слова. Слово, таким образом, приближает музыку к жизненной реальности, к осмысленному бытию. Но одновременно и музыка, соединяясь со словом, не только размывает его семантику, не только создает вокруг него иррациональный ореол, но прежде всего определяет воздействие слова на воспринимающего субъекта. Это воздействие может быть рациональным, учительным: «В эпохи народного, «большого» искусства поэт – учитель. Он учительствует музыкой и мифом» (66, с.138). Но важнее для Вяч. Иванова иррациональное, магическое воздействие слова, и не только на воспринимающего субъекта, но и на жизненную реальность. В статье «Заветы символизма» он пишет о поэзии древности: «Задачею поэзии была заклинательная магия ритмической речи, посредствующей между миром божественных сущностей и человеком. Напевное слово преклоняло волю высших царей, обеспечивало роду и племени подземную помощь «воспетого» героя, предупреждало о неизбежном уставе судеб… Поистине, камни слагались в городовые стены мирными чарами, и – помимо всякого иносказания – ритмами излечивались болезни души и тела, одерживались победы, умирялись междоусобия…» (66, с.185). Таинство, связанное с символом, представляется в диалектике сокрытия и проявления, остранения и узнавания, динамика этих процессов и организует символическую реальность. Это не просто некая высшая реальность, процесс поиска в явлениях сокровенной жизни сущностей, но это – постоянный процесс их объединения, общения, взаимной необходимости друг другу. К этому, собственно, сводятся, для этого и нужны те движения нисхождения и восхождения, о которых пишет Вяч. Иванов в статье «О границах искусства». Принципиальное единство этих движений утверждает целый ряд исследователей: «…гармония, по Иванову, образуется взаимопроникновением противоположных начал» (85, 64 с.234); «И при восхождении, и при нисхождении уничтожается личность, но этим уничтожением она лишь больше укрепляется» (9, с.376). Но в результате этих процессов и символ оказывается не идеей, не сущностью, а динамикой, сплошным двусторонним движением: «Символ же есть жизнь посредующая и опосредованная, не форма, которая содержит, но форма, через которую течет реальность, то вспыхивая, то угасая – медиум струящихся через нее богоявлений» (66, с.214). В стихотворении «Острова» (сборник «Свет вечерний») слово-символ говорит о себе, выбирая поэта в качестве медиума. И как раз пространственная локализация этого слова проявляет его посредующую сущность. Во-первых, слово ищет себе соответствия, определяя себя через Острова («Так пленные тоскуют Острова … / Вы ту же быль запомнили, слова…» – на этом соответствии построено стихотворение). Слово – сущность пространственная, и, следовательно, занимающая какое-то определенное место в бытии. Где же находятся слова? С одной стороны – «Нас в гости плыть к богам зовет Заря…» – в этой строке проявлено направление от земли, вверх. С другой стороны, они «Вкоренены недвижно в глубь земли» – состояние противоположное, отсутствие движения, нахождение внизу. Слово подвижно, как парус («плыть»), и одновременно неподвижно, как остров, то есть неподвижное находится в движении, и в результате этого движения верх и низ меняются местами («…паруса созвездий тех вдали / Вкоренены недвижно вглубь земли…»), а затем проникают друг в друга: «И влажную мы помним пелену, / Что в ласковом лелеет нас плену, / Как тонкую воздушную волну». Слово – та стихия, та среда, в которой смещается то, что устоялось, и проясняются новые связи. Если в слове различать звучание, значение и образ, то символ, в этой логике, есть актуализация «нераздельности и неслиянности» этих трех аспектов, а не просто многозначное иносказание, то есть множество 65 духовных соответствий одной материальной данности. Образ оказывается заложенным и в значении, и в звучании, и потому утверждается как принципиальная множественность. Собственно, символ – способ выстраивания соответствий между миром сакральным, миром личностным и миром творческим1. Эти соответствия, однако, нельзя назвать «почти однозначными», как пишет А.Е.Барзах (5, с.8). Они принципиально многозначны и основаны одновременно на отождествлении и различии, на ряде метафор, связанных друг с другом в своеобразную цепь, по которой и происходит циркуляция смыслов. Тропеическое слово, «риторически усложненное извитие словес» (51, с.99-100) связано, по мнению С.Н.Бройтмана, «с понятием, различением, рефлексией» (25, с.55). Рефлексия же предполагает не только вычленение данного единичного феномена, но и восстановление связей данного феномена с иными, создание некоего нового единства. Метафора, в этой логике, является способом познания сущностей, причем познания синтезирующего, направленного на единую сущность во В этой концепции проявляется, пожалуй, наиболее четко глубинная родственность культур модернизма и барокко. Не случайно Г.С.Сковорода – типологическая фигура барочного философа (аналогичная в западноевропейском барокко – Якоб Беме) - назван «одним из любимейших философов русских символистов» (68, с.116). О влиянии идей Г.С.Сковороды на философию Вяч. Иванова пишет в своей статье Н.К.Гаврюшин: «Если бы Вяч. Иванов, взявшийся за переработку своей статьи «Ты еси» под влиянием стихотворения Поля Клоделя о духе и душе, познакомился с диалогом Г.Сковороды «Потоп змиин», ему не пришлось бы искать куртуазных форм для напоминания о своем первородстве, у Сковороды он нашел бы и глубокий символизм, раскрывающий потайные створки души, и «юнговский» термин «архетип», и утонченное видение отношений анимуса и анимы» (43, с.148-149). Представляется, что Г.С.Сковорода был для русских символистов философом не только любимым, но и определяющим, особенно в плане характерного для символистов и обратного романтическому двоемирия: «…вижу в сем целом мире два мира, один мир составляющие: мир видный и невидный, живой и мертвый, целый и сокрушаемый. Сей – риза, а тот – тело, сей – тень, а тот – древо, сей – вещество, а тот – ипостась, сиречь основание, содержащее вещественную грязь, так, как рисунок содержит свою краску» (156, с.16). При этом, судя по атрибуции описываемых Г.С.Сковородой миров, мир идеальный оказывается здесь базовым, за ним признается подлинная реальность. Важным основанием, делающим вообще возможной концепцию двоемирия, является мысль Г.С.Сковороды о принципиальном взаимопроникновении идеального и материального мира: «А я вижу в нем единое начало, так как один центр и один умный циркуль во множестве их… Итак, мир в мире есть то вечность в тлени, жизнь в смерти, восстание во тьме, в лжи истина, в плаче радость, в отчаянии надежда» (156, с.16). Безусловно, такого рода сходство может быть связано с общим античным источником – Платоном, с его двоемирием и концепцией Единого. 1 66 множестве явлений1. Это не разложение единого понятия («Чтобы изобразить скрипку вообще, Пикассо обречен разлагать ее» (66, с.109)) – это закономерность постмифологического сознания, основанного, по Вяч.Иванову, на индивидуальном видении, разлагающем общее на ряд не сводимых друг к другу отпечатков. Преодолением раздельности не только индивидов, но прежде всего их видения мира, вернее, множественности этих видений, когда некая единая правда тоже ведь разлагается на множество различных, противоположных друг другу правд, – и служит возврат к мифологическому мировидению. Здесь, наоборот, единое, общее проявляется во множестве отдельных явлений своими разными гранями, оставаясь самим собой: «Непосредственно доступна и общечеловечески близка к нам мистика Дионисова богопочитания, равная себе в эсотерических и всенародных ее формах. Она вмещает Диониса-жертву, Диониса воскресшего, Диониса-утешителя в круг единого целостного переживания и в каждый миг истинного экстаза отображает всю тайну вечности в живом зеркале внутреннего, сверхличного события исступленной души» (66, с.29). Здесь некое множество воплощается в едином, а единое воплощается во множестве. Событие этого воплощения одновременно и «внутреннее», и «сверхличное», то есть происходит и в сокровенной глубине индивидуальности, и объективно, во внеположенной ей реальности, при этом уравниваются, становятся взаимозаменяемыми миг и вечность. В этих характеристиках переживания бога проявляется слияние противоположностей, аналогичное тому, что и в характеристиках самого бога. В сущности, мышление Вяч. Иванова личностно и ипостасно, во всем множестве явлений бытия он видит ипостаси единой личности. Однако, «целостное переживание», о котором идет речь, уже неразложимо на составляющие и ими не исчерпывается, поэтому оно может быть Особенности метафорических конструкций в поэзии Вяч. Иванова анализируются нами в статье «Проблема слова в творчестве Вяч. Иванова» (Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки.- Донецк, 2002.- вып. 1). 1 67 определено через целый ряд признаков. Так возникает смысловая перспектива означивания единой сущности: «В те далекие эпохи, когда мифы творились воистину, они отвечали вопросам испытующего разума тем, что знаменовали realia in rebus. Не для того, чтобы украсить понятие солнца или окрасить его восприятие определенным оттенком, древний человек нарек его титаном Гиперионом или лучезарным Гелиосом, но чтобы ознаменовать его ближе и правдивее, чем если бы он изобразил его в виде нечеловекоподобного светящегося диска…И когда приходил другой мифотворец и возражал первому, что Солнце не Гелиос и не Гиперион вместе, а именно Гелиос, тогда как Гиперион его отец, и когда пришли потом новые мифотворцы и сказали, что Гелиос – Феб, и наконец, еще позднее пришли орфики и мистики и провозгласили, что Гелиос – тот же Дионис… то спорили о всем этом испытатели сокровенного существа единой res, и каждый стремился сказать о той же res нечто углубленнейшее и реальнейшее, чем его предшественник, восходя, таким образом, от менее к более субстанциальному познанию вещи божественной» (66, с.158). И Дионис, и Солнце передаются Вяч. Ивановым через множество явлений, каждое из которых является все более и более точным их ознаменованием. Но при этом каждый из элементов этого множества оказывается в процессе ознаменования приравненным к другому.Так и субъекты, дающие новые имена божественной res, тем самым оказываются объединенными поверх времен и пространств, их разделяющих. Именно поэтому в основе ряда стихотворений Вяч. Иванова лежит множественная метафора, своего рода решетка означиваний, напоминающая кристаллическую решетку драгоценных камней, строением которых Вяч. Иванов, как говорят мемуаристы, живо интересовался. Стихотворение «Улов» (сборник «Cor ardens») представляет собой именно такую сложную метафорическую конструкцию: роща уподобляется храму, завеса храма – апостольскому неводу, невод – песне «у преддверья белого 68 храма». Этот ряд соответствий выстраивается на основе общего признака: нищета, ветхость, разрушение. Но признак, проходя через этот ряд метафор, постепенно видоизменяется, сохраняя глубинную неизменность: то, что в отношении к листьям выглядит нищетой, в приложении к храму оборачивается особым узором, красотой, именно благодаря ей и оказывается возможным увидеть, что роща – это храм. Но красота Храма снова оборачивается нищетой и разрушением («…что рыбарей Господних / Неводы, раздранные уловом»), которые снова превращаются в «священные лохмотья». Предельное разрушение материи оказывается сотворением красоты, причем красоты сакральной, максимально приближенной к Божеству. Полной проявленности эта закономерность достигает в эпитетах, прилагаемых к песне («золотая, нищая песня»). Признак нищеты как раз создает циклическую завершенность композиции – песня, как и листья, с которых все началось, оказывается и золотой, и нищей (Ср.: «Обнищало листье золотое» – «золотая, нищая песня»). Однако это, опять-таки, отнюдь не «страшный контрданс соответствий» (О.Э.Мандельштам), когда одна отвлеченность порождает другую. Природное пространство – осенняя роща – уподобляется церкви. Церковь – второй, идеальный член сравнения, но по мере развертывания текста он приобретает реальные очертания: «Дым повис меж белыми столбами, Над дверьми сквозных узорочий Завесы». Но к этой реальности тут же снова достраивается невидимый, подразумеваемый план («…что рыбарей Господних / Неводы…»), по отношению к которому храм уже оказывается совершенно полной реальностью. В стихотворении реализуется двойственность метафоры: означаемое оказывается знаком, порождающим другие означаемые. Здесь действует 69 барочный принцип неточных подобий, в риторической конструкции, основанной на метафоре, общий признак нестатичен, а сдвигается по мере накопления метафор. Собственно, Вяч. Иванов тоже создает «мерцание символа» (А.Белый), создает конструкцию, осуществляющую это мерцание. Именно такой динамический бытийный символ дает возможность сконцентрировать и оживить уже отошедшие смыслы, взаимодействовать с мировым культурным контекстом. М.Волошин пишет: «Символ – не что иное, как семя, в котором замкнут целый смысл историй человечества, целая эпоха, уже отошедшая, целый строй идей, уже пережитых, целая система сознания, уже перешедшая в бессознательное. Эти семена умерших культур, развеянные по миру в виде знаков и символов, таят в себе законченные отпечатки огромных эпох» (41, с.166). О том, что данная закономерность – взаимодействие с мировым культурным контекстом – коренится в самой природе символа, говорит принципиальное сходство трактовок поэзии Вяч. Иванова такими разными творческими индивидуальностями, как В.Я.Брюсов и М.М.Бахтин. «Его образы-символы взяты не из жизни, а из контекста отошедших культур … вся его поэзия есть гениальная реставрация всех существовавших до него форм. Вяч. Иванов все время цитирует» (9, с.376377); «Ему равно близки все времена и страны, он собирает свой мед со всех цветов. Почти нигде он не говорит от первого лица, лучше сказать, от своего лица, предпочитая или надевать различные маски, или искать аналогии своим переживаниям в традиционных образах сказаний. Всем этим разнообразным материалом Вяч. Иваном пользуется с поразительной свободой, чувствуя себя, как дома, в самых различных веках, на всем протяжении мировой литературы и мирового искусства» (28, с.295-296). В обоих приведенных высказываниях общим моментом является не просто сам факт обращенности поэта к уже сказанному чужому слову, но 70 свобода, естественность ощущения себя поэтом в чужой культуре. Н.Бердяев писал, что «творчество в новом символизме рвется не к ценностям культуры, а к новому бытию» (17, с.229). В случае Вяч. Иванова, на наш взгляд, нет необходимости и таком разделении, для Вяч. Иванова характерно ощущение онтологизма культуры и, следовательно, объективности чужого слова. То, что чужое слово представляет собой особого рода бытие, особенно четко видно из стихотворения «У лукоморья дуб зеленый» (сборник «Римский дневник»). В основе его – цитата из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». То, что происходит в пушкинском тексте, Вяч Иванов переводит из деятельности творческой, порождающей слова – в деятельность созидательную, порождающую вещи: «Он над пучиною соленой Певцом посажен при луке» И то, что у Пушкина происходило само по себе, описывалось как некая объективно существующая ситуация, у Вяч. Иванова непосредственно связано с поэтом («певцом посажен»). То есть, если поэт говорит, что происходит или существует нечто, то это значит, что он это существующее сотворил и сам является его проявлением. И здесь, как в уже проанализированном стихотворении, язык поэзии оказывается равной языку в целом, она становится средством вхождения слова в язык, а реалий – в жизнь: «Растет в молве укорененный, Укорененный в языке», «И небылица былью станет, Коли певец ее помянет, Коль имя ей сумел наречь». В поэзии, как мы уже видели, слово становится именем, имя в данном случае – нечто связанное именно с данным предметом. Имя же – способ 71 перехода потенциального в реальное, возможность осуществления предмета вне времени, так как существование предмета обусловлено уже не законами реальности, а законами языка: «Дуб не вянет, Пока жива родная речь». Следовательно, в поэзии, которая одновременно представляет собой целое языка, слово перестает быть просто обозначением, но предмет, как уже было сказано, распредмечивается, становится живым. Именно таким образом стихотворение Вяч. Иванова распредмечивает пушкинскую строку. Ведь у Пушкина строка «У лукоморья дуб зеленый…» – лишь отправная точка, и не существенно, растет он или растет, живой он или не живой, он именно предмет, стоящий в центре происходящих событий («Русалка на ветвях сидит…» и т.д.). Вяч. Иванов превращает пушкинское слово в имя, причем уже внеситуативно, так как в центре стихотворения оказывается поэт, и данное им имя непосредственно вытекает из его внутренней сущности. Таким образом, своеобразие отношения Вяч. Иванова к чужому слову заключается в том, что он им отнюдь не пользуется для каких-либо личных нужд. Чужое слово, вошедшее в личный творческий контекст другого автора, он изымает из этого личного контекста и возвращает обратно – в поэзию, в язык, оставляя себе скромную роль посредника. Так определяет Вяч. Иванов назначение поэта: «Учит он – воспоминать» (стихотворение «И поэт чему-то учит» в сборнике «Римский дневник»). Он не просто возвращает к некоей общей основе, к первоначалу. Ряд исследователей установить символики источники, недостаточно. Так, Вяч. Иванов, откуда символы комментируя как правило, возникают, символику пытаются однако сборника этого «Эрос», исследователи отмечают: «…имя Диотимы во втором, уже посмертном эпиграфе к сборнику в составе «Cor ardens», используется как понятная 72 всем посвященным в историю «Гафиза» и «Фиаса» замена имени Зиновьевой-Аннибал… Однако для интерпретации стихотворений «Эроса», адресованных Диотиме, важно помнить, что это имя жрицы любви в платоновском «Пире»… С третьей стороны, пара ГиперионДиотима … спроецирована на творчество Ф.Гельдерлина… В таком же ракурсе следует понимать и «Эрос» сборника. Это и античный Эрос как бы любви – не случайно появление позднеантичного его «брата» Антэроса, и платоновский Эрос как восхождение по ступеням любви к красоте, и простая земная страсть» (88, с.219-220). Каждый символ выглядит как пересечение по крайней мере двух культурных контекстов. Еще более множественным представляется определение сущности одного из основных символов поэзии Вяч. Иванова – пылающего сердца: «Сюда вошли и древнейшие архетипы сердца крылатого и солнечного, огненного и влажного, символы сердечного Эроса и мистика Сердца Иисусова, масонская эмблематика сердечного ведения и куртуазная аллегорика любовного служения, космогония Сердца Мира и этика жертвенного обмена, «миф» о сердце творящем, погибающем и воскресающем… Основная ивановская интуиция «сердца» – через него прочерчена Богом путевая ось восхождения/нисхождения, через него лежит путь любвистрадания…» (70, с.85). Но и к такому длинному перечню еще можно кое-что добавить. Вопервых, в данном случае безусловно актуально то, что пишет по поводу сборника «Cor ardens» М.М.Бахтин: «В католических храмах имеются изображения символа сердца. Это сердце богоматери, пронзенное семью мечами, этот образ перешел в болонскую школу. Его-то и взял Вяч. Иванов» (9, с.379). А.Б.Шишкин в статье «Пламенеющее сердце в поэзии Вяч. Иванова» называет также следующие контексты, актуализированные в данном символе: образ пылающего сердца в третьей главе «Vita Nova» Данте, а также гомеровская Илиада, где Андромаха, подозревая, что Гектор убит, 73 выбегает из дома «с сильно бьющимся сердцем» (189, с.333-353). Но столь же важно в данном контексте и православное святоотческое учение о сердце как средоточии духовной жизни человека, Богопознания и Богообщения. И в русле этого учения написанная глава XXI «Сердце и его значение» в книге «Столп и утверждение истины» также может быть одним из источников происхождения символа пылающего сердца, особенно такие высказывания: «Сердце воспламеняется и горит, когда к нему прикасается луч божественного слова… Благодатное слово Божие действует на сердце «якого огонь горящ» (Иеремия, 20-9)» (175, с.53). Кроме того, стоящие у истоков всех этих концепций библейские слова, где фигурирует данный символ, также определяют его семантику: «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь; и стал я говорить языком моим» (Псалтырь, 38-4); «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лука, 24-32). Сходный ряд образов возникает и в трактате Г.С.Сковороды «Потоп змиин», базирующемся на учении Платона: «… солнце есть огненный шар и никогда не стоит, а шар состоит из многих циркулей, будто из колес. Ибо солнце не только есть чертог и вечно бродящая авраамская скиния, но и колесница… Не сердце ли наше горящее было в нас, когда говорил нам на пути? А просвещается лицо Божее тогда, когда в сердце солнечной фигуры является Слава Божия» (156, с.168). Символ, следовательно, тем и характерен, что проецируется в бесконечности, он представляет собой не просто ряд источников в чужих контекстах, но некую перспективу, связь. Для случая с пылающим сердцем важно, что здесь присутствуют одновременно философия и религия (причем и католичество, и христианство), жизненная реальность и литература, и древнейшие архетипы, и собственно ивановские воззрения. Данное словосимвол становится для них общей порождающей перспективой и способом 74 взаимообщения. В слове-символе все эти чужие слова поэт «воспоминает». Но одновременно и они «воспоминают» через поэта свое глубинное родство1. Заметим, что становление символа, его движение через чужие контексты можно определить через конструкцию «единое во множестве», то есть через конструкцию, родственную той метафорической решетке, которая была прослежена при анализе «Улова» и других стихотворений и которая, в принципе, является основополагающей в творчестве Вяч. Иванова. Это – ряд взаимоуподоблений, конструкция, которая знаменует присутствие единого во множестве, а множества – в едином, соприсутствие в мире цельности и дробления, отражение в мире явлений мира сущностей с их одинаковой таинственностью. Посредническая роль поэта проявляется в стихотворении «Дельфины» (сборник «Свет вечерний»). Оно прямо соотнесено с чужим текстом в эпиграфе. С точки зрения описываемой реальности эти два текста очень близки, в них совпадают опорные реалии («ветер, пахнущий снегом и цветами», «снасти и реи» – эти словосочетания в обоих текстах совпадают; «В снастях и реях засвистел ветер» – «Ветер, пахнущий снегом и цветами / Налетел, засвистел в снастях и реях»; – «вылетая на свободу из тесного ущелья» – «Вырываясь из узкого ущелья / На раздолье лазоревой равнины» – небуквальное совпадение). При этом первое предложение прозаического эпиграфа и первая строфа текста совпадают практически дословно, а далее нарастает расподобление. В прозаическом тексте реалии природы даны в последовательности, в развертывании (ветер в первом предложении описан подробно, дельфины столь же подробно описаны во втором). В тексте Вяч. Иванова они даны центрированно, центром выбран ветер, и, собственно, он организует циклическую композицию стихотворения (первая и последняя строчки совпадают). Кроме того, в эпиграфе ситуация раскрыта в соположении реалий («засвистел ветер» – «стали выпрыгивать дельфины»), а в стихотворении проясняются отношения между реалиями, они не просто связываются, но обращаются друг к другу («Вам, курносые, скользкие дельфины…»). Кроме того, если в прозе ветер – просто одна из реалий природы, то в стихотворении он одухотворен (вначале опосредованно, через сравнение – «Как Тритон, протрубил он клич веселья…», а затем непосредственно: «На гостины скликал вас, на веснины…»). Но самое главное отличие – именно в стихотворном тексте появляются античные демоны и божества (Тритон, Нерей, Борей), в результате чего действие переносится в другое время. Во второй строфе реалии современности еще сохраняются (кавказский Борей»), в третьей строфе перенос уже полностью состоялся: «На гостины скликал вас, на веснины, Стеклоокого табуны Нерея…». Закономерность перехода здесь та же, что и в ряде других стихотворений – прошлое вначале появляется как возможность, данная в сравнении («Как Тритон, протрубил он клич веселья…»), а затем сравнение оказывается реальностью. Таким образом, в поэтическом тексте реализуются закономерности, заложенные в тексте прозаическом: прошлое, живущее в пространстве, через сравнение переходит в настоящее, возможное и невозможное уравнены в правах. Именно пространство оказывается опорой для временного перехода. Функция данного текста – отталкиваясь от современности и от прозы, быть мостом для перехода к изначальной мифологической цельности. Ведь за всей ситуацией ивановского текста безусловно просматриваются события мифа о Дионисе: именно в дельфинов превратил Дионис тирренских разбойников, и эта сцена изображена на бронзовых дверях собора св. Петра в Риме, где жил Вяч. Иванов, когда писал сборник «Свет вечерний». То есть, Вяч. Иванов, говоря о дельфинах, видит в них тирренских разбойников, их превращение, стоящего за этим превращением Диониса, изображенного на дверях католического собора, то есть явно в уже отстоявшейся культурной реальности ассоциирующегося с Христом (а не только в личных умозрениях поэта). 1 75 Итак, действенность слова в бытии и внутри личности определяется его символической природой, то есть его способностью связываться и связывать нечто вне его находящееся воедино. Поэтому предпосылкой проявления символической природы слова является категория хаоса, стихии именно как начала разделенности, мотивирующее необходимость соединения. Своеобразие осмысления данной категории Вяч. Ивановым состоит в том, что хаос оказывается синонимичным стихии в своем деструктивном разъединяющем действии. Кроме того, хаос Вяч. Иванова соотносится не столько с бытием, сколько с личностью и предельно окультурен, так как воспринят сквозь призму Дионисийского мифа и других культурных контекстов. Творящий Логос противостоит хаосу именно как интенция соединения, собирания, что делает его идеальной перспективой слова-символа. Вяч. Иванов динамизирует древнегреческий Логос и акцентирует его внутриличностную природу. Символ определяется им как принципиальная множественность идеальных соответствий одной реальной данности, как ознаменование, т.е. процесс поиска в явлении сокровенной жизни сущности. Символ раскрывается в мифологической реальности. Отражением этой множественности на уровне поэтики является множественная метафора, проявляющая единую сущность в ряде явлений. Такого рода построение, основанное на прояснении сходства и различия ряда явлений, реализуется Вяч. Ивановым при использовании чужого слова. 76 ГЛАВА II. СЛОВО-СИМВОЛ В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЕЛОГО На первый взгляд, А.Белый среди русских символистов кажется наиболее философичным именно в западно-европейском смысле – в смысле попытки построения системы мировоззрения («…уже с 1887 года поволил собственную систему философии» (15, с.10)), схем, формул, параграфов и т.д.; он пишет, как правило, трактаты, а не эссе и даже не статьи, свои положения обосновывая длительными экскурсами в философию прошлого (в диапазоне от индийской философии до Канта). В то же время современные ему философы за своего А.Белого явно не признают. Достаточно вспомнить высказывание Н.Бердяева о том, что «у Белого знания были сомнительные, он все постоянно путал» (17, с.195). Еще беспощаднее Г.Г.Шпет: «Есть разбитые догматы, затасканные учения, есть теософическая пошлость, нет истинно-религиозного ни на что слуха» (190, с.71). Пожалуй, наиболее сочувственно относился к философии А.Белого Ф.А.Степун: «Его сознание подслушивало и подмечало все, что творилось в те канунные годы как в России, так и в Европе: недаром он сам себя охотно называл сейсмографом» (Степун Ф.А., Бывшее и несбывшееся. – Лондон, 1990, т.1, с.277. – Цит. по 20, с.504). О том же писал Г.Г.Шпет: «Назначение художника: увидеть. Увидели ли наши художники новую действительность в нашей старой сущности? Общее мнение, что увидел Блок. Я думаю, что увидел Андрей Белый» (190, с.367). Быть может, неприятие современников вызывала соcредоточенность самособирания, а отсюда настойчиво прокламируемая системность, стремление создавать некие всеобъемлющие структуры и внесение структуры в то, что в принципе структурированию не поддается (в эстетику, например). В этом отношении очень характерно, что А.Белый в равной степени сочувственно ссылается на индийскую, китайскую, 77 античную философию, на Фихте, Шеллинга, Гегеля, Канта, Спенсера и теософию. Здесь не эклектика, как может показаться, а героическая попытка систематизировать нечто бессистемное. В сущности, философия А.Белого держится на глубинном стремлении найти структуру в хаосе, внести в него систему (причем это может быть и хаос чужих воззрений, и хаос собственной жизни – безразлично) – именно не преодоление, а рациональное структурирование иррационального (не зря проблема хаоса занимает в его философии одно из важнейших мест – в отличие, например, от Вяч. Иванова) 1. Творчество А.Белого в целом, и особенно его философские построения представляют также попытку кристаллизации нового из постоянно подавляющего старого («…в подавляющем обилии старого – новизна так называемого символизма»(14,с.10)). И в этом смысле мысль Ф.А.Степуна о том, что философия А.Белого представляет собой «эстетическую конструкцию жизненной деструкции», нуждается в некотором уточнении: конструкции А.Белого (и умственные, и тем более поэтические) жизненной деструкции не воссоздают, лишь переводя ее в иной, художественный план. Они скорее отражают процесс созидания новых структур – не завершенный и не могущий завершиться, и вообще не приводящий ни к какому осязаемому результату, – и в жизни, и в творчестве. В этом смысле философию А.Белого можно назвать вполне модернистской по типу мирообраза, при этом мирообраз хаоса оказывается Очень характерно в плане критического отношения к философскому наследию А.Белого мнение немецкой исследовательницы М.Карлсон: «Трагедия заключалась в том, что он основывал свое мировоззрение на анахронических, идеалистических и оккультных доктринах… Попытки Белого отрицать Канта и вернуться к философским идеям допросвещенческой поры, религиозным по своей природе, не могли не быть обречены в эпоху анализа и технологии» (194, с.354). Попытки были обречены, но нельзя не видеть, что перечисленные исследовательницей доктрины так или иначе трактуют вопрос о непосредственно-действенной связи бытия и конкретной личности в конкретной жизни, так же как и Кант, все-таки не полностью отрицаемый А.Белым, именно эту связь до предела проблематизирует. Видимо, то, что действительно слышит А.Белый и на что реагирует, – это разрыв связей с бытием, и в этой ситуации обращение к такого рода доктринам было единственно возможным исходом, а трагедия, если она и была, то была трагедией органичной. 1 78 не данным, а тоже созданным автором изначально, созданным прежде всего выбором трудносопрягаемых контекстов, в которых, опять-таки, тем необходимее прозреть какую-то общую основу. И еще один очень важный момент. Если тип мышления и творчества Вяч. Иванова, несмотря на все дионисийство, современники совершенно справедливо называли аполлоническим, то у А.Белого, по-видимому, изначально было сильнее дионисийское начало, и тогда философия являлась как необходимость найти для этой дионисийской иррациональной наполненности – аполлоническую разрешающую и гармонизирующую форму, даже не найти, а математически вычислить. Раздел 1. Магия слова У А.Белого предпосылкой явления человека и слова является первозданный хаос. В отличие от Вяч. Иванова, А.Белый глобализирует данную категорию. Под хаосом А.Белый понимает, по сути, все бытие вне человека, вне его переживания и слова. Это понимание в статьях А.Белого выдержано абсолютно последовательно: и человек, и художник стоят перед «океаном бушующего хаоса» (14, с.116), «бунтующим хаосом» (14, с.202). Слово рождается непосредственно из душевного и жизненного хаоса и удерживает в себе все его черты. В логике А.Белого, слово вычленяет из хаоса явление, вносит в него элемент упорядоченности: «Когда я называю словом предмет, я утверждаю его существование. Всякое познание вытекает уже из названия. Познание невозможно без слов. Процесс познавания есть установление отношений между словами, которые впоследствии переносятся на предметы, соответствующие словам» (14, с.429). То есть для А.Белого первичны отношения между словами, а не между реалиями мира, собственно реальность для А.Белого сводится к 79 человеческому сознанию. Именно отсюда, возможно, столь частые ссылки на Риккерта, который представлял бытие как форму экзистенциальных суждений, утверждая, что суждение об объекте предопределяет его существование. Отсюда следует, что и познание как таковое есть создание слов, или, как пишет А.Белый в «Эмблематике смысла», «идей-образов», что в свою очередь предопределяет примат творчества над познанием (одна из наиболее часто повторяемых мыслей А.Белого), более того – «познание – один из аспектов творчества». Если реальность есть слово и отношения между словами, то отсюда совершено органично вытекает, что творчество также является прежде всего творчеством словесным: «И первый акт творчества есть наименование содержаний; именуя содержания, мы превращаем их в вещи; именуя вещи, мы бесформенность хаоса содержаний претворяем в ряд образов; мы объединяем образы эти в одно целое; целостностью образов является наше «я»» (14, с.129); «В слове дано первородное творчество, слово связывает бессловесный незримый мир, который роится в подсознательной глубине моего «я», с бессловесным миром, который роится вне моей личности. Слово создает новый третий мир – мир звуковых символов, посредством которого освещаются тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира, внутри меня заключенного, мир внешний проливается в мою душу, мир внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев, окружает меня извне и изнутри, ибо я – слово и только слово» (14, с.430). В обеих статьях («Эмблематика смысла» и «Магия слов»), как мы видим, воспроизводится один и тот же ход мысли: первоначалом творчества является слово, слово рождается на границе двух хаосов – внешнего и внутреннего, и потому слово конституирует личность. Отсюда возникает у А.Белого концепция слова-плоти, имеющая гораздо более реальный, неметафорический смысл, чем у Вяч. Иванова. Приравнивая 80 слово к личности, А.Белый, по сути, говорит о необходимости воплощения личности в слово, а слова – в личность: «Творческое слово есть воплощенное слово (слово-плоть), и в этом смысле оно действительно, символом его является живая плоть человека» (14, с.434). В живом, воплощенном слове А.Белый выделяет, во-первых, образ и понятие, во-вторых, значение и звучание. И живое, творческое начало в слове он связывает лишь с образом и звучанием, логическая же сторона им третируется: «…зловонное слово, полуобраз – полутермин – ни то, ни се, гниющая падаль, прикидывающаяся живой» (14, с.436); «Обычное прозаическое слово, то есть слово, потерявшее звуковую и живописную образность, – зловонный, разлагающийся труп» (14, с.438). Именно поэтическое слово, в котором звуковая и образная сторона выходят на первый план, оказываются словом-плотью, подлинно живым словом («Поэтическая речь и есть речь в собственном смысле» (14, с.433)). А.Белый много говорит о самостоятельном значении звука, о его онтологической значимости: «В звуках соприкасаются пространство и время, и потому-то звук есть корень всякой причинности; связь звуковых эмблем всегда подражает связи явлений в пространстве и времени» (14, с.431). По А.Белому, звук переводит пространственные отношения во временной план (ведь речь развертывается во времени) и, следовательно, звук создает новый мир, творцом которого оказывается сам субъект речи, он же творит причинные отношения в этом мире, «которые уже потом познаются» (14, с.431). Слово «создает новый третий мир, мир звуковых символов», – пишет А.Белый в «Мастерстве Гоголя» (14-а, с.31). Яркий пример - стихотворение «Слово» в сборнике «Звезда», где слово не фигурально, а буквально творит мир, и это творение осмысляется как рождение звука, как усилие говорения: «Там, летя из гортани, / Духовеет земля»1, то есть мир возникает из слова и от этого же слова одухотворяется. Следующие 1 Здесь и далее текст цитируется по изданию: Белый А. Стихотворения и поэмы – М. – Л., 1966. - 656 с. 81 строки стихотворения можно трактовать как дальнейшие действия Бога, творящего словом: «Выдыхаются / Души / Неслагаемых слов – / Отлагаются суши / Нас несущих миров», а точнее, Бог творит Слово, а Слово творит мир, и эти процессы взаимосвязаны. Более того, слово само есть Дух, и потому оно творит и управляет миром («Миром сложенным / Волит – Сладких слов глубина»). В стихотворении воссоздан не только момент творения, но и начало человеческой истории – слово Божие к Моисею из Неопалимой Купины («И глубинно глаголет / Словом слов Купина»), и отношения человека с Богом до конца истории («И грядущего / Рая – /Тверденеет гряда, / Где, пылая, сгорая, / Не прейду: никогда!»). Последние слова исходят не от человека, а от Неопалимой Купины, от воплотившегося Бога. В этом парадокс освещения слова А.Белым: говоря о Слове, он имеет в виду лишь Слово, которое у Бога, но использует для его воспроизведения человеческие слова. И все стихотворение можно представить как попытку воспроизвести слово Бога и постигнуть его обыкновенными человеческими словами. Заметим, что здесь А.Белый воссоздает одну из важных проблем русской религиозно-философской мысли – проблему соотношения слова Божьего и слова человеческого. Оно может мыслиться по-разному в зависимости от представления о степени проявленности творца в тварном бытии.Если творец присутствует в творении, то и слово человеческое является и проявлением, и путем к Слову Божьему (концепция С.Л.Франка), если же творец не проявляется в творении, то и слово человеческое и Слово Божие разноприродны. А.Белый, с одной стороны, видит эту разноприродность: «Выдыхаются души / Неслагаемых слов», то есть слов, которые не могут быть сложены человеком, не складываются по законам человеческого языка. С другой стороны, слово Бога в стихотворении проходит целый ряд воплощений: вначале оно воплощается 82 в творимом Богом мире, отождествляясь с ним («Там, летя из гортани, / Духовеет земля»), затем оно отождествляется с волей, творящей этот мир («Миром сложенным / Волит – / Сладких слов глубина»), и, в конце концов, с самим творцом («И глубинно глаголет / Словом слов Купина»). В процессе этих отождествлений проясняется расстояние между словом Бога и словом человека и масштабы напряжения творческого духа, необходимого для преодоления этого расстояния, но одновременно – Слово Божие становится средоточием слова человеческого, а слово человеческое – той множественностью, в которой оно проявляется как Единое («Слово слов»). Слово А.Белого – это звукообраз, т.е. открытие образности взятого самого по себе звука (в статье «Магия слов» он говорит в основном о звукоподражаниях, однако в принципе эта закономерность может распространиться и на другие слова, важна сама сращенность образа со звуком помимо понятия, восприятие слова как «звучащей среды» (14, с.431)). При этом звукообраз у А.Белого является не специфическим свойством поэтического слова, но относится к языку в целом, присущ ему изначально: «Весь процесс творческой символизации уже заключался в средствах изобразительности, присущих самому языку, в языке, как в деятельности, органическим началом являются средства изобразительности» (14, с.440); «Слово рождало образный символ – метафору, метафора представлялась действительно существующей» (14, с.145). Тогда поэтическое творчество является лишь способом динамизации творческих способностей самого языка, их выявления и познания: «В формах изобразительности есть нечто общее, это стремление расширить словесное представление данного образа, сделать границы его неустойчивыми, породить новый цикл словесного творчества, т.е. дать толчок обычному представлению в слове, сообщить движение его 83 внутренней форме» (14, с.442); «Поэзия прямо связана с творчеством языка» (14, с.447). В этом пункте осмысление слова А.Белого перекликается с учением о внутренней форме слова А.А.Потебни1. В некоторых аспектах А.Белый упрощает концепцию А.Потебни. Если у А.Белого внутренняя форма – просто заложенный в слове образ, то у А.Потебни этот образ осмыслен на фоне человеческого сознания в целом, он отрефлектирован и более четко структурирован. Для А.Белого внутренняя форма даже, собственно, не образ, а представление, причем представление в обычном философском смысле: «… изменение внутренней формы слова ведет к созиданию нового содержания в образе; тут дается простор нашему творческому восприятию действительности; это расширение происходит и там, где, по-видимому, с формальной стороны имеем дело с анализом представления о предмете» (14, с.442). Если у А.Потебни внутренняя форма есть одна из составляющих слова, то у А.Белого она возникает скорее на границе между словами: «…когда мы говорим: «луна – белая», то мы приписываем луне один из признаков; луна и золотая, и красная, и полная, и острая и т.д. Мы можем разложить луну на ряд качеств, но мы должны помнить, что такое разложение представления о луне, как комплексе признаков, есть начало процесса, мы как бы плавим представление о луне, чтобы каждый из элементов комплекса соединить с расплавленными комплексами других представлений в одном, двух или многих признаков; анализ здесь предопределен потребностью в синтезе…» (14, с.442). Здесь внутренняя форма слова активизируется при взаимодействии с другими словами (при Л.Силард совершенно справедливо замечает, что А.Белый «исходил из учения Потебни об образной природе слова, но переакцентирует его для своих теоретических нужд» (151, с.186). А.А.Потебня под внутренней формой слова понимает его ближайшее этимологического значение. Кроме того, «внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль» (129, с.115). 1 84 приложении к слову «луна» каждого нового эпитета изменяется заложенное в этом слове представление), собственно внутренняя форма у А.Белого есть категория плана речевой синхронии. В процессе речи представление, заложенное в слове, вначале разлагается на составляющие, а затем конкретизируется. У А.Потебни же, наоборот, внутренняя форма в процессе речи стирается. В целом нужно сказать, что А.Белый не просто переакцентирует, но прежде всего охудожествливает концепцию А.Потебни, сводя к минимуму рациональный элемент слова. Безусловно, воззрения А.Потебни создали научную базу для утверждения о значимости звука, но характерно, что у А.Потебни звук конституирует прежде всего значение, а у А.Белого – образ, порождаемый субъектом речи. Если у А.Белого центр тяжести смещается в сторону художественной образности, то у А.Потебни присутствует, как минимум, равновесие между словом и образом. Кроме того, в осмыслении слова у А.Потебни значительную роль играет исторический аспект, А.Белый же эту историю переводит в план синхронии, актуализируя внутреннюю форму (прошлое), трансформируя ее в образ и символ. Он парадоксальным образом усиливает в слове субъективный момент, ослабляя психологический, связанный с восприятием. Внутренняя связь слова и предмета определяет магичность слова, то, что у А.Потебни остается прерогативой мифологического мышления, у А.Белого становится долженствованием и идеальной перспективой современного развития языка: «Словом я подчиняю явление, покоряю его; творчество живой речи есть всегда борьба человека с враждебными стихиями, его окружающими» (14, с.431), «…звуком слова я укрощаю эти стихии, процесс наименования пространственных и временных явлений словами есть процесс заклинания, всякое слово есть заговор, заговаривая явление, я, в сущности, покоряю его» (14,с.430), «…всякое живое слово 85 есть магия заклятия: никто не докажет, будто невозможно предположить, что первый опыт, вызванный словом, есть вызывание, заклятие словом никогда не бывшего феномена, слово рождает действие…» (14, с.434) 1. В поэзии А.Белого также преломляется концепция магии слова, его заклинательные способности становятся предметом осмысления, но не как с необходимостью реализуемое устремление, а как проблема, вытекающая из особой природы слова поэтического. В ранних стихах возникает идея тождества образа-символа и реальной сущности. В стихотворение «Образ вечности» эту идею маркирует своеобразное словоупотребление, когда к образу прилагаются слова, обычно связанные с личностью («образ… встретил», «Там стоит, / Там манит рукой…») При этом слово «образ» оказывается относящимся и к человеку, и к отвлеченной философской категории («Образ вечности» – название стихотворения, «Образ возлюбленной – Вечности…» – первая строчка). Действие этого образа – всеобщая динамизация («И летит мир предо мной», «Река, что время, – летит – кружится»). Следовательно, тождество оказывается живым и действенным, что дает возможность заклинания пространства и времени с помощью этих образов-символов. Наиболее характерный пример – стихотворение «Отчаяние» в сборнике «Пепел». Оно представляет собой именно заклинание, которое оказывается возможным потому, что связь слова и предмета проходит через поэтическую личность: заклиная Россию исчезнуть, поэт понимает, что должен исчезнуть и сам. Но парадокс состоит в том, что именно на грани исчезновения черты данного феномена проступают ярче и четче. На грани уничтожения в этом пространстве пробуждается новая катастрофическая жизнь, напряженное движение: Сходные высказывания мы уже наблюдали у Вяч. Иванова и П.Флоренского («Магия действия есть магия слова, магия слова – магия имени» (66, с.411), «Они (жрецы и волхвы) знали другие имена богов и демонов… и в знании имен полагали основу свой власти над миром» (174, с.183). 1 86 «Где стая зеленых дубов Волнуется купой подъятой», «Где по полю Оторопь рыщет, Восстав сухоруким кустом». Собственно, вся множественность этих катастрофических движений характеризует пространство, обреченное исчезнуть, растворясь в еще больших пространствах («Исчезни в пространство, исчезни»). Это движение как бы расшатывает границы реального феномена, отделяющие его от бесформенного хаоса. Аналогичные процессы происходят в стихотворении со временем: «В пространство пади и разбейся, За годом мучительный год» Не просто время как поступательное движение (за годом год), должно исчезнуть, но (единосущностью время должно уничтожения раствориться объединены в различные пространстве временные отрезки, следующая строчка «Века нищеты и безволья» по смыслу равнозначна предыдущей). Но пространство тоже парадоксально. С одной стороны, оно с самого начала характеризуется как «сырое, пустое раздолье» – то есть уже исчезающее. Затем оно – по воле поэта – начинает застраиваться: «…стая зеленых дубов Волнуется купой подъятой», «Жестокие, желтые очи Безумных твоих кабаков» И затем уже это пространство должно исчезнуть в финале. То есть перед нами – действительно заклинание, работающее в пределах данного текста – вначале вызывающее к жизни определенные реалии и затем отправляющие их в небытие. То пространство, которое строит лирическое 87 «я», существует на грани уничтожения, но не исчезает. Собственно, заклинание это такого рода, что полностью оно исполниться не может, но при этом не может и не звучать.Заклиная пространство, поэт не становится магом – точнее, становится, но лишь наполовину, его творения зыбки и призрачны, они стоят на грани небытия.1 В цикле «Прости» проявляется в буквальном смысле магия поэтического слова: связи между явлениями поэт устанавливает на основании созвучия слов, их обозначающих. И связь между явлениями действительно возникает: поток тьмы А.Белый ассоциирует с током лет («И ночь встает… Потоком (током лет) замоет свет…»), его же ассоциирует с покровом («Покров угрюмой ночи – / Потоком томной тьмы»), а покров – с кровом («покров (угрюмый кров)»). Из звукового созвучия высекается созвучие смысловое: например, связь потока и покрова основана на общем признаке тьмы (тени), и эта связь, кстати, тоже подчеркнута звуковым созвучием («томной тьмы»). На уровне поэтики магичность слова отражается в том, что границы слова расширяются. Ю.М.Лотман очень проницательно заметил, что благодаря звуковым повторам «семантика выходит за пределы отдельного слова – она «размазывается» по всему тексту» (97,с.439). Конечно, признать текст единицей семантики, трактовать его как «большое слово» вряд ли есть основания, но безусловно, что слово у А.Белого переходит в другое слово, не отделяясь от него, новые же моменты в семантике Проблема недовоплощенности символистского магизма отрефлектирована в стихотворениях «Маг» и «Прости» (сборник «Урна»). В стихотворении «Маг», посвященном В.Брюсову, этот поэт называется магом, однако описывается этот магизм в сатанинских реалиях: «Во сне ты Повис над бездной ледяной» «С тобой вперил твой верный филин Огонь жестоких, желтых глаз» – пока об этом не говорится впрямую,но далее: «Ты шел путем не примиренья – Люциферическим путем» 1 88 продуцирует не текст как целое, а они возникают на переходе, на стыке слов. Значение слова перестает соотноситься с данным комплексом звуков и букв, оно становится опосредованием, связью и, следовательно, теряет определенность, очерченность, а представляется как единая энергия, проявленная во множестве. Вполне возможно, что А.Белый сознательно стремился к такому выходу слова за очерченные пределы, пытаясь создать некую новую речь. К.Н.Бугаева вспоминает, что «он говорил, что явственно слышит ритм и тональность этой будущей речи… Все возможные знаки мира объединятся и свяжутся в непредставимую ныне ритмично певучую ткань» (32, с.212). Однако процесс создания звуковой ткани в этой новой речи не является самодовлеющим, и не к нему одному сводится воздействие этой новой речи. Так, В.В.Фещенко-Такович по поводу цикла «Маски» пишет: «В данном случае выкристаллизовывается некий абстрактный язык звуков речи… вариации звуков… ни к чему не отсылают, кроме как к самим себе в разных контекстуальных преломлениях» (178, с.105). Но скорее всего, звуковые повторы отсылают не к самим себе, а к значению, но только текучему, неопределенному, силящемуся создать сплав разных, но близких значений. Более того, звуковые повторы парадоксальным образом оживляют семантику слова, делают ее живой, становящейся, заставляют читателя воспринимать ее не механически, а искать общего в ряде объединенных звуковым повтором слов. И в вышеупомянутом цикле перед нами слово, состоящее из четырех слов: «покров – поток – ток – кров» – это единое синтетическое образование, тут не только производные и производящие слова, но и переход значений: покров струится как поток, при этом поток является кровом. 89 Итак, мы рассмотрели концепцию магического слова в творчестве А.Белого. Основанием для проявления магии слова и появления слова является здесь хаос. Слово же является способом упорядочивания хаоса и творчества из него художественных образов, что, однако, отнюдь не отменяет его (хаоса) существования. Рождаясь на границе двух хаосов – внешнего и внутреннего – слово конституирует личность, становится ее живой плотью. Осмысление слова-плоти у А.Белого связано с выдвижением на первый план его образной и звуковой стороны, в чем он видит принципиальную родственность языка как такового с языком поэзии. Звуковая сторона слова у А.Белого связана с образом предмета и с самим предметом (как у Вяч. Иванова в духе концепции имеславия), что и определяет магичность слова. При этом в творчестве А.Белого глубоко отрефлектирована напряженность между словом мага, в действительности изменяющего и преобразующего реальность, и словом поэта, видящего магическую перспективу своего слова, но не имеющего возможности ее воплотить в рамках искусства. Раздел 2. Символическое слово: сущность и структура Вслед за А.Потебней А.Белый утверждает символическую природу слова: «Но слово – символ, оно есть понятное для меня соединение двух непонятных сущностей: доступного моему зрению пространства и глухозвучащего во вне внутреннего чувства, которое я называю условно (формально) временем» (14, с.430). Можно сказать, что символическое слово является способом соединения личности и мира, как, впрочем, и всякое слово. Но А.Белый акцентирует здесь внимание на непонятном, недоступном человеческому восприятию. Именно оно, концентрируясь в 90 символическом слове, соединяется с человеческой личностью, не утрачивая своей таинственности1. Трактуя понятие символа, А.Белый исходит из кантовско- риккертовского разъединения феноменального и ноуменального мира: при этом ноумены непознаваемы, а человек имеет дело только с явлениями, феномены – вне времени и пространства, вне причинности. Здесь явно возникает зазор: если феномен все-таки является порождением ноумена, то как он может быть по всем базовым характеристикам его отрицанием? Этот зазор и заполняет категория символа. Кант пишет, что лишь условное, «символическое» знание позволяет нам достигнуть некоторой полноты познания (71, с.181). Эту проблему заметил и сформулировал прежде всего П.Флоренский. В статье «Имеславие как философская предпосылка» он пишет: «Всю жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. Это – вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме символа» (172, с.46). Именно поэтому А.Белый постоянно подчеркивает древнегреческую этимологию слова «символ», что наличие самого этого явления предполагает какую-то связь между ноуменом и феноменом. «Происходящее от греческого οuμβαλλω (соединяю вместе) понятие о символе указывает на соединяющий смысл символического познания. Подчеркнуть в образе идею значит претворить этот образ в символ, и с этой точки зрения весь мир – «лес, полный символов», по выражению Бодлера» (14, с.29). На этом объединяющем значении символа основано объяснение специфики искусства: «Выражаясь кантовским языком, – всякое искусство, исходя из феноменального, углубляется в ноуменальное, формулируя ту же мысль языком Шопенгауэра – всякое искусство ведет Положения данного раздела кратко изложены в нашей статье «Слово-символ в творчестве А. Белого» (Литературоведческий сборник.- Донецк, 2003.- вып.13). 1 91 нас к чистому созерцанию мировой воли, или, говоря в духе Ницше, – всякая форма искусства определяется степенью проявленности в ней духа музыки…» (14, с.153). Идея, ноумен, мировая воля, дух музыки – все эти сополагаемые понятия разных философских систем маркируют в принципе одно: некое общее начало, связь которого с реальной данностью проблематична, она задана, но не дана, и символ в этом плане и представляет собой возможность реализации заданного. Мысль о том, что символ есть способ связи мира феноменов с миром ноуменов, земного с абсолютом, является сквозной в поэзии А.Белого. Так, в стихотворении «Солнце» в этой роли выступает символ солнца, этот путь и одновременно граница: «Солнце – к вечному стремительность, Солнце – вечное окно в золотую ослепительность». Стихотворение посвящено К.Д.Бальмонту (связано с его сборником «Будем как солнце», здесь же присутствуют характерные для него рифмы), одновременно в стихотворении существует и ивановское освещение этого символа («Солнцем сердце зажжено»). Точнее, это общесимволистский символ с характерной религиозно-философской подоплекой (Г.С.Сковорода, затем П.А.Флоренский), в становление его каждый поэт добавляет свои обертоны смысла, воспроизводя чужие. Потому, обладая такой смысловой нагрузкой, данный символ и становится представителем мира ноуменов в стихотворении. Очень характерно, что этот символ определяется через другой символ, столь же разработанный в культуре и столь же актуальный для символистов, – розу: «Роза в золоте кудрей, Роза нежно колыхается» Сопоставление производится по цветовому признаку: 92 «В розах золото лучей… Роза в золоте кудрей». Объединяющим моментом является золото, присутствующее и в розах, и в личности. Таким образом, роза становится промежуточным символом, соединяющим солнце и сердце, солнце и личность. «В сердце бедном много зла Сожжено и перемолото. Наши души – зеркала, Отражающие золото» Способом перехода между солнцем и личностью является, опять-таки, общий признак (способность сжигать зло), и таким образом в стихотворении выстраивается тройной символ «солнце – роза – сердце», та метафорическая решетка, которую мы наблюдали у Вяч. Иванова. Однако столь же глубоко в поэзии А.Белого ощущается разрыв между этими мирами, и мир феноменов представляется ужасающим искажением мира ноуменов. Пример тому – стихотворение «Отставной военный». На первый взгляд, это просто сатирическая зарисовка, обличающая пошлость быта. Эта пошлость, собственно, и возникает из-за искажения, личины, в которой ноумен может явиться в мире феноменов. (О «четком ценностном разведении явленного и сущностного миров» пишет в своей статье Л.Силард (153, с.172)). Но в контексте сборника, на фоне предыдущих стихотворений, стилизованных и ностальгических по отношению к прошлому, оно воспринимается прежде всего как болезненный узел переплетения прежнего и теперешнего. Буквально следующее: не только изысканный быт, не только всяческие красивости и украшения входят в понятие старины, но и война, смерть. И если по отношению к изысканному и красивому можно сказать, что «все это уж было давно» (стихотворение «Воспоминание»), т.е. дистанциироваться, то отставной генерал – это то 93 же самое прошлое, но от его присутствия в настоящем дистанциироваться невозможно. Генерал говорит об одном и том же – о множестве смертей, о необходимости и обыденности уничтожения: «И под хохот громовый Проснувшейся пушки Ложились костьми батальоны»; «Не тот, так другой погибал, умножались могилы…»; «Еще на Кавказе сжигали аул за аулом…». Смерть здесь безлична, безымянна, так же, как безличны и безымянны те, кто убивают – «мы», «не тот, так другой». Смерть для генерала отнюдь не событие, а атмосфера, в которой он жил и продолжает жить еще и сейчас. Жизнь в этой атмосфере для него так же естественна, как еда и питье (почему и разговор ведется именно в такой обстановке). Еда и вино создают еще и карнавальный эффект – пир рядом со смертью, пир на краю смерти. Но этой карнавальности никто не замечает, так же, как не замечает присутствия смерти. То есть для людей, изображенных в стихотворении, карнавал и есть обыденная жизнь. И он разворачивается именно на фоне ее реалий и реалий природы: «Вились вкруг террасы цветы золотые настурции»; «В кленовой аллее носились унылые стоны кукушки». 94 Эти детали не только обыденны, но и символичны – и в том плане, в каком символична деталь в прозе, и в том, в каком она символична у символистов: золотые цветы настурции, в контексте предыдущей части, явно напоминают о солнце и о Солнце (как об Едином, о символе), в то время как кукушка – об уходящем времени. Этот ноуменальный мир присутствует в мире феноменов, в этом карнавальном разгуле плоти, через свои искаженные подобия. Возможно, одно их таких подобий – смерть, ведь она связана с наступлением «иного неба и иной земли», когда и проявятся непознаваемые сущности. Возможно, А.Белый потому так и детален (по-гоголевски) в своем видении феноменального мира, что все эти детали представляются ему «вещами в себе», нераскрывающимися сущностями и их подобиями. Такая полярность, свойственная и А.Белому и А. Блоку, – сосуществование «внежизненных», «внереальных», «мистических» и так называемых «реалистических» стихотворений – наверное, общесимволистская особенность. К тому же, здесь нет сатирического отталкивания от обыденности, а скорее пристальное внимание и удивление человека, попавшего в незнакомую обстановку. Мир отвлеченных сущностей и мир явлений – это разные миры, однако они, без сомнения, друг с другом связаны, и поэт, оказавшись в реальном мире, должен эту связь раскрыть. Потому при описании этого мира и нет мелочей, точнее, мелочь приобретает здесь барочный самодовлеющий характер: «Мальчишки из саду сквозь ели крича, выгоняли теленка» «Наливались на лбу его синие жилы» и т.д.) 95 В каждой мелочи может присутствовать Иное, хотя может и не присутствовать, но все вместе взятые эти детали в их алогичной связи должны напомнить именно о существовании Иного. Итак, символ А.Белый представляет как связь между феноменальным и ноуменальным миром, порождающую попытку постижения мира ноуменов в поэтическом творчестве и, как следствие, трагическое положение поэта, разорванного между двумя мирами. Если символ – связь мира феноменов с миром ноуменов, то бытие как целое представляет собой символическое единство. Отсюда и вытекает, что символ здесь – категория универсальная, что уже было замечено исследователями: «…для Белого символ – и художественный образ, и окно в мистической, запредельный мир, и категория мира реального. Символ, по Белому, – универсальная категория» (162, с.14). Но, как всегда у А.Белого, самая универсальная, самая всеобъемлющая категория имеет сложную структуру, парадоксальным образом оказывается, что всеобщее единство внутри себя не едино. Рассмотрим, как возникает эта сложная структура. Бытийность символа, разлитость символов в бытии – сквозная мысль А.Белого: «Действительность, сотворенная Богом, есть действительность символическая, о такой действительности нельзя сказать, что она проявляется в нашей действительности, но о ней можно сказать, что она – есть, о ней нельзя, однако, сказать, что она есть бытие, говоря так, мы долженствование бы предопределяли бы бытием, теория знания приходит к обратному, но нельзя сказать про символическую действительность, что ее нет, тогда ценность не предопределяла бы долженствования» (14,с.105106). Следует обратить внимание, что символическая реальность сама определяется как символ некоей тайны, за символической реальностью стоит 96 Единое, следовательно, символ можно осмыслить как взаимодействие разных ее сфер:1 «Символ есть образ, взятый из природы и преобразованный творчеством. Символ есть образ, соединяющий в себе переживание художника и черты, взятые из природы. В этом смысле всякое произведение искусства символично по существу» (14, с.81). Переживание является одним из главных элементов, создающих сложную структуру слова-символа. То, что оно является главной движущей силой в формировании символа и в восприятии мира как «чащи символов», видно в воспроизводимом в «Как я стал символистом…» детском воспоминании: «…вспоминаю себя в одной из игр, желая отразить существо состояния сознания (напуг) я беру пунцовую крышку картонки, упрятываю ее в тень, чтобы не видеть предметности, но цвет, я прохожу мимо пунцового пятна и восклицаю про себя: «нечто багровое», «нечто» – переживание, багровое пятно –форма выражения; то или иное вместе взятое – символ (в символизации); «нечто» неопознанное, багровая крышка картонки – внешний предмет, не имеющий отношения к «нечто», он же – видоизмененный тенями (багровое пятно) итог слияния того (безобразного) и этого (предметного) в то, что ни то и ни это, но третье; символ – это третье, построив его, я преодолеваю два мира (хаотичное состояние испуга и поданный мне предел внешнего мира); оба мира недействительны; есть третий мир, и я весь втянут в познание этого третьего мира» (15, с.148). Уже из этого описания видно, что в символе объединяются воспринимаемый сознанием предмет и состояние этого сознания, причем объединяются с внешней точки зрения достаточно 1 Мысль о чем-то несуществующем, которое все-таки есть, вытекает не только из восточной философии, на которую ссылается А.Белый, но и из кантовского двоемирия феноменов и ноуменов, главное же, такой промежуточный статус символической реальности, ее значимое и означиваемое отсутствие в феноменальном мире, делает ее средоточием ценности и смысла: «…нам открылось, что единая символическая жизнь (мир ценного) неразгадана вовсе, являясь нам во всей простоте, прелести и многообразии, будучи альфой и омегой всякой теории, она – символ некой тайны, приближение к этой тайне есть все возрастающее, кипящее творческое стремление… и только в творчестве остается реальность, ценность и смысл жизни» (14, с.171). 97 произвольно и случайно, однако для самого этого сознания, исходя из его внутреннего опыта, вполне убедительно. Далее А.Белый обосновывает категорию видимости как обозначение той предметной данности, с которой имеет дело воспринимающий субъект, при этом видимость есть переходный момент между внутренней и внешней реальностью: «Что такое действительность? С точки зрения современной психологии действительность есть совокупность возможного опыта (внутреннего и внешнего). Теория знания определяет этот опыт как содержание нашего сознания; опыт внешний есть часть опыта внутреннего в формах пространства действительности. – Видимость времени; видимость переживается в – малая искусстве, то часть есть становится в подчиненное положение к опыту внутреннему; зависимость внешнего опыта от опыта внутреннего не осознается, искусство явно выражает эту зависимость» (14, с.205). Видимость и в действительности является способом перехода внешней реальности во внутренний опыт личности, искусство же активизирует этот переход. Но в искусстве, так же, как и в детском воспоминании поэта, взаимоотношения между видимостью и переживанием достаточно произвольны, алогичны: «…он (символ) осуществляется в свободе отношения к образам видимости, как к модели безобразных переживаний внутреннего опыта, свобода сказывается в выборе образов и в преобразовании их в том или ином направлении, не совпадающем с направлением изменения образов» (14, с.205). Но, в отличие от символа в детском воспоминании, здесь символ оказывается убедительным не только для внутреннего опыта творящего субъекта, но и для внутреннего опыта субъекта воспринимающего, убедительным для бытия как целого. Итак, слово-символ представляет сложную структуру: в нем соединяются образ переживания и образ видимости, но эти образы также неоднородны: образ видимости представляет собой, во-первых, ту 98 реальность, которая воплощается в художественном произведении, то, что дано, так сказать, на входе, а также материальную данность произведения, то, что уже воплощено. Образ переживания также распадается на: собственно душевную деятельность художника в создании символа и ту идею, носителем которой данный символ является. Отсюда следует целый ряд триад, с помощью которых определяется символ и которые суть различные комбинации вышеперечисленных элементов, их связи и способы действия: «Символ состоит из: 1) образ (плоть), 2) идея (слово), 3) живая связь, предопределяющая и идею, и образ (слово, ставшее плотью)» (14, с.228); «Смысл символа: 1) символ, как образ видимости, возбуждающий наши эмоции конкретностью его черт, которые нам заведомы из окружающей действительности, 2) символ, как аллегория, выражающая идейный смысл образа: философский, религиозный, общественный, 3) символ, как призыв к творчеству жизни» (14, с.238); «Три лозунга символизма: 1) Символ всегда отражает действительность, 2) Символ есть образ, видоизмененный переживанием, 3) Форма художественного образа неотделима от содержания» (14, с.257). Однако символ не сводится ни к одному из этих элементов, ни к их сумме, символ можно возвести лишь к «переживаемому содержанию сознания». В зависимости от преобладания тех или иных элементов в структуре, А.Белый выделяет разные пути воплощения символа: «Творчество предопределяет созерцание в учении о творческом примате функций сознания: художественный символ есть всегда символ того, что единство (а) предопределяет дуализм между «в» и «с». И художественный символ всегда триада «авс», где «в» – функциональная зависимость элементов формы, «с» – субъектная (переживаемая) причинность, «а» – образ творчества. В зависимости от того, является ли для художника «а» prius’oм творчества (Платонова идея) или post-factum’ом (продукт деятельности), разно осознание художественного символизма. При «вс-а» художник есть 99 творец этого единства, при «а-вс» единство осуществляется в образе посредством деятельности художника (как медиума)» (14, с.212). А в «Эмблематике смысла» символическая триада определяется совершенно по-другому: «…символ есть триада «авс», где «а» – неделимое творческое единство, в котором сочетаются два слагаемые («в» – образ природы, воплощенный в звуке, краске, слове, и «с» – переживание, свободно располагающее материал звуков, красок и слов, чтобы этот материал всецело выразил переживание» (14, с.257). Но и из этой триады следуют иные типы творчества, иные пути воплощения символа: «…в первом случае переживание вызывает образ, во втором: образ вызывает переживание, в третьем случае видимость образа поглощена переживанием, самый образ видимости есть лишь предлог его передать и потому форма образа свободно изменяется, самые образы свободно комбинируются (фантазия); такова романтика символизма, таковы основания называть символизм неоромантизмом. Во втором случае переживание связано образом видимости… И поскольку форма воплощения образа (техника искусств) касается самого образа, составляя как бы его плоть… отсюда связь между символизмом и классическим искусством Греции и Рима» (14, с.251). Эти две триады не противоречат друг другу, а взаимно друг руга дополняют: первая осмысливает взаимоотношения внутри творческого единства («а»), определяя его как формально-содержательное единство, когда проясненная переживанием зависимость явлений мира ретранслируется на взаимодействие элементов формы. Вторая же триада относится к составляющим «а», к тем структурным элементам, которые составляют это творческое единство, и которые опять-таки определяются единством формы и содержания (образа и переживания). И следствия из данных структурных типов тоже дополняют друг друга: во втором случае определяется культурная универсальность символического искусства; в первом же речь идет о 100 дуализме авторства, который в разных ипостасях возникает снова и снова в разные культурные эпохи и достигает своего предела в русском модернизме: в координатах между демиургом и «сосудом скудельным» осмысливали себя не только символисты, но в их творчестве сама эта антиномия предельно обострилась и стала ясна необходимость какого-то третьего пути. В данном разделе мы определили структуру и сущность символического слова. Трактуя символическое слово как связь между феноменальным и ноуменальным миром, А.Белый одновременно демонстрирует напряженность этой связи и глубинную разноприродность соединяемых миров. И ряд сложных структур, находимых А.Белым в символе, как раз призваны продемонстрировать эту разноприродность, отрефлектировать символ как систему, как взаимодействие разных сущностей: переживания и видимости, идеи и образа и т.д. Все эти структуры так или иначе апеллируют к творческому субъекту, создавая возможность осмыслить его становление как «деятельность пути». Раздел 3. Слово – Логос – Лик Определяя слово-символ как принципиальную множественность, как структуру, А.Белый видит его прообраз в столь же структурном и многоаспектном Логосе. Логос у А.Белого противостоит хаосу, его не снимая, и в этом смысле является идеальной перспективой слова. Логос является ведущим началом творческого познания бытия, вернее, именно в Логосе познание переходит в творчество: «…познание становится Логосом; содержания же, не обработанные в методических формах, являются множественностью индивидуальных сущностей; содержания, противопоставленные норме, суть хаос сущностей, пока мы содержания эти не пережили; как скоро мы их начинаем переживать, нам кажется, 101 будто мир полон «богов, демонов и душ», переживаемый хаос уже перестает быть хаосом; переживая, мы как бы пропускаем эти содержания сквозь себя; мы становимся образом Логоса, организующего хаос» (14, с.128). Для трактовки Логоса А.Белого актуален Логос Гераклита и стоиков: «Содержание суждений, как и содержание нашего бытия, объединяется категорией данности, это – эфирная пневма стоиков, а самая форма суждений есть гераклитовский Логос – закон всех вещей, одушевляющий мир и тождественный с миром в своем содержании (бытие, как форма суждений); в современной теории знания при метафизическом понимании ее задач должны воскреснуть черты стоицизма» (14, с.126). Эфирная пневма стоиков – это способ преодоления «аристотелевско-платоновского дуализма духа и материи» (Трубецкой С.Н. Учение о Логосе и его история. Философско–историческое исследование. М.,1906, с.40 – Цит. по 90,с.365), материя и дух сливаются для них в Логосе. Для Гераклита Логос существует вне материального мира, он лишь вносит в него закономерность. У стоиков же Логос есть «сущий в материи» (Диоген). Можно, конечно, говорить просто об эклектичности А.Белого, но скорее всего для него такая постановка Логоса является принципиальной: Логос А.Белого протеистичен, пластичен. Кроме того, существование двух Логосов маркирует своеобразное двоемирие бытия и познания, а точнее – бытия и слова, ведь гераклитовский Логос действует в сфере «формы суждений», то есть в сфере слова. И если у стоиков «Логос стал в конце концов не более чем аллегорией бытия» (93, с.766), то у А.Белого это вполне реально действующая сила, укорененная в личности. Если у стоиков Логос лишь приближен к личности, то у А.Белого он постепенно прорастает в человеке в результате творческого переживания: «На вершине творчества мое детское «я» уже вмещает в себя кипучее море содержаний. Оно создает свое творчество, оно становится Логосом» (14, 102 с.130); «Мировой Логос принимает лик человеческий» (14, с.94). Собственно, у А.Белого Логос становится еще и способом соединения общего и индивидуального. Как происходит это соединение, А.Белый показывает в «Эмблематике смысла», опираясь на индийскую философию: «Поднимаясь по лестнице творчеств, ученик, достойно преодолевший йогу, получая способность внутренне соединяется с Алайей (душой мира), потому что Алайя, будучи внутри неизменной, меняется в разнообразных зонах бытия; …высокоразвитый йог мог пребывать в состоянии Паранишпанны, т.е. в абсолютном совершенстве, тогда душа его называлась Алайей; тогда же он делался «Анупадака», т.е. безначальным, олицетворяя своим образом явленный в мире Логос» (14, с.105). («Хочу восстать Анупадакой» – «Первое свидание»). Такая прививка к античной философии Востока была нужна именно для окончательной субъективации Логоса – личность дорастает до Логоса, полностью растворяется в нем, становится тождественной мировой душе, но при этом Логос, мировая душа тоже оказывается личностью. Кроме того, отсылка к индийской философии, воспринятой, очевидно, через теософию, помогает внести в древнегреческий Логос один очень важный момент – структуру: «…не творящее единство отождествимо с первым Логосом. Из первого Логоса выпадает второй Логос (форма – метафизическое единство, Пуруша) и всяческое содержание (Практити), из второго Логоса выпадает третий Логос, отождествленный с нормой познания… и с мировой душой» (14, с.105). Как явствует из примечаний к статье, первый Логос еще означивается как Первопричина, второй – как Духо-материя, а третий есть сознание. Таким образом, дуализм идеального и материального снят окончательно. И, кроме того, в единый Логос вносится начало множественности, но множественность соединяется в единое, ведь «выпадение» каждого последующего Логоса из предыдущего означает, по-видимому, не только вычленение, но и удержание всех 103 особенностей предыдущей ступени. Кроме того, все три Логоса связаны причинно-следственной связью, и в последовательности их вычленения повторяется общая множественность (потенциальная структура – человеческого единственное дифференциация) познания: (Первопричина) – сознание – Единое – Духоматерия (единая жизнь, потенциальное распадение). Самое же главное, оказывается, что Логос – традиционное первоначало, первоэлемент, перводвигатель – сам состоит из элементов, сам является единством статики и динамики. И, в отличие от Логоса Вяч. Иванова, Логос А.Белого представляется каким-то более конкретным, осязаемым первоэлементом бытия. Именно такой Логос мог быть действенным, строительным началом, такой Логос может, как писал В.Эрн, «нераздельно и неслиянно соединиться с материей человечества» (192, с.286). В этом плане переплавления множественности в единое и раскрытия единого во множестве Логос и является у А.Белого, как и у Вяч. Иванова, прообразом символа («Символ есть Единое. Символ есть Единство» – из постулатов «Эмблематики смысла»). В поэтическом слове это Единое, то есть Логос, приобретает причудливые образы, оставаясь конкретным, осязаемым воплощением единства бытия. Такое воплощение Единого – Душа в стихотворении «Душа мира» (сборник «Золото в лазури»). Душа не только одухотворяет, но одновременно приводит реалии природы в движение: «Пронесясь ветерком, ты зелень чуть тронешь, ты пахнешь холодком, и смеясь, вмиг 104 в лазури утонешь» При описании мировой души используются движущиеся реальности: волна («Грядой серебристой летит…»), облако («Вечной тучкой несется»), ветер («Пронесясь ветерком, ты зелень чуть тронешь…»). При этом Единое безусловно ощущается в феноменальном мире, и в то же время столь же безусловно существует в мире ином: «Травой шелестишь: «Я здесь, где цветы…». И бежишь, как на пир, но ты – Там» Кроме того, в новом названии (первоначально было «Мировая душа») явно маркируется многозначность данного символа (мира в смысле реальности и мира в значении покоя и гармонии). Следует отметить, что эти значения в принципе пересекаются – мир как единое целое имеет своими атрибутами гармонию и покой, это базовые условия его существования. В стихотворении как раз происходит, по-видимому, динамизация внутренней формы слова, включение в нее новых значений и их пересечение с прежними. Отсюда возникает, собственно, определенная концепция мировой души именно как женственной гармонии и одухотворенного покоя, пронизывающих всю природу и между тем нигде в ней как данность не присутствующих. Слово-символ, объединяющий столь неоднородные сущности, амбивалентен прежде всего с точки зрения способа символического видения: «Два типа символических образов встречают нас в истории искусств, два мифа олицетворяют нам эти пути, в образах явлены эти мифы: первый есть образ светлого Гелиоса (Солнца), озаряющего 105 волшебным факелом так, что образы этого мира явлены с последней отчетливостью. Другой образ есть образ музыканта Орфея, заставляющего ритмически двигаться неодушевленную природу, – Орфея, вызывающего в мир действительности призрак, то есть новый образ, не данный в природе; в первом образе свет творчества освещает в природе то, что уже дано, во втором образе сила творчества создает то, чего в природе нет» (15, с.336). Итак, образ-символ может быть и заложен в бытии, и привнесен в него художником, во втором случае активным началом символизации является творческая личность, она в подлинном смысле творит, то есть создает то, чего нет. Но и образ Гелиоса – тоже образ творчества, этот образ трансформирует реальность, ничего в нее не привнося, таким образом, что новые смыслы, новые эмблемы возникают из нее органично. Такая постановка человеческой личности – когда она одновременно и олицетворение некоего отвлеченного начала, и воплощение ряда культурных контекстов, и просто живой человек, вообще характерна для А.Белого. Символическое слово, являясь, как мы видели, посредником между феноменальным и ноуменальным миром, конституирует представление о мире ноуменов в форме субъекта. Лик – именно такого рода субъект. Лик – это связь личности с вечностью и способ присутствия вечности в личности. Но эта связь и этот способ также персонифицируется, тоже представляется в виде личности: «Лик есть человеческий образ, ставший эмблемой нормы. Превращение нормы в существо и явит нам символический Лик этой нормы… Таковы Беатриче у Данте, таковы образы Христа, Будды, искусство переходит здесь в мифологию и религию, в центре искусства должен стать живой образ Логоса, то есть Лик» (15, с.79). Итак, Лик – это образ присутствия в субъекте – сверхсубъекта, и в этом плане и сочиненная Данте Беатриче, и реальные боги, и философская категория Логоса – равнозначны, таким образом, система Ликов объединяет различные сферы бытия. Если Лик – 106 это «живой образ Логоса», то можно сказать, что Лик есть живое и личностное присутствие творца в творении. Обратим внимание, что все называемые А.Белым Лики так или иначе связаны со словом (или существуют только в нем, как Беатриче, или реализуются через него, как Магомет, или включают его в себя, как Логос). То есть, концентрируясь в Лике, слово через Лик осуществляет себя в различных сферах бытия, тем самым объединяя их. Собственно, здесь доводится до предела субъективация абсолюта. В поэтическом творчестве А.Белого Лик, который возникает наиболее часто, – Христос. Искажения этого Лика в феноменальном мире, их соотношения с Ликом и с внутренним миром поэта исследуются в статье Л.Силард: «У Белого… полюса шутовства и юродства Христа ради, резко разводимые православной традицией… не разграничиваются столь четко, хотя их непротивопоставление обусловлено именно сугубым стремлением «различить» их: шут – скоморох – арлекин – безумец – дурак (во всех его вариациях) выступает у Белого как опасный двойник Христа (или юродивого Христа ради – безумца – дурака), как его симуляция. Таким образом, личины шута порождают у Белого проблемы «невоскресшего Христа», лже-Христа (т.е. антихриста), а следовательно, необходимости определить свою сущность, сущность поэта («Кто я?»), чтобы избежать «последнего обмана» «космического прельщения»» (153, с.157). Данное утверждение нуждается в некотором уточнении. Прежде всего, не только у А.Белого, но и у А. Блока возникающее самоотождествление одновременно с безумцем и с Христом говорит не столько о поисках своего «я» (оно уже определено как поэтическое), а об объективной и вполне естественной ситуации: человек, переживающий в себе Христа, для окружающих не может не выглядеть сумасшедшим, и сам не может не ощущать себя сумасшедшим, но при этом, будучи поэтом, не может оставаться самим собой, не может не чувствовать в себе 107 присутствия Лика. Трагедия возникает тогда, когда он пытается донести это присутствие до других людей, но это не романтическое столкновение художника с косным миром, проблема в самой творческой индивидуальности. Например, в цикле «Вечный зов» (сборник «Золото в лазури») во втором стихотворении ярко проявляется романтическое двоемирие: мир раскалывается на реальность поэтического «я» и реальность окружающих людей. При этом «я» поэта в каждом из миров определяется по-разному: для столпившихся вокруг людей (второе и четвертое четверостишие) он – лже-Христос и арлекин, в своем же мире он – новый Христос и «дитя» (из евангельского «Обратитесь и будете как дети»). Видения эти полярны и в каждом из них своя логика: ведь если человек лже-Христос, то он – лицедей, и следовательно, арлекин, а если человек – новый Христос, отвергнутый людьми, то он – дитя. Но два взгляда на поэта не соотносятся как Лик и личина. В феноменальном мире личина становится единственной реальностью, а жизненный путь представляется лишь как смена личин. В наименовании поэта в мире окружающих людей (арлекин, лже-Христос) явственно присутствует момент иллюзорности. Но и в мире «я» присутствует тот же элемент видимости, кажимости, что выражено в сравнительных оборотах («словно новый Христос», «как дитя»). Поэт, слышавший зов («Объявись – зацелую тебя…»), сам не может в себя поверить, он лишь занимает определенное место, сам таковым не являясь («Не тот» – таково первоначальное название цикла). Он действительно не тот, он и для себя всего лишь исполнитель роли, но если для других его роль смешна, то для него она трагична. Трагедия не только в том, что он, слыша зов, не может войти в тот мир, куда его зовут, и здесь поневоле должен вместо мистерии разыгрывать трагикомедию, но еще и в том, что он не может перестать слышать этот зов, когда ему самому уже ясно, что он – «не тот». Зовы в 108 первом и третьем стихотворении сводятся примерно к одному и тому же («Объявись – зацелую тебя»), но обстановка, в которой они звучат, описана контрастно. Если в первом случае в нем участвует мироздание в целом, и время как целое («веков струевой водопад»), и люди как целое «мы» («обуявшая нас мировым»), то в третьем стихотворении поэт одинок, он один слышит этот зов и откликается на него: «Ей машу колпаком – Скоро, скоро увидимся мы», и возможно, не потому он слышит зов, что зов действительно звучит, а потому, что он – сумасшедший. Единственное, что остается подлинным в мире личин, – это человеческое страдание. Сумасшедший, таким образом, не столько «опасный двойник Христа», сколько человек, переживающий Христа в себе – но пожелавший стать Христом для других, убедившийся, что он – не тот, и отвергший себя за это. Если Лик – «человеческий образ, ставший эмблемой нормы», то возникает вопрос: что же такое эмблема? Часто А.Белый употребляет понятие эмблемы и символа как синонимичные («Символ есть Единство», «Эмблема всегда есть эмблема некоего единства»), однако разница всетаки есть. И эмблема, и символ служат способами проявления Единого в бытии, но по-разному. «Эмблема, то есть схема, оказывается основой классификации понятий условных, действительных и аллегорических. Все три группы суть понятия эмблематические» (14, с.92), – пишет А.Белый. Итак, категория эмблемы соотносится с понятием, она является чем-то отвлеченным и устойчивым. То же означиваемое Единое в разных сферах деятельности, но взятое в познавательном аспекте А.Белый определяет как символ. Итак, существует Символ как ноумен (именно с большой буквы, как проявление Единого), Лики как субъектные формы присутствия Символа в 109 бытии, а также внесубъектные формы этого присутствия – эмблемы и символы – в метафизическом и познавательном аспекте. Так возникает всеохватная и гибкая система символизации, то есть способов улавливания и удержания присутствия Единого в бытии через слово – и в разных сферах, не только в художественном образе, но и в научном понятии, не только в эстетике, но и в этике – так возникает действительно всеобъемлющая «эмблематика смысла», когда каждый смысл существует не сам по себе, а является эмблемой другого смысла, и все они восходят к Символу: «Образ Символа – в явленном Лике некоего начала; этот Лик многообразно является в религиях; задача теории символизма относительно религий состоит в приведении центральных образов религий к единому Лику» (14, с.133). «Всякий символ в последней широте явит образ Жениха и Невесты» (14, с.207). Эмблема и есть такая схема, такой алгоритм, с помощью которого происходит восхождение символа – к Лику, а Лика – к Символу. Осуществляя гетевское утверждение «все внешнее лишь подобие», А.Белый конструирует таким образом мир, где все не просто связано, но похоже, где каждый предмет раскрывается в другом предмете и во всех них раскрывается Единое. В данном разделе мы рассматривали проблему соотношения символического слова с Логосом и Ликом. Как и у Вяч. Иванова, Логос у А.Белого является идеальной перспективой символического слова, вопервых, как творческая энергия, осязаемая в различных сущностях бытия, во-вторых, как Единое, проникающее множественность. Называя Лик «живым образом Логоса», А.Белый тем самым определяет Лик как его воплощение в субъекте, создающее необходимость становления субъекта, «деятельности пути». Раздел 4. Слово – время – миф А.Белый определил слово-символ как «соединение двух непонятных сущностей: доступного моему зрению пространства и глухозвучащего во 110 мне внутреннего чувства, которое я называю условно (формально) временем» (14, с.430). Если Вл.Соловьев определяет слово как «вневременное и внепространственное» (158, т.2., с.808), то для А.Белого поэтическое слово, как раз наоборот, не мыслится вне времени и пространства, представляясь точкой их значимого пересечения, в которой создается закономерность, мотивация создаваемого в слове мира – причинность: «Поэзия, изображая и представления, и смену их, является узловой формой искусства, связующей время с пространством. Причинность, по Шопенгауэру, – узел между временем и пространством» (15,с.98); «Поэзия, связуя время с пространством, выдвигает закон причинности и мотивации на первый план» (15,с.99). Обоснования причинности у каждой творческой личности своеобразны, поэтому символическое слово формируется между двумя полюсами: надиндивидуальным и индивидуальным. Слово-символ исторического концентрирует времени, которое в себе личностное А.Белому переживание представляется как непримиримая антиномия, как сплошная двойственность. Кроме того, символическое слово амбивалентно и с точки зрения содержания: «…содержанием служит переживаемая полнота жизни или уничтожения, предпосылка всякого художника-символиста есть переживаемое сознание, что человечество стоит на роковом рубеже, что раздвоенность между жизнью и словом доведена до конца, выход из раздвоения: или смерть, или внутреннее примирение противоречий в новых формах жизни» (15, с.250). Выбором А.Белого с чисто внешней, тематической стороны оказывается смерть, но речь идет уже не о противоположности жизни и смерти, а об их взаимопереходах, при которых невозможно и не нужно выбирать, тем более, что это и не во власти человека. Стихотворение «Маскарад» (сборник «Пепел») имеет автобиографическую основу, о чем сказано в примечаниях к данному 111 стихотворению: «Мне хотелось одеться в кровавое домино… сидел с утра до вечера в маске, лицо мое дня не могло выносить». Два центральных символа, таким образом, являются атрибутами личности поэта, стоящего за текстом, и это надо учитывать, ведь в стихотворении оба эти символа даны отстраненно от поэтического «я» – на самом деле это «я» воплотилось в объективно нарисованной картине. Если поэт в жизни не может оставаться самим собой, то и в поэтическом мире жизнь представляется маскарадом, т.е. истинных ценностей нет, есть только маски: «Гости бродят, колобродят, Интригуют наугад» . В ситуации карнавала подлинность смерти ощущается сильнее - по контрасту. Смерть – красное домино – одновременно является олицетворением рока («Немое, роковое, огневое домино»), и в конце само совершает роковое предназначение – «С окровавленным кинжалом Пробежало домино». Эта маска отлична от других, которые на время маскарада скрывают или подменяют подлинное лицо: «Огневой крюшон с поклоном Капуцину черт несет», «Обжигается в мазурке Знойной полькой юный паж». Домино – маска, которая раскрывает подлинную сущность, которая предвещает смерть, и предзнаменование сбывается. Собственно, это тоже своего рода рефлексия над карнавальностью эпохи и, следовательно, над карнавальностью собственной жизни. И здесь становится понятной какаято глубинная взаимообусловленность гибели – карнавалом, и легкость гибели именно во время карнавала. Когда человек закрывает лицо маской, он не только отказывается от своей личности, но и от реальной, не 112 иллюзорной жизни – или же хочет сокрыть свою личность от самого себя, чувствуя, что внутри находится нечто страшное. И в этом закономерность перехода от маски к облачению в красное домино – облачение как раз раскрывает то страшное, что маска могла бы скрыть. Но и сокрытие, и раскрытие здесь в обоих случаях неадекватно личности, и, собственно, карнавал и представляет собой возможность выбора различных форм неадекватности самому себе и игры с этими формами. В стихотворении «Смерть» (сборник «Урна») смертью проникнута природа («Смеется ветром смерть…», «В волнах зари умри…»). Здесь есть движение времени именно как чередования мгновений и есть будущее: «Гряду на острый гребень грядущих мигов я». Поэт вовлечен в это движение и в то же время находится вне временного потока: «У ног поток мгновений. Доколь еще – доколь? Минуют песни, пени, Восторг, и боль, и боль…» и так же свободно выходит за его пределы («Но вольно – ах, / Клонюсь над склоном дня»). Такая слитность с потоком времени рождает легкость и свободу в переходе за грань, когда человеку одинаково легко как продолжать жить, так и перестать: «Ты – вот, ты – юн, ты – молод, Ты – муж… Тебя уж нет: Ты был…». Таким образом, поэт одинаково говорит и о жизни, и о смерти, пребывая сам на границе между ними. Возможно, в этой пограничности один из смысловых обертонов декаденства. Поэт говорит о смерти как о некоей абстрактной категории, напоминая людям, что они конечны. И все 113 произведения, в которых, по видимости, поэт рассказывает о собственной смерти (не только А.Белый, но и И.Анненский, П.Верлен и т.д.), написаны таким образом и с такой установкой, как будто бы поэт, умирая, продолжает жить, и будет жить после смерти. Собственно, это эстетическое переживание смерти парадоксальным образом обживает смерть, показывая, что в ней тоже можно существовать, что это своего рода инобытие. Единство бытия и личности таким образом восстанавливается, размыкаются пределы человеческого «я» – но это возможность просто посмотреть на себя извне, из другой плоскости. Поэтому в стихах А.Белого образ времени прежде всего предельно очеловечен. Так, в цикле «Время» (сборник «Пепел») оно – человек со своим голосом, который можно услышать (– «Здравствуй, внучек»), и одновременно голос природных стихий: «Струей воздушной в окно бормочет» Далее этот образ становится все более и более человеческим и человеку внутренне сродным (к нему постоянно прилагается эпитет «родимый») – несмотря на то, что отношение его к человеку, по крайней мере, двойственно. Во втором стихотворении это мирная игра деда с внуком, и эпитет «родненький» отражает просто родственные отношения. В третьем стихотворении – время губит, уничтожает человека: «Подкосит ноги Старик, и сбросит В овраг глубокий…», но эпитет «родимый» все равно прилагается к нему, что означает осознание необходимости этого удела для самого поэта: «Паду со вздохом Под куст ракиты». 114 Время у А.Белого – как и у И.Анненского – прежде всего уничтожающее. Но тут важно не только отсутствие возвратов1. Устойчивый мотив цикла - утверждение, что время не просто идет, но проходит («Слетают весны. Слетают зимы» – первое стихотворение, «Уносит зимы. Уносит весны. Уносит лето» – второе стихотворение). Так возникает глубинная сцепленность времени со смертью, то есть время в этом цикле и есть смерть (отсюда и коса как его атрибут). Время есть смерть, но одновременно оно и старик, и страшное оказывается нестрашным («Прохожу – боюсь, чего – не знаю»). Следующий обертон этой темы: «Время – старик косматый – Над нами плачет» – Время, смерть – не роковые силы, они – орудия рока, никто не виноват, если кто-то умирает, смерти самой его жалко: и в этом люди и смерть сродни друг другу. В более позднем стихотворении «Время» (сборник «Думы») происходит та же субъективация времени, что и в только что разобранном цикле, здесь присутствует та же двойственность: близость, родственность, и в то же время чуждость и страх:«Все тот же топчет дед сутулый / Рассыпчатый цветов ковер»; «Воскинь секущим острием / Над мировым, корнистым дерном / Хаоса мрачный чернозем». Но картина изменилась: если в цикле символом времени была коса (то есть уничтожение, исчезновение всего), то здесь символом становится плуг. Из этой метафоры возникает иная трактовка времени, близкая мандельштамовскому «Время вспахано плугом…». Прежде всего – время само себя пашет, поднимая глубинные слои наверх, поверхностные опуская вниз, но ничего не уничтожая: «Круговоротов грозный знахарь, / Яви же жирный перегной / Для прозябанья мыслям – зернам!»Так возникает идея сохранения и возвращения во времени всего, в том числе и «хаоса», то есть некоей изначальной сущности времени. Кроме того, время осмыслено как диалектика возникновений и уничтожений: «Над бархатами свежих борозд / Да всходит свежесть зеленей» – и смерть в этой диалектике становится лишь способом сохранения, а нечто новое вырастает лишь на прочной основе старого. Этот хаос – подспудную сущность времени – поэт делает зримым, перемешивает временные структуры, и здесь время уже не длительность, а объем, почва, в которой смешаны разные элементы. В конце стихотворения речь идет о личности и о ее восприятии времени – для нее плуг означает лишь переход в небытие: «Когда железным зубом время / Нам взрежет бархат вечной тьмы», причем смешение элементов проявляется в том, что этим переходом в небытие оказывается пронизанной вся жизнь. Итак, в стихотворении сопоставлены большое время и малое время – в парадоксальном порядке. Но правда этого порядка в том, что поэт, постигая природу времени как некоего бесконечного и наполненного объема, не может и не должен отрешиться от судьбы «песчинки» – человеческой личности, от трагедии ее конечности. А.Белый сопрягает здесь разномасштабные сущности, совершенно ясно осознавая, что личность времени не равна и в то же время что такая концепция времени неизбежно личностна. 1 115 В этом цикле время приравнивается к смерти, однако ницшевская концепция вечного возвращения тоже актуальна для А.Белого: это вечное возвращение конечности отдельной личности не отменяет, и родственным, человеческим временем у Белого оказывается именно время-смерть, потому это время-смерть и называется так тепло «родненьким». Интересно, что в стихотворении «Льву Толстому» поэт наделяет Толстого многими свойствами времени: «Старик лихой, старик пурговый, Из грозных косм подъемлет взор» – и в конце концов – отождествляет его с ним: «Ты – молньей лязгнувшее Время…). И до этого тема времени звучит подспудно в стихотворении: «Ты – великан, годами смятый… Ты вот бредешь от курной хаты, Клюкою времени грозя» Последняя строчка двусмысленна: слово «времени» можно соотнести и с первым словом, и с третьим: «грозя (чем?) клюкою (чему?) времени» или «грозя (чем?) клюкою (какой?) времени» – время – это определение, выраженное существительным, или объект действия. Если время – объект, то писатель с временем борется (угрожает ему), если определение, то писатель овладел временем, может использовать его. Возможно, оба смысла здесь необходимы, ведь тот, кто сам назван временем, – может им и владеть, и бороться с ним, как человек борется с самим собой. Здесь опять проявляется сложность отношений слова и времени. Ведь Л.Толстой для А.Белого – великий художник и одновременно «учитель жизни» (в письме А.Б.Гольденвейзеру) – по сути, осуществление идеальной перспективы развития искусства слова. И в этом плане актуальны обе установки: слово борется со временем, устремляясь из него в вечность, и одновременно своей текучестью, подвижностью, постоянно 116 возобновляемой в нем сменой представлений соответствует сущности времени. Именно творческое «я» способно воспринять время как сплошную динамику, изменение, проецируя на него закономерности своего существования. Из статьи «Эмблематика смысла» ясно видно, что творческое «я» может представить вечность как неизменное перетекание времен: «Измеряя поток времени, над которым я встал, измеряю я далекое прошлое, я вижу предстоящее великолепие окружающей действительности в настоящем – все тысячелетнее прошлое человека» (15, с.55). С другой стороны, эти два плана символа – временное и вечное – дистанцированы друг от друга, вечное оказывается высшей инстанцией по отношению к времени, в результате чего и становится возможной их встреча в символе, когда вечное отражается в текучей индивидуальности имманентного бытия. Тогда мельчайшая единица времени – мгновение – приобретает объемность и процессуальность: «Мы называем временную форму индивидуального содержания мгновением. Мгновение является нам вовсе не как предел делимости времени, а как совокупность моментов, объединенных индивидуальным единством содержания; это единство протекает перед нами, как замкнутый сам в себе мир, погружение в этот мир есть процесс переживания; пережить мгновение – пережить индивидуальный процесс, замкнутый со всех сторон» (14, с.107). Таким образом, символ не только продуцируется и развертывается временем, но и сам трансформирует время, прежде всего воздействуя на его текучесть, ведь не случайно миг, мгновение – одна из центральных тем у И.Анненского, В.Брюсова, А.Белого и других символистов. Это действительно творческое переживание мгновения, прежде всего его динамики, причем всматривание в эту динамику парадоксальным образом создает переведение мгновения в иную плоскость, вообще извлечение его из временного потока, фаустовская попытка «остановить мгновение». Этот 117 интерес к мгновению связан, по-видимому, с его двойственным статусом: оно может быть чистой длительностью, перетеканием из одного временного отрезка к другому – и чистой статикой, конкретной временной метой. В зависимости от восприятия мгновения в символическом слове концентрируются разные временные модели: «Вечная смена мгновений и жизнь во мгновении есть линия эволюции, и философия «мига» протянута линией в ней… Круг отрицает мгновение, философия линий, себя укусивших за хвост, – догматизм» (15, с.286). Если линейную модель времени можно отнести к жизненной реальности, круговую – к мифологическому мировидению, то временная спираль, соединяющая в себе линию и круг, реализуется в магическом слове, преобразующем бытие: «Лишь в спирали возможности книги – в перевоплощении однажды написанной книги Судеб» (15, с.288). Здесь мы подходим к проблеме взаимоотношений символического слова с мифом. Если Вяч. Иванов видит посредником между современным состоянием поэтического слова и мифом символ, то есть образ («Мы придем тропою символов к мифу»), то А.Белый, прослеживая аналогичную триаду, отмечает, что эта триада носит более органичный характер, метафора ткани у него связана с естественностью перехода от слова к мифу: «Аполлон, Дионис, Афродита, Деметра, Психея и прочие образы тысячевидно ветвятся в своих модуляциях, и ветвятся нежные стволы организма в многообразии окончаний, от основного ствола до последнего волокна бежит нервный ток; от основного исконного мифа и до случайного образа бегут токи творчества; под многовидною субъективностью образов коренятся немногие мифы; нервные волокна, переплетаясь, вплетаются в ткани, и так точно образы, переплетаясь, вплетаются в ткани формы они, и подобно тому, как ткани нервов, являясь тканью среди тканей, есть мост от телесного уплотнения до сознания организма, так ткани мифических образов строят мосты от телесности 118 слова» (14, с.178). Получается, что миф содержится в слове, и слово содержится в мифе; и слово, и миф присутствуют в образе-символе, поэтическое слово представляется циркуляцией энергий, двигающихся от его мифологической основы к содержащемуся в нем образу. А. Белый разделяет мифологическое и эстетическое творчество прежде всего во времени: «Мифическое творчество предшествует творчеству эстетическому (сознательное употребление средств изобразительности возможно лишь в стадии разложения мифа) либо следует за ним (в эпохи разложения, познания, всеобщего скепсиса, упадка культуры), воскресая в мистических братствах, союзах» (14, с.447). Переход от символа к мифу, по А.Белому, осуществляется в сознании художника: «…сила образа прямо пропорциональна вере (хотя бы и не осознанной) в существование этого образа. Когда я говорю: «Месяц – белый рог», конечно, сознанием моим не утверждаю я существование мифического животного, которого рог в виде месяца я вижу на небе, но в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением которой является метафорический образ, мной созданный» (14, с.447-448). Именно благодаря этой вере «символ становится воплощением, он оживает и действует самостоятельно: белый рог месяца становится белым рогом мифического существа: символ становится мифом» (14, с.446). Следовательно, миф есть особый взгляд на возникающие в творческом сознании образы, при котором за ними признается статус жизненной реальности и действенности, миф есть способ объединения жизненной и словесной реальности в творческом сознании художника. Миф понимается в таком случае как сотворение личностного абсолюта и столь же личностного мира, то есть мира, устроенного в соответствии с требованиями личности и пронизанного ее интенциями, 119 значит, миф и есть личность, бесконечно распространившаяся в мироздании1. Так понимаемый миф, безусловно, не может быть прикреплен ни к какой-либо определенной исторической эпохе, ни к какому-либо типу сознания. Миф в данном случае есть просто художественный взгляд на мир, охудожествливание реальности, точнее, это именно мировосприятие художника в момент творчества, когда феномены внутреннего мира ощущаются как феномены реальности внешней, когда внутренний мир внешнюю реальность действительно преобразует. В данном разделе мы рассмотрели вопрос о соотношении символического слова с временем и мифом. Переживание исторического времени приобретает личностный характер и связано прежде всего с осмыслением личностью собственной конечности, движение времени ощущается как переход между жизнью и смертью. И потому образ времени предельно очеловечен. В символическом слове воплощается «вечное возвращение», которое органически приводит к мифу как средоточию и первоначалу времени. Миф же у А.Белого сводится к такому состоянию творческого сознания, при котором возникающие в нем образы воспринимаются как жизненная реальность. Взаимоотношения символа и мифа подробно проанализированы нами в статье «Символ, миф, мистерия в творчестве А. Белого» (Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки. – Донецк, 2003. – вып. ІІІ). 1 120 ГЛАВА III. СИМВОЛИЧЕСКОЕ СЛОВО В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЛОКА В прозаическом и поэтическом творчестве А. Блока проблема слова является также одной из центральных. Осмысление слова – не только основа создаваемого данным поколением, и А. Блоком в том числе, мировидения, философии. Для А. Блока в гораздо большей степени, чем для других символистов, оно становилось основой переживания жизни, «деятельности пути», о которой писал А.Белый. Вообще следует сказать, что А. Блок, несомненно, действует в том же круге понятий, что и А.Белый и Вяч. Иванов, при этом больше, чем они, находится под влиянием Вл. Соловьева и поэтому вряд ли создает новую систему воззрений на слово. Г.А.Гуковский о прозаическом наследии А. Блока писал: «Блоктеоретик и критик гораздо слабее, чем Блок-поэт… Но Блок достаточно отчетливо осознавал и теоретически, к чему он стремится как поэт, хотя – в духе эпохи и своего литературного круга – выражал это осознание более метафорами, чем языком рациональной мысли» (54, с.76). Не вдаваясь в дискуссию по поводу оценки А. Блока-теоретика в целом, скажем все-таки, что воспринимать блоковскую прозу просто как неудачную («метафорическую») попытку выявить его поэтические устремления вряд ли есть основания. Попутно обратим внимание, что отмечаемое Г.А.Гуковским и действительно свойственное А. Блоку мышление метафорами вряд ли объясняется только символистским кругом и эпохой, ведь не помешали же Вяч. Иванову, например, ни тот же круг, ни та же эпоха выражать свои мысли вполне рационально. К тому же, объяснение хороших стихов (неважно до или после их появления) и даже уяснение их самому себе с помощью плохой прозы для А. Блока, считавшего, что «для того, чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать» (21, т.5, с.168), скорее всего, не имело смысла. 121 А. Блок в разговоре с Н.Павлович по поводу соотношения поэзии и прозы сказал следующее: «Я писал на одну и ту же тему сначала стихи, потом пьесу, потом статью». Это значит, что одна и та же тема должна была предстать в трех разных ракурсах по-разному, что есть смыслы, которые могут быть переданы только стихами, а есть такие, которые могут быть переданы только прозой, и это именно разные аспекты одной и той же темы. Поэзия и философия у А. Блока – безусловно, разные ракурсы видения одной и той же проблемы. Метафоричность данной философии обусловлена, возможно, спецификой смыслов, ею передаваемых. Зачем, например, понадобилось А. Блоку создавать «Бедекер» по «Заветам символизма» Вяч. Иванова – статью «О современном состоянии русского символизма»? В рациональном плане они во многом совпадают. Но А. Блока интересуют в первую очередь нюансы, и нюансы эти относятся не к тем или иным состояниям поэзии, а к внутреннему состоянию поэта. Собственно, большинство блоковских статей выражают не концепции, а интуиции, ощущения. В статье «Творчество Вяч. Иванова» А. Блок написал: «Философская лирика Вяч. Иванова оправдывает его лирическую философию» (21, т.5, с.17). В каком-то плане это высказывание может быть отнесено и к самому А. Блоку. Его философия действительно носит лирический характер, и если учесть, что лирику А. Блока вряд ли можно назвать философской в том же смысле, в каком называют философской лирику Ф.Тютчева, Вяч. Иванова, то, возможно, философская проза и была своеобразным «восполнением» данного аспекта в лирических произведениях А. Блока. Еще следует отметить, что по сравнению с Вяч. Ивановым и А.Белым блоковская проза кажется более связанной с современностью, более вовлеченной в жизненную реальность и гораздо менее «системной», собственно, никакой системы собственных философских воззрений 122 блоковская проза не представляет, являясь, скорее, именно отражением ощущений, состояний того, кто действительно живет по законам символистского миросозерцания. Его проза – это прежде всего переживание отвлеченных понятий, переплавление их в живую плоть личности. Раздел 1. А. Блок о магии слова Как и у А.Белого, проявление магии слова у А. Блока связано с категорией хаоса, являющегося первоначалом, из которого создается не только гармония искусства, но и космос бытия1. Но, в отличие от А.Белого, категория хаоса здесь относится к природному бытию, причем не только вне человека, но и внутри человека: «В хаосе природы, среди повсюду протянутых нитей, которые прядут девы – судьбы, нужно быть постоянно настороже; все стихии требуют особого отношения к себе, потому что все имеют образ и подобие человека» (21, т.5, с.38). Хаос и есть клубок запутанных, непредсказуемых связей между человеком и природой, то, что создает их изначальное единство. На этом изначальном единстве, повидимому, и основывается мифологическое миросозерцание, здесь причина, из-за которой первобытный человек начинает осмысливать явления природы по аналогии с собой.2 Процесс претворения хаоса в космос происходит постоянно, он совершается прежде всего в культуре, в искусстве: «Искусство – есть только космос, творческий дух, оформливающий хаос (душевный и Положения данного раздела кратко изложены нами в статье «Магическое слово в творчестве А. Блока» (Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки.- Донецк, 2004.- вып. 1). 2 В принципе, у А.Белого эта категория носит более всеобъемлющий характер, хаос не вычленяется из бытия. На фоне блоковской трактовки данной категории хаос А.Белого представляется скорее феноменом внутренней реальности личности, олицетворением ее стихийной неразделенности и одновременно творческих интенций; бытие воспринятое, т.е. расчлененное в словах и понятиях, является противоположным хаосу. 1 123 телесный мир). О том, что мир явлений телесных и душевных есть только хаос, нечего распространяться, это должно быть известно художнику. Строить космос можно только из хаоса» (21, т.8, с.292); «Хорошим художником я признаю лишь того, кто из данного (а не в нем и не на нем) (данное: психология – бесконечна, душа – безумна, воздух – черный) творит космос» (21, т.7, с.220); «Этот хаос, исказивший гармонию, требует немедленного оформливания, как жгучий жидкий металл, грозящий перелиться через край. Опытный мастер сейчас же направляет свои усилия на устройство этого хаоса» (21, т.5, с.161). Как видим, мысль о претворяющей сущности искусства повторяется А. Блоком очень настойчиво. При этом, заметим, под хаосом здесь уже понимается нечто другое: «мир явлений», «душевный и телесный мир», то есть реальность, существующая внутри и вовне субъекта. По-видимому, речь идет о том, что есть органические взаимоотношения хаоса и космоса в ноуменальном мире, где процесс рождения, творения, упорядочивания происходит естественно, где действует Божественная сила, и, с другой стороны, есть хаос мира феноменального, мира явлений, где данный процесс осуществляет художник (в широком смысле). В том, что для А. Блока разделение на мир сущностей и мир явлений, мир феноменов и мир ноуменов существенно, вряд ли можно сомневаться: его первая юношеская поэма – о Платоне, а в «Крушении гуманизма» он пишет о Канте. И в этом случае очень симптоматично, что А. Блок подразумевает под хаосом жизненную реальность – ту реальность, где, как и в литературе, слово является своеобразной призмой, сквозь которую осмысливается данное. Поэтическое слово, таким образом, пресуществляет жизненную реальность, упорядочивает ее в соответствии с интенциями творческого субъекта. Собственно, этот процесс упорядочивания мира явлений творящим субъектом и создает человеческую культуру, почему А.Блок и употребляет понятия «культура» и «гармония» как синонимичные, 124 подразумевая под гармонией прежде всего порядок («Из хаоса рождается космос, стихия таит в себе семена культуры, из безначалия рождается гармония» (21, т.6, с.161)). Именно отношением к хаосу, различной ориентацией в поле взаимодействия хаоса и культуры отличаются между собой маг и поэт. Как видно из статьи «Поэзия заговоров и заклинаний», маг, колдун имеет дело с хаосом вовне и внутри себя: «Заклинатель всю силу свою сосредоточивает на желании, становится как бы воплощением воли. Эта воля превращается в отдельную стихию, которая борется или вступает в дружественный сговор с природой – другой стихией. Это – демоническое слияние двух самостоятельных волений, две хаотические силы встречаются и смешиваются в злом объятии. Самое отношение к миру теряется, человек действует заодно и как одно с миром…» (21, т.5, с.47). Маг добивается желаемого воздействия на реальность, накладывая на природный хаос хаос внутренний, свой. Преобразующее усилие мага как раз и направлено на активизацию стихии внутри себя, человек, становясь «как одно с миром», теряется как индивидуальность, растворяется в стихии, полностью ассоциируясь с природным хаосом. Поэт – нечто совершенно противоположное. Он является посредником между хаосом и культурой. Он находится на границе между ними как полноправный субъект действия, не теряясь, не растворяясь в хаосе: «Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него – во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму, в-третьих – внести эту гармонию во внешний мир» (21, т.6, с.162). Но что, собственно, значит – «во внешний мир?» И есть ли в нем необходимость в гармонии? Внешний мир – мир явлений, там «душа – безумна, воздух – черный», там существует «чудовищное жизни» (21, т.5, 125 с.161). В него и вносится гармония, и этим внесением закрепляется его неизменность и самодостаточность. И результаты творчества связывают поэта, опять-таки, с этим миром, с хаосом уже не первозданным, а человеческим. Но с другой стороны, творчество вне жизненной реальности невозможно. И, по-видимому, этой двуприродностью определяется трагедия поэта: «сын гармонии» внутренне связан с миром, в котором гармонии места нет, но и не может не чувствовать своего родства с миром иным и потому не ощущать отсутствия гармонии как невосполнимой утраты. В ранней лирике А. Блока разрушение этой жизненной реальности, конец мира приемлется как один из возможных выходов из этой трагической ситуации. Например, в раннем стихотворении «Увижу я, как будет погибать… » читаем: «Я буду одиноко ликовать Над бытия ужасной тризной»1 Однако старый мир разрушается в хаос - и тут же созидается новый мир, «бытия возвратное движенье» происходит в стихотворении «Аграфа догмата», как и в стихотворении «Погибло все. Палящее светило…» «Я видел мрак дневной и свет ночной, Я видел ужас вечного сомненья, И господа с растерзанной душой В дыму безверья и смятенья» «Погибло все. Палящее светило По-прежнему вершит годов круговорот. Под холмами тоскливая могила О прежнем бытии прекрасном вопиет…» И одновременно: 1 Здесь и далее текст цитируется по изданию: Блок А. Собрание сочинений: В 8 тт. – М.-Л., 1960-1963. 126 «Так явственно из глубины веков Пытливый ум готовит к возрожденью Забытый гул погибших городов…», «Опять взойдет в палящем зное Светило дня, светило огневое, И будет жечь тоскующую сень» В сущности, здесь сотворение мира объединено с описанием его конца, в этих процессах фиксируются общие черты и, прежде всего, наличие промежуточного этапа – возвращения в хаос. Именно этот момент и дает возможность ощутить бытийность происходящего. Характерно, что в стихотворении «Аграфа догмата» разрушение старого мира и созидания нового явно совмещены с современностью, в частности, с ницшевским «Бог умер». Разрушение, нераздельное с созиданием, называется здесь хаосом: «Когда миров нечисленный хаос Исчезнул в бесконечности мученья, И все вокруг роптало и неслось…» И далее начинается процесс творения нового космоса, но уже вне Божественного усилия: «Из мрака вышел разум мудреца, И в горной высоте – без страха и усилья – Мерцающих идей ему взыграли крылья» Творящей силой в данном случае оказывается разум, к нему же, как атрибут, прилагается субъект, который и оказывается звеном, соединяющим хаос и космос. Магическое слово, слово мага, как мы видели, имеет дело с хаосом природного бытия. При этом носитель слова полностью растворяется в этом природном бытии, не вычленяясь как отдельная индивидуальность. 127 Однако в поверьях, воспроизводимых А. Блоком в статье «Поэзия заговоров и заклинаний», устанавливаются, как правило, соответствия между видимой и невидимой реальностями: «В этом ветре, который крутится на дорогах, завивая снежные трубы, водится нечистая сила» (21, т.5, с.38); «Такой нож, «окровавленный вихрем», необходим для чар и заклятий любви, его широким лезвием осторожно вырезают следы, оставленные молодицей на снегу» (21, т.5, с.38). Эти соответствия становятся способом организации особого мира, в котором действительность преобразована до неузнаваемости: «…предметы, такие очевидные и мертвые при свете дневного разума, стали иными, засияли и затуманились. От новых сочетаний их и новых граней, которыми они никогда прежде не были повернуты, протянулись как бы светящиеся отравленные иглы; они грозят отравить и разрушить тот – старый, благополучный, умный быт – своими необычными и странными остриями» (21, т.5, с.41). Атрибутом этого нового, преображенного мира становится тайна – некий сгусток непознаваемого, обосновывающий неисчерпаемость установления соответствий: «Без всякого надрыва они принимают простой, с их точки зрения, ответ, в меру понимания. То, что превышает эту меру, навсегда остается тайной» (21, т.5, с.40); «Но любовь и смерть одинаково таинственны там, где жизнь проста…» (21, т.5, с.38); «Профессиональный заклинатель или тот, кого тоска, отчаянье, любовь, беда приобщили к природе, кому необычайные обстоятельства внушили дар заклинаний, – обращается к природе, стремясь испытать ее, прося, чтобы она поведала свои тайны» (21, т.5, с.45). Все приведенные выше высказывания А. Блока безусловно восходят к характеристике символа, даваемой Вяч. Ивановым: «Подобно солнечному лучу, символ прорезывает все планы бытия и все сферы познания и знаменует в каждом плане иные сущности… в каждой точке пересечения символа как луча нисходящего со сферою сознания он является знамением, 128 смысл которого раскрывается в соответствующем мифе» (66, с.143); «…поэт разоблачает реальную тайну природы, всецело живой и всецело основанной на сокровенных соответствиях» (66, с.143); «Ибо символ – плоть тайны» (66, с.167). (У Вяч. Иванова луч, у А. Блока светящаяся игла – по сути дела, парафраз того же луча,значимость их одинакова соединение разных миров). В сущности, речь здесь идет о символической реальности – системе соответствий между ноуменальным и феноменальным миром, которая воспринимается и воссоздается личностью. Магическое слово, таким образом, постулирует данную реальность и одновременно создает необходимость личности и ее слова, которые лишь одни способны придать этой реальности качество системности (что, в сущности, и является рождением космоса из хаоса). Таким образом, магическое слово в статье А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» представляется порождающей прапочвой для создания слова символического, слова личностного. Своеобразие концепции магии слова А. Блока состоит в осмыслении стихии как категории, обусловливающей специфическую действенность слова: «…за магическим действом и за магическим словом одинаково лежит стихия темной воли, а где-то еще глубже, в глухом мраке, теплится душа кудесника, обнявшаяся с душой природы» (21, т.5, с.48); «Каждая былинка – стихия, и каждая стихия смотрит на него (древнего человека) своим взором, обладает особым лицом и нравом, как и он» (21, т.5, с.37). Стихия – это та ипостась хаоса, которая воздействует на личность, через которую личность убеждается в его реальности. В каком-то плане хаос и стихия – синонимы, однако не совсем. Надо сказать, что А. Блок размышляет о стихии гораздо более, чем А.Белый и Вяч. Иванов. У А. Блока понятие стихии прилагается прежде всего к природному, а затем уже к человеческому бытию: «Человек от века связан с природой, со 129 всеми ее стихиями, он борется с ними и любит их, он смотрит на них одновременно с любовью и с враждой» (21, т.6, с.366). В то же время, как верно отмечает Т.К.Лозович в статье «Блок и Вагнер: созвучия», «под стихией понимается и раскованное, ничем не сдерживаемое, подобное явлениям природы – урагану, землетрясению – движение народных масс» (91, с.224). Кроме того, понятие стихии связано у А. Блока и с поэтическим творчеством: «…все, кто умеет ценить поэзию как самостоятельную стихию, – не только те ее области, в которых она роднится с другими стихиями, но и те, в которых она совершенно беспримесна или даже прямо враждебна всем другим стихиям, все они твердо знают, что Бальмонт – поэт бесценный» (21, т.5, с.373). Такая разноплановость связана, очевидно, с тем, что стихия представляет собой некое единое начало, проникающее собой и природное, и эмоциональное, и национальное, и творческое бытие. Стихия – это, конечно, не сам по себе первозданный хаос, но хаос сконцентрированный и действенный: «Очевидно, при известной обстановке, в день легкий или черный, слово становится делом, обе стихии равноценны, могут заменять друг друга; за магическим действом и за магическим словом – одинаково лежит стихия темной воли» (21, т.5, с.48). Собственно, это действенное, преобразующее начало, а также непредсказуемость его проявлений и приковывает к себе внимание А. Блока. Осмысление А. Блоком понятия стихии, на первый взгляд, выглядит противоречивым. С одной стороны, стихия органически связана с культурой («стихия таит в себе семена культуры» (21, т.6, с.161)). С другой стороны, стихия противоположна и даже враждебна культуре: «Перед лицом разбушевавшейся стихии приспущен надменный флаг культуры» (21,т.5, с.355), «Всякий деятель культуры – демон, проклинающий землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. Сердце сторонника 130 прогресса дышит черной местью на землю, на стихию, все еще не покрытую достаточно твердой корой» (21, т.5, с.356). «Космос – родной хаосу», но хаос не подозревает об этом родстве и, концентрируясь в стихию, сокрушает культурный космос1. Дело не только в том, что во втором случае речь идет о наличной реальности - о «машинной культуре», порывающей связь с природой (статья «Стихия и культура»), а во втором – о долженствовании (статья «О назначении поэта»). Тут сложность другого рода: речь идет об амбивалентности проявлений стихии, о ее сущностном безразличии к человеку и его миру. Но вот вопрос – почему «всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию» (21, т.6, с.20)? Ведь она – тоже природная стихия, и проявляется столь же катастрофично. И А. Блок не отворачивается от этого: «Она сродни природе… Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но – это ее частность, и это не меняет ни общего направления, ни того грозного и оглушительного гула, который создает поток. Гул этот все равно всегда – о великом» (21, т.6, с.12). Как, опять же, для этически чуткого Блока гул «о великом» сочетается с обманом и разрушением? И еще более явно та же проблема в дневниковой записи 5 апреля 1912 года: «Гибель Titanic’a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)» (21, т.7, с.139). Все это – гибельные, разрушительные проявления стихии – все равно, природной или социальной, их невозможно предотвратить, их 1 О приближении такого рода катастрофы и предупреждает А.Блок в статье «Стихия и культура»: «Так или иначе – мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами – громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы» (21, т.5, с.359). Следует обратить внимание, как в этой статье пересекаются и взаимодействуют различные смыслы понятия «стихия»: действие уже свершившегося землетрясения – природной стихии – оказывается столь же разрушительным и непредсказуемым, как и возможное действие стихии народной. 131 бессмысленно бояться, и блоковское отношение, возможно, восходит к пушкинском строчкам: «Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю, И в разъяренном урагане…» Кроме того, в статье «Интеллигенция и революция» А. Блок подчеркивает преобразующий характер действия стихии: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (21, т.6, с.12). Но эти объяснения лежат на поверхности. Более глубокой причиной, пожалуй, является своеобразное положение стихии между двумя мирами. Ведь борьба с хаосом космоса происходит в мире ноуменальном, мир же феноменов – «лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь» – или лишенный напора, привычный хаос или, в крайнем случае, пошлый порядок, в котором нет ничего от космоса. Стихия же – прорыв ноуменального мира в феноменальный, пусть даже одной его стороны – хаоса, но поэту важно ощутить само его присутствие, пусть даже ценой гибели. Итак, в магическом слове у А. Блока заложена связь с феноменальным миром, точнее, с его разрушительной, гибельной стороной, которая лишь сдерживается этим словом, но в любой момент может проявиться. Отсюда драматически напряженное положение субъекта этого слова, а также утверждение его иноприродности окружающему: «Он (колдун) – таинственный носитель тех чар, которыми очарован быт народа, и такой очарованный быт становится каким-то иным, не обыденным, он светится магическим светом, и страшен другому, ежедневному быту – своею противоположностью ему. Обряды, песни, хороводы, заговоры, сближающие людей с природой, заставляют понимать ее ночной язык, подражают ее движению. Тесная связь с природой становится новой 132 религией, где нет границ вере в силу слова, в могущество песни, в очарованье пляски. Эти силы повелевают природой, подчиняют ее себе, нарушают ее законы, своею волею сковывают ее волю. Опьяненный такою верой сам делается на миг колдуном и тем самым становится вне условного обихода» (21, т.5, с.43). Именно из ощущения соединенности слова со стихией возникает у А. Блока концепция магичности слова. Если А.Белый считает магическое слово идеальной перспективой поэтического слова, причем вполне осуществимой, то А. Блок, вслед за Вяч. Ивановым, относит данный феномен к первобытному состоянию языка, к мифологическому мышлению. Заметим, что А. Блок и позицию субъекта слова формулирует гораздо радикальнее, чем Вяч. Иванов и А.Белый, так как впрямую говорит о новой религии, о «вере в силу слова», при этом человек становится не магом, волхвом и т.д., а богом: «Заклинающий человек властен над природой, она служит только ему, оттого он сам чувствует себя богом» (21, т.5, с.47). Такое самочувствие личности дает основание А. Блоку, вслед за Е.В.Аничковым и другими фольклористами, говорить о «зачатках религии». И своеобразие этой религии именно в ощущении себя как божества, а не, как было бы естественнее, присутствия Бога в себе и заклинаемой природе. Хотя ведь трудно отличить – особенно изнутри человека – богоприсутствие от боготождественности. К тому же речь идет о творящей и преобразующей воле, которая настолько овладевает человеком, что сложно определить ее источник. И, возможно, это одна из естественных реакций на ницшевское «Бог умер» – нахождение живого Бога человеком внутри себя, что становится одной из сквозных идей религиозной философии данного периода (учение о тварной Софии П.Флоренского, учение в человеке как «оке мировой души» С.Булгакова и т.д.). 133 Об этом же, в терминах христианства, рассуждает А. Блок в одном из набросков статьи о русской поэзии: «Стихи – это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее – в том и кроется его настоящий бог. Диавол уносит его – и в нем находит он опрокинутого, искалеченного, – но все милее, – бога. А если так, есть бог и во всем тем более…» (21, т.7, с.22). В данном фрагменте та же логика: определение и ощущение, что есть Бог, возникает не извне, не из какого-либо канона, а из внутреннего опыта поэта, что и позволяет даже в дьяволе увидеть Бога. Здесь человек уже не Бог, всего лишь апостол, однако точно так же в творческом напряжении, по сути дела, конституирует божество, полагает его вовне себя, то есть здесь творческое усилие человека становится залогом существования источника этого усилия – творца. Особенно четко данная закономерность проявляется во втором томе. Так, в стихотворении «Ночь» речь идет именно о маге, о волхве: «Маг, простерт над миром брений, В млечной ленте голова. Знаки поздних поколений – Счастье дольнего волхва» Своеобразие позиции мага по отношению к жизненной реальности, как мы видим, состоит в том, что он находится вне и выше этой реальности, но одновременно он находится и ниже ее («дольнего волхва») – он как бы смотрит на мир с разных сторон. Происходящее далее в этом стихотворении нигде не связывается непосредственно с действием этого мага, откуда следует, что магия разлита в природе, маг же только концентрирует ее, заставляет действовать. Каково же действие магии? Прежде всего она очеловечивает природу. В стихотворении описано наступление ночи, но описано оно таким образом, как будто одновременно речь идет о приходе женщины, магия проясняет в ночи ее черты: 134 «Под луной мерцают пряжки До лица закрытых риз. Оперлась на циркуль тяжкий, Равнодушно смотрит вниз» Провидя в ночи женственность, магия затем возводит эту женственность к Женственности абсолютной: «Кто Ты, Женственное имя В нимбе красного огня?» Таким образом, маг восходит из земной реальности в реальность высшую и возводит природное явление к вечной сущности. Аналогичные процессы очеловечивания природы можно наблюдать в стихотворении «На перекрестке…». С одной стороны, природное явление – закат солнца, – уподобляется человеку: «На Западе, рдея от холода, Солнце – как медный шлем воина, Обращенного ликом печальным К иным гризонтам, К иным временам» С другой стороны, и человек уподобляется заходящему солнцу: «И жалкие крылья мои – Крылья вороньего пугала – Пламенеют, как солнечный шлем, Отблеском вечера…» В этом взаимоуподоблении проясняется заложенный в природном явлении ритм: «И кресты – и далекие окна – И вершины зубчатого леса – Все дышит ленивым И белым размером 135 Весны» Собственно, ритм и оказывается пределом, к которому стремится магия, и за которым она уже переходит в иное состояние – в поэзию. Религия слова, вера в слово у А. Блока проявляется не в создании произведений искусства, а связана с преображением природы. Однако в статье «Безвременье» А. Блок называет колдунами М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского. Почему? Ответ можно найти в той же статье: «Так было всегда, когда душа писателя блуждала около тайны преображения, превращения. И, может быть, ни одна литература не пережила в этой трепетной точке стольких прозрений и стольких бессилий, как русская» (21, т.5, с.76). Преображение, превращение – результат действия колдуна, «кудесника», и, как у Вяч. Иванова, оно является пределом, к которому слово писателя не может не стремиться и которого в то же время никогда не может достигнуть.Собственно, этот предел как раз представляет момент концентрации сил творческой личности и перелом, за которым наступает ее бессилие. В принципе данная логика приводит к необходимости различения магического слова и категории магии слова. Магическое слово – слово мага, колдуна – действительно преобразует реальность. Магия слова – чистая интенция преобразования, возникающая уже в искусстве. Энергия слова, не сумевшего воздействовать на реальность, обращается внутрь него, создавая новое качество - художественность, которая и есть личностно пресуществленная стихийность. В данном разделе была рассмотрена проблема магического слова в интерпретации А. Блока. Мы убедились, что магическое слово тесно связано с категориями хаоса, стихии. Противоречивое осмысление стихии А. Блоком объясняется не только ее преобразующим действием, но и ее посреднической ролью между феноменальным и ноуменальным миром. Относя магическое слово к мифологической эпохе языка, А. Блок 136 подчеркивает его внеиндивидуальный характер, необходимость для носителя этого слова полного выхода за пределы собственного «я» в осуществлении преобразующего действия слова. Именно поэтому для А. Блока оказывается необходимым при постижения специфики этого слова воссоздать взаимообращенность фольклорного и современного миросозерцания, что он и сделал в статье «Поэзия заговоров и заклинаний». Кроме того, магическое слово у А. Блока действует в сфере природы и для художественного слова является непереходимым пределом, к которому оно, однако, не может не стремиться. Раздел 2. Символическое слово во взаимоотношениях с мифом и историей Категория стихии объединяет магическое слово, то есть слово внеиндивидуальное, со словом символическим – словом поэта, развертывающимся в конкретном культурном контексте1. Символическое слово, прежде всего, личностно, в нем на жизненную стихию налагается индивидуальный творческий космос, но таким образом, что стихия в нем остается живой и действенной. Стихия при этом находится и вне творческой личности – как свойство реальности, обеспечивающей становление, и внутри - как личные особенности, необходимые для рождения поэтического слова. Такими формами существования стихии в мире творческой личности являются музыка и ее ритм: «Чем ближе становится человек к стихиям, тем зычнее его голос, тем ритмичнее слова» (21, т.5, с.52). Музыка и ритм, прежде всего, обеспечивают действенность стихии, именно они – то начало, которое преобразует мир в слове. Объединение слова с действием, осуществляемое через музыку, А. Блок Положения данного раздела кратко изложены нами в статье «Символическое слово в творчестве А. Блока» (Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки. – Донецк, 2004. – вып. ІІ). 1 137 считает главной особенностью «мифологической эпохи языка» по сравнению с современностью: «Наша индивидуальная поэзия – только слово, и не спрашиваясь его советов, мы рядом, но не заодно с нею, делаем пресловутые полезные дела. Первобытная гармония согласует эти слова и дела, слова становятся действом. Сила, устрояющая их согласие – творческая сила ритма. Она поднимает слово на хребте музыкальной волны, и ритмическое слово заостряется, как стрела, летящая прямо в цель и певучая; стрела, опущенная в колдовское зелье, обретает магическую силу и безмерное могущество» (21, т.5, с.52). Слово, проникнутое музыкальным ритмом, становится творчеством. Обратим внимание, что словосочетания «творческая сила» и «магическая сила» А. Блок употребляет как синонимичные. Отсюда следует, что творчество и есть магия преображения, осуществляемая не столько в искусстве, сколько в сфере жизненной реальности. Ясно, что стихийность музыкального напора противостоит, препятствует сознательному выстраиванию и становлению личности в соответствии с (т.е.осуществлению определенными пути и долга). моральными Однако следование критериями долгу и развертывание пути вне музыки, вне стихии есть лишь движение по поверхности жизни, ни затрагивающее ее глубин и высот, не говоря уже о том, что это движение вне искусства. Кроме того, в логике А. Блока, существование вне музыки есть выпадение из сферы культуры в сферу цивилизации. Не зря в статье «Крушение гуманизма» он пишет, что искусство – «голос стихий и стихийная сила» (21, т.6, с.109), и культурную жизнь XIX века рассматривает как «историю борьбы духа гуманной цивилизации с духом музыки» (21, т.6, с.110), а далее делает вывод о том, что любое культурное движение, не проникнутое духом музыки, «перестает быть культурой и превращается в цивилизацию» (21, т.6, с.111). 138 Поэтому для А. Блока (и также, даже еще более настоятельно и рационализировано, для А.Белого) возникает необходимость говорить не только о музыке, но и об ее организующем начале – ритме. И столь же необходимым оказывается проникновение музыки в ее ритмической ипостаси в такие «немузыкальные» категории, как долг и путь. Так, в статье «Душа писателя» он пишет: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути. Только наличностью пути определяется «внутренний такт» писателя, его ритм. Всего опаснее – утрата этого ритма. Неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушивание как бы к отдаленной музыке есть непременное условие писательского бытия… Знание своего ритма – для художника самый надежный щит от всякой хулы и похвалы» (21, т.5, с.370-371). То же самое в статье «Три вопроса»: «В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем…долг – единственное проявление ритма души человеческой в наши безрадостные и трудовые дни, – и только этим различается подлинное и поддельное, вечное и невечное, сакральное и кощунственное» (21, т.5, с.238). Характерно, что ритм у А. Блока признается единственным и уникальным для каждого творческого субъекта. Столь же уникальным и оказываются долг и путь именно благодаря тому, что они проникнуты музыкальной стихией. Таким образом, глубинное единство пути, определяющего этот путь долга, а также проникающего этот путь уникального ритма – являются основой творческой индивидуальности, которая есть воплощенный в слове путь. Поэтому блоковская «трилогия вочеловечения» представляется как с необходимостью изменяющееся соотношение поэта, пути и слова. 139 Ранним блоковским стихам свойственно ощущение, что поэт – «сын гармонии» – и существование именно в этом мире как в мире полностью реальном свойственно ранним блоковским стихам.: об этом говорит целый ряд исследователей (Д.Е.Максимов, З.Г.Минц и др.). В данный период поэт общается не с явлениями, а с сущностями, и прозревает их эстетическую природу. Очень характерный пример – раннее стихотворение «Сама судьба мне завещала…». Миссия поэта здесь – «Светить в преддверьи Идеала Туманным факелом своим», то есть, поэзия является путем к Идеалу и освещает его. Именно поэтому творческий процесс осуществляется лишь тогда в полной мере, когда накладывается на стремление к высшему Благу: «…до Благого Стремлюсь своим земным умом И, полный страха неземного, Горю Поэзии огнем» Обратим внимание, что Идеал, Благо, Поэзия здесь оказываются равновеликими (все три слова пишутся с большой буквы). Все эти три понятия знаменуют мир сущностей, Поэзия же оказывается средоточием этого мира и проводником в нем для творческой личности. Характерно, что мир гармонии – для поэта естественная среда существования (отсюда, возможно, отмечаемое многими исследователями в его ранних стихах влияние Пушкина и Жуковского), он и есть его подлинная реальность – как внешняя, так и внутренняя. Потому мотив пров дения, тайного знания своего пути в этом мире определяет внутреннюю сущность поэта: «И он в сомненьи и изгнаньи Остановился на пути. Но уж в очах горят надежды, 140 Едва доступные уму, Что день проснется, вскроет вежды, И даль провидится ему»; «Но к цели близится поэт, Стремится, истиной влекомый, И вдруг провидит новый свет, За далью, прежде незнакомой». Ведь то, что поэт видит внутри себя, соприродно тому, что существует снаружи, и потому путь его определен его же собственным внутренним стркмлением, и точно также определена в координатах мира сущностей и известна цель. Во втором томе ситуация видоизменяется. О разнице мироощущений между первым и вторым томом исследователи говорили очень много, в контексте наших рассуждений будет актуально мнение З.Г.Минц о том, что «однострунность», одномирие первого тома здесь сменяется многомирием. И поэт уже оказывается распятым между этими мирами, ощущает не соответствия, а наоборот, их несоответствия, несовпадения их координат. Об этом, в частности, стихотворение «Поэт», оно потому так и названо, несмотря на то, что поэт здесь явно не главное действующее лицо. Вот что сказано в этом стихотворении о поэте: «…он вечно о чем-то плачет. – О чем? – О розовом капоре. – Так у него нет мамы? – Есть. Только ему все нипочем. Ему хочется за море, где живет Прекрасная Дама» 141 Здесь сталкиваются два мира: мир явлений, мир простой повседневной жизни, и мир сущностей. И понятно, что для человека, живущего в жизненном мире, недостижимость Прекрасной Дамы, абсолюта, то, что «она не ездит на пароходе», – утрата иллюзорная и, в сущности, смешная, особенно по сравнению с тем, что у девочки «нет мамы». Но точно так же понятно, что для человека, живущего в мире сущностей, все «человеческие, слишком человеческие» потери и утраты просто нечувствительны, не существуют, такому человеку действительно «все нипочем». Поэт же (не «глупый поэт», герой стихотворения, а тот, кто говорит о нем) пытается удержать единство этих миров и в то же время чувствует нестойкость этого единства. В Прологе поэмы «Возмездие» происходит отчасти возврат к логике первого тома. С самого начала констатируется: «Жизнь – без начала и конца. / Нас всех подстерегает случай». Речь идет о хаосе жизненной реальности, о дурной бесконечности возвращений, как в стихотворении «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Миссия же поэта определяется следующим образом: «Но ты, художник, твердо веруй В начала и концы. Ты знай, Где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой Измерить все, что видишь ты…». В самом общем виде можно сказать, что художник преодолевает жизненный хаос, расчленяет его: «Жизнь без начала и конца…» – «Но ты, художник, твердо веруй В начала и концы». Очень симптоматично, что А. Блок говорит здесь, во-первых, о нетождественности начала и конца (это и позволяет утверждать их 142 наличие), во-вторых, о множественности, то есть жизнь – не замкнутый круг, когда «под луной ничто не ново» и все возвращающееся одинаково, а множество неповторимых начал и концов, раздельность единого. Наличие и расчлененность начала и конца – предмет веры, убедиться в этом нельзя – между тем в следующей строчке А. Блок парадоксальным образом атрибут знания прилагает к Аду и Раю – традиционным предметам веры. То есть взаимоотношения начал и концов еще более непознаваемы, чем взаимоотношения Ада и Рая. В этом плане жизненная и наджизненная реальность как бы меняются местами: о высшей реальности он знает, в жизненной реальности он верует. Такая подмена возможна вследствие того, что: «Тебе дано бесстрастной мерой Измерить все, что видишь ты» – то есть найти основание для объединения этих миров в единое целое без утраты их различий («Познай, где свет, – поймешь, где тьма»), и следовательно, организовать и структурировать, создать соразмерность («меру») частей целого. Именно в результате такого видения рождается мир как целое и прозревается эстетическая природа этого целого: «Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен». Но в отличие от первого тома, прекрасное – уже атрибут не высшего мира, а мира как целого, оно непосредственно проявлено в этом целом. Но для того, чтобы эту проявленность уловить, необходимо личностное усилие. Поэтому и в начале, и в конце поэмы, где говорится об эстетической природе мира как целого, это утверждение неотъемлемо от субъекта: «Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен» – 143 «Ты все благословишь тогда, Поняв, что жизнь – безмерно боле, Чем quantum satis Бранда воли, А мир – прекрасен, как всегда». Следовательно, мир сам по себе может быть и хаосом и космосом, полнота и красота мира – плод особого видения, требующего усилия, соединения разноприродных реальностей. Таким образом, осмысление, познание природы поэтического «я» объединено с познанием природы мира как целого. Все изложенное выше дает возможность понять трагедийность пути поэта. Этот путь начинается в мире высшей реальности, в мире Вечной Женственности. Затем следует погружение в жизненную стихию, и с этого момента, как убедительно показывает Е.Б.Тагер, в блоковской лирике возникает мотив измены идеалам юности и категория возмездия как «внутреннего осознания человеком своей вины перед собственной совестью» (163, с.87). Но, с другой стороны, следование этим идеалам отменило бы динамику, путь, следуя которому, поэт, как мы видели, проясняет и собственную природу, и природу мира как целого. Но прояснение собственной природы вряд ли возможно без разрыва связей с теми началами, которые породили творческую личность. Самоопределение поэта и представляет собой трагедию разрыва связей с соловьевской Вечной Женственностью, измены тому «свету, который блеснул вначале». Но воплотить этот свет в слово, в ритм возможно лишь только в результате пути именно определившейся, отделившейся, единственной личности. И, следовательно, движение по собственному пути невозможно без вины перед чем-либо, и оно, безусловно, предполагает возмездие. Путь и есть ожидание возмездия. Возмездие представляется невоплотимым пределом творчества, отчего и поэма под таким названием осталась незаконченной. 144 В символе присутствует множество миров, эти миры иноприродны реальному миру, все привычные категории, определяющие мир: время и пространство, причина и следствие – в них отсутствуют, и между тем они действительно существуют, а не являются лишь творением воображения художника1. Собственно, в символе и утверждается реальность этих иноприродных миров, причем, парадоксальным образом, именно в тот момент, когда художник-символист обращается к жизненной реальности – когда «возникают вопросы о проклятии искусства, о «возвращении к жизни», об «общественном служении», о церкви, о «народе и интеллигенции»» (21, т.5, с.431). А. Блок считает это явление вполне естественным в логике символического миросозерцания: «Ценность этих исканий состоит в том, что они-то и обнаруживают с очевидностью объективность и реальность «тех миров», здесь утверждается положительно, что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не суть «наши представления»» (21, т.5, с.431). То есть символическое слово связывает мир реальный с множеством миров, находящихся за его пределами; как обращение к реальному миру утверждает существование тех миров, так и существование тех миров утверждает значимость реального мира. Такая ситуация, по-видимому, в координатах искусства слова возникает совершенно органично, так как маркирует тот промежуток, который реально создается между словом, существующим в жизненной реальности, и словом в реальности эстетической, в «мирах искусства». Возврат к жизненной реальности - и в рамках искусства, как воссоздание ее в поэтическом слове, и деятельностный, как практическое вмешательство в нее, - оказывается Символическое слово, в понимании А. Блока, – это такое слово, которое концентрирует в себе жизненную реальность и трансформирует ее таким образом, что в ней слышен «мировой оркестр». Именно постоянное присутствие стихии превращает у Блока общесимволическое двоемирие в многомирие: «...быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа: Врубель видел сорок разных голов Демона, а в действительности их не счесть» (21, т.5, с.433). 1 145 необходимым для прояснения внутренних связей, разрыв которых в равной степени гибелен и для поэтического слова, и для жизненной реальности. Символ есть, таким образом, воссоздание целостности мира, которое при этом не отвлекается от сознания его изначальной раздельности. Отсюда в одной из дневниковых записей утверждение о символическом значении деталей реального мира: «Тут же получают смысл и высшее значение подробности незначительные с виду и явления природы (болотные огоньки, зубчатый лес, свечение гнилушек на деревенской улице ночью» (21, т.7, с.344). В символическом мироощущении у таких деталей есть смысл и значимость, однако они неопределенны, есть лишь интуитивное ощущение какой-то связи этих деталей с теми мирами, которые лежат за их пределами, они как-то выражают какие-то события, происходящие в этих мирах, но какие именно – это сфера несказуемого и неопределенного. Ведь миров этих много, границы между ними нечетки: «Здесь еще никто не знает, в каком мире находится другой, не знает этого даже о себе; все только перемигиваются…» (21, т.5, с.427). Поэтому темнота, неясность, по А. Блоку, являются естественными атрибутами символа: «Тайное «умное деланье», которым крепнут поэты, покинувшие родную народную стихию, – это вопрошание, прислушивание к чуть внятному ответу, «что для других неуловим», – вопрошающий должен обладать тем единственным словом заклинания, которое еще не стало «ложью». И вот – слово становится только указанием, только намеком, только символом. «Невнятный язык», темная частность символа – мучительно необходимая ступень к солнечной музыке, к светлому всеобщему мифу» (21, т.5, с.10). Обратим внимание, что данный фрагмент из статьи, посвященной творчеству Вяч. Иванова, содержит неявную полемику с ним. У Вяч. Иванова темнота символического слова мотивирована тем, что оно 146 является «первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов…» (66, с.183). У А. Блока, наоборот, именно потому, что в современности связи между творческой личностью и «народной стихией» резко усложнились, «единственное слово» утрачено, слово может быть лишь указанием на это единственное слово, и потому оно темно. И потому контраст тьмы и света означивает переход от символа к мифу. Хотя, как мы видели, темнота символического слова и является ступенью к мифу, но дистанция между символом и мифом у А. Блока все-таки гораздо больше, чем у Вяч. Иванова (у него символ – «динамический modus мифа»). Как же воспринимает миф А. Блок? Прежде всего, о мифе как таковом он пишет очень мало и лишь в самых ранних дневниковых записях. В этих записях он менее, чем где бы то ни было, теоретик. Его определения мифа – не определения, а сравнения. Возможно, это происходит из-за той дистанциированности взгляда на миф, о которой мы говорили ранее. Миф для А. Блока – нечто существующее на расстоянии, и потому определить – то есть отделить его от также присутствующих здесь и сейчас близких предметов и явлений – нет никакой возможности, можно только метафорически ощутить. Потому все, что говорит А. Блок о мифе, выглядит так неопределенно и универсально. Например: «Положительное в ней (мифологии) – она повествует о тайном сочетании здешнего и нездешнего, земного и небесного, она – «отрезок радуги» (письмо Вл. Соловьева к Фету). Через нее очищается здешнее (религиозное искусство, одухотворенное добро – старец Зосима на земле). Иное (выделено автором – Э. С.) через нее сходит сюда (Апокалипсис). Таким образом, определение мифологии будет двойственным. Она еще двулика, как Астарта. Она – вечный полет и вечное воплощение» (21, т.7, с.50). Речь идет о взаимопроникновении двух миров, ноуменального и феноменального, мифология представляется посредником между ними, однако с тем же успехом таким посредником является и символ, и просто 147 образ, и человеческая личность. А «вечный полет и вечное воплощение» – это, скорее всего, состояние творческого духа, осуществляющего связь между двумя мирами. Следующее определение выглядит еще более универсальным: «Миф есть, в сущности своей, мечта о странном – мечта вселенская и мечта личная, так сказать – менее или более субъективная (но никогда не объективная, ибо никакая мечта не может быть объективной). Она только более или менее объективируется, – путем кристаллизации своего содержания во вселенной, его очищения от туманностей творческого духа» (21, т.7, с.49). Определение мифа как мечты прежде всего противоречит предыдущему определению мифологии как «положительного», то есть, реального, немечтательного взаимопроникновения ноуменального и феноменального миров. Таким образом, миф перестает быть реальностью, и вся его сущность переносится в сферу субъекта («мечта … менее или более субъективная»). Миф выводит субъекта на первый план, одновременно очищая его, выявляя в нем всеобщее. Однако, при всей неопределенности характеристики мифа, именно А. Блок связывает миф с религиозной сферой и в этой сфере определяет предел данного явления: «Мифы – цветы земные. Они благоуханны только до предела религии. Выше – мифу нет места» (21, т.7, с.49). До этого предела миф в трактовке А. Блока представляется абсолютно универсальным понятием, покрывающим собой и бытие, и жизненную реальность, снимающим различие между этикой и эстетикой. Единственное, что отсутствует в блоковском определении мифа, – это динамика, это функция порождения (в отличие, например, от трактовки данной категории у Вяч. Иванова). По-видимому, динамику в мифологическую целостность и вносит поэтическое слово, соединяя личность – носителя духа музыки – с историей. 148 Именно такая личность становится центром исторических построений А. Блока, о чем пишет К.Г.Исупов в своей статье «Историзм Блока и символистская мифология истории»: «Самораскрытие человека как субъекта исторического творчества виделось Блоку свободным от теоретической догматики, бесстрашно открытым в альтернативное будущее» (71, с.5). Адогматизм этого самораскрытия связан именно с присущим блоковскому видению истории музыкальным началом, прозрением в истории некоего ритма, то есть закономерных повторений. Собственно, в творчестве А. Блока происходит не столько взаимоналожение мифа и истории, сколько переход из мифа в историю путем переживания наиболее трагических для каждого из данных миросозерцаний ситуаций: безвыходности мифологических повторений и невозвратимости исторического прошлого. Именно таким прорывом из мифа в историю представляется цикл «На поле Куликовом». Выход из мифа в историю определяет прежде всего проходящий через весь цикл мотив пути, осмысленный как поступательное движение, лишенное возвратов: «О Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь! Наш путь – стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь»; «На пути – горючий белый камень. За рекой – поганая орда». Об этом пути во втором стихотворении сказано: «Не вернуться, не взглянуть назад». Заметим, что этот путь объединяет внутреннее пространство личности с пространством внешним и, с другой стороны, одухотворяет, очеловечивает внешнее пространство: «Наш путь – стрелой татарской древней воли 149 Пронзил нам грудь. Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной, В твоей тоске, о Русь». Направленность из прошлого в будущее в цикле безусловно присутствует. В первом стихотворении перед нами прошлое: «В степном дыму блеснет святое знамя И ханской сабли сталь». Во втором и третьем стихотворении продолжается погружение в прошедшее: если в первом стихотворении оно видится дистанциированно, как цель пути, то во втором и третьем стихотворении, во-первых, движение прекращается, во-вторых, лирический субъект уже находится внутри прошедшего: «И к земле склонившись головою, Говорит мне друг: «Остри свой меч, Чтоб недаром биться с татарвою, За святое дело мертвым лечь!»; «С полуночи тучей возносилась Княжеская рать, И вдали, вдали о стремя билась, Голосила мать». В четвертом стихотворении возникает взаимопроникновение прошедшего и настоящего. С одной стороны, лирический субъект находится в прошедшем: «Я слушаю рокоты сечи И трубные крики татар, Я вижу над Русью далече Широкий и тихий пожар. Объятый тоскою могучей, 150 Я рыщу на белом коне…». С другой стороны, уже начало стихотворения говорит об удаленности прошлого, о том, что оно действительно прошло и наступили иные времена: «Умчались, пропали без вести Степных кобылиц табуны, Развязаны дикие страсти Под игом ущербной луны». И последнее стихотворение оказывается полностью разомкнутым в будущее: «Но узнаю тебя, начало Высоких и мятежных дней! Над вражьим станом, как бывало, И плеск и трубы лебедей». Заметим, что этот переход в будущее связан с присутствием образа стихии – духа музыки – и образа прошлого. Таким образом, поступательное движение накладывается на повторяемость, цикличность. Возможно, именно с данной закономерностью связан блоковский комментарий к данному циклу: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди» (21, т.3, с.587). Символическое событие в истории, с одной стороны, концентрирует в себе необратимость ее хода, т.к. резко что-то меняет, в результате чего движение времени становится физически ощутимо, и, с другой стороны, именно в этом качестве – смены эпох – создает и закономерности истории. Личность, постигающая символический смысл истории, прозревает такого рода повторы в поступательном движении, устанавливает между ними связи. 151 Таким образом, музыкальное и историческое становятся ипостасями единой личности. Такая личность не только, как пишет В.Н.Топоров, «притягивает к себе все историческое, им страдает, им строится и растет» (166, с.14), но и выстраивает историю усилием творческого духа, создавая из нее музыкальную гармонию. История здесь переживается не только личностно, в совиновности и сопричастности, но и музыкально, как звучание мирового оркестра. Одновременно, переплавляясь внутри личности, в поэтическом слове история и музыка тоже приобретают личностный характер. Музыка – не просто стихия, история – не просто цепь причин и следствий, обе они – носители личностных, экзистенциональных смыслов. Итак, мы рассмотрели взаимоотношения символического слова с мифом и историей. Мы установили, что символическое слово личностно и раскрывается прежде всего как воплощение пути. Путь, воссозданный в слове, ведет от мира «однострунной» гармонии к дисгармонии, определяемой разорванностью творческой индивидуальности между жизненной и символической реальностью. Их соединение нестойко и обеспечивается лишь напряженным усилием творческой личности, однако они необходимы друг другу и поэту, который в этом усилии проясняет и собственную природу, и природу мира как целого. Символическое слово оказывается формой самоопределения, воссозданием целостности мира, которая не отменяет раздельности составляющих этой целостности. Миф А. Блока ассоциируется именно с этой цельностью, но воссозданной в религиозной сфере. Искусство слова постигает заложенный в мифе символический смысл истории, соединяя ее с «духом музыки». 152 ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В истории литературоведческой науки специфика слова осмыслялась диапазоне от того Слова, которое «вначале было», до ряда знаков между двумя пробелами. Слово, будучи, на первый взгляд, вполне конкретным феноменом, суть которого как бы сама собой разумеется (то, что литература – искусство слова, знает каждый школьник), в реальной литературоведческой практике распадается на множественность не сводимых друг к другу и одновременно в чем-то пересекающихся категорий: «литературное произведение», «текст», «художественный мир», «поэтический язык», «поэтическая речь» и т.д. Вся эта множественность, по-видимому, является рядом ипостасей единой сущности, которая оказывается настолько универсальной и всеобъемлющей, что уже совершенно неопределима. Действительно, как пишет А.В.Михайлов, «науке о литературе и всей науке о культуре необходимо убедиться в том, что уже и все предшествующее слову, и все превышающее слово находится для нас в сфере слова и делается нам доступным сущностно через слово. Но дело не в одной лишь доступности – все это, все, что до слова, и все, что после слова, становится возможным лишь как слово и благодаря слову» (116, с.277). В такой ситуации, уже даже не логоцентризма, а расширения феномена слова до полной беспредельности, очень трудно, но в то же время совершенно необходимо осмыслить специфику слова. Сразу же скажем, что под словом мы будем понимать, вслед за М.М.Бахтиным, «высказывание, имеющее своего автора, которого мы слышим в самом высказывании» (11, т.6, с.206). Предмет нашего исследования – художественное слово или слово в художественном бытии. Это художественное бытие может быть осмыслено как момент встречи 153 языкового слова (по М.М.Бахтину, «языка в его конкретной живой целокупности») и слова как эстетического феномена (по М.М.Бахтину, проявления «выразительного и говорящего бытия»). Раздел 1. Проблема локализации При такой постановке вопроса безусловно актуальной становится аналогия А.А.Потебни, проводимая между языковым словом и литературным произведением. Аналогия это структурная: слово, по А.А.Потебне, состоит из звуковой оболочки, внутренней формы лексического значения, и аналогичным образом и литературное произведение складывается из словесной формы, образов и содержания. В результате языковое слово оказывается имманентно художественным и, по сути дела, равным произведению. По этому поводу с А.А.Потебней полемизировали В.В.Виноградов и Ю.Н.Тынянов: «Если образом в одинаковой мере являются и обычное, повседневное разговорное выражение – и целая глава «Евгения Онегина», – то возникает вопрос: в чем же специфичность художественного образа?» (168, с.61); «В учении Потебни, которое смешивало структурные формы и признаки поэтического слова со структурой литературно-художественного произведения, сливались проблемы и границы теории поэтического слова или поэтической речи и поэтики в собственном смысле этого термина» (37, с.252). Действительно, в ситуации, когда и разговорное выражение, и глава «Евгения Онегина» в одинаковой степени являются образами и, следовательно, в логике А.А.Потебни, словом, наука, изучающая специфику поэтического слова, должна, по идее, стать частью лингвистики. В то же время и Ю.Тынянов, и В.Виноградов, разводя языковое и литературное слово, под словом также понимали структуры, явно 154 превосходящие слово. Так, Ю.Тынянов, определяя специфику литературного произведения как «динамику слова», в статье «О композиции «Евгения Онегина» под словом, по-видимому, понимает жанровую конструкцию, лежащую в основе произведения: «В словесном (курсив автора – Э.С.) плане «Онегина» для Пушкина решающим обстоятельством было то, что это роман в стихах» (168, с.64). Аналогичная ситуация в работе В.В.Виноградова «О поэзии Анны Ахматовой»: «Всякое сращение слов, которое является привычным для говора, всякая употребительная «фраза», т.е. организованная в грамматическое единство группа слов, соответствующая одному сложному, нерасчлененному представлению, могут быть рассмотрены как целостные лексемы» (36, с.373). Далее, для М.М.Бахтина слово есть «язык в его конкретной живой целокупности» (11, т.6, с.203). Аналогичным образом высказывание у него равно и одному слову, и целому произведению, в зависимости от того, когда заканчивает свою речь говорящий. Собственно, слово у Бахтина – это прежде всего определенная точка зрения, личностная позиция. Здесь, по-видимому, не может быть иначе, ведь если представлять искусство слова как зону контакта «выразительного и говорящего бытия» и человеческой личности, то тогда слово в литературном произведении становится конгруэнтным, адекватным языку в том плане, о котором М.М.Бахтин пишет в статье «Язык в художественной литературе»: «Литература не просто использование языка, а его художественное познание (соотносительно с научным познанием в лингвистике), образ языка, художественное самоосознание языка. Третье измерение языка» (11, т.5, с.287). Характерно, что и в другой, более поздней литературоведческой традиции, проблема локализации слова встает точно так же. Ю.М.Лотман, определив текст как «отдельное, замкнутое в себе и имеющее целостное, 155 нерасчленимое значение и целостную, нерасчленимую структуру семиотическое образование» (100, с.63), подчеркнув значимость начала и конца, тут же сводит текст на одно слово: «Текст стремится превратиться в отельное «большое слово» с единым общим значением…» (100, с.63). Если от слова языкового слово поэтическое многие исследователи отделяют весьма активно (об этом еще будет сказано), то вопрос о месте слова внутри произведения не ставится. Конечно, если все произведение – слово, то тогда и сюжет его – слово, и композиция – слово, и все компоненты – тоже слово. И, по-видимому, поэтическое слово по самой своей природе не предмет, а интенция. Конечно, поэтическое слово не может быть равно ни лингвистическому слову, ни предложению, ни периоду. Но, с другой стороны, оно может быть воплощено и в лингвистическом слове, и в фразе, и в периоде, если проявляет в себе энергию авторского присутствия и сущность творимого им мира. В этом плане аналогия А.А.Потебни между словом и литературным произведением, о которой мы уже говорили, может быть актуальной при условии некоторого переосмысления. Слово действительно конгруэнтно произведению и может содержать не только его структурные, но и содержательные черты, при условии, что оно все-таки изымается из языкового и переходит в иное, эстетическое бытие, и в этом бытии слово становится органическим способом проявления не только художественного мира произведения, но формирующей активности творящего субъекта. И отсюда следует еще одна причина, почему поэтическое слово нельзя соотнести ни с какой материально-текстовой данностью. Слово не только интенция, но и граница. Если у М.М.Бахтина культура «вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее» (10, с.25), то безусловно, то же самое можно сказать и о поэтическом слове. Прежде всего, разумеется, поэтическое слово является 156 границей между реальностью жизненной и реальностью эстетической. Данная закономерность, например, отрефлектирована в стихотворении А.Ахматовой «Бог знает, что такое слава…», обращенном к Пушкину как к некоей идеальной перспективе поэтического слова. В последней строчке: «И ногу ножкой называть» – как раз и происходит неожиданное обнаружение этой границы и воссоздаются два образа предмета – в жизни и в поэтическом слове, эти двойники сталкиваются – и одновременно узнают и не узнают друг друга, уподоблением и расподоблением двух образов предмета и живет данное стихотворение. Можно еще наметить целый ряд границ: внутриличностные (между эмоциями и мышлением, между мышлением и действием, между наличной реальностью и воспоминанием), межличностные (между явлением и понятием, между предметом и его идеей). Кроме того, что особенно существенно для литературы серебряного века, слово оказывается границей между внутренним миром творящего субъекта и чужим словом. Естественно, граница обозначает не только разъединение, но и объединение. Обе эти интенции исходят от творящего субъекта, в нем пересекаются движения соединения и разделения. Раздел 2. Проблема творящего субъекта В осмыслении полярность. С данной одной проблемы стороны, наметилась творческий субъект своеобразная оказывается подчиненным слову, он, по сути дела, не творит его, а является своеобразным медиумом (данная тенденция, безусловно, восходит к имперсонализму В.Соловьева и проявляется у представителей русской религиозной философии и исследователей, к ней близких). Так, П.А.Флоренский пишет: «Слова не творятся и не сочиняются, а находятся и обретаются» (176, с.350). Еще более явно данная тенденция выражена у 157 А.Потебни: «Из перемен, каким подвергается мысль при создании слова, укажем здесь только на ту, что мысль в слове перестает быть собственностью самого говорящего, и получает возможность жизни самостоятельной по отношению к своему создателю» (129, с.180). И А.Ф.Лосев, определяя слово как «личность, погруженную в историческое становление», также постулирует примат слова над творящим субъектом, во всяком случае, их неразличимость. Другой полюс научного осмысления категории творческого субъекта, возникает, по-видимому, из-за свойственного формальной школе прояснения специфики поэтического слова на фоне утверждения, что оно – тип слова языкового. Так, Р.Якобсон пишет: «Слово в поэзии утрачивает предметность, далее, внутреннюю, наконец даже внешнюю форму и стремится к эвфоническому слову, заумной речи»(193,с.200). И в дальнейшем вот это стремление к расподоблению, отталкивание от языка как такового, порождает ряд концепций, где утверждается, что слово поэтическое – это измененное языковое слово. Особенно четко данная закономерность проявляется в работах Ю.Тынянова, который в книге «Проблема стихотворного языка» противопоставляет прагматическое и поэтическое слово. Поэтическое слово, по его мнению, обладает существенностью, затрудненностью то есть понимания. многосмысленностью, Причина появления специфической свойственной поэтическому слову смысловой неоднозначности – в той «динамизации слова, которая возникает, когда оно входит в произведение: «Литература есть динамическая речевая конструкция» (168, с.271). Самым главным фактором динамизации Ю.Тынянов считает ритм. Под воздействием ритма, и вообще словесной конструкции, возникает «трансформация» слова в стихе, дающая новые смысловые обертоны. В.В.Виноградов рассматривает поэтическое слово как явление пограничное между национальным языком и индивидуальным стилем. От 158 национального языка в слове возникает категория лексемы: «Лексема (по аналогии с фонемой и морфемой) – это семантическая единица говора как осознаваемая (хотя бы потенциально) совокупность значений и их оттенков, связанных с известным сигналом (словом). Слово – это реализованный в данной фразе и в данной обстановке оттенок лексемы. Потенциальная совокупность таких значений лексемы, которые составляют ее семантическую характеристику для данного говора и могут быть осознаны его носителями, конечно, ограничена… Хотя каждая лексема хранит в себе потенциально синкретизм противоречивых эмоциональных тембров, но в повседневной речи выдвигаются, как эмоциональные доминанты … именно те, которыми слово окутано в наиболее привычных, наиболее автоматизированных сочетаниях… И вот в поэтическом словоупотреблении происходит преобразование лексемы путем выделения и осознания таких оттенков ее значения, которые не входят в ее повседневно-речевую характеристику» (36, с.40). Обратим внимание, что мысль о художественной речи как деавтоматизации обыденного словоупотребления развивается впоследствии Ю.М.Лотманом: «Для того, чтобы общая структура текста сохраняла информативность, она должна постоянно выводиться из состояния автоматизма, которое присуще нехудожественным противоположная структурам. тенденция: Однако только одновременно элементы, работает и поставленные в определенные предсказуемые последовательности, могут выполнять роль коммуникационных систем. Таким образом, в структуре художественного текста работают два противоположных механизма: один стремится все элементы текста подчинить системе, … а другой – разрушить эту автоматизацию и сделать самое структуру носителем информации» (98, с.95). Кроме лексемы, В.В.Виноградов исследует еще в слове символическую сторону. Символ, по В.В.Виноградову, как и слово, 159 является модусом лексемы, по сути дела, это слово, преобразованное в контексте данного произведения: «… характерная особенность символа – это обусловленность его значения всей композицией данного "эстетического объекта"» (36, с.374). Но, с другой стороны, в работе «О поэзии Анны Ахматовой», из которой взято только что процитированное высказывание и в которой второй раздел называется «О символике и о символе», значение конкретных слов-символов выводится отнюдь не из целого стихотворения, а из отдельных фрагментов. Они группируются как иллюстрации к определенным принципам словоупотребления поэта, отличным от привычного словоупотребления. В сущности, «индивидуальное языковое сознание», о котором говорит В.В.Виноградов как о предмете своего исследования, действительно сознание, направленное на язык, трансформирующее значение привычных слов даже не столько определенным их выбором, сколько закономерностями их соединения. Такое рассмотрение, возможно, было предопределено известным высказыванием Р.Якобсона: «Поэтическая функция проецирует эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» (193, с.204). Характерно, что В.В.Виноградов именно с этой особенностью отбора связывает эстетическое качество слова: «… над гладким фоном языковых явлений, описывает характеризующих известный «диалектология»), социальный возвышаются коллектив эстетические (их нормы, обусловливающие систему словесного отбора при некоторой «установке на выражение», систему, характерную для диалекта в целом; и выступают основные типы индивидуальных преобразований – в их разрушительнотворческой работе, подготовляющей новую картину языковых взаимоотношений у грядущих поколений» (35, с.373). Опять-таки, данная тенденция в дальнейшем проявляется у Ю.М.Лотмана: «Если в нехудожественном тексте семантика единиц диктует характер связей, то в художественном – характер связей диктует семантику единиц» (99, с.251). 160 Собственно, за всеми разнообразными концепциями – динамизации, трансформации, символизации и т.д. – стоит прежде всего утверждение поэтического слова как измененного слова языкового, т.е. остающегося в пределах языка, не создающего нового качества (когда, например, В.П.Григорьев говорит о категории преобразования слова, он связывает его с «освоенным лингвистикой понятием трансформации» (52, с.25)). Оттого и при осмыслении поэтического слова в виде фона постоянно возникают закономерности литературного языка, то есть поэтическое слово здесь существует как бы между языком и индивидуальным творческим сознанием. Именно поэтому практически во всех концепциях такого рода вместе с такой промежуточной позицией слова утверждается особая значимость творческого субъекта – именно как того, кто трансформирует слово, что-то делает с ним. Особенно четко эта посредническая и организующая роль творческого субъекта проявляется в работе Б.А.Ларина «О лирике как разновидности художественной речи»: «Творческая индивидуальность в лирике проявляется во множестве ускользающих деталей, имеющих силу лишь в живой связи поэта с его социальной средой, – в сложной и невоскресимой для историка атмосфере одной их культуры» (90, с.77). У В.П.Григорьева подчеркивается активная, деформирующая роль творческого субъекта: «…поэт стремится «завладеть» словом в том смысле, что демонстрирует такой уровень «языковой компетенции», который должен выглядеть в глазах современников как высший из всех возможных, «выше», «глубже», «совершеннее», чем у работающих рядом поэтов-«конкурентов», превосходящий их уровень» (52, с.151). Поэт создает индивидуальные оттенки экспрессемы, одновременно оживляя «память слова». У В.В.Виноградова значимость творческого субъекта сгущается до ощутимости «образа автора». 161 По-видимому, «образ автора» восполняет необходимость индивидуации, делает более ощутимой конкретную личность, которая, с одной стороны, стоит за композиционным единством текста как его создатель, а с другой стороны, создается в процессе развертывания этого композиционного единства. Заметим, что сходная ситуация возникает и в трактовке творческого субъекта в работах Ю.Н.Тынянова. В статье «О литературной эволюции» творческий субъект у него ассоциируется с направленностью слова на произнесение в определенном контексте («Установка оды Ломоносова, ее речевая функция – ораторская. Слово «установлено» на произнесение» (168, с.278)). Эта речевая установка, авторское намерение, в логике Ю.Тынянова, отходит на второй план, определяющим началом оказывается конструкция: «…авторское намерение может быть только ферментом. Орудуя специфическим литературным материалом, автор отходит, подчиняясь ему, от своего намерения… Конструктивная функция, соотнесенность элементов внутри целого обращает «авторское намерение» в фермент, но не более» (168, с.278). В данной статье активным, порождающим началом является форма, но, с другой стороны, как бы для равновесия, тут же выдвигается концепция литературной личности, во многих отношениях близкая концепции «образа автора» В.В.Виноградова. Так же, как и у В.В.Виноградова, литературная личность присутствует непосредственно в тексте: «Существуют явления стиля, которые приводят к лицу автора; в зачатке это можно наблюсти в обычном рассказе: особенности лексики, синтаксиса, а главное, интонационный фразовый рисунок – все это более или менее подсказывает какие-то неуловимые и вместе с тем конкретные черты рассказчика» (168, с.278). Собственно, литературная личность представляет собой также речевую установку и, прежде всего, проявляется в трансформации биографии как материала в произведении, точнее, не в одном конкретном произведении, а во всем, что написано данным автором: 162 «Литературная личность, «авторская личность», «герой» в разное время является речевой установкой литературы и оттуда идет в быт. Таковы лирические герои Байрона, соотносившиеся с его «литературной личностью» – с тою личностью, которая оживала у читателей из стихов, и переходившая в быт. Такова «литературная личность» Гейне, далекая от биографического подлинного Гейне. Биография в известные периоды оказывается устной, апокрифической литературой. Это совершается закономерно, в связи с речевой установкой данной системы…» (168, с.279). В приведенном высказывании следует отметить, во-первых, что феномен литературной личности соотносится не с героем, а с автором как именно индивидуальностью, конкретикой, присутствующей причем в со тексте, своей а биографической во-вторых, что эта биографическая конкретика отнюдь не тождественна реальной биографии личности, стоящей за текстом. То есть литературная личность формируется на стыке текста и биографии, «речевая установка» в данном случае есть результат перехода текста в биографию, а биографии – в текст. Однако западноевропейское литературоведение убедительно демонстрирует, что полярности могут сходиться: М.Хайдеггер, исходящий из онтологичности слова и видящий в поэзии диалектику сокрытия и раскрытия истины, и через нее – бытие, и Р.Барт, трактующий слово как элемент структуры или процесса означивания», точку пересечения различных культурных кодов, приходят к проблематизации творческого субъекта. У М.Хайдеггера «язык – дом бытия», но одновременно и «убежище экзистенции» (180, с.168). Получается, что экзистенция рассеяна в бытии и в языке. Эта тенденция проявляется и в других работах. Так, во «Введении к "Что такое метафизика?"» читаем: «Предложение «Только человек экзистирует» означает: человек есть то сущее, чье бытие отмечено открытым стоянием, внутри непотаенности бытия, отличительно 163 благодаря бытию, отлично в бытии» (180, с.32). А в «Письме о гуманизме» сказано следующее: «В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их страна – осуществление открытости бытия, насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке» (180, с.192). Это значит, что открытость бытию и открытие в слове бытия – сущность творческого субъекта и, собственно, Dasein – не человек в бытии, а бытие в человеке, точнее, осознанность этого присутствия. Отсюда следует парадоксальное осмысление творческого субъекта: он есть, но при этом его как бы и нет, поскольку сущность его определяется причастностью к чему-то большему, чем он. В связи с этим в поэтическом слове, коль скоро оно определяется как просветление истины («Истина… совершается, будучи слагаема поэтически» (179, с.305)), через нее присутствуют, по сути дела, все атрибуты диалога: спор, вопрошение, ответ («Всякий ответ лишь до тех пор остается в силе как ответ, пока он укоренен в вопрошании» (179, с.304)), в их взаимосвязи нет лишь субъекта. Более того, о субъекте поэтического слова сказано: «…художник остается чем-то безличным по сравнению с самим творением, он бывает подобен некоему уничтожающемуся по мере созидания проходу, по которому про-исходит творение» (179, с.281). Получается, что творческий субъект существует лишь постольку, поскольку самоуничтожается. В такой постановке творческого субъекта отражается, по-видимому, основное противоречие философии М.Хайдеггера: разъятость между мифологическим бытием и немифилогическим временем, которая порождает две противоположные интенции. С одной стороны – смирение, послушание, «священная робость» перед бытием, вплоть до полного растворения, «отрешенности» («Мысль, послушная голосу бытия, ищет ему слово, в котором скажется истинное бытие» (181, с.40)). С другой стороны, это активизм и креативность вопрошания («Вопрошать … это прокладывать путь, создавать его» (181, с.149)). 164 У Р.Барта рефлексия над языком, или, точнее, рефлексия языка, властно втягивает в себя пишущего. В самом общем плане проблематизация субъекта возникает уже в начале работы «Критика и истина». «Да неужели же я существую до своего языка»? И что же в самом деле представляет собой это я, якобы владеющее языком, между тем как на самом деле именно язык вызывает я к бытию?» (7, с.362). Проблематизация субъекта достигает апогея в работе «Удовольствие от текста». В этой работе текст определяется как «сосуществование различных языков, работающих бок о бок» (6, с.462). Однако здесь лишь констатируется их наличие, Р.Барт лишь фиксирует факт сцепления тех или иных кодов, не задавая вопрос о причинах именно такого сцепления и тем более о закономерностях, которые могли бы организовывать процесс этого сцепления. Этот момент вполне понятен, потому что, несмотря на то, что текст по-прежнему является центральным моментов в концепции Р.Барта, размыкание структуры текста вовне ведет к изменению предмета осмысления:речь идет уже не столько о самом тексте, сколько о восприятии текста. «Текст как удовольствие», «текст как наслаждение» – ведь это все феномены восприятия («Что доставляет мне удовольствие в повествовательном тексте, так это не его содержание и даже не его структура, но скорее те складки, в которые я сминаю его красочную поверхность» (6, с.469)). Это смещение с текста на человека, который его воспринимает, приводит к тому, что текст постепенно становится антропоморфным: вначале Барт говорит об удовольствии от текста, затем о «текстеудовольствии», «тексте-наслаждении». Этими формулировками снимается объектность текста, он становится частью субъекта, и в конце происходит полное отождествление: «Текст обладает человеческим обликом; быть может, это образ, анаграмма человеческого тела?» (6, с.474). Наделение 165 текста чертами субъекта происходит на фоне постоянной констатации проблематичности этого самого субъекта: «…это расколотый субъект, с помощью текста он наслаждается и устойчивостью собственного «я», и его разрушением» (6, с.477); «Это дважды расколотый, дважды извращенный субъект» (6, с.472); «И вот тогда-то, быть может, перед нами вновь предстанет субъект, но уже не как иллюзия, а как фикция» (6, с.514). Ситуация дважды парадоксальна: именно разомкнутость текста, направленность его на воспринимающего субъекта, превращает текст в нечто замкнутое, в тело. А с другой стороны, тот, ради кого происходит вся эта работа «производства текста», – расколот, иллюзорен, он проявляет себя лишь в «удовольствии» и «наслаждении» – реакциях на текст, причем с явно телесными коннотациями. В данном парадоксе, возможно, проявился тот своеобразный поиск «смысловой целокупности», о котором пишет в своей статье Г.К.Косиков (85, с.146). Иллюзорность и телесность являются взаимопереходными, фикциональность субъекта порождает телесность текста и, с другой стороны, текстуализация мира имеет своим естественным следствием телоцентризм постмодернистской культуры. Неоднозначность выявления индивидуальности творческого субъекта в поэтическом слове сказалась в осмыслении такого важного атрибута поэтического слова, как его внутренняя форма. В работах А.А.Потебни внутренняя форма понимается как ближайшее этимологическое значение языкового слова. Это значение создает образную основу слова, которую А.А.Потебня называет «представлением»: «Слово, как творческий акт речи и мысли, включает в себя, кроме звуков и значения, еще представление (или внутреннюю форму) иначе «знак значения». Например, в слове «арбузик», которым ребенок назвал абажур, признак шаровидности, извлеченный из значения слова «арбуз», и образует его внутреннюю форму, или представление» (129, с.17). Собственно, внутренняя форма слова – это мотивировка наименования данного предмета изнутри языка, 166 это способ фиксации сознанием какого-то ведущего признака в предмете и возможность переноса его на другой предмет. Именно в этой возможности переноса и коренится утверждение А.А.Потебни об изначальной образности языка, его поэтичности. И, как видно из приведенного примера, образ в слове не есть его внутренняя форма сама по себе, а формируется в ее сопоставлении и связи с каждой новой реализацией. Именно такую динамическую сущность образа, по-видимому, имел в виду М.М.Бахтин, когда писал, что у А.А.Потебни «…образ и был тем медиумом, который соединял чувственную конкретность звука с общностью смысла» (11, т.6, с.162). Как видим из приведенного высказывания М.М.Бахтина, близка потебнианской трактовка внутренней формы Г.Г.Шпетом: «Внутренние формы … суть отношения, в которых термины – внешние звуковые формы и предметно оформленное смысловое содержание» (191, с.128). В концепциях Г.Г.Шпета и А.А.Потебни внутренняя форма существует безотносительно к творческому субъекту, в языке или в самой природе художественной реальности. Г.Г.Шпет говорит о поэтических внутренних формах, возникающих «согласно самой идее художественности» (191, с.150.). На другом полюсе стоит трактовка внутренней формы слова П.А.Флоренского, высказанная им в работе «Строение слова». Он рассматривает слово как взаимопроникновение общезначимого в индивидуальное, которое непосредственно отражается в его структуре: «Слово как факт языка, существующий вне меня и помимо меня, вне того или другого случая применения, и слово как факт личной духовной жизни, как случай духовной жизни. Внешняя форма есть тот неизменный, общеобязательный, твердый состав, которым держится все слово, ее можно уподобить телу организма… Напротив, внутреннюю форму слова естественно сравнить с душою этого тела, бессильно замкнутую в самое себя, покуда у нее нет органа проявления, и разливающая вдаль свет 167 сознания, как только этот орган ей дарован. Эта душа слова – его внутренняя форма – происходит из акта духовной жизни» (176, с.349). Внешняя форма, следовательно, представляет собой твердую общеобязательную основу слова, внутренняя форма – то динамическое начало, которое вносит в слово индивидуальность.1 В отличие от разобранных концепций, Г.О.Винокур прилагает категорию внутренней формы не к языковому слову, а к слову поэтическому. Внутренняя форма – это свойство слова в индивидуальном поэтическом контексте: «Действительный смысл художественного слова никогда не замыкается в его буквальном смысле. Любой поступок Татьяны или Онегина есть сразу и то, что он есть с точки зрения его буквального обозначения, и то, что он представляет собой в более широком его содержании, скрытом в его буквальном значении… Основная особенность поэтического языка как особой языковой функции как раз в том заключается, что это «более широкое» или «более далекое» содержание не имеет своей собственной раздельной формы, а пользуется вместо нее формой другого, буквально понимаемого содержания. Таким образом, формой здесь служит содержание. Одно содержание, выраженное в звуковой форме, служит формой другого содержания, не имеющего звукового выражения. Вот почему такую форму называют внутренней формой» (39, с.28). Здесь внутренняя форма, по сути дела, совпадает с тем 1 Внешнюю форму П.А.Флоренский делит на фонему и морфему. Под фонемой П.А.Флоренский понимает целостный звуковой облик слова во всем богатстве его проявлений, она – «целое музыкальное произведение … она сама по себе, подобно музыке, настраивает избранным образом душу» (176, с.360). Морфема – это грамматическая оформленность фонемы. Внутренняя же форма – семема – это совокупность значений слова, исходящих из его этимологического значения и реализующихся в различных ситуативных и культурных контекстах: «Она есть все то, что осадилось с течением веков на внешней форме, хотя и не оставляя вещественных или извне учитываемых следов» (176, с.355). Именно поэтому семема у П.А.Флоренского является средоточием и динамического, и индивидуального начала: «…семема слова непрестанно колышется, дышит, переливается всеми цветами, не имея никакого самостоятельного значения, уединенно от этой моей речи, вот сейчас и здесь, во всем контексте жизненного опыта, говоримой, и притом в данном месте этой речи. Скажи это самое слово кто-нибудь иной, да и я сам в другом контексте – семема его была бы иная» (176, с.353). Собственно, в трактовке внутренней формы П.А.Флоренского все общезначимое, надличностное сводится к индивидуальному и ситуативному, в нем не только проявляется, но и трансформируется, причем эти трансформации неуловимы и текучи. 168 содержанием, которое возникает в конкретном поэтическом контексте и из него невычленимо, в этом понятии реализуется, прежде всего, индивидуально-авторское начало. С другой стороны, со стороны поэтического контекста и поэтического языка, подходит к категории внутренней формы слова В.П.Григорьев в своей книге «Поэтика слова». Он определяет внутреннюю форму как «совокупность существенных художественных употреблений некоторой единицы поэтического языка, исторически изменчивое, общественно значимое множество контекстов ее употребления» (52, с.114). Правда, из работы В.П.Григорьева не вполне понятно, какие словоупотребления нужно считать «существенными» и каковы критерии их отбора. Однако очень важно, что при такой трактовке внутренней формы слова рельефнее проявляется его динамическая природа и укорененность в столь же динамичном поэтическом языке: «…внутренняя форма слова развивается и как нечто сотворенное, и как творящее, и как творимое» (52, с.116). То есть она одновременно и предшествует данному поэтическому слову и тем самым влияет на него, и его творит, и, кроме того, творится в этом новом поэтическом слове как искомое приращение смысла. Если Г.О.Винокур связывает понятие внутренней формы с индивидуальными изменениями слова в конкретном контексте, то В.П.Григорьев трактует внутреннюю форму слова как принципиальную множественность контекстов, подчеркивает ее историческую изменчивость. Есть и еще более существенное отличие. У В.П.Григорьева внутренняя форма характеризует поэтический язык как модус прагматического языка, подчеркивает «именно лингвистический аспект проблемы» (52, с.114), представляя собой, по сути, дополнительное множество значений все того же языкового слова. У Г.О.Винокура внутренняя форма – «содержание, не имеющее особого звукового выражения», то есть принципиально иное, художественное. 169 Рассмотрев трактовку внутренней формы слова у ряда исследователей, можно отметить, что с течением времени эта категория оказывается органичной не столько для языкового слова (как у А.А.Потебни и П.А.Флоренского), сколько для слова поэтического, именно с ней соотносится качество художественности у Г.О.Винокура. Кроме того, если у А.А.Потебни и П.А.Флоренского речь шла о слове как структурной единице языка, то в концепции Г.О.Винокура и В.П.Григорьева внутренняя форма может быть атрибутом и поэтического слова, и целого произведения, и, конечно, значение ее проявляется только в целом произведении. И самое главное: если у А.А.Потебни внутренняя форма слова связывается с максимально всеобщим – с языком, с происхождением слова, внутренняя форма в его трактовке проясняет и акцентирует присутствие в индивидуальном чего-то всеобщего и изначального, то у П.А.Флоренского, при такой же значимости этимологии, акценты расставлены иначе: он для всеобщего изначального значения слова постулирует возможность и необходимость множества индивидуальных и ситуативных воплощений. Логику П.А.Флоренского, в принципе, воспроизводит Г.О.Винокур, для которого значение внутренней формы создается данным автором в данном произведении. В этом движении снятия оппозиции индивидуального и надиндивидуального в межиндивидуальном начале поэтического слова большую роль играют работы М.М.Бахтина. В работе «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках…» он пишет: «Слово межиндивидуально. Все сказанное, выраженное находится вне «души» говорящего, не принадлежит только ему. Слово нельзя отдать одному говорящему. У автора (говорящего) свои неотъемлемые права на слово, но свои права есть и у слушателя, свои права у тех, чьи голоса звучат в преднайденном автором слове (ведь ничьих слов нет)» (9, с.300). В 170 этом соединении каждый из его участников проявляется с необходимостью как живая конкретная индивидуальность, и в этом взаимодействии с ней соотносится все сверхиндивидуальное. С одной стороны, исследователи философии М.М.Бахтина говорят о его персонализме, о значимости «индивидуальной единственности» («…производится поочередное приращение смысла категории индивидуально-единственного Я практически ко всем затрагиваемым М.М.Бахтиным философским проблемам»(50, с.393)). Аналогичным образом и в его филологических работах слово, высказывание существуют только благодаря субъекту, говорящему: «За каждым словом, за каждым стилем, за каждой фонетической идеосинкразией – живая личность говорящего человека (типическая и индивидуальная)» (11, т.5, с.287); «И одно слово может стать двуголосым, если оно становится аббревиатурой высказывания, то есть обретает автора» (10, с.128-129). Граница высказывания также определяется в соотнесении с субъектом этого высказывания: «Говорящий кончает свое высказывание, чтобы передать слово другому или дать место его активному ответному пониманию» (11, т.5, с.173). С другой стороны, столь же явственно в трудах М.М.Бахтина просматривается противоположная тенденция: «Поиски собственного слова на самом деле есть поиски не собственного, а слова, которое больше меня самого; это стремление уйти от своих слов, с помощью которых ничего существенного сказать нельзя… Поиски автором собственного слова – это в основном поиски жанра и стиля, поиски позиции» (11, т.6, с.645). Жанр, стиль – это, по-видимому, формы «преднайденного слова». Они существуют до данного творческого субъекта ин езависимо от него, и одновременно в процессе творчества обретают новое бытие. Но, с другой стороны, данный субъект, при всей своей единственности, уже в высказывании не один: «Если отдельное слово или предложение обращено, адресовано, то перед нами законченное 171 высказывание, состоящее из одного слова или предложения, и обращенность принадлежит не им, как единицам языка, а высказыванию» (11, т.5, с.205); «Слово, живое слово, неразрывно связанное с диалогическим общением, по природе своей хочет быть услышанным и отвеченным» (11, т.5, с.359). В самом слове, как «высказывании, имеющем своего автора», присутствует направленность на другого, на сознание, этому субъекту внеположенное, слово – «поле встречи двух сознаний, зона их внутреннего контакта» (11, т.5, с.8-9). Собственно, получается, что оппозиция индивидуального и сверхиндивидуального в этой логике снимается диалогичностью, и, повидимому, такая «привязанность» высказывания к конкретной индивидуальности является в данном случае необходимой предпосылкой диалога. Именно ощущая свою единственность, и только вследствие этого ощущения, личность испытывает необходимость в «другом»: «Быть – значит быть для другого человека и через него – для себя. У человека нет внутренне суверенной территории, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другого и глазами другого» (11, т.5, с.344). В этой логике все надиндивидуальное может существовать только как межиндивидуальное, во всяком случае, оно может быть данным субъекту лишь в таком качестве, то есть нигде ни в каком конкретном феномене окончательно не проявленным, а только во взаимообращенности субъектов. Именно этой закономерностью миросозерцания М.М.Бахтина диктуется неприятие им концепции «образа автора», выдвинутой В.В.Виноградовым. Для М.М.Бахтина принципиально важно, что автор не может быть выражен непосредственно в тексте, он может быть представлен только через ряд бесконечных преломлений «другого» (жанр и стиль, по-видимому, также являются опосредствованиями). Собственно, М.М.Бахтин возражает против «конструкции образа автора» (11, т.6, с.88), 172 и именно потому, что в произведении нет носителя его «последнего смысла», «нет конца диалогическому контексту». Диалогический контекст существует до тех пор, пока существуют «непрямое говорение» как интенция творческого субъекта, направленное от «я» к «другому» через слово. Итак, мы рассмотрели проблему субъекта слова – творческой индивидуальности. трансформация, Мы убедились, изменение что языкового функции слова его различны: («словообразование» В.П.Григорьева), качественное преобразование, создающее «новый модус языковой действительности» (Г.О.Винокур), взаимодействие текста и внетекстовой реальности («литературная личность» Ю.Н.Тынянова), организация диалога (М.М.Бахтин). Уже из предшествующего изложения видно, что эти функции определяются тем, как трактуют исследователи специфику художественного слова. Теперь необходимо подробнее разобраться в данной проблеме. Раздел 3. Проблема сущности слова В осмыслении феномена слова в литературоведческой науке присутствуют две противоположные тенденции: осмысление слова как знака и осмысление его как онтологической значимости. Противоположность данных тенденций проявляется очень четко. Если слово – знак, то оно лишь отсылает к определенному содержанию, представляя собой некоторую условную конструкцию, и потому является орудием, средством, носит подчиненный характер. Если же слово – особого рода бытийная реальность, то оно – непосредственное проявление своего содержания, глубинное единство выражения и смысла, не средство, а самоценная духовная сущность, которая носит действенный, преобразующий характер. 173 3.1. Слово как з н а к . Первая из названных тенденций проявляется в работах исследователей, близких формальной школе. Так, В.В.Виноградов не говорит прямо о знаковой природе слова, однако для него, безусловно, актуально утверждение Г.Г.Шпета: «Слово – знак понимаемого смысла и знак чуемой субъективности, как, равным образом, и особого между ними отношения, аналогичного или гомологичного его же отношению к смыслу» (190, с.203). Возможно, с этим высказыванием Г.Г.Шпета связана виноградовская концепция лексемы как «потенциальной совокупности значений, сконцентрированной вокруг одного смыслового ядра, внешним знаком которого является слитный фонический комплекс» (35, с.372).Собственно, знаковость слова в данном случае есть комплексом именно и постулируемое семантикой, расстояние утверждение между звуковым произвольности и ассоциативности этой связи: «Слово – это лексема, привязання к определенным группам словесных ассоциаций, среди которых она узнается как воплощение единого смысла» (35,с.372), то есть лексема не вытекает непосредственно из совокупности значений, а именно осознается как инвариант среди вариантов. Подход к слову как к знаку становится актуальным на новом этапе развития литературоведческой науки – во второй половине ХХ века. Он проявился в структурно-лингвистической поэтике В.П.Григорьева и в структурно-семантической и культурологической поэтике Ю.М.Лотмана. В.П.Григорьев рассматривает поэтическое слово как «определенную форму языковой действительности» (52, с.15). Собственно, язык поэзии у него, как и в трактовке формальной школы, соотносится с национальным языком, являясь «творческим использованием национального языка» (52, с.103) 174 Экспрессема в трактовке В.П.Григорьева – это знак поэтического языка со множеством означаемых, возникающих при индивидуальных словоупотреблениях. Особенно это видно при анализе конкретных экспрессем: «…слово "птица" оказывается способным характеризовать самые различные явления. Ср. следующие контексты в поэзии наших дней: (как) «белая птица спасенья» (В.Шефнер), «трагическая птица вымысла» (Е.Винокуров) и «опоздавшие птицы газет» (Р.Рождественский)» (52, с.201). Здесь явно подчеркивается расстояние между исходным словом «птица» и финальными значениями, возникающими из столкновения его с другими словами. Экспрессема – это множество означаемых, отсылающих к ряду творческих индивидуальностей, но при этом соединяющих разные творческие личности в построении единой словесной модели. Отсюда непосредственно вытекает концепция искусства как вторичной моделирующей системы Ю.М.Лотмана. Цель этой системы – передача информации, особого рода коммуникация.Слово воспринимается ранним Ю.М.Лотманом как некоторая жесткая и статичная конструкция, состоящая из столь же жестко зафиксированного перечня элементов. Особенно четко этот конструкционно-оперативный подход к слову, свойственный раннему Ю.М.Лотману, проявляется тогда, когда он переходит от языкового слова к слову художественному: «В нехудожественном тексте мы имеем дело с некоторыми семантическими данностями и правильными способами соединения этих элементов в семантически отмеченные фразы. В художественном тексте слова выступают (наряду с общеязыковым своим значением) как местоимения – знаки для обозначения невыясненных содержаний. Содержание же это конструируется (подчеркнуто мною – Э.С.) из их связей. Если в нехудожественном тексте семантика единиц диктует характер связей, то в художественном – характер связей диктует семантику единиц. А поскольку реальный текст имеет одновременно и художественное 175 (сверхъязыковое) и нехудожественное (свойственное естественному языку) значение, то обе эти системы взаимопроектируются и каждая на фоне другой воспринимается как «закономерное нарушение закона», что и является условием информационной насыщенности» (100,с.251). Приведенное высказывание явно соотносится с мыслью Г.О.Винокура: «Смысл литературно-художественного произведения представляет собой известное отношение между прямым значением слов, которыми оно написано, и самим содержанием, темой его» (39, с.53). Но разница в том, что, по Ю.М.Лотману, содержание художественного текста может быть сконструировано из сопоставления соположенных рядов знаков1. Будучи носителем информации, слово у Ю.М.Лотмана является знаком, и осознание знаковой природы поэтического слова является у него условием адекватного восприятия текста: «Знаковая природа художественного текста двойственна в своей основе: с одной стороны, текст притворяется самой реальностью, прикидывается имеющим самостоятельное бытие, независимое от автора, вещью среди вещей реального мира, с другой стороны, он постоянно напоминает, что он – чьето создание и нечто значит» (100, с.158). Эта двойственность природы текста (реальность, обнаруживающая свой знаковый характер) порождает двойственность самого знака. По Ю.М.Лотману, художественное С одной стороны, здесь явно происходит акцентирование значимости восприятия в определении феномена художественности, с другой стороны - утверждается особая природа слова поэтического на фоне слова языкового. О возможности разных подходов к такого рода сопоставлению Ю.М.Лотман говорит в статье «Три функции текста»: « В одном случае информационная (в узком смысле) точка зрения представит язык как машину передачи неизменных сообщений, а поэтический язык предстанет как частный и, в общем, странный уголок этой системы. В нем будут видеть лишь естественный язык с наложенными на него добавочными ограничениями, со значительно суженной информационной емкостью. Однако возможен и другой взгляд, также неоднократно демонстрировавшийся в лингвистике: творческая функция будет рассматриваться в качестве универсального свойства языка, а поэтический язык – в качестве наиболее представительной демонстрации языка как такового. Именно противостоящие ему семиотические модели окажутся тогда частной областью языкового пространства» (98, с.20). Итак, при «информационном» подходе за целое принимается язык как система передачи информации, поэтическое же слово оказывается частным случаем такой передачи. При подходе «творческом», наоборот, за точку отсчета принимается язык поэзии, частным случаем становится язык вне литературы, в котором это эстетическое начало существует лишь на втором плане. У Ю.М.Лотмана, по-видимому, эти противоположности своеобразным образом коррелируются: поэтическое слово здесь не частный случай языкового, но и языковое слово не частный случай слова поэтического. 1 176 произведение представляет собой взаимопроецирование знаков конвенциональных, которым свойственна «необусловленность связи планов выражения и содержания» (100, с.72), и знаков иконических: «Иконические знаки построены по принципу обусловленности связи между выражением и содержанием. Поэтому разграничение планов выражения и содержания в обычном для структурной лингвистики смысле вообще затруднительно. Знак моделирует свое содержание» (100, с.31). На первый взгляд, иконический знак также выглядит как конструкция, устанавливающая отношения аналогии между означаемым и означающим. Об этой закономерности, в частности, говорится в работе И.В.Чередниченко «Структурно-семиотический метод тартуской школы»: «Общеязыковой диаграмматизм реализуется в отношениях сходства между означающим и означаемым высказывания, которые, хотя и обнаруживают в результате этого подобия дополнительные связи, тем не менее существуют раздельно» (185, с.125-126). То есть иконический знак, как и знак конвенциальный, предполагает определенное расстояние между означаемым и означающим, их лишь условное, конструктивное сходство, которое не снимает этого расстояния. Между тем у Ю.М.Лотмана знаки конвенциальный и иконический – все-таки разной природы. Они противопоставлены по признакам дискретности – континуальности, семантической определенности – неопределенности. Но самое главное их отличие видно, когда Ю.М.Лотман обращается к конкретному тексту. Так, в статье «Текст в процессе движения: автор-аудитория, замысел-текст», комментируя стихотворение Г.Р.Державина, он говорит о том, что звуковая организация текста « создает иконический образ затихающего органного звучания и отзвука эха, а также и субъективных зрительных ассоциаций» (98, с.97). Не случайно, по-видимому, Ю.М.Лотман и вообще так скрупулезен в анализе фонетической организации поэтического произведения – достаточно 177 вспомнить его интерпретацию лермонтовского стихотворения «Расстались мы, но твой портрет…» в книге «Анализ поэтического текста» (М., 1972). По-видимому, именно звуковая сторона поэтического слова является здесь моментом прорыва означаемого в означающее, и в результате этого иконический знак – не только изображение, но и выражение содержания, причем от этого конкретного содержания неотделимое. Если бы эти типы знаков были одной природы, то между ними вряд ли могли осуществляться те взаимоотношения одновременно и сопоставления, и несопоставимости, которые у Ю.М.Лотмана являются основой порождения именно художественного текста: «Текст как бы двоится: он остается рядами графически выраженных слов и, одновременно, реализуется в некотором иконическом пространстве. Смысл его тоже двоится, осциллируя между этими семантическими сферами. Но языковые и иконические знаки располагаются во взаимно-недо-конца-переводимых пространствах. Следовательно, здесь возникает та неполная детерминированность соответствия, которая создает условия для приращения смысла» (98, с.97). Именно эта неполная адекватность двух знаковых систем, реализующихся в тексте, дает возможность тексту существовать как бы в промежутке: быть одновременно и системой знаков, и специфической реальностью. Ведь, с одной стороны, как видно из уже приведенного высказывания Ю.М.Лотмана, «текст притворяется самой реальностью», и при этом «напоминает, что он – чье-то создание и нечто значит» (100, с.158). Но с другой стороны, в нем же знаковость преодолевается: «В словесных текстах условность отношений содержания и выражения, конвенциональный характер этого отношения значительно очевиднее. Обнажение этого факта дается относительно легко, и дальнейшие усилия по созданию поэтического текста направлены на его преодоление: поэзия 178 сливает планы выражения и содержания в сложное образование более высокого уровня организации» (98, с.73). Отсюда следует, что поэтическое слово представляет своеобразное поле напряжения и движения между собой знаком конвенциональным и иконическим, оно одновременно и служит для передачи некоего содержания, и является его выражением. Следует отметить, что такая ситуация вообще характерна для подхода Ю.М.Лотмана. Он максимально проясняет существующие оппозиции и выявляет способы их взаимодействия. Ю.М.Лотман, по сути, доводит до предела тенденцию раздельности слова и мира, но, максимально углубляясь в знаковую природу слова, преодолевает эту раздельность. Собственно, структурно-семиотический подход к слову постулирует трактовку текста как семантической структуры, которая носит имманентный характер, и слово в этой структуре представляет собой динамическое событие означивания. Данные тенденции проявляются в работе французского структуралиста Ж.Женетта «Вымысел и слог». Главный вопрос, который решает исследователь в своей работе, – вопрос о специфике поэтического высказывания (под высказыванием Ж.Женетт понимает, естественно, не то, что М.М.Бахтин, – для него это просто «речевой акт» вне какой-либо привязки к субъекту). Вслед за Аристотелем, содержательной особенностью поэтического высказывания он считает его вымышленный, фикциональный характер. Поэтическое высказывание в принципе не соотносится с жизненной реальностью, являясь представителем, как пишет Ж.Женетт в другом месте, «вымышленного универсума» (63, с.374), мира, существующего лишь в представлении автора и реципиента. В ряде примеров Ж.Женетт вскрывает конвенциональный характер эстетической реальности: «…fiat автора вымысла расположен где-то между fiat демиурга и ономатурга; подобно власти второго, власть его предполагает более или менее молчаливое 179 согласие публики, которая, согласно нетленной формуле Кольриджа, добровольно отказывается от своего права на возражение. Эта условность позволяет автору, не взывая эксплицитно к своему адресанту … полагать существующими вымышленные объекты; предварительное условие, считающееся выполненным, состоит в том, что он попросту имеет право это делать…» (63, с.375). В данной формулировке особенно отчетливо видно, как центр тяжести переносится с высказывания, с текста, на то, что, по сути дела, находится за текстом – взаимоотношения автора и читателя, сам же текст ставится явно в подчиненное положение и рассматривается лишь как способ установления этих взаимоотношений. Но, с другой стороны, существует еще одна сторона специфики поэтического высказывания – формальная, которая представляет собой «сдвиг в употреблении естественного языка, который понимается уже не как средство коммуникации, прозрачное и нейтральное, но как чувственно воспринимаемый, независимый и небезразличный к замене материал…» (63, с.354). Данное высказывание явно перекликается с определением Р.Якобсона («Поэзия – язык в его эстетической функции») и маркирует прежде всего взаимопроникновение языка и индивидуального авторского мировидения, результатом которого и является трансформация – именно это явление Ж.Женетт называет слогом, стилем, «бытием текста»: «…слог, в каком бы режиме он ни выступал, может быть определен через бытие текста, отличное от его «говорения», хотя и неразрывно с ним связанное» (63, с.362); «Стиль – минимальная степень литературности … Зато сам по себе этот минимум литературности, сколь бы ни были проблематичны его эстетические достоинства, с материальной точки зрения неуничтожим, поскольку состоит в бытии текста, неотделимом, но все-таки отличном от его говорения» (63, с.446). 180 В этой логике, естественно, кондициональный аспект поэтики оказывается более значимым, чем эссенциальный, почему и стиль у Ж. Женетта оказывается полностью связанным с кондициональностью (63, с.448). В формулировании данного аспекта Ж.Женетт полностью отказывается от ценностной характеристики поэтического высказывания, постулируя определяющее значение намерения и восприятия в природе эстетического (восприятия, при котором большее внимание уделяется форме, чем содержанию): «Самая скверная картина, самая неудачная соната, самый плохой сонет принадлежит тем не менее к живописи, музыке и поэзии по той простой причине, что ничем иным они быть не могут…» (63, с.359); «Роману нет нужды быть «хорошо написанным», чтобы принадлежать к литературе, хорошей или плохой: ему для этого достаточно быть романом, то есть вымыслом, что само по себе заслуга невеликая … точно так же как поэме достаточно соответствовать критериям (исторически и культурно изменчивым) поэтического слога» (63, с.449). В принципе, речь уже здесь идет не о литературе как искусстве слова, а о литературности как качестве всего, что написано словами не с целью передачи информации («Литературность … явление множественное и потому требует создания плюралистической теории, способной осмыслить различные способы, с помощью которых язык оставляет и преодолевает свою практическую эстетическому Литературность, функцию, восприятию и порождая тексты, эстетической оценке» таким образом, является феноменом, подлежащие (63, с.360)). целиком и полностью зависящим от намерения и восприятия: это то, что создано фикционально и воспринимается в той же модальности; это то, что создано с намерением индивидуальной «трансформации естественного языка» и воспринимается как индивидуальная трансформация. Вопрос же о самом высказывании, о тех механизмах и структурах, которые создают эту 181 аналогичность представления у двух разных субъектов, остается открытым. В работах Р.Барта слово как таковое не является центральной проблемой, в гораздо большей степени его интересует проблема текста и его структуры – в структуралистский период, и проблема реструктуризации этой структуры – в период постструктуралистский. Однако можно сказать, что понимание слова определенным образом организует эволюцию взглядов французского исследователя. Р.Барт, как и Ю.М.Лотман, исходит из раздельности слова и мира. Однако понимание слова, высказанное в работе «Критика и истина», которая для структуралистского периода является программной, явно несет в себе следы двойственности: «В течение длительного времени классическое буржуазное общество усматривало в слове либо инструмент, либо украшение; ныне же мы видим в нем знак и воплощение самой истины» (7, с.369). То есть слово одновременно и отсылает к некоему содержанию, и воплощает его в себе. В скобках замечу, что такого рода двойственность присутствует и в работах Ю.М.Лотмана, когда речь идет о соотношении иконических и конвенциональных знаков. Однако у Ю.М.Лотмана эта два начала находятся в равновесии, отчего и понимание слова как отношения и понимание слова как некоторой отдельности также взаимно уравновешивают друг друга. Р.Барт в структуралистстком периоде понимает слово как автономную реальность. В связи с этим в работе «Критика и истина» он концентрируется на проблеме имени, названия: «Литература – это способ освоения имени: всего из нескольких звуков, составляющих слово Германты, Пруст сумел вызвать к жизни целый мир. В глубине души писатель всегда верит, что знаки не произвольны и что имя присуще каждой вещи от природы…» (7, с.371). Собственно, мир, который на данном этапе у Р.Барта творится в слове, создается именно с помощью 182 этой двойственной природы слова: «Всякий читатель … знает об этом: разве не чувствует он своей причастности к некоему запредельному (выделено автором – Э.С.) по отношению к тексту миру, так, словно первичный язык произведения взращивает в нем иные новые слова и учит говорить на вторичном языке» (7, с.371). Сходные утверждения есть, опять-таки, и у Ю.М.Лотмана (поэтическое слово – «сообщение, в котором интерес перемещается на его язык», «произведение на неизвестном аудитории языке» (98, с.18)). Однако у Р.Барта вторичный язык соотносится с творением отдельного мира, создание языка синхронизировано с этим процессом. Поэтому поэтическое слово становится словом о языке и через него – о мире («Ведь писать – уже значит определенным образом организовать мир, уже значит думать о нем (узнать какой-либо язык – значит узнать, как люди думают на этом языке» (7, с.361)). Собственно, определяющим для литературы моментом у Р.Барта и является рефлексия над словом и языком: «Писателя нельзя определить в социальных ролевых категориях и при помощи понятия престижности, это можно сделать только через то сознание слова, которым он обладает. Писатель – это тот человек, перед которым язык предстает как проблема, тот, кто ощущает всю глубину языка, а вовсе не его инструментальность и красоту» (7, с.368). «Глубина языка», по Р.Барту, определяется его символической природой, его изначальной многозначностью, которая концентрируется в слове литературного произведения: «…такую многосмысленность можно сформулировать в категориях кода: символический язык, которому принадлежит литературное произведение, по самой своей структуре является языком множественным, т.е. языком, код которого построен таким образом, что любая порождаемая им речь (произведение) обладает множественным смыслом» (7, с.372). Слово обладает множественным смыслом и в практическом языке, однако в практическом языке смысл 183 высказывания проясняется ситуативным контекстом, в литературном же произведении все иначе: «…сколь бы пространным ни было произведение, ему непременно свойственна какая-то заведомо пророческая лаконичность, ведь оно состоит из слов, соответствующих первичному коду (ведь и Пифия не говорила несуразностей), и в то же время остается открытым навстречу сразу нескольким смыслам, ибо слова эти были произнесены вне контекста какой бы то ни было ситуации, если не считать саму ситуацию многосмысленности: ситуации, в которой пребывает произведение, – это всегда пророческая ситуация» (7,с.372). Обратим внимание, что во всех этих моментах бартовская логика парадоксальным образом пересекается с логикой младших символистов: они также определяли слово как имя, утверждали символическую природу слова и языка. Преемственность здесь видна, однако символ как живая связь между различными реальностями превращается в особый тип знака, символизация становится способом кодирования, организации означающего, за которым – некоторая неизвестность. В этой связи очень характерно, что слово у Р.Барта многозначно изначально, в нем даже не предполагается какой-то единый смысл, логика символов – «пустые формы» (7, с.375), в поэтическом слове не заложено ничего, кроме бесконечного процесса развертывания смыслов: «…Произведение обладает несколькими смыслами… В самом деле, любая эпоха может вообразить, будто владеет каноническим смыслом произведения, однако достаточно раздвинуть границы истории, чтобы этот единственный смысл превратился во множественный, а закрытое произведение – в открытое» (7, с.370). Таким образом, слово в его символической ипостаси – это просто знак с множеством означаемых без какой-либо доминанты среди них. По мере своего исторического развертывания эта структура наполняется новыми содержаниями, практически не связанными друг с другом: «…произведение «вечно» не потому, что оно навязывает людям некий 184 единый смысл, а потому, что внушает различные смыслы единому человеку, который всегда, в самые разные эпохи говорит на одном и том же символическом языке: произведение предлагает, человек располагает» (7, с.371). С другой стороны, эта множественность все-таки здесь еще не означает полного дробления, в ней предполагается некоторая возможность единства: «Интеллект начинает приобщаться к новой логике, он вступает в необжитую область «внутреннего опыта», одна и та же истина, объединяющая поэтическое, романтическое и дискурсивное слово, пускается на поиски самой себя, ибо отныне она является истиной слова как такового» (7, с.369). Собственно, именно эта предполагаемая, не иерархическая и становящаяся в слове истина делает слово действительно символическим, создает основания по крайней мере для ассоциирования множества смыслов, о котором шла речь ранее. В то же время смысловое единство ощущается неопределенным, что Р.Бартом не может настолько быть нестабильным воплощено в рациональную или эмоциональную данность, вообще и какую-либо во что-то конкретное, поэтому оно полностью переходит в слово как сплошную текучесть, как бесконечное развертывание, поскольку только в нем это смысловое единство, по-видимому, может присутствовать не феноменально, а как чистая энергия. Этим двум сторонам содержательности слова – расчлененной множественности и энергетически единому смыслу – соответствует двуединая формальная выраженность слова – чтение и письмо. Очень характерно, что эти категории – сквозные в работах Р.Барта – подлежат здесь осмыслению не только как формы организации и восприятия слова, они характеризуют прежде всего деятельностный его аспект. В работе «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» слово – знак, элемент кода, структуры. Интерес исследователя 185 концентрируется на проблеме структуры – как на некоем объединяющем и универсальном начале, существующим помимо индивидуального наполнения и исполнения (понятия «произведение» и «текст» в данной работе употребляются как синонимические,так как имеют определенную структуру): «Текст обладает структурой, свойственной и любым другим текстам и поддающейся анализу…Где же следует искать структуру повествовательного текста? В самих текстах, разумеется» (8, с.388-389). Итак, структура носит имманентный тексту характер, элементами структуры являются знаки и взаимоотношения между ними. Как же выглядит структура повествовательного текста? Прежде всего, она включает в себя три уровня описания, между которыми устанавливаются отношения последовательной интеграции: уровень функций, уровень действий и собственно уровень повествования. Функции и действия характеризуют событийную сторону произведения, они представляют собой «сюжетные элементы», отмечающие развертывание событий во времени. Наиболее важным, образующим собственно литературную специфику «Повествовательный текста уровень является образован третий знаками уровень: нарративности, совокупностью операторов, которые позволяют реинтегрировать функции и действия в рамках повествовательной коммуникации, связывающей подателя и получателя текста» (8, с.416). Создание текста рассматривается здесь как акт коммуникации, и повествовательный уровень реализует ее динамику. Единицы этого уровня – дистрибутивные (корреляты) и атрибутивные (признаки) – носят опосредующий характер, они формируются на пересечении между событиями, о котором рассказывается в произведении, и событийностью большого мира, в результате чего структура повествовательного текста приобретает двойственный характер: «Он (повествовательный уровень) выводит текст во внешний мир – туда, 186 где текст раскрывается (потребляется); однако в то же время этот уровень … придает тексту замкнутую завершенность» (8,с.416). Как же работает эта замкнуто-разомкнутая структура? Р.Барт говорит об этом следующим образом: «…всякий рассказ предстает как последовательность элементов, непосредственно или опосредованно связанных друг с другом, и все время взаимно наслаивающихся; механизм дистаксии организует «горизонтальное» чтение, а механизм интеграции дополняет его «вертикальным» чтением, непрестанно играя различными потенциальными возможностями, структура как бы «прихрамывает» и в зависимости от реализации этих возможностей придает рассказу его специфический «тонус», его энергию, каждая единица предстает как в своем линейном, так в своем глубинном измерении, и рассказ движется следующим образом: благодаря взаимодействию двух указанных механизмов структура ветвится, расширяется, размыкается, а затем вновь замыкается на самой себе; появление любого нового элемента заранее предусмотрено этой структурой» (8, с.420). Уже в данном отрывке структура – в начале описанная как нечто хотя и подвижное, но системное, со своими уровнями, элементами, отношениями – становится не просто динамичной, но пульсирующей (и при этом еще и напоминающей постмодернистский топос ризомы). В конце же работы оказывается, что повествовательный текст представляет собой «форму, которая одержала победу над принципом повторяемости и утвердила модель становящегося бытия» (8, с.422). Данная формулировка, в структуралистской логике, представляется взрывоопасной: на одной стороне – «модель», конструкция, на другой – «становящееся бытие», которому любые конструкции тесны, и таким образом, именно структурирование, сам его процесс, как бы изнутри подвел исследователя к постижению состояния бесструктурности. Это состояние возникает тогда, когда структура приходит в движение, начинает работать. 187 Бартовский переход от структурализма к постструктурализму связан со смещением интересов ученого с произведения на текст, при этом анализ структуры сменяется текстовым анализом, в котором текст представляет собой именно множественную становящуюся реальность с проблематизированной структурой, размыкающейся вовне. Продуктивность этого размыкания структуры текста демонстрируется в работе «Текстовый анализ одной новеллы Э.По». Прежде всего, отсутствие единого означаемого, свойственного произведению, приводит к пониманию текста как «процесса означивания». Лексии, на которые членится текст, представляют собой «текстовое означающее», и произвольность такого членения Р.Барт объясняет тем, что «мы вынуждены довольствоваться членением означающего, не опираясь на скрытое за ним членение означаемого» (5, с.426). То есть означаемое, конечно, существует, но оно, как об этом уже говорилось в предыдущих работах, не дано изначально и не едино, оно лишь возникает в процессе чтения-письма, причем в принципиальной множественности и вариативности. Собственно, в данной работе перед нами – проблематизация структуры, когда множество «структураций» – кодов, коннотаций, субъектов – приводит текст в состояние подвижности, фиксирует сам процесс рождения смысла и рассеивания его в жизненной реальности, в мир других текстов. Обратим внимание, что в данной работе текст, представляя собой сложное образование, в сущности, уже перестает быть стабильной структурой. И, в принципе, это совершенно органично: ведь чем сложнее структура, чем больше в ней элементов, уровней, отношений между ними, тем менее она воспроизводима, четкость, ясность, центрированность – все эти качества структуры с ее усложнением становятся проблематичными. Так структура исчезает в структурировании, как клад уходит под землю. 188 Р.Барт прекрасно видит данную закономерность и сознательно ею пользуется. Усложняя и размыкая структуру текста, он превращает ее в «сеть», которая улавливает текучесть бытия. Итак, Р.Барт воспринимает художественное слово двойственно как «знак и воплощение истины». Равновесие между этими двумя трактовками проблематично, поэтому в структуралистский период, говоря о слове как об имени, как о звуковой значимости, Р.Барт постулирует слово как особую реальность, концентрирующую в себе сущность языка и бесконечность становящегося смысла. Далее, по мере смещения интереса с произведения на текст, со структурирования на аструктурность, слово становится знаком со множеством неопределенных и переходящих друг в друга означаемых, элементом процесса означивания.1 3.2. Слово как онтологическая Другая, противоположная тенденция непосредственной проявленности бытия истоков данной концепции значимость. интерпретация слова как и самоценной цельности. У - работы А.А.Потебни. В «Эстетике и поэтике» он пишет: «Слово есть самая вещь, и это доказывается не столько филологической связью слов, обозначающих «слово» и «вещь», сколько распространенным на все слова верованием, что они обозначают сущность явлений. Слово, как сущность вещи, в молитве и заклятии, получает власть над природою… Таинственная связь слова и предмета не ограничивается одними священными словами заговоров: она остается при словах и в обыденной речи» (129, с.173). Данный строй мыслей повлиял на русскую Продуктивной реализацией структурно-семиотического и постструктуралистского подхода к художественному слову является работа современной украинской исследовательницы Т.И.Гундоровой «Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація» В этой работе украинский модернизм трактуется как конфликтная и одновременно внутренне уравновешенная целостность, в которой взаимодействуют различные коммуникативные коды, определяемые реализацией различных модусов художественного слова: «Риторична структура української модерності коливається між сакральним романтичним типом комунікації, зорієнтованим на утопію пророчого слова, і комунікативно відкритим, автономним і деструктивним індивідуальним мовленням» (55, с.9). Своеобразие данной работы определяется органическим перетеканием лотмановской категории кода в постструктуралистскую категорию дискурса, понимаемого, вслед за Ю.Кристевой, как «простір між називанням, формулюванням певного значення і поліномією (плюралізацією значення)» (55, с.11). 1 189 религиозную философию и прежде всего на П.А.Флоренского: «Слово есть самая реальность, словом высказываемая, не то чтобы дубль ее, рядом с ней поставленная копия, а именно она, самая реальность в своем нумерологическом самотождестве» (172, с.293). В дальнейшем развитии литературоведческой науки онтологическая тенденция проявляется двояким образом: с одной стороны, слово - проявление бытия как такового, в его философском понимании, и, с другой стороны, оно же отдельное бытие, не сводимое ни на какое другое. Это раздвоение отчетливо проявляется при сопоставлении работ А.Ф.Лосева и Г.О.Винокура. В трудах А.Ф.Лосева концепируется слово как онтологическая значимость, слово, содержащее в себе предмет: «Живое слово таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин. Имя предмета не просто наша ноэма, как и не просто сам предмет. Имя предмета – арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого. В имени – какое-то интимное единство разъятых сфер бытия, единство, приводящее к совместной жизни их в одном цельном, уже не просто «субъективном» или просто «объективном» сознании. Имя предмета есть цельный организм его жизни и иной жизни» (96, с.38-39). Обратим внимание, что концепция А.Ф.Лосева характеризуется тем, что бытийность слова укоренена и в субъекте (у А.А.Потебни прямо говорится, что «сила слова не являлась следствием нравственной силы говорящего» (129, с.173)). Кроме того, и А.А.Потебней, и П.А.Флоренским постулируется воздействие слова на реальность, это то магическое слово, о котором говорит русская религиозная философия и особенности которого в нашей работе были прослежены на материале поэзии и прозы Вяч. Иванова, А.Белого и А. Блока. У А.Ф.Лосева слово не столько воздействует, сколько соединяет, оно, как мы видели, – «место встречи». Об этом и еще более ясно сказано в 190 другом месте: «Между тем тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с другими людьми… Тайна слова в том и заключается, что оно – орудие общения с предметами и арена интимной и сознательной встречи с их внутренней жизнью» (96, с.39). Собственно, слово здесь представляется посредником между субъектом и бытием, между жизнью и бытием – посредником, удерживающим в себе все черты соединяемых явлений. В ином, материально-лингвистическом ключе, переосмысливал идеи А.А.Потебни Г.О.Винокур. В своей работе «Об изучении языка литературных произведений» он отталкивается от общеформалистского утверждения, что национальный язык есть материал искусства слова: «…поэтический язык может означать также язык в его художественной функции, язык как материал искусства в отличие, например, от языка как материала логической мысли, науки. Но язык в поэтическом произведении, независимо от этого, сам представляет собой известное произведение искусства» (39, с.51). И его тезис, что «язык и есть сам по себе поэзия» (39, с.27), и утверждение, что «поэтический язык есть то, что обычно называют образным языком» (39,с.27), конечно, перекликаются с концепций А.А.Потебни. Но Г.О.Винокур расставляет акценты несколько иначе: «…ту особую функцию языка, которую мы называем поэтической, следовало бы объяснять по аналогии с другими видами искусства» (39, с.28). Отсюда следует, что поэтическое слово – «особый модус языковой действительности» (39, с.62), ее эстетическое бытие1. Идеи Г.О.Винокура оказались чрезвычайно актуальными для современного украинского литературоведения.В работе Б.П.Иванюка «Целостный анализ стихотворения» проблема специфики слова возникает в связи с вопросом о самой возможности восприятия стихотворения – индивидуального единства формы и содержания, которое неизвестно воспринимающему субъекту. Возможность восприятия создает первоначально именно слово, в его коммуникативной функции, слово как единица языка, имеющая определенное значение, известное воспринимающему субъекту. Б.П.Иванюк исходит из слова языкового, из слова как средства передачи информации. Слово же художественное в его трактовке оказывается особою функцией языкового. И то, что Б.П.Иванюк называет образностью, вполне органично возникает из винокуровской идеи корреляции между действительным и буквальным (т.е. внехудожественным) смыслом слова. 1 191 Исследователь указывает, что национальный язык отличается от языка поэзии произвольным соотношением между словом и его значением: «В общем языке как орудии практического сознания связь между словом и обозначаемым этим словом предметом совершенно произвольна и представляет собой результат сложной цепи исторических случайностей. Бесполезно спрашивать себя, да это практически и не приходит в голову, пока мы не задаемся вопросами истории языка, почему рыба у нас называется словом "рыба"» (39, с.52). В произведении же появляется внутренняя форма, создающая мотивированность значения слова контекстом, авторским намерением: «А раз перед нами действительно произведение искусства, то вопрос о том, почему соответствующее более общее содержание передано в данном случае словом «рыба», становится совсем уже не праздным вопросом. Ведь в других случаях оно могло бы быть названо каким-то совсем иным словом. Но назовет в сказке Пушкин это общее содержание не словом «рыба», а каким-нибудь иным, и данное произведение искусства, во всяком случае, будет разрушено» (39, с.52). В логике Г.О.Винокура, язык становится произведением искусства именно тогда, когда устанавливаются соотношения между словами в их немотивированном значении и словами, мотивированными авторским намерением, когда «язык со своими прямыми значениями в поэтическом словоупотреблении как бы весь опрокинут в тему и идею художественного замысла» (39, с.53). Слово у Г.О.Винокура, таким образом, – имя, образ, особый мир, в котором реализуется художественный замысел. В зарубежном литературоведении 30-40-х годов также актуализируется подход к поэтическому слову как к онтологической значимости. Здесь так же, как и в российском литературоведении 20-30-х годов, возникают две трактовки этой онтологической значимости: с одной стороны, рассмотрение поэтического слова как особого рода бытия со своей структурой и взаимоотношениями между ее элементами, и, с другой 192 стороны, рассмотрение поэтического слова как проявления бытия мира в его цельности. Первая тенденция отчетливо проявлялась в работе Д.К.Рэнсома «Новая критика». Д.К.Рэнсом исходит из того, что поэзия имеет дело с особым миром – миром сущностей, в отличие от мира явлений, и в силу этого становится отдельным бытием: «Я считаю, что отличительные признаки поэзии – онтологические. Поэзия имеет дело с теми формами бытия, уровнем объективности, которые не поддаются научному истолкованию… Мир, в котором мы живем, отличен от того мира или, скорее, тех многочисленных миров, которые исследует наука. Эти миры – всего лишь выхолощенные, обедненные, упрощенные копии подлинного мира. Поэзия имеет своей целью заново открыть для нас этот более «плотный», сущностный мир, о котором мы благодаря своим воспоминаниям имеем некоторое представление. Поэзия, таким образом, есть форма познания принципиально, или онтологически, иная» (130, с.178). Особое бытие взаимодействием («…построение поэтического ритма и слова смысла, стихотворения на их Д.Рэнсом взаимной двойственной связывает с необходимостью основе: искомого значения и искомого размера – представляется … трудной задачей» (130, с.180). Объединяющее взаимодействие ритма и смысла становится возможным потому, что оба они обладают некоторой зоной неопределенности, и ритм, и смысл в своем становления допускают отклонения и вариации. Одна и та же мысль может быть высказана разными способами, преодолением размер статической же, в этой заданности логике, метра и представляется воплощением индивидуальности становящейся мысли: «Мысль, допускающая вариации, делающие ее более пригодной для поэтического размера, не может обладать абсолютной изначальной определенностью. Сохранить мысль в 193 том виде, в каком она определяется собственными законами, невозможно, если мы собираемся приспособить ее к поэтическому размеру. И с другой стороны, ритмическая форма должна быть частично неопределенной, если она претендует на то, чтобы воплотить какую-то мысль. Бессмысленно пытаться определить ритм заранее, потому что мысль подправит его» (130,с.180). Таким образом, и ритм, и смысл существуют изначально, до становления данного поэтического слова, и процесс этого становления представляет собой их взаимную корректировку. Вследствие этого Д.Рэнсом различает исходный смысл и дополнительный смысл (возникающий в результате взаимодействия с ритмом), а также исходное звучание и дополнительное звучание (возникающее в результате взаимодействия со смыслом), определяя исходное, данное как структуру, а созданное, индивидуальное как фактуру поэтического произведения. Возникает вопрос: как в уже созданном поэтическом слове разграничить структуру и фактуру? Если исходный смысл еще можно каким-то образом вычленить, сведя поэтическое высказывание к логическому, то вычленение исходного звучания представляется еще более проблематичным. А ведь именно это Д.Ренсом постулирует как основную задачу «новой критики»: «Я прихожу к следующему выводу: разграничение этих элементов, и в особенности исходного смысла и дополнительного смысла, и есть задача критики par excellence» (130, с.182). Однако при конкретном анализе произведений (особенно стихотворения Вордсворта) проясняется нечеткость такого разграничения: «Мы видим, что нарушилось не только благозвучие, но что-то произошло и с логикой мысли: стало ясно, что строка с лучами и цветами служит всего лишь для того, чтоб завершить двустишие. Но и следующему за этим двустишию также недостает экономной логики мысли. Слова structure of majestic frame (строение величественных форм) – это не что иное, как 194 majestic structure (величественное строение), а слово – frame явно добавлено для рифмы» (130, с.185). В приведенном высказывании особенно заметно, что трактовка становления дополнительного смысла во взаимодействии с ритмом вместе финальной констатацией, что «размер теснит ритм» (130,с.185), в принципе, полностью субъективна и упирается в психологию: то, что одному «критику» кажется логической несообразностью, другим может быть воспринято как сдвиг нормативного словоупотребления, несущий в себе искомое приращение смысла. Кроме того, проблематичной выглядит оценка уместности того или иного слова в уже готовом произведении с точки зрения «логики мысли»: получается, что существует готовая мысль отдельно от произведения, а произведение рассматривается с точки зрения соответствия ей. При этом обратим внимание на то, что дополнительный смысл ранее определяется как внелогичный. Взгляд Д.Рэнсома на особое бытие поэтического слова можно охарактеризовать как объективный, расчленяющий: «…стихотворение – это объект, заключающий в себе не два, но четыре элемента: не просто некий смысл, но исходный смысл, то есть часть значения, которая составляет логическую структуру, и дополнительный смысл, то есть ту часть значения, которая не входит в логическую структуру… Помимо этого имеется не только исходное звучание – изначальный размер, но и дополнительное звучание…» (130, с.182). Произведение есть некоторая готовая структура, объединяющая в себе элементы из внетекстовой реальности и самого текста. Но, с другой стороны, этому структурному, операционному подходу («Сочинение поэтического произведения – операция, при которой авторская мысль стремится потеснить размер, а размер – мысль» (130, с.178)) противостоит психологическая проецирование тенденция этой в оценке структурной семантических двойственности сдвигов и высказывания – звучания и смысла, задуманного и созданного – непосредственно на 195 бытийное пространство, в котором это высказывание развертывается: «Мелодий все-таки остается две, хотя они и звучат одновременно, а поэтическая фраза – это единый акт. Онтологически он означает соединение двух разных миров – сущностного и почти неуловимого – и построение высказывания в иных измерениях» (130, с.193). Таким образом, подход Д.Рэнсома к поэтическому слову характеризуется разрывом между рациональной четкостью структуры, характеризующей его бытие, и психологической неоднозначностью и расплывчатостью в функционировании этой структуры. Вторая тенденция – подход к слову как к проявлению бытия в его цельности – возникает в работах М.Хайдеггера. Собственно литературоведческих проблем М.Хайдеггер, естественно, не ставил, его отношение к поэтическому слову вытекает из его трактовки искусства вообще. Искусство же, как это видно из работы «Исток художественного творения», М.Хайдеггер представляет как проявление сущего. Бытие порождает слово: «Бытие, высветляясь, просит слова, оно всегда говорит за себя. Давая о себе знать, оно в свою очередь позволяет сказать-ся экзистирующей мысли, дающей ему слово. Слово тем самым выступает в просвет бытия. Только так язык впервые начинает быть своим таинственным и, однако, нами правящим способом» (180, с.219). Таким образом, речь идет о власти языка, «язык говорит». А точнее, раскрывающееся через него сущее говорит о себе и с собой, именно поэтому язык определяется Хайдеггером как монолог. Власть языка как раз и проявляется в том, что он, устанавливая имя вещи, определяет вещность имени. Поэтому слово не указывает на некоторое содержание, а показывает его через себя: «Говорить друг с другом значит: вместе высказываться о чем-то, показывать друг другу такое, что выявляет в говоримом 196 обговариваемое, выводить его собою на свет. Невыговоренное – не только то, что не поддается оглашению, но несказанное, еще не показанное, еще не достигшее явленности…» (180, с.265). Именно это просветление сущего, выведение его в состояние проявленности и составляет собой то «со-бытие» (тоже языковое напоминание о бытии), которое М.Хайдеггер ставит в основание «сказа» – просветляющего показывания: «Побуждающее к указыванию сказа есть особленье. Оно приводит присутствующее и отсутствующее каждый раз к его собственному, откуда последнее кажет себя в себе самом и своим способом пребывает. Это осуществляющееся особленье, которым движим сказ как раз в его указывании, назовем событием»». Им создается свободное пространство просвета, куда присутствующее может выйти для пребывания, откуда отсутствующее может уйти, храня свое пребывание в этом уходе. То, что осуществляется событием через сказ, не есть ни действие какой-либо причины, ни следствие из какого-либо основания. Дающее сбыться особленье, событие более осуществляюще, чем любое действие, делание и обоснование. Быть собой дает событие, и ничего кроме» (180, с.268). Очень характерно, что «особленье» – в оригинале «eignen» – созвучно «Ereigns» – событию, а это слово имеет дополнительные значение – «озарение». Так, с одной стороны, слово растворяется в событии бытия, но с другой стороны, событие бытия, с его диалектикой присутствия, просветления и сокрытия совершается в слове, причем буквально в звучании тех слов, которыми именуются данные понятия. Можно сказать, что вся хайдеггеровская метафизика переходит в слово, в именование как показывание, именно в этом смысле «язык говорит». Точнее, в хайдеггеровском этимологизировании говорит не только язык, но через язык говорит бытие, а проясняющее метафизическую реальность, заключенную в слове, расчленение вносит в него здесь-бытие воспринимающего субъекта. Таким образом, слово есть 197 точка пересечения Zein I Dazein, бытия вообще и бытия, заключенного в субъекте. Слово поэтическое здесь тождественно слову языковому, и это естественно, ведь «язык – дом бытия». Поэтическое слово принадлежит языку, и, следовательно, через него осуществляется бытие (как, впрочем, и через истину, и через искусство вообще). Хотя искусство вообще и поэзия в частности отличаются лишь концентрированностью этого присутствия. В работе «Исток художественного творения» об этом говорится следующее: «…искусство – это упрочение истины, устрояющейся в устойчивый облик. Это совершается в созидании – произведении несокрытости сущего. Но полагать вовнутрь творения вместе с тем значит давать ход бытия творения творением. А это совершается как охранение. Следовательно, искусство есть созидающее охранение истины в творении. Тогда искусство есть становление и совершение истины» (179, с.304). То есть в искусстве и истина, и бытие сущего удерживаются в состоянии несокрытости, и естественно, что это удержание по контрасту и подчеркивает возможности их сокрытости. Кроме того, сам этот переход сокрытости в несокрытость становится со-бытием («Прекрасное принадлежит события развертывания истины» (179, с.310)). Тот же самый процесс раскрытия-просветления происходит, как мы видели, и в слове («Слово – выступает в просвет бытия»). Эти два процесса накладываются друг на друга в поэзии – искусстве слова, поэтому в работе «Исток художественного творения» М.Хайдеггер говорит о том, что «…поэт пользуется словом, но пользуется не так, как обычно говорят и пишут люди, которым приходится растрачивать слова, а пользуется так, что слово впервые поистине становится и остается словом» (179, с.287). В последние годы в современном российском литературоведении актуализируется строй мыслей, сходный с высказанными А.Потебней и П.Флоренским. Яркий пример - статья Н.К.Гея художественности и метахудожественности в литературе». 198 «Категории Выдвигая концепцию метахудожественности, Н.К.Гей исходит из принципиальной укорененности слова в бытии, из родства слова с тем, которое «вначале было…»: «…художественность литературы можно считать тем, что делает слово, троп, образ, произведение, наконец, чем-то неизмеримо большим, чем они есть сами по себе. Художественность делает их мифологемой, концептом, художественным смыслом на разных уровнях осмысления мира и художественного творчества. Слово, троп, образ, текст – каждый из них становится больше себя самого. Художественность – синтез всех элементов содержания и формы в некое художественное целое, в произведение, даже в Произведение как большой смыслообраз» (47, с.285). Вслед за А.А.Потебней и П.А.Флоренским, исследователь утверждает принципиальную изоморфность языкового слова и художественного произведения, основанную на их образной, точнее, символической природе (обратим внимание, что именно символическое слово у П.Флоренского «больше самого себя»). Существенная новизна данной концепции в утверждении принципиального равновесия образа и смысла, когда слово становится «бытийственностью смысла изображаемого» (47, с.282). Поэтому слово автономно и самоценно: «Поэтическое слово самоценно в своей глубине и наполненности. Оно своеобразное чудо в своей первозданности, и потому не говорит нам нечто о мире, а становится миром, и сам мир говорит нам или говорит с нами. В противном случае чудо не может состояться» (47, с.285). Собственно, метахудожественность и представляет собой проявленность в слове неких изначальных бытийных сущностей. Несводимость так понимаемой художественности не только к искусству слова, но и к искусству осознана:«Метахудожественность объемах далеко выходит за в своих рамки вообще исследователем логических, искусства как понятийных такового. Художественность – категория, трансформированная на специфику и 199 ценностное качество искусства. Метахудожественность – это уже то, что определяет человеческое сознание … метахудожественность, в отличие от художественности, не отличает искусство от не-искусства, а подводит нас к его онтологическому бытийственному смыслу» (47, с 228). Проблема данного культурологической подхода – в недостаточно отрефлектированности четкой понятия метахудожественности. В конце уже упомянутой статьи Н.К.Гей пишет: «Речь идет об универсальном принципе целого или универсальном целом: откровения мира в нас и нас – миру. Отсюда – мышление целым и в слове, уже в самой его природе, и с помощью слова, словом; схватывание сущности смысла и сущего смысла – вместе, без разделительных трещин и изъянов» (47, с.300). Данный тезис конкретизируется при разборе японского хокку: «Это мир «чистого» бытия, равный идее, «чистой» мысли, как бы гласящий об отсутствии дуальности человека и природы. Это императив достижения состояния «не-я = я» или «я», долженствующее «быть миром», быть единым с ним» (47, с.294). Постулируемое Н.К.Геем в качестве идеальной перспективы художественного слова состояние сознания является, в сущности, мифологическим. Ведь именно в мифе возможно тождество «я» и «не-я», именно там сливаются «сущности смысла» с самим смыслом. Именно там все равно, о чем говорить, – об «универсальном принципе целом».Проблематичность целого» данного или подхода об «универсальном подтверждается при обращении ученого к конкретному тексту. Так, в глубоком и содержательном анализе Н.К.Гея пушкинского «Я вас любил…» есть такой момент: «Героини нет (выделено автором – Э.С.) в тексте произведения. Произведение направлено «к ней», оно создает ситуацию обращенности Я к «неизвестной» в местоименных формах, призванных раскрыть непосредственность и искренность лирического исповедания. 200 Фиксирует обращенную направленность внутреннего монолога к ней. Но ее нет» (47, с.286). Действительно, «любимой женщины» в качестве героини, в каких-то внешних проявлениях, деталях нет, и это объяснимо хотя бы спецификой лирического рода. И если не слышать само слово, если воспринимать слова «Я вас любил», трижды повторенные, просто как «местоименные формы», создающие «ситуацию обращенности», то можно дальше никакого другого присутствия «ее» в стихотворении не искать. Но если не будет «ты», то в конце концов не будет и «я»: «Это не «Я», желающее любви «другому», это восхождение на совершенно иную нравственную высоту переживания, очищенного от эгоистической самости» (47, с.286). Как-то странно – неужели третьего не дано: или «эгоистическая самость», или «нравственная высота переживания»? Все-таки это в разных вариациях повторяемое «я вас..» реальность, заключенная в слове. И если это так, то «она» существует именно в этом напряженном движении обращенности – как «ты», как личность, как «любимая» – все равно, им или «другим» - как ценностный центр, и поскольку существует в таком качестве, – существует и лирический субъект. В трактовке Н.К.Гея пушкинское произведение развивается как последовательное освобождение: вначале от «ты», потом от «я», а потом и от самого чувства: «"любил" – становится своеобразным выражением страсти, очищенной от всего сиюминутно-страстного» (47, с.287). И остается только «абсолютное слово» и «реальность нравственной действительности» (47, с.287). Получается, что абсолютное в сиюминутном не присутствует, получается, что вечное возможно только как освобождение от временного: так выглядит в реальном воплощении «вертикальный модус метахудожественности» (47, с.291). Но, по-видимому, в нормальной художественности как-то иначе: во всей множественности сиюминутного и только через нее существует абсолютное и вечное, и каждый момент этой множественности для абсолютного необходим – и абсолютное именно 201 связывает, обращает друг к другу «я» и «ты», «абсолютную страсть» и «сиюминутную страстность» 1. Утверждает онтологический статус поэтического слова и такое оригинальное явление современной науки, как «религиозная филология». В скобках скажем, что аналогия с религиозной философией в данном случае действительно не вполне уместна, так как русская религиозная философия на рубеже XIX-XX веков формировалась не только в осознании кризиса философского знания, но и кризиса религиозного сознания. Религиозная философия представляла собой «нераздельность и неслиянность» религии и философии. И, по-видимому, плодотворное сотрудничество двух областей культуры и возможно только при уяснении их взаимной необходимости друг другу. Проблематичность «религиозной филологии» не только в том, что религия становится панацеей для литературоведческой науки и для искусства (см. по этому поводу статью Т.А.Касаткиной «Сегмент и горизонт» в сборнике «Литературоведение как проблема»). И даже не в странном изломе логики, заставляющем искать специфику какого-либо феномена (в данном случае – поэтического слова) не в том, что действительно только ему присуще, а в том, что свойственно и другим феноменам. 1 В современной украинском литературоведении онтологический подход к слову проявляется в работах С.Б.Бураго. В его книге «Мелодия стиха» проблема специфики поэтического слова рассматривается на широком философском и герменевтическом фоне, исходя из установления взаимных корреляций в триаде «мир-человек-язык». Поэтическое слово определяется С.Б.Бураго как «становление и коммуникативная реализация понимания и пересоздания человеком мира простой видимости на основе рационально-чувственного проникновения в сущность жизни и мироздания» (33, с.5). Следует отметить, что, говоря о коммуникативной стороне слова, С.В.Бураго исходит из того, что «язык не есть некая отчужденная от человека и основанная на всеобщем договоре система знаков» (33, с.38). То есть коммуникация в данном случае – не процесс передачи информации, скорее это общение, преодоление отдельности субъекта, открытие точки пересечения личностей, которые не являются отдельными замкнутыми монадами, а находятся во взаимоотношениях глубинной связи и взаимопроникновения.Главной отличительной чертой поэтического слова признается его «смыслообразующая музыкальность» (33, с.96). Выделив семь степеней звучности, исследователь получает возможность количественного определения звучности конкретного стиха (как среднего арифметического составляющих его звуков) и показателя звучности стихотворения (как среднего арифметического составляющих его стихов) и в процессе анализа связать все эти характеристики со становлением смысла. Конечно, утверждение смысловой значимости звука, связи значения и звучания – одна из интуиций поэзии и постулат литературоведческой науки, это утверждение вытекает, в частности, из концепции слова А.А.Потебни, и в серебряном веке продолжается теорией звукообраза А.Белого. Безусловная заслуга С.Б.Бураго в том, что он придал этим во многом интуитивным поискам наглядно-графический характер, создал возможность убедиться в смысловой закономерности движения звучности стиха на основе подсчета (что-то аналогичное ритму прозы). 202 Проявившийся в данной работе Н.К.Гея мифологизм усиливается и странным образом ассоциируется с христианской религиозностью. Вот характеристика мировоззрения, органичного для «слова, творящего реальность», даваемая Т.А.Касаткиной: «В мировоззрении старого стиля он (человек) наивно вложил свою душу в вещи, он мог рассматривать свое лицо как лик мира, видеть себя подобием бога, за величие которого не слишком трудно было заплатить кое-какими наказаниями ада» (74, с.321). И далее в ее работе, несмотря на активное утверждение христианства как идеальной перспективы литературоведческой науки, основные категории этой науки характеризуются, исходя из мифа: и писателя она называет «магом» (74, с.332), и слову предлагает вернуть его «естественную магичность» (74, с.329). Речь идет о мифологическом субстрате религии, который, конечно, есть везде, в любой отрасли человеческой культуры. Есть он, конечно, и в художественном слове, только вот вопрос: стоит ли художественность сводить к этому религиозному субстрату и, с другой стороны, этот религиозный субстрат искать в художественном слове, а не в каких-либо других явлениях? Во всяком случае, как нам кажется, данное явление в литературоведении гораздо вернее было бы называть «мифологической филологией». В мифе субъект еще не вычлечен, поэтому проблема субъекта – еще одна проблема «религиозной филологии». Происходит какое-то странное не то чтобы третирование творческого субъекта, но, во всяком случае, выведение его за пределы поэтического слова. Т.А.Касаткина генерализирует данную тенденцию: «…истинный стиль рождается как проникновение автора в глубь предмета, как постижение автором внутреннего принципа вещи, как выражение мира, а не себя» (74, с.319). «Я» и «мир» здесь не просто разведены, а противоположны. Слово, таким образом, оказывается местом вовсе не «встречи» (А.Ф.Лосев), а противостояния. 203 Лишенное связи с субъектом, слово лишается и своих контекстов, становясь не только чем-то отдельным, но и готовым, нуждающемся лишь в актуализации, но не в творчестве. Очень четко это видно в финале статьи Т.А.Касаткиной: «Главный принцип описываемого метода – уловление бытия слова в первичной реальности – говоря прямее и откровеннее, уловление той реальности, которую первично заключает в себе слово» (74, с.338). Это дважды повторенное «первичное» можно понимать, исходя из контекста статьи, и как прямое значение слова, и как восхождение к тому слову, которое «вначале было», хотя последнее явно не в компетенции литературоведа. Однако исследовательнице совершенно ясно: реальность слова не дана, но задана, она неизменна. Очень характерный Т.А.Касаткина момент: в единственном случае, когда анализирует реальное художественное слово, а не приводит фрагменты литературных произведений для иллюстрации собственных теоретических положений – в трактовке фразы «Ишь нарезался!» из «Преступления и наказания» – исследовательница не замечает, что художественный эффект создает вовсе не само по себе прямое значение слова. Его создает поле напряжения между этим прямым значением и переносным – тем, в котором оно употреблено в данном контексте. Ясно, что это поле напряжения кем-то создается, а не существует изначально. То есть исследовательница не учитывает именно динамический, становящийся и в этом своем становлении глубоко индивидуальный характер художественной реальности. Еще более противоречивой выглядит концепция Т.А.Касаткиной, когда речь заходит о соотношении этой реальности со словом. С одной стороны, эта реальность неотделима от слова, она – в нем самом, готовая и неизменная: «Суть нашего подхода состоит во взгляде на слово как на порождающую субстанцию художественного текста. Подобный взгляд возможен в том случае, если предполагается, что слово заключает в себе 204 некую реальность, не зависящую от воли участников коммуникативного акта, реальность, которую они могут только заметить или не заметить, осознать или не осознать…» (74, с.332). Но, с другой стороны, впоследствии оказывается, что реальность эта находится вовсе не в слове, а за словом, причем возникает впечатление, что исследовательница не ощущает, что такое изменение позиции существенно меняет дело. Буквально на следующей странице после вышеприведенного утверждения Т.А.Касаткина пишет: «Тогда художественность, которая есть не что иное, как встающая за словом (подчеркнуто мною – Э.С.) реальность, исчезает из его текста…» (74, с.333). Собственно, вот в этом и главная проблема: когда действительность оказывается вне слова, слово перестает слышаться как реальность, и в конце концов эта самая реальность, «выпавшая» из слова, но иллюзорно исследователем в это слово действительностью чисто помещаемая, человеческой, оказывается, по сути, этической. Вполне можно согласиться с утверждением В.Непомнящего: «Слушать все слово, а не только его гармонию» (120, с.531),но с условием, что «все слово» вне гармонии не существует. Но далее, по поводу полемики с С.Бочаровым, В.Непомнящий пишет: «Меня волнует, что Пушкин переживает и о чем говорит, а С.Бочарова – как Пушкин поет» (120, с.541). Но ведь то, «что Пушкин переживает и о чем говорит», существует только в том, «как он поет», если речь действительно о Пушкине. И когда В.Непомнящий полемизирует с С.Бочаровым по поводу Пушкина, время от времени возникает ощущение, что речь идет как будто бы не вполне о Пушкине (во всяком случае – не о Пушкине-поэте). Яркий пример – полемика по поводу стихотворения «Под небом голубым страны своей родной…». Из статьи В.Непомнящего понятны особенности трактовки данного стихотворения С.Бочаровым, поэтому остановимся на позиции самого В.Непомнящего: «Любовь к героине элегии «Под небом 205 голубым…», писал я в статье, вспоминается ему (Пушкину – В.Н.) сейчас как исключительно плотская, исчерпывающе чувственная, лишенная духовной связи. И когда умерла ее плоть – умерло все. Стихотворение, собственно, о том, в какое недоумение, растерянность, содрогание привело его это открытие. Ведь он равнодушен не к камню или, в самом деле, к трупу – к живой душе, которая «уже летала» над ним… Это есть "недоступная черта"» (120, с.540). Тут очень ясно видно, как реальность, «выпавшая» из слова, начинает «достраиваться» исследователем, может быть, исходя из какой-то другой логики, но не из логики самого текста. Откуда, правда, В.Непомнящему известно, что любовь, о которой говорит Пушкин, исчерпывающе чувственная? Но даже если это так, то ведь внутренняя устремленность слова совершенно иная: усилие удержать жизнь перед лицом совершившейся смерти. Это усилие слышно уже в первом четверостишии – в протяженности самого сообщения о смерти, которая как будто бы все переносится, вначале из строки в строку («Под небом голубым страны своей родной / Она томилась, увядала…), затем из предложения в предложение (Она томилась, увядала… / Увяла наконец…), и в замедляющем повторе («увядала … увяла), и в многоточии в конце второй строки. Об умершей говорится: «младая тень», «легковерная тень». Непривычность последнего словосочетания заметила Л.Я.Гинзбург, она также пишет, что более ожидаемым в контексте жанра элегии был бы эпитет «легкокрылой». Следовательно, Пушкин трансформирует лексический репертуар элегии, создавая промежуточную ситуацию между жизнью и смертью ( для него тень живая, но при этом он не отвлекается от того, что она тень). И ужас именно в том, что даже несмотря на это, несмотря на возможность так говорить об этом – «недоступная черта меж нами есть». Стихотворение, по сути, об осознании границ поэтического слова. 206 Этим осознанием определяется его построение: нечетные четверостишия говорят о возможностях слова, воскресающего и умершую, и любовь (особенно явно – третье четверостишие), четные – о горькой реальности, которая ведь словом все равно неотменима. Но в процессе этого осознания граница перестает быть «недоступною чертой», точнее, не переставая быть таковой, она становится еще и чем-то другим – энергией, направленной на обращение этих двух реальностей друг к другу. Существование данной тенденции в стихотворении подтверждает своеобразная позиция фразы «Но недоступная черта меж нами есть»: она начинает вторую строфу, то есть композиционно относится к ситуации уже свершившейся смерти. С другой стороны, после строчки «Младая тень уже летала», заканчивающей первую строфу, стоит точка с запятой, то есть синтаксически эта фраза относится к ситуации удержания ушедшей жизни словом, о которой уже говорилось. Конечно, в данных рассуждениях тоже многое сказано приблизительно и огрубленно, однако здесь по крайней мере делается попытка действительно «слушать все слово» – но с акцентом именно на «слушать», то есть на некую процессуальность, а не на результат, на протекание слова, на взаимодействие с другими. Если же этого не делать, если смотреть на слово как на некую готовую сущность, за которой находится реальность, то тогда можно очень легко пройти мимо и художественной специфики произведения, и его автора, заменив его самим собой (что убедительно показывает статья С.Г.Бочарова «О религиозной филологии»). Следует подчеркнуть, что, при близости исходной посылки – утверждения онтологического статуса поэтического слова – между концепцией метахудожественности Н.К.Гея и «религиозной филологией» существует глубокое отличие. Поэтическое слово у Н.К.Гея – творчество особого мира, проявляющее бытийные сущности, а в «религиозной филологии» – реализация готового смысла. Н.К.Гей утверждает 207 самоценность слова, а «религиозная филология» – его служебноиллюстративную роль. Современные дискуссии об онтологическом статусе художественного слова и, в частности, о «религиозной филологии», пожалуй, наиболее наглядно мотивируют необходимость обращения к проблематике слова в поэзии серебряного века и особенно младших символистов. Прежде всего, говоря о «слове, творящем реальность», корректности ради необходимо различать слово магическое и Слово-Логос из Евангелия от Иоанна. Русская религиозная философия, которая является одним из самых актуальных контекстов поэзии серебряного века и особенно символистов, эти понятия как раз различает, прочно относя магическое слово к «мифологической эпохе языка» (Вяч. Иванов). Собственно, и в магическом слове, а тем более в воплощающих его действенную природу теургии, мистерии младшие символисты видят вовсе не выявление специфики поэтического слова, а тот невоплотимый предел, к которому оно стремится, однако не может перейти, не перестав быть самим собой. Так, Вяч. Иванов пишет: «Все поиски магизма в искусстве извращают в корне заложенную в нем святыню теургического томления» (66, с.215). К этому высказыванию нужно прислушаться особенно внимательно. Искусство вообще и символическое слово в частности, являясь связью, соединением двух миров, воплощает лишь возможность, причем в ее принципиальной неосуществимости в рамках мира трансцендентального. Слово поэта, слово философа – лишь способы обращения мира сущностей к человеку, при этом их существование в личностной реальности не может не восприниматься как развоплощение. И в этом плане слово, о котором говорит А.Ф.Лосев в «Философии имени», – это все-таки иное слово, чем магическое (заклинательное, воздействующее, которое если и обращено к человеку, то чтобы повлиять на него, изменить). Слово, о котором говорит А.Ф.Лосев, обращено к 208 человеку совсем иначе: «Между тем тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с другими людьми» (94, с.39). Безусловно, данное утверждение возникло из рефлексии опыта серебряного века, равно как и бахтинская концепция слова, о которой речь ниже. 3 . 3 . К о н ц е п ц и я с л о в а М . М . Б а х т и н а . Плодотворным преодолением крайностей обоих рассмотренных выше способов видения слова является, на наш взгляд, концепция М.М.Бахтина. Как уже было сказано, у М.М.Бахтина в художественном слове «выразительное и говорящее бытие». Искусство слова проявляется возникает как своеобразный аналог события бытия, ведь «содержание произведения – это как бы отрезок единого открытого события бытия, изолированный и освобожденный формою от ответственности перед будущим события и потому в своем целом самодовлеюще-спокойный, завершенный…» (11, т.1, с.314). Завершение и представляет собой такое извлечение некоего фрагмента из события бытия, его оформление как целого, а затем переведение его в бытие вновь создаваемое, в бытие эстетического объекта, в котором, естественно, событийность отнюдь не снимается: «В словесном художественном творчестве событийный характер эстетического объекта особенно ясен – взаимоотношение формы и содержания носит здесь почти драматический характер…» (11, т.1, с.324). Универсальная событийность жизни и бытия и воплощается в слове. Основанием для проявления этой событийности является приводимая в работе «К вопросам методологии эстетики словесного творчества» многосоставная структура слова: «Мы различаем в слове – как материале – следующие моменты: 1) звуковая сторона слова, собственно музыкальный момент его; 2) вещественное значение слова (со всеми его нюансами и разновидностями); 3) момент взаимоотношения чисто словесной словесные); связи (все отношения 4) интонативный (в и плане 209 психологическом – эмоционально-волевой) момент слова, ценностная направленность слова, выражающая многообразие ценностных отношений говорящего; 5) чувство словесной активности, чувство активного порождения значащего звука» (11, т.1, с.316). Все перечисленные выше элементы слова объединяются в «чувстве порождения значащего звука» – это объединение и становится основой события бытия в слове, благодаря ему слово переходит в бытие эстетическое. При этом М.М.Бахтин подчеркивает: речь идет о «чувстве порождения и смысла и оценки, т.е. чувстве движения и занимания позиции цельным человеком, движения, в которое вовлечен и организм, и смысловая активность, ибо порождается и плоть и дух слова в их конкретном единстве» (11, т.1, с.317). Речь идет, таким образом, о чувстве субъекта – не только говорящего, но в говорении занимающего свою единственную позицию в событии бытия. В это движение занимаемой позиции вовлекаются все материальные элементы слова. Собственно, это и есть то преодоление слова как материальной данности, о котором говорит М.М.Бахтин в работе «Автор и герой в эстетической деятельности»: «Слово должно перестать ощущаться как слово. Поэт не творец в мире языка, языком он лишь пользуется… Отношение художника к слову – как к слову – есть вторичный производственный момент, обусловленный его первичным отношением к содержанию. Можно сказать, что художник с помощью слова обрабатывает мир, для чего слово должно имманентно преодолеваться, как слово, стать выражением отношения к этому миру творца» (11, т.1, с.251). Необходимо обратить внимание на следующую особенность бахтинской формулировки: преодоление это «имманентно», то есть оно происходит изнутри слова, это не отвлечение от материальной природы слова ради его содержания, а взгляд на все материальные моменты слова как полностью проникнутые этим духовным содержанием. Это и означает, что «художник с 210 помощью слова обрабатывает мир», – такое возможно лишь тогда, когда слово вначале становится миром, пронизанным авторскими интенциями, а затем входит в жизненную реальность, участвуя в диалоге. Специфика бахтинского высказывания – именно в проявлении участия личности в событии бытия, в диалоге. Общение и диалог – основные бахтинские категории, определяющие и реальный, и художественный мир. Есть ли разница между этими двумя понятиями? По-видимому, разница есть. Прежде всего, общение – атрибут сферы бытия: «Само бытие человека есть глубочайшее общение. Быть – значит общаться… Быть – значит быть для другого и через него – для себя. У человека нет внутренне суверенной территории, он смотрит в глаза другому или глазами другого» (11, т.1, с.344). Диалог же происходит в жизненной реальности: «Жизнь по природе своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге – вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью… Он вкладывает всего себя в слово и это слово входит в живую ткань человеческой жизни, в мировой симпозиум» (11, т.5, с.351). Кроме того, из приведенных высказываний видно, что «общение», «диалог» даже не атрибуты, а ипостаси, они как бы полностью покрывают собой и бытие, и жизнь. Бытия вне общения у М.М.Бахтина нет так же, как нет жизни вне диалога, потому что того и другого нет вне человеческой личности и ее слова. Общение – это обращенность бытия к «другому», это способ восприятия личностью себя как «другого», эта энергия взаимодействия всего со всем, внутри и вовне творческого субъекта. Это начало и одухотворяет слово: «Слово, живое слово, неразрывно связанное с диалогическим общением, по природе своей хочет быть услышанным и отвеченным» (11, т.5, с.359). Слово, которое «хочет быть услышанным и отвеченным», лишь «связано с диалогическим общением», но не является диалогом. Диалог же – воплощение этого одухотворяющего желания, 211 оформление его, обретение им субъекта, превращение его в «высказывание, имеющее своего автора». Завершая разговор о концепции слова М.М.Бахтина, следует отметить, что в концепции диалогизма действительно снимаются крайности двух рассмотренных выше подходов к слову. Преодолеваются условность и некоторая отстраненность слова от реальности, присущие подходу к слову как к знаку, необходимостью видеть в высказывании субъекта, и, с другой стороны, преодолевается монадность слова, свойственная подходу к слову как онтологической значимости, вовлеченностью слова в диалогический контекст. Интересно, что если современное «религиозное литературоведение» от наследия М.М.Бахтина всячески открещивается, то, скажем, в работах Ю.М.Лотмана можно найти некоторые точки пересечения с произведениями М.М.Бахтина. Прежде всего, для Ю.М.Лотмана актуальна категория диалога, хотя понимает он под диалогом несколько иное, чем М.М.Бахтин 1 . С другой стороны, М.М.Бахтин, как и Ю.М.Лотман, пользуется понятием «знак» в приложении к слову. Однако под знаком он понимает не «пучок взаимоэквивалентных элементов различных систем», а, как пишет Е.А.Богатырева, «в его трудах знак воплощает в себе уже не субъективность индивида…, а отношение – интенциональную устремленность одного человека (автора) в его обращенности к другому (герою) … Обращение к знаку и прежде всего к слову открыло для него возможность исследования функционирования и развития индивидуального сознания» (22, с.35). То есть если у Ю.М.Лотмана знак 1 «Текст ведет себя как собеседник в диалоге: он «перестраивается» (в пределах тех возможностей, которые ему оставляет запас внутренней структурной неопределенности) по образцу аудитории. А адресат отвечает ему тем же – использует свою информационную гибкость для перестройки, приближающей его к миру текста» (98, с.113). Речь в данном случае идет о преобразовании текста в воспринимающем сознании и о преобразовании воспринимающего сознания текстом, то есть речь идет скорее об акте коммуникации и о его трансформирующем воздействии на его участников, а не о «двуголосом слове», как у М.М.Бахтина. 212 есть элемент культурного кода, то у М.М.Бахтина за знаком стоит личность, которая «вложила себя в слово». Возможно, именно эти точки пересечения дают возможность В.Тюпе в книге «Аналитика художественного» своеобразно совместить подходы к художественному слову Ю.М.Лотмана и М.М.Бахтина. Художественную реальность он рассматривает как взаимодействие текста и смысла. Смысл здесь явно трактуется в духе бахтинского понимания: смысл как ответ на вопрос. Поэтому, вслед за М.М.Бахтиным, литературное произведение он понимает как «особый тип общения, обладающий собственной, только ему свойственной формой» (10, с.76). Но, с другой стороны, поскольку вторым пределом является текст как система знаков («эстетический анализ текста обязан не упускать из виду знаковую природу своего непосредственного объекта» (169, с.39)), то литературное произведение трактуется в духе Ю.М.Лотмана - как акт коммуникации, как эстетический дискурс. С одной стороны, такой подход позволяет более четко расчленить произведение. В.Тюпа выделяет три стороны коммуникативного события: сторону субъекта – «креативную», сторону объекта – «референтную», сторону адресата – рецептивную, внутри референтного уровня выделяется еще целый ряд подуровней, определяющих как внешнюю, так и внутреннюю структуру произведения. Однако воедино эти уровни(части конструкции) как-то очень трудно складывается даже в самом интересном и содержательном анализе – анализе повести «Фаталист» М.Ю.Лермонтова. С одной стороны, очень глубоко и четко определено проблемное поле данного произведения: «спор … об экзистенциональной границе человеческого «я». Является ли эта граница сверхличной (судьба человека написана на небесах) и вследствие этого фатальной? Или – межличностной?» (169, с.50). Осмысление этого вопроса именно как неразрешимого становится «путем выхода из антиномии уединенного сознания (волюнтаризм – фатализм) к 213 соприкосновению с действительной жизнью «других», к диалогическому сопряжению с другими сознаниями» (169, с.62). Однако есть в повести момент, не вполне учтенный В.Тюпой, связанный именно с организацией словесной ткани произведения, который позволяет уточнить выводы исследования. Во всех трех наиболее значимых моментах фабулы – выстрел Вулича, убийство Вулича, пленение казака – присутствуют в смысловом плане совершенно однотипные высказывания, говорящие о том, что эти события могли бы происходить иначе. В первой ситуации вариативность, вероятностность исхода очевидна: «…иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена…», (то есть если бы она не была засорена, то Вулич бы убил себя); затем эта вероятностность как бы уходит в глубину фразы: «…на него наскочил пьяный, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал…», и в конце повести концентрируется: «Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежащую возле него». Собственно, речь здесь идет о случайности, которая во всех трех ситуациях определяет исход события. Она может восприниматься и как действие рока, и как выявление свободной воли субъекта, она и в соприкосновении с действительностью мира «других» остается элементом нерастворенной тайны. Ведь соприкосновение с миром «других», вообще открытие «другого» антиномии между волюнтаризмом и фатализмом не взаимопереходимость, снимает, а открывает наоборот, новый демонстрируя уровень их трагедийности: пересечение «я», наделенного свободной волей, с «другими», также наделенными свободной волей, может быть столь же гибельно и непредсказуемо, как и одинокое испытание судьбы. Итак, мы рассмотрели различные способы осмысления специфики художественного слова в литературоведческой науке. Мы убедились, что 214 трактовка слова как знака влечет за собой представление об орудийном, подчиненном характере слова, а трактовка слова как онтологической значимости – представление о самоценности слова. Бахтинская концепция слова как посредника между бытием и жизненной реальностью акцентирует его индивидуально-динамический, причастный характер. При этом каждая трактовка предполагает различные способы соотнесения языкового и эстетического в художественном слове. В самом общем виде можно сказать, что представление о слове как о знаке выявляет в художественном слове моменты, аналогичные языковому, представление о слове как об онтологической значимости, наоборот, предполагает эстетизацию языкового слова. В результате этого соотнесения более четко проявляются различные ипостаси слова поэтического. Так, при «знаковом» подходе акцентируется конструкция, модель, при «онтологическом» – образ, символ, при трактовке слова как посредника – его динамическая природа. Раздел 4. Смысл и его значение для определения специфики слова Для того, чтобы уточнить специфику слова вообще и поэтического слова в частности, нужно вернуться к тому его моменту, который, возможно, не является в нем первичным, но осевым и необходимым. Возможно, и существует смысл вне слова, однако вряд ли существует слово без смысла (произведения типа «дыр бул щыл…» скорее являются подтверждением данной закономерности: не имеющее смысла сочетание звуков, оформленное как слово, эпатирует именно своей «непрочитываемостью» в существующей системе смыслополагания и требуют иной системы – например, семантизации звуков). Поэтому, чтобы понять, что такое слово, попробуем разобраться, что такое смысл. 215 М.М.Бахтин, как уже отмечалось, подразумевает под смыслом прежде всего ответ: «Смыслами я называю ответы на вопросы… Актуальный смысл принадлежит не одному встретившимся и (одинокому) смыслу, а только двум соприкоснувшимся смыслам» (9, с.350). Здесь М.М.Бахтин скорее всего отталкивается от концепции смысла, выдвинутой Е.Н.Трубецким. В работе «Смысл жизни» он определяет смысл («с-мысл», как он пишет) как нечто общезначимое и внесубъектное: «Так понимаемый «с-мысл» есть логически необходимое предположение и искомое всякой мысли… Иначе говоря, «смысл» есть общезначимое мысленное содержание или, что то же самое, общезначимая мысль, которая составляет обязательное для всякой мысли искомое» (167, с.5). Вот это снятие субъекта, утверждение смысла как заданного и существующего до субъекта и лишь находимого им содержания было для М.М.Бахтина неприемлемо. Для него смысл не только диалогичен, но и персоналистичен: «Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как диалогический минимум). Это – персонализм не психологический, но смысловой» (11, т.6, с.434). Одновременно смысл – это еще и временная связь: «Бытие уже наличное в прошедшем и настоящем – только смертная плоть предстоящего смысла события бытия» (11, т.5, с.202). Речь в данном случае идет о том, что все происходящее в прошедшем и настоящем не имеет смысла вне связи с будущим событием, пережитой индивидуальным сознанием. В принципе можно сказать, что смысл – это выход вовне предмета, это поиск его связи с чем-то находящимся вовне – прежде всего с личностью. Кроме того, что, собственно, значит – осмыслить какое-то явление? Осмысление (как показывает язык) - это некоторое постижение предмета 216 как целого, охват его взглядом как чего-то единого и единственного1. Именно поэтому А.Ф.Лосев в книге «Проблема символа и реалистическое искусство», определяя семантический аспект символа, считает, что для возникновения смысла необходим «ноэматический акт (греч. nоĕmа – «мысль», точнее, «мысль о предмете», «мысль, обрабатывающая предмет в целях включения его в систему мысли или в процесс мысли)» (92, с.49), для осуществления которого, как видно из предшествующего изложения, нужно воспринять предмет как целое, выделив его существенный признак. Речь идет о феноменологической трактовке смысла, о выявлении его для субъекта. Итак, смысл слова – это связь обозначаемого предмета с чем-то находящимся вовне (во-первых – с субъектом, во-вторых – с другими предметами) и, кроме того, взгляд на предмет как на целое, как на некоторую отдельную реальность. Вряд ли можно точно сказать, какой из этих двух моментов в смысле определяющий. Ведь, с одной стороны, включить какое-либо явление в систему связей возможно только восприняв его как целое, очертив его границы. С другой стороны, такое оцельнение и определение (в смысле полагания пределов) возможно Интересный грамматико-логический анализ данной категории дается в книге Ж.Делеза «Логика смысла». Прежде всего, в этой книге заостряется свойственный постструктурализму разрыв между сферой слова и сферой реальности, это две автономные сферы, между которыми устанавливаются условные соотношения: «…отдельные слова и предложения, вообще все лингвистические составляющие всегда играют роль пустых форм для отбора образов, следовательно, для обозначения любого положения вещей. Не следует рассматривать такие слова как универсальные понятия, поскольку они являются лишь формальными сингулярностями, функционирующими в качестве чистого "указателя"» (57, с.29). Определяя смысл как «то, что выражается» (57, с.41), Ж.Делез, по-видимому, идет вслед за Э.Гуссерлем, имея в виду феноменологическое понимание смысла в его явленности нашему сознанию. Но с другой стороны, смысл определяется Ж.Делезом как «несуществующая сущность» (57, с.13). Под сущностью, как видно из главы «Серия четвертая: дуальности», понимается, во-первых, понятийное означаемое предложения, а во-вторых, его материальный денотат, то есть нечто происходящее в реальности. «Несуществующими» эти сущности называются, возможно, потому, что они не даны сознанию, оперирующему словами и отношениями между словами, непосредственно. Кроме того, «несуществующие сущности» могут быть отнесены к непредсказуемой процессуальности смысла, к его постоянной способности порождать себе подобные. Поэтому смысл не существует как нечто статичное, высказанное окончательно и воспринятое сознанием. «Логика смысла», по-видимому, и предполагает такое бесконечное перетекание значений друг в друга, установление отношений между знаками. 1 217 только при взгляде на него извне, из некоторой уже созданной системы связей. Отсюда можно сделать вывод о том, что эти два процесса в смысле, несмотря на свою противоположность, оказываются взаимообусловленными. Смысл как охват и отграничение отдельного целого и смысл как выход вовне, как связь и как ответ существуют в слове во взаимной необходимости, но при этом не сливаясь друг с другом. Смысл, таким образом, становится границей, на которой пересекаются и взаимодействуют эти две интенции. В этой первичной структуре взаимоотношений задается, по сути, весь ряд моментов, которые включает в себя слово как сложное многоуровневое образование. Звуковая сторона, значение (частный случай смыслообразования – способность одного явления указывать на другое), образ, интонация и т.д., соотносятся в слове именно таким образом. Каждая из этих категорий мыслится как связанная с другой и, в конце концов, со всеми другими категориями и одновременно сохраняющая свою автономность, и в этой своей автономности, как и в связях, необходимая. Слово, собственно, и есть универсум, каждая из составляющих которого мыслится только через связь с иными, внеположенными элементами и через эту связь и необходимость находит себе место в универсуме. Звук, значение, образ, интонация в этой логике представляют собой внутренние формы друг друга: значение мыслится как связанное со звуком и необходимое, чтобы данный комплекс звуков стал словом. В слове, с одной стороны, невозможно помыслить звук без значения, значение без образа, то есть представить их себе как нечто замкнутое и очерченное, сегментированное. С другой стороны, если они полностью сольются, если не будет границы между ними – не будет и слова, их существование в слове «нераздельно и неслиянно». 218 Все сказанное выше позволяет представить слово как бытие – общение. Данный термин актуализируется в работах М.М.Гиршмана: «Мы анализируем и интерпретируем литературное произведение как эстетическое бытие-общение, осуществляемое в художественном тексте, но к тексту несводимое…» (49, с.503). В статье же «Слово в художественной целостности литературного произведения» говорится о том, что слово приобретает качество бытия-общения тогда, когда в нем осуществляется индивидуальный художественный мир . Данный термин, как нам кажется, возникает из уже приведенного бахтинского высказывания: «Само бытие человека есть глубочайшее общение. Быть – значит общаться. Быть – значит быть для другого и через него – для себя…» (11, т.1, с.344). Если вернуться к уже рассмотренной нами возможности разграничения общения и диалога, то нужно сказать, что общение представляется более всеобъемлющей характеристикой, являющейся предпосылкой диалога. Разграничив таким образом данные понятия, можно объяснить, почему в бахтинской логике нет диалога в лирике, недиалогичны символ и метафора – в этих категориях проявляется именно бытие-общение, диалог же предполагает субъект – субъектные отношения, воплощенные в слове («двуголосое слово», «слово о слове»). Определение литературного произведения как бытия-общения, в сущности, означает, что именно через его художественный мир, через первичное звено общения в триаде «автор-герой-читатель» эта природа бытия, нераздельность и неслиянность всего в нем, оказывается данной непосредственному ощущению. Однако нам кажется, что первоэлементом бытия-общения является слово: именно в нем, как уже было сказано, первоначально осуществляется взаимообращенность звучания и значения, значения и образа, образа и интонации и т.д. Бытие-общение, содержащееся в слове, как в молекуле, находит свое протекание уже в высказывании, и, собственно, 219 «высказывание, имеющее своего автора», строится как процесс нахождения равновесия и соответствия между этими разными, но взаимно необходимыми друг другу составляющими слова, оно существует как динамика развития и сохранения этой интенции. Именно этой особенностью, возможно, объясняется способность высказывания то «сворачиваться» до одного слова, то разворачиваться до текста, о которой говорили и М.М.Бахтин, и Ю.М.Лотман. Кроме того, в протекании высказывания также «нераздельно и неслиянно» происходят процессы смыслонахождения и смыслопорождения, что и вызывает к жизни ту особенность его восприятия, о которой говорил Л.Толстой: «Да ведь я знал это все, только не умел высказать». Характерно, что М.М.Бахтин в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» трактует слово именно как первоэлемент бытия-общения. Причем идет он в этом определении от языкового слова к художественному. Говоря о разных возможностях понимания слова «так», М.М.Бахтин пишет: «Чего же нам не хватает? Того «внесловесного контекста», в котором осмысленно звучало слово «так» для слушателя. Этот внесловесный контекст высказывания слагается из трех моментов: 1) из общего для говорящих пространственного кругозора (единство видимого – комната, окно и проч.); 2) из общего же для обоих знания и понимания положения и, наконец, 3) из общей для них оценки этого положения» (42, с.250). Все перечисляемые М.М.Бахтиным пункты содержат в себе не проговариваемую, но подразумеваемую общность, устанавливаемую между говорящими с помощью произносимого слова. Общность эта, таким образом, существует на границе между внесловесной реальностью и словом, между мыслимым и озвучиваемым, что и делает слово динамичным, «событием», как пишет М.М.Бахтин, в котором концентрируются взаимоотношения говорящих: «Слово – это как бы «сценарий» некоторого события. Живое понимание целостного смысла 220 слова должно репродуцировать это событие взаимного отношения говорящих, как бы снова «разъиграть» его, при чем понимающий берет на себя роль слушателя. Но чтобы выполнить эту роль, он должен отчетливо понять и позицию других участников» (42, с.257). Как видно из статьи «Слово в жизни и слово в поэзии», слово в речи осуществляет себя в уже преднаходимой ситуации общения, когда затекстовая жизненная ситуация уже готова (см. бахтинский анализ слова «так»). В поэзии же слово, конечно, находя многие моменты готовыми, все-таки ситуацию общения творит само, будучи границей между внетекстовой реальностью и художественным миром произведения. Именно эта – пограничная – природа поэтического слова особенно напряженно осознается в серебряном веке. В данный период ощущается недостаточность лишь поэтических произведений для воплощения тех или иных смыслов, многие поэты затем воссоздают их во внехудожественной реальности. Такое воссоздание не может быть тождественным, поэтому таким способом действительно реализуется бытие-общение в поэтическом слове. Это творимое в процессе поэтического высказывания бытие-общение представляется не только как взаимообращенность и взаимонеобходимость субъектов этого общения (автора, героя, читателя), но и взамообращенность и взаимонеобходимость всех элементов слова, и прежде всего его смысловой и звуковой стороны. Обратим внимание, что в современных трактовках поэтического слова выявляется, кроме всего прочего, полярное осмысление наименьшей материальной единицы слова – звука, соотношения его с семантикой. При трактовке слова как знака семантика явно превалирует над звуком, при «онтологическом» подходе, наоборот, звук превалирует над семантикой, звук, по сути дела, становится словом (см. в связи с этим разбор слова «аум» у Т.А.Касаткиной). М.М.Бахтин говорит о «чувстве порождения значимого звука», однако 221 никак не конкретизирует этой значимости. Данная проблема является производной от проблемы более общей – проблемы дробления и генерализации слова: с одной стороны, слово предстает как некое множество взаимопересекающихся кодов, с другой стороны – как единство бытийственного смысла. Эта поляризация мотивировала, опять-таки, наше обращение к творчеству младших символистов. В их поэзии, как мы видели, концептуально значимым оказывается двустороннее движение от звукового подобия к семантике и одновременно от семантики, точнее, от синтаксической конструкции, устанавливающей семантическое тождество включаемых в нее слов, – к звуку. Так устанавливаются отношения их взаимообусловленности. Что же следует из данной трактовки поэтического слова для анализа литературного произведения? Мы исходим из того, что поэтическое слово есть сама ситуация рождения смысла, а смысл представляется процессом углубления в предмет и выхода за его пределы. Слово – не монада, а подвижная и напряженная в этом выходе за собственные границы реальность, в которой вопрос сменяет ответ (как это следует из уже цитированного высказывания М.М.Бахтина). И в этой реальности смысл является внутренней формой и для звука, и для образа. Под внутренней формой здесь понимается смысловая мотивировка, представляющая собой взаимоналожение значения, образа, звука и авторской интенции (а не только вложенное творческим субъектом содержание, как у Г.О.Винокура). Ситуация рождения смысла предполагает, что он есть некое единое начало, проявленное во всей множественности элементов произведения; однако, как известно, эта множественность обратно к этому началу не сводится, так как в каждом элементе оно проявлено единственным образом. Но дело не только в этом: единое начало – смысл – существует не столько внутри слова, сколько на стыке, на переходе между словами. Здесь 222 основание метафоры ткани, прилагаемой к поэтическому слову – смысл не только проникает слова, но «сшивает» их, поворачивает лицом друг к другу. Поэтому слово не бытийствует, не существует как нечто раз и навсегда данное, а сбывается, слово и есть сбывающееся бытие-общение. Это общение сбывается направленно и согласованно, чем и отличается слово в литературе от слова в языке. Языковое слово не трансформируется, а изменяется имманентно (об этом свидетельствуют уже приводимые нами высказывания М.М.Бахтина о преодолении слова). Это имманентная, то есть соединяющая языковую данность слова и его смысла со смыслом индивидуально-авторским тенденция проявляется на разных уровнях произведения, но не в их автономности, а во взаимодействиях и взаимопереходах. Отсюда следует возможность имманентного анализа литературного произведения – анализа, выявляющего в произведении эту единую смысловую интенцию, организующую бытие-общение, им осуществляемое. Ясно, что в этом сбывающемся бытии–общении определенную роль играет творческий субъект – создатель текста. Из всего сказанного об осмыслении данной категории в литературоведении можно выявить следующую закономерность: чем дальше слово от означиваемой им реальности, тем большее значение он приобретает. В этой связи очень характерно, что концепция растворения автора в мире, творимом нуждающегося в индивидуальность словом, авторе, реально структурообразующим и концепция появились именно становится принципом магического – в в эпоху, литературе вплоть слова, до не когда основным появления индивидуальных стихотворных размеров, о которых говорит А.Белый (14, с.463). По-видимому, две указанные тенденции действительно взаимосвязаны, и, возможно, в своем взаимодействии на рубеже эпох они 223 порождали какой-то относительно новый, своеобразный тип творческого субъекта. Чтобы разобраться в его специфике, необходимо обратиться к работам Ю.Н.Тынянова, в которых отрефлектирован опыт серебряного века. Мы уже говорили выше о феномене литературной личности как своеобразной речевой установке, о том, что она формируется на стыке текста и биографии. Если же теперь обратиться к анализу реальных литературных личностей, исследуемых Ю.Тыняновым – А. Блоку, В.Маяковскому, С.Есенину, – то в их трактовке можно увидеть следующие закономерности. Во-первых, это просвечивающая через стихи и даже «выпадающая» из них живая человеческая индивидуальность, по сути дела, своеобразная эстетизация биографии: «Блок – самая большая лирическая тема Блока … когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют человеческое лицо…» (168, с.118-119); «Самый гиперболический образ Маяковского, где связан напряженный до истерики высокий план с улицей, – сам Маяковский» (168, с.117); «Литературная, стиховая личность Есенина раздулась до пределов иллюзии. Читатель относится к его стихам как к документам, как к письму, полученному по почте от Есенина» (168, с.177). Почему же возникает такое своеобразное читательское восприятие? Еще одна закономерность, выделяемая Ю.Н.Тыняновым у всех трех поэтов, – повышенная эмотивность и, следовательно, оценочность поэтического слова: «Эмоциональные нити, которые идут непосредственно от поэзии Блока, стремятся сосредоточиться, воплотиться и приводят к человеческому лицу за нею» (168, с.123); «Стих Маяковского – все время на острие комического и трагического» (168, с.176); «Наивная, исконная и потому необычайно живучая стиховая эмоция – вот на что опирается Есенин. Все поэтическое дело Есенина – это непрерывное искание украшений для голой эмоции» (168, с.170). Кроме того, в 224 становлении литературной личности необходимым компонентом оказывается чужое слово, причем чужое слово привычное, имеющее тенденцию превратиться в штамп: «Уже беглый взгляд на перечисленные лирические сюжеты Блока нас убеждает: перед нами давно знакомые, традиционные образы; некоторые из них (Гамлет, Кармен) – стерты до степени штампов» (168, с.120); «Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то утерянный со времен Державина» (168, с.176); «Литературная личность Есенина – от «светлого инока» в клюевской скуфейке до «похабника и скандалиста» «Кабацкой Москвы» - глубоко литературна. Его личность – почти заимствование, – порою кажется, что это необычно схематизированный, пародированный Пушкин, даже собачонка у деревенских ворот лает на Есенина по-байроновски» (168, с.171). Эмоция, таким образом, обнажила нутро поэта, и оказалось, что внутри у поэта – поэзия. Парадокс рассматриваемых Ю.Н.Тыняновым творческих индивидуальностей состоит в том, что из предельно общих моментов – эмоции («наивной, исконной») и литературной традиции («стертой») возникает неповторимая личность поэта. Способом проявления индивидуальности здесь в какой-то мере является биография – причем в ее динамическом аспекте. Ведь феномен литературной личности, безусловно, близкий «образу автора» В.В.Виноградова, все-таки отличается от него: «образ автора» существует в сфере текста, литературная же личность нуждается в постоянном соприсутствии текста и внетекстовой реальности. Феномен литературной личности, по-видимому, строится следующим образом. Биография обращается к традиции, традиция – к биографии, сила, организующая эту взаимообращенность, – эмоция. Основываясь на этом, можно говорить о формировании в литературе серебряного века (а может быть, и не только) поэтики личностного слова, определяемой прежде всего постоянной соотнесенностью поэтического текста с внетекстовой реальностью. О значимости внетекстовой реальности говорит, например, тот 225 факт, что В.В.Виноградов, характеризуя типичного лирического героя поэзии символизма, иллюстрирует свои мысли не стихами, а отрывками из статей Вяч. Иванова (37,с.86). Однако одной внетекстовой реальности мало: поэтика личностного слова предполагает бытие-общение поэтического слова и внетекстовой реальности, их постоянное взаимопереосмысление. Кроме того, поэтика личностного слова проявляется в постоянной рефлексии поэта над собственно литературными проблемами – над тем, как поэт пишет, над словом, поэзией, языком и т.д. По сути дела, личностное слово – это еще и слово о слове. Своеобразие поэтики личностного слова заключается еще и в том, что ни присутствие внетекстовой реальности в поэтическом слове, ни постоянная саморефлексия, ни эстетизация биографии не означают превращения автора в героя, даже в ситуации, когда лирический герой – поэт. Парадоксальным образом автор, выделяя из себя геройную ипостась, всячески оформляя и овнешняя ее, давая даже ей свое биографическое имя и наружность, сам, наоборот, дистанциируется от текста, становясь именно субъектом эстетического общения, озвучивая это общение. Поэтому еще одна важная черта поэтики личностного слова – рефлексия над чужим словом, проявляющаяся прежде всего в осознании, что между автором и его предметом – «упругая среда чужих слов» (М.М.Бахтин ). Так возникает особого рода личность, воплощающаяся в «непрямом говорении» – в переосмыслении чужих слов и ситуаций таким образом, чтобы в результате чужое слово зазвучало его голосом. Сама такая возможность показывает, что интенция реальности, заключенной в поэтическом слове, и интенция творческого субъекта не могут ни совпадать, ни отрываться друг от друга: они необходимы друг другу, но именно в своей отдельности и в своей обращенности друг к другу и общему для них бытийному смыслу. 226 Представление о поэтическом слове как о творимом бытии-общении дает возможность внести некоторое уточнение в понимание феномена символа. Прежде всего, исследователи указывают на его знаковую природу : «…символ определяется как знак, значением которого является некоторый знак другого ряда или другого языка. Этому определению противостоит традиция истолкования символа как некоторого знакового выражения «высшей и абсолютной внезнаковой сущности» (100, с.191): «…символ вещи есть внутренне-внешне выразительная структура вещи, а также ее знак, по своему непосредственному содержанию не имеющий никакой связи с означаемым содержанием» (95, с.44). С одной стороны, символ как знак указывает на что-то внеположенное ему, с другой стороны, эта связь не вполне произвольна: «Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен, он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало, например, колесницей» (98, с.366). У А.Ф.Лосева эта связь выглядит еще более глубокой: «…символ вещи порождает вещь. «Порождает» в этом случае значит «понимает» ту же самую объективную вещь, но в ее внутренней закономерности, а не в хаосе случайных нагромождений. Это порождение есть только проникновение в глубинную и закономерную основу самих же вещей, представленную в чувственном отражении, только весьма смутно, неопределенно и хаотично» (95, с.65). Мотивированность значения символа, по А.Ф.Лосеву, связана с присутствием в символе идеи, воплощенной в образе: «Символ вещи, данной при помощи какого-нибудь изображения или без него, всегда есть нечто оформленное и упорядоченное. Он содержит в себе всегда какую-нибудь идею, которая оказывается законом всего его построения. И построение это, будучи воплощением подобного закона, всегда есть определенная 227 упорядоченность, то есть определенным образом упорядоченный образ» (95, с.198). Отсюда возникает определение символа, данное А.Ф.Лосевым: «Символ есть образ, взятый в функции знака. Символ есть знак, взятый в функции образа» (95, с.63). Это значит, что символ, с одной стороны, самоценен, выражает самое себя, как образ, но употреблен для того, чтобы указывать на что-то, вне его находящееся. И, с другой стороны, символ, как знак, немотивирован, лишь условно прикреплен к какой-либо предметной данности, но эта предметная данность становится значимой сама по себе, как образ. Символ – знак, имеющий два означаемых: одно он выражает, а на другое указывает. При этом символ оказывается образом с бесконечным множеством значений: первое мотивированно его непосредственно предметной данностью (как идея равновесия мотивирует весы как символ справедливости), остальные же – мотивируются этим первичным значением. Характерно, что в символе, по сути, повторяется первичная структура смысла: знаковая сторона символа явно связана с выходом вовне предмета, образная – с взглядом на предмет как на целое. В символе эти две интенции существуют «нераздельно и неслиянно», что дает возможность определять символ как бытие-общение образа и знака. Завершая данную главу, попытаемся более отчетливо определить наметившиеся полярности в изучении художественного слова в современной литературоведческой науке. Осмысление слова как бытия, события, действия (А.Ф.Лосев, М.Хайдеггер) противостоит концепции слова как знака, отражения, говорения (В.В.Виноградов, Ю.М.Лотман, Ж.Женетт, Р.Барт). Качество художественности, с одной стороны, предполагает смыслообразующее творчество индивидуального мира (Г.О.Винокур), с другой стороны – субъективное конструирование смысла (В.П.Григорьев), реализацию готового смысла (религиозная филология)». Глубинная цель слова – диалог (М.М.Бахтин), передача информации, 228 коммуникация (Ю.Лотман), раскрытие бытия сущего (М.Хайдеггер). Столь же полярно осмысление соотношения языкового и эстетического в художественном слове: от полного отождествления у А.Ф.Лосева, М.Хайдеггера, а также (в иной логике) у Ж.Женетта и Р.Барта, до полного разрыва у представителей формальной школы. Прояснение данных полярностей дало нам возможность высказать некоторые теоретические положения, которые, на наш взгляд, могут способствовать синтезированию различных подходов к слову и дальнейшему углублению понимания его специфики. Это, во-первых, определение слова как бытия-общения, рождающегося в развертывании становящегося смысла, а также прояснение природы символа как взаимообращенности образа и знака. Кроме того, в данной главе намечены основные особенности взаимопереосмысление поэтики личностного текста и слова: внетекстовой постоянное реальности, дистанциирование автора от текста и рефлексия над чужим словом. 229 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Итак, мы рассмотрели специфику осмысления художественного слова в творчестве представителей младшего поколения символистов – Вяч.Иванова, А.Белого, А. Блока – во взаимообращенности философских и поэтических высказываний данных авторов, что отвечает их глубинным творческим устремлениям и характеру культурной эпохи. При всем их различии, проведенное исследование позволило найти целый ряд общих моментов в осмыслении ими специфики художественного слова1. Следует отметить, что перед нами в полном смысле модернистский способ мирочувствования: для всех трех авторов рождение художественного слова так или иначе связано с категорий хаоса. Конечно, сама по себе категория хаоса для культуры модернизма не специфична. Уже в мировидении барокко мощно обнаруживается присутствие хаоса, но осознание этого присутствия оборачивается столь же мощным призывом к человеческому духу сконцентрировать свои творческие усилия и попытаться его познать, гармонизировать, подчинить. Для романтиков же существование хаоса уже непреложный факт, и творческая личность отличается главным образом чутьем к нему в природе и в собственной душе, это чутье у романтиков усиливает творческий импульс. В модернистском осмыслении хаоса проявляются обе эти тенденции, и данная категория приобретает универсальный характер. Так, у Вл. Соловьева хаосом оказывается одно из первоначал бытия – первоначало дробления, множественности, вносящее динамику в неподвижный космос. Это реалистичность, бытийность в осмыслении хаоса безусловно сохраняется у А. Блока, так же как и противостояние хаоса и космоса. Рождение поэтического слова у А. Блока связано именно Положения, характеризующие эту общность, кратко изложены в нашей статье «Проблема слова в литературе серебряного века» (Литературоведческий сборник.- Донецк, 2004.-вып.14). 1 230 с органическим снятием этого противостояния, естественным претворением хаоса в космос. При этом под хаосом понимается не только состояние природного бытия, но и сама по себе жизненная реальность, обыденный мир. На фоне блоковского взгляда на хаос данный феномен у А. Белого соотносится скорее с восприятием, чем с какой-либо реальностью, ведь хаосу он противополагает бытие, воспринятое и расчлененное, выраженное в слове. Именно поэтому и в его стихах, и в философских работах воссоздается романтическое всеприсутствие хаоса, он не ограничен какой-либо определенной сферой. Слово же у А. Белого не рождается из хаоса, не претворяет его в нечто иное, а лишь вычленяет из него некоторые явления, лишь связывает их между собою. Слово, таким образом, предопределяет существование предмета в этом вычленении и отношения между словами оказываются первичными по сравнению с отношениями между предметами. У Вяч. Иванова подспудно сохраняется соловьевский дуализм, он подчеркивает демоническую природу хаоса, свойственное ему начало разделения. Но хаос у Вяч. Иванова воспринимается не непосредственно, а сквозь призму культуры, это хаос, отрефлектированный в ряде культурных контекстов: миф Диониса, философия Ницше, стихи Тютчева. Так же, как и у Вл. Соловьева, хаос у Вяч. Иванова реализуется в динамике, только вносится это начало не в бытие, а в культуру. Поэтическое слово рождается в результате претворения хаоса в космос, при этом хаос сам активно ищет этого претворения. С категорией хаоса у символистов тесно связана категория стихии. А. Белый приравнивает стихию к хаосу, для него стихия – то состояние бытия и творческого «я», которое предшествует рождению магического слова («…звуком слова я укрощаю эти стихии…»; «… творчество живой речи есть борьба человека с враждебными стихиями…» (14, с. 430, 431)). У Вяч. 231 Иванова хаос и стихия также понятия во многом пересекающиеся, и главная точка их пересечения – в мифе Диониса. В обоих случаях поэтическое слово представляет собой взаимодействие стихии внутри человеческой личности со стихией вовне ее. Больше всего над проблемой стихии размышляет А. Блок, прилагая данную категорию (как и Вяч.Иванов) не только к творческому, но и к национальному бытию. В целом можно сказать, что стихия – это концентрированный и действенный хаос, прорыв ноуменального мира в феноменальный. В интересующем нас аспекте А. Блок говорит прежде всего о родстве поэтического слова со стихией, проявлениями этого родства он считает музыку и ритм. Под музыкой он, вслед за Вагнером, понимает метафизическое начало динамики, становления, напора, и удержать присутствие стихии в поэтическом творчестве и чуткость к ее проявлениям в действительности для А. Блока жизненно важно. Но при этом он ясно видит, что погружение в стихию ведет к утрате творческой индивидуальности. взаимодействие Поэтому единственного поэтическое пути слово творческой рождается как индивидуальности, определяющего этот путь долга и проникающего этот путь музыкального ритма. Такая актуализация стихии, хаоса, связана, по-видимому, со свойственным переходным эпохам переживанием культурой самого процесса своего творения как бы заново – но в гораздо более сложных условиях, при четком осознании двух опасностей: с одной стороны – срыва в антикультуру, с другой стороны - уничтожения новой культуры «подавляющим обилием старого» (14, с. 26)1. В этой связи очень симптоматично, что кризис слова, то есть неудовлетворенность его наличным состоянием и поиски новых путей, Особенности трактовки категории хаоса в поэтическом и философском творчестве русских символистов анализируются нами в работе «Проблема хаоса: Ф. И. Тютчев и русские символисты»(Литературоведческий сборник.- Донецк, 2004.-вып.15-16). 1 232 проявлялся парадоксальным образом в стремлении не к будущему, а к прошедшему. Хаос настоятельно требовал силы, его заклинающей, отчего и возникают в данном культурном контексте различные концепции магического слова, отсылающие к языческому миросозерцанию. Одновременно концепция слова – имени, в которой безусловно проявился средневековый номинализм, то есть связь слова и идеи, также является реакцией на хаос, но уже совершенно иного рода. Ведь когда А. Блок, А. Белый, или Вяч. Иванов говорят о магическом слове, воздействие этого слова связывают: А. Белый - с его звуковой стороной («звуком слова я укрощаю эти стихии » (14, с.32)), Вяч. Иванов – с трансформацией одновременно и звука, и значения (с одной стороны, жрецы и волхвы «усвоили некогда словам всенародного языка особенные таинственные значения», с другой стороны, «они знали другие имена богов и демонов, людей и вещей» (66, с.183)). А. Блок – с трансформацией самого предметного мира («предметы, такие очевидные и мертвые при свете дневного разума, стали иными, засияли и затуманились»(21, т.5, с.41)). Магия, таким образом, оказывается разнонаправленным, разбалансированным процессом: концентрируя в себе воздействующую функцию слова, она так или иначе децентрализует заложенную в нем интенцию преобразования бытия. В слове-имени эта энергия и направляется на нечто единое. В данной концепции проявляется свойственная всему серебряному веку средневековая Богонаправленность. Ведь слово-имя, как мы видели, является посредником между творением и Творцом, моделирует взаимообращенность реальности жизненной и реальности сакральной. Слово-плоть проявляет тот же процесс концентрирования энергии преображения, но уже в отношении конкретной личности. Взгляд на слово как на плоть определяет необходимость воплощения личности в слово, а 233 слова – в личность, и на этой основе объединения личностей в соборное целое. Анализ данных концепций позволяет уточнить понимание особенностей слова, воплощенного в произведениях. Так, у Вяч. Иванова слово – не только «семантический контрапункт» (А.Е.Барзах), он не подменяет слово идеей, логикой, а создает единство идеи и ее звуковой и образной плоти. Что касается А. Белого, то для него принципиально важно развертывание текста как порождение новых значений, возникающих на переходах, на стыках слов. И у А. Блока основная интенция слова - не только «называние» (И.Ю.Искржицкая), но и ознаменование, то есть соединение в одном слове разных плоскостей его осмысления. Нужно сказать, что в поэтических текстах всех трех разбираемых авторов отрефлектирована проблематичность совмещения магического слова и искусства слова. Несмотря на то, что поэт называется магом, миры, им творимые, оказываются призрачными. Это и понятно, ведь магическое слово является невоплотимым пределом слова поэтического, однако именно изнутри поэтического слова яснее видятся различия между творением реальности осязаемой, вещественной, и творением реальности идеальной. В философии же серебряного века, в связи с проясняемой напряженностью соотношения между словом человека и Словом Бога возникает культ слова («Культ слова – деятельная причина нового творчества»(15, с. 134)). Культ этот возникает как реакция на кризис слова, и участие в этом культе православного священника глубоко символично. Специфика этого культа связана не только с характерной для данного культурного периода цикличностью («Созидая новое, он возвращал к старому» (15, с. 26)), но прежде всего с жаждой преображения, которая естественно возникала в ситуации неустойчивого равновесия между умиранием старого и появлением нового, разрушением и возрождением. 234 Ситуация неустойчивого равновесия, наверное, провоцирует человека каким-то способом воздействовать на нее, и естественным способом воздействия оказывается слово. Данная ситуация наиболее ясно сформулирована А.Белым: «Противодействие смерти – в культе слова. Слово-образ подобно живому человеческому существу, оно творит, влияет…»(14, с. 436); «Мы еще живы, но мы живы потому, что держимся за слова… Человечество живо, пока существует поэзия языка, поэзия языка - жива» (14, с. 448). Последнее высказывание особенно важно в контексте наших рассуждений. Переходность культуры серебряного века проявилась и в постоянно переживаемом ею состоянии на грани жизни и смерти (достаточно вспомнить речь С. Дягилева «В час итогов», статью Г. Федотова «Четырехдневный Лазарь», в которых очень явственно звучит мысль об обреченности смерти и рождении через эту смерть новой жизни культуры). Более того, это ощущение постоянно ожидаемой смерти, ощущение «стареющей культуры» парадоксальным образом связано со «страстным переживанием новых форм», с «цветущей сложностью культуры» Вяч.Иванов). Культ слова в этом плане мог быть бессознательным стремлением к удержанию и продлению такого промежуточного состояния как наиболее продуктивного для данного культурного организма. И еще один момент более частного характера. В наличии культа слова, возможно, источник той религиозной свободы, которую отмечает Н.К.Богомолов в предисловии к книге «Русская литература начала ХХ века и оккультизм»: «Сознательное выстраивание своих отношений с православием как отношений проблемных, принципиальный адогматизм даже в следовании обрядности был в высшей степени характерен для петербургского символизма и близких ему людей» (23, с. 10). Действительно, для круга символистов была актуальна не только 235 православная мистика, но и спиритизм, оккультизм, да и к традиционному православию отношение было личностное. Все явления такого рода объясняются этой культуро-творческой магией слова (уже не только поэтического). Собственно, пересечением оккультизма, спиритизма и православия в самом деле было насущно необходимое в это время стремление ощутить не мыслимое, а осязаемое воздействие слова на реальность, причем с заранее запрограммированным эффектом. И в этом стремлении к воздействию (в чем, собственно, и проблема) уравнены христианская молитва, языческий заговор и оккультное заклинание. В культе слова поэт – служитель культа, и орудия для священнодействия он выбирает и комбинирует сам из всех возможных религиозных систем на свой страх и риск, ведь магическое слово, слово-имя, слово-плоть прочно сращены с личностью и ее противостоянием хаосу. Концепции слова-имени, слова-плоти отражают способность слова связываться с чем-то находящимся вовне его (с означиваемой сущностью, с личностью). Данная способность определяет символическую природу слова, и именно поэтому все разбираемые нами авторы, говоря о словесимволе, обращаются к этимологии слова «символ» - древнегреческому «simballo» - «соединяю вместе». Что же соединяет слово-символ? Для всех разбираемых авторов, как и для всех символистов, общей является мысль о символическом феноменальным и ноуменальным слове как посреднике между миром, между миром сущностей и миром явлений. Однако данного определения явно недостаточно. Важным моментом является также представление о символическом слове как о некоторой множественности, собираемой в единство. Так, Вяч. Иванов, определяя символическое слово как ознаменование, то есть как узнавание в явлении каких-то знаменательных сущностей, приходит к выводу, что именно через слово и в слове происходит взаимообогащающее взаимодействие двух реальностей. Нечто вещное, конкретное не пассивно 236 означивается высшей реальностью, а само ищет себе ознаменования, точно так же и сущности духовные совершенно органично стремятся к проявлению, оформлению в нечто осязаемое. У А. Белого символическое слово также представляет собою многостороннюю и сложно структурированную связь. Слово-символ концентрирует в себе связи внутри слова (видимость – образ – переживание), а также связи внешние (видимость – ноумен – Лик). Лик представляет собой субъектную форму присутствия ноумена в бытии, в Лике слово-символ соприкасается с тем Словом, которое «вначале было». У А. Блока слово-символ соединяет личность со стихией, поэтому вопрос о структуре символа в его произведениях не ставится. Словосимвол воссоздает целостность мира, но таким образом, что в этой целостности присутствует и его изначальная раздельность. По А. Блоку, в слове-символе содержится множество миров, иноприродных реальному, и осознание, что они существуют, происходит именно в тот момент, когда художник-символист обращается к жизненной реальности. Именно потому путь поэта, воплощенный в поэтических произведениях, развертывается в сложных взаимоотношениях с жизненной реальностью. «Трилогия вочеловечения» представляет собой становление соединяющего разные миры творческого духа. Если в первом томе мир гармонии для поэта является естественной средой существования, а знание своего пути органично, то во втором томе перед нами не просто двоемирие, но конфликтное столкновение двух миров, обнажающее их кричащие несоответствия, и в то же время глубинную необходимость друг другу. В третьем томе рождается не просто ощущение «нераздельности и неслиянности» миров, о которой говорится во Вступлении к поэме «Возмездие», но прежде всего вырабатывается особое качество символического слова: когда в реальности проявляется неслиянность миров, оно воссоздает их нераздельность, когда же проявляется их 237 нераздельность – обнаруживает их неслиянность. Именно таким способом в уже осуществленном поэтическом слове воплощается целостность бытия и проясняется эстетическая природа этой целостности. В поэтическом творчестве Вяч. Иванова и А. Белого оказалась очень продуктивной концепция символа как ознаменования. У обоих авторов слово, выстраивающее ряд соответствий между внутренней реальностью поэта и сакральным миром, между миром феноменов и миром ноуменов, воплотилось во множественной метафоре, в развертывании сопоставительного ряда: одно явление уподобляется другому на основе общего признака - знаменуемой ими сущности. Такая конструкция наблюдается в стихотворениях «Улов», «Альпийский рог», циклах «Лира и ось», «Певец в лабиринте» Вяч. Иванова, в стихотворении «Солнце», в цикле «Закаты» А. Белого. Характерно, что эта конструкция применяется обоими авторами и тогда, когда они обращаются к чужому слову. Чужое слово также становится элементом метафорической решетки; на основе взаимоуподоблений проясняется глубинное родство воссоздаваемых культурных контекстов. Итак, слово-символ маркирует момент взаимопроникающего соединения реального с реальнейшим. Так понимаемый символизм вовсе не третирует мир явлений, конкректно – материальную данность: нет никакого «страшного контрданса соответствий» (О.Э. Мандельштам). Ведь ситуация, когда «роза кивает на девушку, девушка кивает на розу», возникает тогда, когда разрушается символистская иерархия. Характерно, что для акмеиста Н. С. Гумилева «все явления братья перед лицом небытия», он изъясняется все в тех же платоновских терминах, но сущности у него тоже своего рода явления. Логика символиста в том, что проблема преобразования жизненного хаоса здесь гораздо насущнее, и потому ознаменование, которое соединяет явления реального мира, ощущаемого как хаос, с высшей реальностью, 238 выстраивает космос художественного произведения. Взгляд акмеиста, с этой точки зрения, есть взгляд непосвященного. Однако символист в первую очередь настаивает на иерархичности бытия и на проявленности всей этой иерархии внутри слова-символа и его носителя. В этой связи именно субъектное воплощение ноумена, бесспорное для всех символистов и определяемое А.Белым как Лик, налагает на поэта бремя вынужденной божественности. Она проявлялась в постоянном обращении, причем глубоко личностном, по принципу сопричастности – к богам общепризнанным, особенно к Христу. Еще одно проявление – многократные попытки обратного движения от реальнейшего к реальному («Туда, туда, смиренней, ниже,/ Оттуда зримей мир иной…» А. Блок). В этом действительном, а не умозрительном нисхождении реальное и реальнейшее меняются местами. Статус истинности признается за тем, что раньше было мнимым (таков путь и Вяч.Иванова, и А. Блока, и А. Белого). Все три автора так или иначе воплотили самочувствие поэта в этой новой для него реальности главным образом в детальности видения феноменального мира. Мир отвлеченных сущностей и мир явлений – это разные миры, однако они, без сомнения, друг с другом связаны, и поэт должен эту связь раскрыть. Поэтому при описании феноменального мира нет мелочей, точнее, мелочи приобретают здесь барочный самодовлеющий характер. Ведь за ними – сфера несказуемого и неопределенного, они – кантовская «вещь в себе». И поэт, находясь в «страшном мире» и осознавая его именно как свою жизненную реальность, напряженно удерживает память о мире гармонии, мире сущностей. И потому все, что он встречает в этом «страшном мире», поэт воспринимает не просто как нераскрывшуюся, а именно им, «сыном гармонии», не раскрытую сущность. Как уже говорилось, все рассмотренные выше концепции символического слова исходят из присутствия в некой множественности 239 Единого. В сущности, данная закономерность сигнализирует о реальной проблематизации связей между жизненной реальностью и бытием, между личностью и всем, что находится вовне ее (то, что присутствует в концепции и настоятельно утверждается, обычно на самом деле отсутствует). Ведь изначально, в первобытном синкретизме, идеальное и материальное абсолютно неразличимы: «Когда примитивный человек поклоняется Солнцу, Луне, звездам, то, разумеется, он видит в них высшие силы и божественные существа, хотя непосредственное зрение дает ему только сумму чисто физических ощущений. Признает ли он действительность в виде символической двуплановости? Да, он ее признает, ибо если Солнце, Луна и звезды были бы для него физическими данностями, то он не стал бы им поклоняться»(93, с. 656). Здесь идеальное находится внутри материального, никаким образом не проявлено вовне и, естественно, первобытным сознанием никаким образом не отрефлектировано. Далее, по мере развития способности рефлексии, материальное и идеальное оказываются разделенными, это разделение ощущается античной мыслью как потребность, так же как и – на основе этого разделения – сопоставление и установление связей, которые постепенно оказываются все более и более глубокими. В этом плане очень симптоматичен иерархический характер платоновского миростроения (Единое – разум – душа, противопоставление идей и материи), ведь иерархия, так же как и противопоставление, и есть наиболее эффективный способ мысленного соединения. И не менее симптоматично, что если у Платона Единое выше всякой множественности, то уже у Аристотеля Единое является способом ее оформления. Постепенно неразличимыми, два противоположных идеальное пронизывает плана снова оказываются материальное. Собственно, главная проблема, которая снова и снова возникает в кризисные, 240 переходные эпохи, – проблема нахождения объективной реальности для идеального, отвлеченного. У русских символистов и близких к ним философов, в сущности, одна краеугольная идея – о взаимопроникновении идеального и материального, но на основе их внутреннего различия. При этом и в барочном, и в модернистском сознании обе эти стороны – и взаимопроникновение, и различие – поняты уже достаточно четко, на чем основана принципиальная родственность барочной эмблемы и модернистского символа, в которых происходит постоянно воплощение вещи в идею. Данной закономерностью, возможно, и объясняется возникающая у русских символистов актуализация Логоса, то есть Божественного разума, выражающего себя в своих творениях. Будучи одновременно и вершинным взаимопроникновением идеального и материального, и вершинной формой присутствия Единого во множестве, а множества – в Едином, Логос оказывается и прообразом символического слова, и его идеальной перспективой. Так, Вл. Соловьев определяет Логос как «зиждительное начало Вселенной» (159,т.2,с.371), что явно соотносится с разобранными выше концепциями магического слова, с постулируемыми русскими символистами его функциями творения. Когда же Вл. Соловьев говорит о Логосе как об «абсолютном, проявленном вовне» (159,т.2,с.258), данное определение предполагает взаимопроникновение феноменального и ноуменального, свойственное символическому слову. В философских произведениях Вяч. Иванова и А. Белого категория Логоса аккумулирует связи символического слова с бытием, познанием и творчеством. Для Вяч. Иванова, например, актуален Логос античных стоиков, относящийся к познаваемой целесообразности мира. Вяч. Иванов вносит динамику в античный Логос и соотносит его с личностью, внутри 241 которой он становится средоточием творящей жизни и основой ее единства. В осмыслении А. Белого Логос выглядит гораздо более эклектичным. Прежде всего, говоря, что «сознание становится Логосом», он актуализирует Логос стоиков, связывая же Логос с переживанием содержаний и определяя наименование содержаний «первичным актом моего творчества», он утверждает творческую природу Логоса, что свойственно орфикам. И таким образом А. Белый объединяет воззрения стоиков и орфиков и преодолевает дуализм познания и творчества. Кроме того, Логос А. Белого структурен, и в определении структуры Логоса он обращается к индийской философии. Взаимоотношения между разными Логосами А. Белый определяет как «выпадение», тем самым показывая, во-первых, конкретный, материальный характер каждого из Логосов, во-вторых, посредующую роль Логоса между идеальным и материальным, между личностью и абсолютом. Все это сводится к представлению о Логосе как об очеловеченном эйдосе, то есть о единстве идеи и образа, проникнутом личностным началом. Таким образом, слово действенно, в нем проявлено высшая духовная сила мира, слово содержит в себе предмет. Из всего этого в творчестве символистов и вообще в поэзии серебряного века складывается особое видение слова. Ж. Нива совершенно справедливо замечает: «От европейского символизма русский символизм унаследовал убеждение, что поэтический язык эпистемологическим – благодаря статусом и символу может – обладает создавать особым особый род недискурсивной речи о божественном, об абсолюте» (200, с.159). То есть, возникает возможность, оставаясь в рамках искусства, внутри поэтического языка, находиться в сфере бытия. В символизме это было верой, в постсимволизме эта вера воплощалась в творчестве. Очень характерен этот постсимволистский взгляд на символизм, который 242 проявился в приводимом ниже высказывании Б. Пастернака об А. Блоке, хотя нельзя не заметить, что Б. Пастернак говорит здесь не только об А. Блоке, но и о себе: «Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие, воздействующие следы» (125, с.428). Усвоив опыт символизма, Б. Пастернак (да и другие постсимволисты) осознают поэтическое слово в основном как границу между сферой искусства и сферой бытия. Отсюда следуют две возможности: творить реальное бытие в сфере слова или вместо слова (тогда на журнальных страницах появляются предметы), или, наоборот, создавать слова вместо бытия или как отдельное бытие, слова, не связанные с предметной данностью (футуристы). Это два предела, к которым стремится поэтическое слово и за которыми начинается его уничтожение: ведь в обоих случаях граница между словом и бытием настолько истончается, что становится практически прозрачной. В первом случае, когда возникает возможность воспринимать реальность помимо слов, - самоуничтожается слово; во втором же случае, наоборот, самоуничтожается стоящая за словом реальность (отсюда и «самовитое слово»). Обе эти закономерности базируются на чисто умозрительном переносе: слово творит мир – следовательно, слово есть мир, а мир есть слово. И потому сама материальная данность слова становится не просто носителем значения, но некоей мироустрояющей функцией. Можно сосредоточиться на самом слове, на заложенной в нем магии, можно на той реальности, которую оно творит, но симптомом кризиса является уже сама по себе эта появившаяся возможность выбирать. С другой стороны, творя предметы вместо слов или творя слова вместо предметов, поэт все равно остается в рамках искусства. 243 Итак, слово-символ – эманация Логоса; реальность, в которой оно утверждается в этом качестве, - миф. Так выстраивается триада «символ – Логос - миф», но, что характерно для логики символистов, с резким смещением хронологического порядка. Ведь в культурной реальности изначален миф, категория Логоса является уже началом рефлексии над мифологическим миросозерцанием, символ же – плод распада его синкретизма. Символисты двигаются «тропою символа к мифу», и потому в символическом слове для них актуален мифологический субстрат. Русские символисты видят в мифе прежде всего его художественное начало. Собственно, данная тенденция проявилась уже у немецких романтиков, в частности у Ф. Шеллинга, который в «Философии искусства» называет мифотворцами Шекспира и Сервантеса. Еще более явно эта тенденция проявляется у Вяч. Иванова, в чем мы убедились на основе сопоставления его характеристик мифа Диониса, мифа вообще и категории художественной формы – все они не субстанции, а энергии, приложимые к любому предмету. Собственно, и сам Дионис воспринят Вяч. Ивановым не непосредственно, а через Ницше, о чем свидетельствует его статья «Ницше и Дионис». Парадоксальным образом рациональное постижение иррационального ощущения мифологической слитности, рефлексия над инстинктом приводили объективно к столь же рациональному воссозданию состояния личности в момент творчества. У А. Белого переход от символического слова к мифу происходит в сознании творческой личности: «Когда я говорю: «Месяц – белый рог», конечно, сознанием моим я не утверждаю существование мифического животного, которого рог в виде месяца я вижу на небе, но в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением которой является метафорический образ, мною созданный»(14,с.447). 244 Именно благодаря мифом»(14,с.446). этой вере, воплощению, Следовательно, миф есть «символ становится особый взгляд на возникающие в творческом сознании образы, при котором за ними признается статус жизненной реальности и действенности. И А. Блок, определяя миф главным образом через сравнения и метафоры, по сути дела, утверждает его художественную природу и сводит его к ощущению. Миф, по А. Блоку, - способ выведения субъекта на первый план и кристаллизации в нем всеобщего. Именно в субъекте и в этом процессе кристаллизации А. Блок находит точку пересечения мифа и истории. Охудожествливая и универсализируя миф, русские символисты сводят его к реальности личностного самосознания. Именно поэтому для символистов миф становится способом осмысления жизненной реальности, из чего следует не только создание и разыгрывание индивидуальных мифов, что характерно для серебряного века, но и сочинение мифов «мэонических» (В. Эрн), мифов, не соотносимых с Логосом, что характерно для крушения данной культурной целостности. И, в сущности, уже осмысление мифа у стоиков было на самом деле рефлексией над тем, что архаическому сознанию было дано непосредственно. Движение культуры состояло в том, по-видимому, чтобы познать, то есть разъединить то, что было ранее целокупным, а потом соединить снова, но уже зная, из чего этот организм состоит. Однако неомифологизм серебряного века своеобразен тем, что все, ранее существовавшее по отдельности – мышление, переживание, «я», «ты» - не только соединяется, но и переносится в сферу сознания. Сведение же мифа к творчеству возникает, возможно, потому, что в данном культурном контексте миф претерпевает очередной этап разложения. Специфика же этого этапа состояла в том, что объективное, не зависящее от воли людей разложение мифа накладывалось на 245 субъективное и даже волюнтаристское стремление к возвращению мифологического мировоззрения, к синтезу. И это именно сознательное, почти лабораторное синтезирование мифа не могло не пойти по пути поиска в обратном направлении: поиска в тех феноменах, которые стали следствием мифа (в творчестве, в религии),– следов их причины. Такой путь сведения чего-то неосязаемого, всеобъемлющего и уже не вполне постигаемого к чему-то известному, близкому, досягаемому естественен в ситуации, когда основной предпосылкой, определяющей всякое мышление, является своеобразное двоемирие. Мир сущностей и мир явлений Платона, мир ноуменов и феноменов Канта так или иначе проблематизируют связь между единством бытия и той реальностью, которая непосредственно дана личности. В серебряном веке проблематизация этой связи доходит до упора, и миф представляется одним из элементов не данного человеку единства бытия, и последняя возможность прорваться к этому единству – углублиться в то, что дано человеческому сознанию. Логос – универсальная модель символа (выражение в творении высшей духовной силы мира), символ – след мифа в бытии, а поэтическое слово, имеющее, как мы видели, символическую природу, проявляет наличие в символе и Логоса, и мифа. Поэтическое слово в этой логике представляет собой взаимообращенность мифа, Логоса и символа, восстановление разорванных связей. Итак, символическое слово - это противостояние хаосу. Оно является посредником между миром ноуменов и феноменов и стремится проявить во всей множественности бытия некое единое первоначало, а в этом едином первоначале – всей множественности бытия. Ясно, что оно содержит и сосредотачивает в себе некий центральный момент не только искусства слова, но и искусства вообще. Но оно же является и пределом искусства, 246 поскольку стремится к преображению внесловесной реальности. Эта интенция средоточия и предела, попадания в такую точку, где искусство настолько выявляет свою сущность, что уже перестает быть самим собой, отрефлектирована в общесимволических концепциях теургии, мистерии, жизнетворчества. Не случайно они существуют в русском символизме как чистые интенции, не воплощаемые в реальность. И при том, что данные феномены у символистов и близких к ним философов в принципе достаточно подробно описаны, они присутствуют лишь как задание, не ассоциируемое с какой-либо данностью. Возможно, что символисты осознавали и принципиальную нереализуемость данных интенций, и тогда одно из важных открытий состоит в том, что далеко не все концепции должны быть воплощены в реальности. Совсем не обязательно «сказку сделать былью», и даже «Кафку сделать былью», есть такие сказки, которые, воплотившись в жизнь, оборачиваются Кафкой1. Данные концепции в серебряном веке демонстрируют прежде всего свою художественную продуктивность. Так, концепция жизнетворчества, преображения жизни в слове, реализуется в поэмах «Младенчество» Вяч. Иванова, «Первое свидание» А. Белого, «Возмездие» А. Блока. Анализ этих произведений позволяет заметить в них ряд общих черт. Все три произведения представляют собой попытку рассмотрения собственной жизни как особого рода творчества, преображение биографии в искусство. Все три произведения отмечены разной степенью автобиографизма. Кроме того, во всех трех произведениях актуализируется пушкинский «Евгений Онегин»» все они написаны четырехстопным ямбом, во всех трех герой дан на фоне исторического времени, присутствует прием каталогизации. И самое главное: во всех трех произведениях авторское «я» раздваивается на субъекта, создавшего данное произведение, и субъекта, создающего Закономерности жизнетворчества и проблемы, связанные с нарушением границы между реальностью жизни и реальностью искусства, нами исследованы в работе «Проблема жизнетворчества в культуре серебряного века» (Язык и культура.- К., 2002.- Т. IV, ч. ІІ). 1 247 данное произведение синхронно с процессом его восприятия читателем. В принципе такая объективизация, огероивание автора в логике жизнетворчества, по-видимому, играла роль среды, в которой те или иные содержания перетекают из жизни данной личности в создаваемое ею произведение. Во всяком случае, во всех трех произведениях мотив перевода автобиографии в сферу искусства связан именно с актуализацией авторапишущего и формулиируется как его задание: «Чтобы из жизни встал кромешный, / Бесцельный, безысходный храм» (А. Белый), «Вот жизни длинная минея, / Воспоминаний палимпсест… / Страстна ли песнь иль самобытна, / Или ничем не любопытна, / В том спросит некогда ответ / С перелагателя Поэт» (Вяч. Иванов), «Пусть жила жизни глубока, / Алмаз горит издалека - / Дроби, мой гневный ямб, каменья!» (А. Блок). Заметим сразу же, что у А. Блока здесь более сложная структура: в искусство претворяется не автобиография на фоне истории, как у Вяч. Иванова, а сама по себе история. С этим связан отказ от повествования от первого лица, намеченного в черновиках, и отказ от повествования о самом себе: субъект (и герой, и автор в ипостаси создающего данное произведение) растворен в потоке исторического времени, он – «один из них, один из них – и больше ничего» (И. Анненский). Процесс преображения жизни и истории в искусство порождает во всех произведениях своеобразное видение времени. В одной стороны, все события воссозданы с точки зрения их непосредственного участника, изнутри воссоздаваемого прошлого, а с другой стороны, они же видятся извне, тем, кто говорит об этих событиях с временной дистанции. У Вяч. Иванова оба эти видения накладываются друг на друга в эпизоде появления Старца (взгляд ребенка: «И, схвачен судорогой страха, / Вскричал, как тонущий…», взгляд в перспективе уже совершенной судьбы: «Напутствовал на подвиг темный / Ты волю темную мою? / Икону 248 ль кроткую свою / В душе мятежной и бездомной / Хотел навек запечатлеть…»). В поэме А. Белого, с одной стороны, присутствует дистанциированное видение прошлого как разворачивающегося во времени пути: «В пути года, как версты стали, / По ним, как некий пилигрим, / Бреду перед собой самим…». И одновременно здесь воссоздан взгляд изнутри этого прошлого: «Михал Сергеевич повернется / Ко мне из кресла цвета «бискр», / Стекло пенснэйное проснется, / Переплеснется блеском искр…». Аналогичная временная структура возникает и в «Возмездии» А. Блока: «Век девятнадцатый, железный, / Воистину жестокий век…» (панорамное видение времени с исторической дистанции), «Но в половине сентября / В тот год, смотри, как солнца много! / Куда народ валит с утра?..» (взгляд живущего внутри исторического времени и переживающего даже его крупные события в деталях). Возможность двойного видения времени, отстранения поэта от себя при неразрывности внутренних связей конституирует во всех трех произведениях особое измерение для всех происходящих событий – измерение искусства. У Вяч. Иванова и у А. Белого в связи с этим педалируется органичность явления поэзии из описываемого ими мира. Так, Вяч. Иванов пишет: «Стихи я слышу: как лопата / Железная, отважный путь / Врезая в каменную грудь, / Из недр выносит медь и злато». А. Белый прямо отождествляет себя с искусством слова: «Я – стилистичесчкий прием, языковые идиомы! / Я – хрустом тухнущая пещь, - / Пеку прием; стихи – в начинку…». У А. Блока искусство слова действительно является особым измерением воссоздаваемого мира. Так, первое, что говорится о главном герое, - «Похож на Байрона», и произносит эту фразу Ф.М. Достоевский. Чисто внешнее сходство определяет судьбу героя как судьбу романтического демонизма. Герой – Фауст и Мефистофель в одном лице, 249 при этом «в снах холодных и жестоких / Он видит «Горе от ума»». В поэме существует множество отсылок к искусству прошедшего, в которых, повидимому, концентрируется мысль о времени, истории, текущих, как река (один из лейтмотивов поэмы). В этом движении присутствуют и феномены искусства, причем в хаотической разобщенности. Они влияют на исторический поток, создавая новые жизненные формы. Именно в этом смысле, возможно, «искусство творит жизнь» (А. Белый), и результаты такого жизнетворчества непредсказуемы. Но одновременно течение жизни проясняет внутреннее родство и сущность феноменов искусства, в результате чего поэт включает себя в некую надличностную общность родственных судеб. Эта общность – и жизненная (история семьи), и поэтическая («В толпе все кто-нибудь поет…»). Только в этой множественности существует единственное «я» поэта, только в этой множественности обеспечивается его единственность – и жизненная, и творческая, и его единственная миссия трансформации истории в искусство. Таким образом символическое слово маркирует границу между внутренним миром личности и жизненной реальностью. Осуществление теургии, мистерии, жизнетворчества так или иначе привело бы к слиянию слова с одним из соединяемых им феноменов: с внутренним миром личности или с жизнью. Именно в стремлении слова с ними слиться оттеняется невозможность такого слияния. «Поэзия – религиозное действие и тайнодейственный подвиг» (66, с. 79) именно потому, что это действие заранее обреченное, результат его недостижим. И с этого момента поэтического слово становится постоянным биением о границы – этические и эстетические, эстетические и религиозные, между жизнью и бытием, между «я» и «другими». И только в этом биении поэтическое слово живет, а отдельные поэты – или разбиваются, или оказываются в пустоте (как А. Белый, до бесконечности переделывавший и ухудшавший 250 свои ранние стихи), или проваливаются в молчание (многолетнее молчание Вяч. Иванова, предсмертное молчание А. Блока). Но в биении об эти границы в серебряном веке, по-видимому, вырабатывалась особая духовная пластика. Наиболее четко она проявилась в актуализируемых в данном культурном контексте библейских архетипах: «свет сквозь тьму», «радость через страдание», «не воскреснет, аще не умрет». Общее во всех этих трех утверждениях – не просто единение противоположностей, но прояснение их взаимной обусловленности и возможности нахождения такой точки в бытии, где они между собой продуктивно взаимодействуют. Эта именно пластика, потому что эта точка находится в напряженном движении творческого духа, и она, по сути, явилась единственным, но существенным положительным следствием того нарушения границ, о котором мы неоднократно говорили. Концепции слова, воплощенные в поэтических и философских произведениях Вяч. Иванова, А. Белого, А. Блока, могут быть поняты как три источника тех полярностей, которые возникли в современном изучении поэтического слова. Все они исходили из онтологической природы слова, однако осмысливали ее по-разному. В наиболее чистом виде эта онтологическая природа была пережита А. Блоком в плане самочувствия художника, который в процессе творчества ощущает, что творит бытие, результатом же оказывается эстетическая реальность. И она не есть бытие и не есть жизнь, а есть нечто автономное, хотя и связанное с ними и перед ними ответственное. А. Белый в своем осмыслении слова проходит своеобразный путь от слова-имени к слову-знаку. Конечно, слово он знаком не называет, однако он, концепируя слово магическое, то есть действующее, единственный из символистов воспринимает его не синтетически, а аналитически: он делит слово на понятие, звукообраз, внутреннюю форму, а Логос – прообраз слова - определяет как структурную множественность. Кроме того, говоря 251 о символическом слове как воплощении иерархии Ликов, А. Белый вводит понятие эмблемы, которое уже явно соотносится со знаком: «Эмблема, то есть схема, оказывается основой классификации понятий условных, действительных и аллегорических. Все три группы суть понятия эмблематические» (14, с. 92). И та всеохватная и гибкая система символизации, о которой мы говорили, по сути дела, проблематизирует связь между словом и бытийной, жизненной и другими реальностями, делает эту связь настолько иерархизированной и труднопостижимой, что ее уже можно назвать условной. Что касается Вяч. Иванова, то его осмысление поэтического слова в принципе родственно концепции диалога М.М.Бахтина, что уже отмечалось исследователями. Так, Л.А. Гоготишвили в комментариях к статье «К философии поступка» пишет: «Ивановский персонализм остро развивался в тех же его двух антиномичных формах, которые по-особому совмещены в «Философии поступка»: тезис о неправоте отвлечения от персонального Я совмещался Вяч. Ивановым с темой поиска выхода из тупика солипсизма» (50,с.392). Точка пересечения здесь – взаимообусловленность онтологической укорененности Я и Другого, на основе которой только и возможно диалогическое слово как момент встречи их нетождественных содержаний. Доказательство тому – явная перекличка М.М. Бахтина и Вяч. Иванова: «Быть – значит быть для другого и через него – для себя. У человека нет внутренне суверенной территории, он смотрит в глаза другого или глазами другого» (9, с. 312); «При условии этой полноты утверждения чужого бытия, полноты, как бы исчерпывающей все содержание моего собственного бытия, чужое бытие перестает быть для меня чужим, «ты» становится для меня другим обозначением моего субъекта» (66, с. 295). Эта онтологизация Другого в обоих случаях определяет ответный характер герменевтики (у М.М.Бахтина «понимание вызревает в ответе», это утверждение явно 252 корреспондирует с ивановской мыслью о поэзии как «со - общении», которое пробуждает «в чужой душе аналогичное созидательное движение» (66,с.231)). В эстетическом же преломлении данной проблематики и М.М.Бахтин, и Вяч. Иванов актуализируют категорию воспринимающего субъекта, слушателя как незаменимого участника диалога: «Итак, нас, символистов, нет, - если нет слушателей символистов. Ибо символизм – не творческое действие только, но и творческое взаимодействие, не только художественная объективация творческого субъекта, но и творческая субъективация художественного объекта» (66,с.195); «Нет ничего пагубнее для эстетики, как игнорирование самостоятельной роли слушателя… У него свое, незаместимое место в событии художественного творчества; он должен занимать особую, и при том двустороннюю позицию в нем: по отношению к автору и по отношению к герою, - и эта позиция определяет стиль высказывания»(42,с.263). Обратим внимание на различия: Вяч. Иванов говорит о слушателе как сотворце произведения (авторусимволисту соответствует слушатель-символист, эта фигура, аналогичная авторской, переживающая то же, что и он, но в другой плоскости), у М.М.Бахтина эта фигура явно автономизируется, и именно эта слова для автономизация обеспечивает ее посредническую миссию. В принципе, ивановская концепция поэтического М.М.Бахтина – предмет рефлексии и трансформации. В осмыслении поэтического слова Вяч. Ивановым присутствует такое гибкое сочленение слова с сопредельными категориями (мифом, символом, языком и т.д.), что насущной становилась необходимость спецификации, вычленения с целью прояснения природы слова именно в его эстетическом бытии. Возможно, именно поэтому в дальнейшем изучение поэтического слова приобрело уже отмеченный нами полярный характер. Основные из отмеченных нами полярностей следующие. Осмысление слова как проявления бытия (А.Ф. Лосев, М. Хайдеггер) или отдельной сферы бытия 253 (Г.О.Винокур, Д.К.Рэнсом) противостоит изучению слова как знака, письма, чтения (В.В.Виноградов, Ю.М.Лотман, Ж.Женетт, Р.Барт). Эта противоположность снимается в концепции слова как высказывания, участвующего в диалоге, М.М.Бахтина. Отсюда вытекают столь же разнонаправленные трактовки феномена художественности: множественность кодов (Ю.М.Лотман), субъективное конструирование смысла (В.П.Григорьев) - с одной стороны, с другой стороны - раскрытие бытия сущего (М.Хайдеггер), смыслообразующее созидание индивидуального творческого мира (Г.О. Винокур), акцентированный персонализм (М.М.Бахтин). Еще раз подчеркнем, что в работах младших символистов о поэтическом слове все эти моменты в свернутом виде уже содержались. Это значит, что в перспективе современных полярностей данные концепции можно представить как опыт преодоления онтологических, гносеологических, смысловых и ценностных разрывов. И прежде всего он дает возможность прояснить оптимальное соотношение философии и поэзии как самостоятельных, но обращенных друг к другу форм: в них осуществляется стремление к цельности жизни и ее осмысления. Одновременно анализ современных теоретических исканий дает возможность прочтения произведений младших символистов не только в их современной, содержательности. 254 но и превышающей любую современность ЛИТЕРАТУРА 1. Аверинцев С.С. Вяч. Иванов и русская литературная традиция // Связь времен. Проблема преемственности в русской литературе конца XIX – начала ХХ в.. – М., 1992. – С.298-312. 2. Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вяч. Иванова // Контекст. - М., 1989. – С.42 – 57. 3. Аймермахер К. Литература, культура и семиотика с типологической точки зрения. (Вклад Андрея Белого в литературоведение) // Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. – М., 1998. – С. 250 – 259. 4. Барзах А.Е. Материя смысла // Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Книга I. – СПб., 1995. – С.7-21. 5. Баран Г. К типологии русского модернизма: Иванов, Ремизов, Хлебников // Баран Г. Поэтика русской литературы начала ХХ века. – М., 1993.- С.191 – 210. 6. Барт Р. Избранные работы. Семиотика и поэтика. – М.,1989. – 616с. 7. Барт Р. Критика и истина // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX веков. – М.,1987. – С.349 – 386. 8. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX веков. – М.,1987. – С.387 – 423. 9. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – 424с. 10. Бахтин М. М Вопросы литературы и эстетики. – М., 1976. – 504с. 11. Бахтин М. М. Сочинения: В 7 тт., Т.1 –М.,2003.- 956с., Т.2 – М.,2000.- 800с., Т. 5 – М.,1996. – 732с., Т.6 – М.,2002. – 800с. 12. Белецкий А.И. Проблема синтеза в литературоведении // Белецкий А.И. Украинская советская литература. Теория литературы. – К., 1966. – Т.3.- С.525 – 526. 13. Белый А. Начало века. – М., 1990. – 526с. 14. Белый А. Символизм. Книга статей. – М., 1910. – 633с. 15. Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. – 525с. 16. Бергсон А. Творческая эволюция. – М.,1998. - 382с. 17. Бердяев Н. Самопознание. – М., 1991. – 446с. 18. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 тт.. – М., 1994. – Т.1. 544с. 255 19. Бердяев Н. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. – М., 1916. – 146с. 20. Бибихин В.В. Орфей безумного века. Андрей Белый на Западе // Андрей Белый. Проблемы творчества. – М.,1988. – С.502 – 520. 21. Блок А. Собрание сочинений: В 8 тт. – М.-Л., 1960-1963. 22. Богатырева Е.А. Драмы диалогизма. М.М.Бахтин и художественная культура ХХ века. – М., 1996. – 136с. 23. Богомолов Н.К. Русская литература ХХ века и оккультизм. – М., 1990. – 560с. 24. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – М., 2001. – 320с. 25. Бройтман С.Н. Из лекций по исторической поэтике: слово и образ. – М., 2001. – 66с. 26. Бройтман С.Н. Образные языки в поэтике Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов. Творчество и судьба. – М., 2002. – С.88 – 96. 27. Бройтман С.Н. Стихотворение А. Белого «Мне грустно… Подожди… Рояль…» и русская поэтическая традиция ( к вопросу о «неклассическом» типе художественной целостности) // Андрей Белый. Публикации. Исследования. – М.,2002. – С.228 – 334. 28. Брюсов В.Я. Ключи тайн // Брюсов В.Я. Собрание сочинений. В 7 тт. – М., 1975. – Т.6. - С.78 – 93. 29. Булгаков С. Сны Геи // Булгаков С. Тихие думы. Из статей 1911-1915. – М., 1918. 30. Булгаков С. Православие. – М., 1991. – 413с. 31. Булгаков С. Философия Имени. – СПб., 1998. – 446с. 32. Бугаева К.Н. Воспоминания об Андрее Белом. – СПб., 2001. – 447с. 33. Бураго С.Б. Мелодия стиха. (Мир. Человек. Язык. Поэзия). – К.,1999. – 350с. 34. Бураго С.Б. Человек, язык, культура: становление смысла // Язык и культура. – К., 1992. - С.3 – 10. 35. Бураго С.Б. Александр Блок. Очерк жизни и творчества. – М.,1981. – 236с. 36. Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. – М., 1976. – 508с. 37. Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. – М.,1980. – 358с. 38. Виноградов В.В. Язык художественного произведения// Вопросы языкознания, 1954. - № 5. - С.3 – 26. 39. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М.,1991. – 448С. 40. Волошин М. Поэзия и революция // Россия распятая. – М., 1992. 41. Волошин М. Лики творчества. – Л., 1988. – 848с. 42. Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии// Звезда,1926. - №6. – С.244 – 267. 256 43. Гаврюшин Н.К. Самопознание как таинство. Заметки о русской религиозной антропологии // Вопросы философии, 1996. – №5. – С.142-149. 44. Гадамер Г. – Г. Философия и герменевтика // Гадамер Г. – Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. – С.9 – 15. 45. Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского модернизма //Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. – М.,1992. – С.244 – 263. 46. Гаспаров М.Л. Поэтика серебряного века // Русская поэзия серебряного века. 1890 – 1917. – М.,1993. – С. 5 – 46. 47. Гей Н.К. Категории художественности и метахудожественности в литературе // Литературоведение как проблема. – М.,2001. – С.280 – 301. 48. Гей Н.К. Имя в русском космосе Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. – М., 1996. – С. 192 – 208. 49. Гиршман М.М Литературное произведение: теория художественной целостности. – М., 2002. – 528с. 50. Гоготишвили Л.А. Комментарий к статье «К философии поступка» // Бахтин М.М. Сочинения: В 7 тт.. – М.,2003. – Т.1.- С.351 – 492. 51. Гофман В. Язык символистов // Литературное наследство. – М., 1937. – Т.27-28.С.54 – 105. 52. Григорьев В.П. Поэтика слова. – М., 1979. – 342с. 53. Громов М.Н. Софийные мотивы в творчестве Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов. Творчество и судьба. - М.,2002. – С.25 – 30. 54. Гуковский Г.А. К вопросу о творческом методе А. Блока // Александр Блок. Новые исследования и материалы. – М., 1980. – С.63-85. 55. Гундорова Т.І. Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація. Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. докт. філол.. наук. – К.,1996. - 37с. 56. Гундорова Т.І. Проявлення слова. Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997. - 257с. 57. Делез Ж. Логика смысла. – Екатеринбург, 1998. - 480с. 58. Дильтей В. Сила поэтического воображения. Начала поэтики // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX веков. – М., 1987. – С.135 – 143. 59. Долгополов Л.К. Роман А.Белого «Петербург» // Белый А. Петербург. – М., 1981. – С.525-624. 60. Долгополов Л.К. Александр Блок: личность и творчество. – Л., 1980. – 225с. 257 61. Донецкий А. «…И пьяницы с глазами кроликов» ( к вопросу о деструктивных интенциях в тексте русских символистов) //Александр Блок и мировая культура. – Великий Новгород, 2000. – С.36 – 40. 62. Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. – М.,1989. – 174с. 63. Женетт Ж. Фигуры: В 2 тт.. – М., 2003. - Т.2. - 472с. 64. Зубарев Л. Метаморфозы теории «хорового действа» Вяч. Иванова после революции // Русская филология. – Тарту, 1998. - №9 . – с.140 – 149. 65. Иванюк Б.П. Целостный анализ стихотворения. – Черновцы,1992. – 28с. 66. Иванов Вяч. Родное и вселенское. – М., 1994. – 428с. 67. Иванов Вяч. Вс. О воздействии «эстетического эксперимента» А. Белого //Андрей Белый. Проблемы творчества. – М.,1988. – С.338 – 367. 68. Искржицкая И.Ю. Культурологический аспект литературы русского символизма. – М., 1997. – 224с. 69. Исаев С.Г. Поэтика и семиотика «взрыва» в прозе А. Блока //Александр Блок и мировая культура. – Великий Новгород, 2000. – С.133 – 141. 70. Исупов К.Г. Философия и литература «серебряного века» (сближения и перекрестки) // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Книга I. – М., 2000. – С.69-131. 71. Исупов К.Г. Историзм Блока и символистская мифология истории // Александр Блок. Исследования и материалы. – М., 1991. – С.4-15. 72. Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. – Л., 1982. – 176с. 73. Кант И. Сочинения: В 2тт. – М., 1949. – Т.2. - 526с. 74. Касаткина Т.А. Слово, творящее реальность, и категория художественности // Литературоведение как проблема. – М.,2001. – С.302 – 346. 75. Келдыш В.А. Русская литература серебряного века как сложная целостность // Русская литература рубежа веков (1890 –е - начало 1920-х годов). Книга I – М., 2000. – С.13 – 68. 76. Клинг О.А. Проблема «текста» в современном литературоведении («берлинский текст» Андрея Белого) // Научные доклады филологического факультета МГУ. – М., 2000. – вып.4. – С.132 – 146. 77. Клинг О.А. О ремизовском куске ветчины и о многом другом в осмыслении культуры начала ХХ века // Новое литературное обозрение.- М., 2004. - №4. – С.320 – 330. 258 78. Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века. – М., 1996. – 252с. 79. Кожевникова Н. А. Тропы в стихах Андрея Белого // Андрей Белый. Публикации. Исследования. – М.,2002. – С.183 – 201. 80. Колобаева Л.А. Русский символизм. – М., 2000. – 296с. 81. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX – ХХ веков. – М.,1990. – 333с. 82. Кондаков И.В. «Вертикаль» и «горизонталь» в культурософии Вяч. Иванова //Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. – М.,1996. – с.262 – 273. 83. Корецкая И.В. Символизм //Русская литература рубежа веков ( 1890-е – начало 1920-х годов). Книга I – М., 2000. – С.688 – 732. 84. Корецкая И.В. Андрей Белый : «корни» и «крылья» //Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. – М.,1992. – С.225 – 243. 85. Косиков Г.К. Постструктуралистская стратегия Р.Барта. О книге «S/Z»// Наука о литературе в ХХ веке. История, методология, литературный процесс. – М.,2001. – С.124 – 148. 86. Костенко Н.В. Українське віршування ХХ сторіччя. – К.,1993. – 230с. 87. Кузнецов В.А. „Иератический язык” Вяч. Иванова: литературные истоки // Ars philologiae. – СПб., 1997. – С. 288 – 311. 88. Кузнецова О.А., Герасимов Ю.К., Обатнин Г.В. Вячеслав Иванов // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Книга I. – М., 2000. – С.190-263. 89. Кумпан К.А. Заметки об источниках «Поэзии заговоров и заклинаний» // Мир А. Блока. Блоковский сборник. – Тарту, 1985. – С.33-46. 90. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. –Л.,1974. – 288с. 91. Лозович Т.К. Блок и Вагнер: созвучия // Александр Блок и мировая культура. – Великий Новгород, 2000. – С.224-236. 92. Лосев А.Ф. Проблема символа в реалистическом искусстве. – М., 1976. – 367с. 93. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. – М., 1979. – 815с. 94. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М., 1982. – 470с. 95. Лосев А.Ф.Логика символа // Контекст – 1972. – М.,1972. –С.182 – 218. 96. Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М., 1990. – С.11 – 192. 259 97. Лотман Ю.М. Поэтическое косноязычие А.Белого // Андрей Белый. Проблемы творчества. – М., 1988. – С.437-444. 98. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – М.,1996. – 446с. 99. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.,1970. – 384с. 100. Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3тт.. – Таллин,1992. – Т.1.- 480с. 101. Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. – М., 1997. – 224с. 102. Максимов Д.Е. Поэзия и проза А. Блока. – Л.,1981. – 552с. 103. Максимов Д.Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока // Блоковский сборник III. – Тарту,1979. – С.3 – 34. 104. Микушевич В.Б. Инобытие и форма в эстетике позднего Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. – М., 1996. – С.305-319. 105. Микушевич В.Б. Софиократия по Вяч. Иванову // Вячеслав Иванов. Творчество и судьба. – М., 2002. – С. 19 – 24. 106. Минц З .Г. А. Блок и русский символизм // Александр Блок. Новые материалы и исследования. – М., 1980. – С.98-173. 107. Минц З .Г. Цикл А. Блока «Распутья» // Мир А. Блока. Блоковский сборник. – Тарту, 1985. – С.3-19. 108. Минц З .Г. Лирика Александра Блока. – Тарту, 1969 – 1975, вып. I- IV. 109. Минц З .Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Блоковский сборник. – Тарту. 1979. – вып.III.- C.76 – 120. 110. Минц З .Г. Структура «художественного пространства» в лирике А. Блока // Ученые записки Тартуского университета. – Тарту,1970. - вып.251.- С.203 – 293. 111. Минц З .Г. Символ у Блока // В мире Блока. – М., 1981. – С.172 – 208. 112. Минц З. Г.В.смысловом пространстве «Балаганчика» // Ученые записки Тартуского университета. – Тарту, 1986. – вып.720.- С.44 – 53. 113. Минц З .Г. Об эволюции русского символизма //Ученые записки Тартуского университета. - Тарту, 1986. – вып. 735. - С.7 – 24. 114. Минц З .Г. К изучению периода «кризиса символизма» (1907 – 1911) // Ученые записки Тартуского университета. – Тарту, 1990. – вып.881.- С.3 – 20. 115. Минц З .Г., Обатнин Г.В. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч. Иванова // Ученые записки Тартуского университета. – Тарту. 1988. –вып.831.- С.59 – 65. 116. Михайлов А.Н. Несколько тезисов о теории литературы // Литературоведение как проблема. – М., 2001. – С. 224 – 282. 260 117. Мурьянов М. Символика розы в поэзии Блока // Вопросы литературы. – М., 1998. – вып. 6. – С. 98 – 128. 118. На рубеже XIX и ХХ веков: из истории международных связей русской литературы. – Л.,1991. – 323с. 119. Неженец Н.И. Русские символисты. – М., 1992. – 62с. 120. Непомнящий В. О горизонтах познания и глубинах сочувствия // Литературоведение как проблема. – М.,2001. – С.524 – 571. 121. Нефедьев Г.В. Русский символизм и розенкрейцерство //Новое литературное обозрение. – М.,2001. - №5. - С.234 – 271. 122. Нефедьев Г.В. Русский символизм и розенкрейцерство //Новое литературное обозрение. – М., 2002. -№4. –С.149 – 179. 123. Пайман А. Творчество А. Блока в оценке русских религиозных мыслителей 2030-х годов // Блоковский сборник XII . – Тарту, 1993. –С.54 – 71. 124. Паперный Б. Поэтика русского символизма: персонологический аспект // Андрей Белый. Публикации. Исследования. – М.,2002. – С.152 – 168. 125. Пастернак Б.Л. Люди и положения // Пастернак Б.М. Воздушные пути. – М., 1983. – С.413 – 470. 126. Полякова С.В. Два этюда о творчестве А. Белого // Блоковский сборник XII . – Тарту, 1993. – С.110 – 123. 127. Приходько И.С. Мифопоэтика А. Блока. – Владимир, 1994. -134с. 128. Проскурина В. «Cor ardens»: смысл заглавия и эзотерическая традиция // Новое литературное обозрение. – М.,2002. -№4. –С.196 – 214. 129. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – 614с. 130. Рэнсом Д.К. «Новая критика» // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – ХХ веков. – М.,1987. –С.177 - 194. 131. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Проблема «жизнетворчества». – Воронеж, 1991. -316с. 132. Свенцицкая Э.М. Поэт и время в «Поэме без героя» А. Ахматовой // Питання літературознавства. Науковий збірник. - Львів, 1993. - вип. І.- С.64 -72. 133. Свенцицкая Э.М. Художественный мир «Конармии» И. Бабеля // Критика. Драматургия. Театр. Сборник научных статей. - Харьков, 1999. – С.39 – 46. 134. Свенцицкая Э.М. «Песни западных славян» как художественное единство // Литературоведческий сборник. - Донецк, 2000. - вып. 10.- С.90 – 99. 261 135. Свенцицкая Э.М. Судьба слова в поэзии А. Ахматовой // Язык и культура. Киев, 2000. - Т. ІІІ.- вып. I.-С.239 – 245. 136. Свенцицкая Э.М. Поэтический мир цикла «Семисвечник» А.Ахматовой // Литературоведческий сборник. - Донецк, 2001. - вып. 11.- С.187 – 190. 137. Свенцицкая Э.М. Слово в русской поэзии рубежа веков (на примере творчества И. Анненского и О.Мандельштама) // Античність – Сучасність (Питання філології). Збірник наукових праць. - Донецьк, 2001. - вип. І.- С.78 – 95. 138. Свенцицкая Э.М. Проблема слова в лирике Вяч. Иванова // Литературоведческий сборник. - Донецк, 2001. - вип. 7-8.- С.79 – 87. 139. Свенцицкая Э.М. Миф и символ в творчестве Вяч. Иванова // Литературоведческий сборник.- Донецк, 2002. - вып. 11.-С.132 – 139. 140. Свенцицкая Э.М. Проблема слова в творчестве Вяч. Иванова // Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки.- Донецк, 2002. - вып. 1.С. 7 – 13. 141. Свенцицкая Э.М. Слово-символ в творчестве А. Белого // Литературоведческий сборник. - Донецк, 2003. - вып. 13.-С.82 – 100. 142. Свенцицкая Э.М. Символ, миф, мистерия в творчестве А. Белого // Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки.- Донецк, 2003. - вып. 3.С.7 – 17. 143. Свенцицкая Э.М. Слово в русской литературе рубежа XIX-XX вв. (на примере творчества И. Анненского, О. Мандельштама, А. Ремизова) // Русская литература. Исследования. - К., 2003. - вып. IV.- С.21 – 32. 144. Свенцицкая Э.М. Личность и слово в творчестве Вяч. Иванова // Язык и культура. - К., 2002. - Т. IV.- ч. II.- С.106 – 113. 145. Свенцицкая Э.М. Проблема жизнетворчества в культуре серебряного века // Язык и культура. - К., 2002. - Т. IV.- ч. II.- С.305 – 311. 146. Свенцицкая Э.М. Фонтанный дом в «Поэме без героя» // Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки. - Донецк, 2002. - вып. 2.- С.19 -23. 147. Свенцицкая Э.М. Магическое слово в творчестве А. Блока // Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки. - Донецк, 2004. - вып. 1.- С.15 -24. 148. Свенцицкая Э.М. Проблема хаоса: Ф. Тютчев и русские символисты // Литературоведческий сборник. - Донецк, 2004. - вып. 15-16.- С.212 – 232. 262 149. Свенцицкая Э.М. Проблема слова в литературе серебряного века (на примере творчества Вяч. Иванова, А. Белого, А. Блока) // Литературоведческий сборник. Донецк, 2004. - вып. 14.- С.116 – 132. 150. Свенцицкая Э.М. Символическое слово в творчестве А. Блока // Вестник Донецкого университета. Серия Б. Гуманитарные науки. – Донецк, 2004. - вып. 2.- С. 151. Свенцицкая Э.М. Проблема слова в трудах Р. Барта // Литературоведческий сборник ( в печати). 152. Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. –М., 1992. – 376с. 153. Силард Л. Андрей Белый // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М., 2001. – С.144 – 189. 154. Скатов Н. Н. «Некрасовская» книга А. Белого // Андрей Белый. Проблемы творчества. – М.,1988. –С. 151 – 193. 155. Сквозников В. Д. А. Блок и русское поэтическое наследие (заметки к теме) // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. – М., 1992. – С.280 – 297. 156. Сковорода Г. С. Полное собрание сочинений. В 2 тт.. – К., 1973. – Т.1.- 531с. 157. Слободнюк С. М. Богоборческие искания Серебряного века:скрытые реминисценции А. Блока в «Пирамиде» Л. Леонова // Наука о литературе в ХХ веке. История, методология, литературный процесс. – М., 2001. –С. 235 – 254. 158. Соловьев Вл. Сочинения: В 2 тт.. – М., 1988. 159. Соловьев Вл. Сочинения: В 10 тт.. – СПб., 1911-1914. 160. Соловьев Вл. Россия и Вселенская церковь. – Минск, 1944.- 1600с. 161. Спивак Р. С. Александр Блок. Философская лирика 1910-х годов. –Пермь, 1978. 145с. 162. Сугай Л. «…И блещущие чертит арабески» // Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. – С.3 – 16. 163. Тагер Е. Б. Мотивы «возмездия» и «страшного мира» в лирике А. Блока // Александр Блок. Новые материалы и исследования. – М., 1980. – С.85-98. 164. Ткаченко А. О. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К., 2003. – 448с. 165. Толмачев В.Н. Саламандра в огне // Иванов Вяч. Родное и вселенское. – М., 1994. – С.3-25. 263 166. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семиотика и структура. – М., 1983. – С.227 – 284. 167. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Трубецкой Е.Н. Избранное. – М., 1995. –С. 7 – 299. 168. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.,1977. – 572с. 169. Тюпа В. Аналитика художественного. – М.,2001. – 192с. 170. Уварова Е. В. Символизм А.Белого и западная философия//Отечественная философия : русская, российская, всемирная. – Нижний Новгород, 1998. – С.158 – 162. 171. Федотов Г.П. Борьба за искусство // Федотов Г.П. Защита России. – Париж, 1988. 172. Флоренский П.А. Имеславие как философская предпосылка // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990, – Т. 2.- С.281 – 338. 173. Флоренский ПА. Иконостас. – М., 2003. – 203с. 174. Флоренский П.А. Общечеловеческие корни идеализма // Богословский вестник. – 1909. – №4. 175. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины (II). – М., 1990. – 838с. 176. Флоренский П.А. Строение слова // Контекст . – М., 1973. – С.348 – 375. 177. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. – М., 1996. – 332с. 178. Фещенко-Такович В.В. «Миф о слове»: языковой эксперимент в творчестве А.Белого (1910-1930-е гг.) // Язык и искусство: динамический авангард наших дней. – М., 2002. – С. 89 – 148. 179. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – ХХ веков. – М., 1987. – С. 264 – 313. 180. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. – 447с. 181. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1995. – 192с. 182. Хансен – Леве А. К типологии возвышенного в русском символизме // Блоковский сборник. – Тарту, 1993. – вып.XII.- с. 29 – 53. 183. Хмельницкая Т. Литературное рождение А. Белого. Вторая Драматическая Симфония // Андрей Белый. Проблемы творчества. – М., 1988. – С. 103 – 131. 184. Цимборская – Лебода М. Эрос в творчестве Вяч. Иванова. – Люблин, 2002. – 224с. 185. Чередниченко И. Структурно – семиотический метод тартуской школы. – СПб., 2001. – 200с. 264 186. Чистякова Э.И. О символизме Андрея Белого // Вестник Московского университета. Серия « Философия». – М.,1978. - №3. – С.39 – 48. 187. Чубаров И. Символ, эффект и мазохизм. Образы революции у А. Белого и А. Блока // Новое литературное обозрение. – М.,2004. - №1. – С.131 – 148. 188. Чживон Ча. Эстетическая позиция А. Блока и полемика 1910 года о кризисе символизма // Русская литература. – 2004. - №3. – С.41 – 54. 189. Шишкин А.Б. «Пылающее сердце» в поэзии Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. – М., 1996. – С.333-353. 190. Шпет Г.Г. Сочинения. – М., 1989. – 601с. 191. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: этюды и вариации на темы Гумбольдта. – М., 2003. – 217с. 192. Эрн В. Борьба за Логос // Эрн В. Сочинения. – М., 1991. – С. 11 – 296. 193. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против. – М., 1975. – С.193 – 230. 194. Carlson M. The conquest of chaos. Esoteric philosophy and the development of Andrey Bely’s theory of Symbolism as a world view (1901-1910). – Indiana university, 1981. 195. Elsworth D. Andrey Bely: a critical study of the novels Cambridge. – London, 1983. 196. Janechec D. Andrey Bely. A critical revew. The university press of the Kentucky. – 1978. 197. Humboldt W. Won Gesammeltewerke. Bd I-V. – Berlin 1848. 198. Lotze H. Microcosmus. – Leipzig, Bd. 1-2, 1856-1857. 199. Micraud F. “Peterburg” oder die Ende einer Flucht. – “Sing and Form”. – Berlin, 1982. – 34 Jg., №4. 200. Nivat Georges. Vers la findu mythe russe. – Lausanne, 1982. 201. Siclari Angela Dioletta. Etica e cultura nel cimbolisto di Andrey Belyj. – Parma Zaza, 1986. 265