Тело и телесность: психологический анализ
advertisement
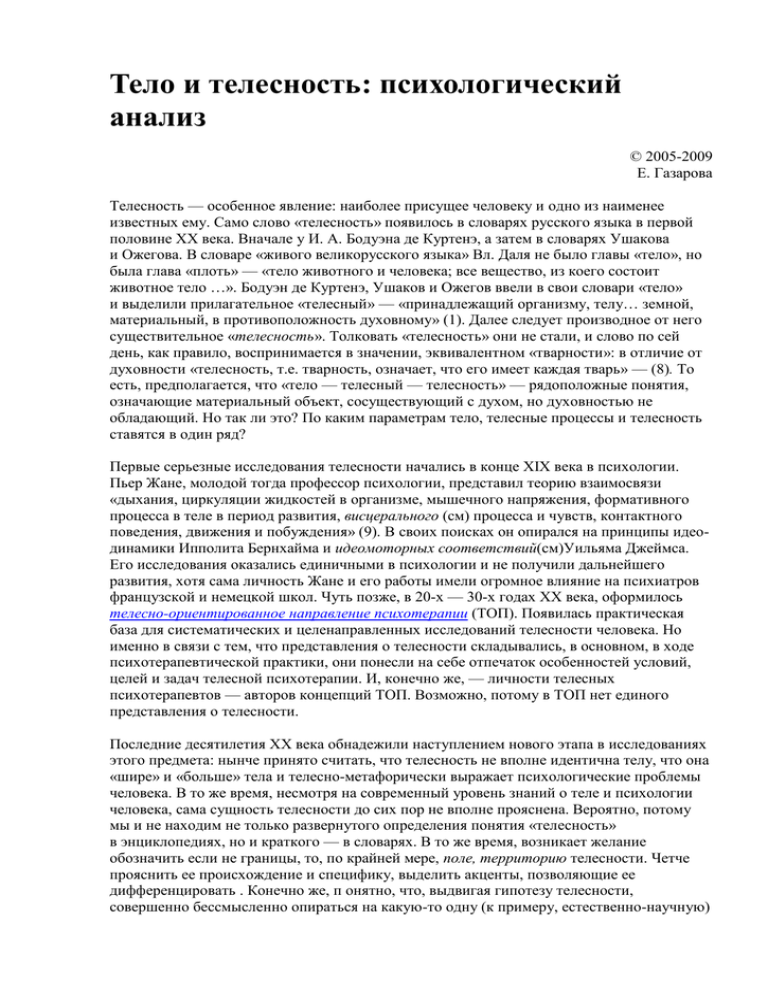
Тело и телесность: психологический анализ © 2005-2009 Е. Газарова Телесность — особенное явление: наиболее присущее человеку и одно из наименее известных ему. Само слово «телесность» появилось в словарях русского языка в первой половине XX века. Вначале у И. А. Бодуэна де Куртенэ, а затем в словарях Ушакова и Ожегова. В словаре «живого великорусского языка» Вл. Даля не было главы «тело», но была глава «плоть» — «тело животного и человека; все вещество, из коего состоит животное тело …». Бодуэн де Куртенэ, Ушаков и Ожегов ввели в свои словари «тело» и выделили прилагательное «телесный» — «принадлежащий организму, телу… земной, материальный, в противоположность духовному» (1). Далее следует производное от него существительное «телесность». Толковать «телесность» они не стали, и слово по сей день, как правило, воспринимается в значении, эквивалентном «тварности»: в отличие от духовности «телесность, т.е. тварность, означает, что его имеет каждая тварь» — (8). То есть, предполагается, что «тело — телесный — телесность» — рядоположные понятия, означающие материальный объект, сосуществующий с духом, но духовностью не обладающий. Но так ли это? По каким параметрам тело, телесные процессы и телесность ставятся в один ряд? Первые серьезные исследования телесности начались в конце XIX века в психологии. Пьер Жане, молодой тогда профессор психологии, представил теорию взаимосвязи «дыхания, циркуляции жидкостей в организме, мышечного напряжения, формативного процесса в теле в период развития, висцерального (см) процесса и чувств, контактного поведения, движения и побуждения» (9). В своих поисках он опирался на принципы идеодинамики Ипполита Бернхайма и идеомоторных соответствий(см)Уильяма Джеймса. Его исследования оказались единичными в психологии и не получили дальнейшего развития, хотя сама личность Жане и его работы имели огромное влияние на психиатров французской и немецкой школ. Чуть позже, в 20-х — 30-х годах ХХ века, оформилось телесно-ориентированное направление психотерапии (ТОП). Появилась практическая база для систематических и целенаправленных исследований телесности человека. Но именно в связи с тем, что представления о телесности складывались, в основном, в ходе психотерапевтической практики, они понесли на себе отпечаток особенностей условий, целей и задач телесной психотерапии. И, конечно же, — личности телесных психотерапевтов — авторов концепций ТОП. Возможно, потому в ТОП нет единого представления о телесности. Последние десятилетия XX века обнадежили наступлением нового этапа в исследованиях этого предмета: нынче принято считать, что телесность не вполне идентична телу, что она «шире» и «больше» тела и телесно-метафорически выражает психологические проблемы человека. В то же время, несмотря на современный уровень знаний о теле и психологии человека, сама сущность телесности до сих пор не вполне прояснена. Вероятно, потому мы и не находим не только развернутого определения понятия «телесность» в энциклопедиях, но и краткого — в словарях. В то же время, возникает желание обозначить если не границы, то, по крайней мере, поле, территорию телесности. Четче прояснить ее происхождение и специфику, выделить акценты, позволяющие ее дифференцировать . Конечно же, п онятно, что, выдвигая гипотезу телесности, совершенно бессмысленно опираться на какую-то одну (к примеру, естественно-научную) область знания о человеке или группу родственных областей. Полнокровная гипотеза телесности, по моему глубокому убеждению, может быть проверена опытом только на базе междисциплинарных исследований, объединенных одной концепцией. Я в этой статье предлагаю аналитический вариант концепции подобного исследования. Опираясь на объективные и субъективные данные разных наук и областей человековедения, нисколько не впадаю в иллюзию легкой осуществимости такого мероприятия. Итак, я предполагаю, что: 1) телесность является особым «продуктом» взаимодействия тела и духа; 2) это — видимая и переживаемая часть души; 3) телесность формируется с момента зачатия до смерти; 4) механизмы образования и «состав» телесности чрезвычайно сложны; 5)телесность (в целом и в частностях) выражает систему смыслов человека, в основе которой — отношение к смерти и жизни; 6) все составляющие части телесности соответствуют друг другу (конгруэнтны) и «прорастают» друг в друга. Начну же свои рассуждения с вполне материального объекта — тела, поскольку одним из важнейших условий образования механизмов, формирующих телесность, являются свойства биологического организма человека и особенности формытела человека (форма в данной статье не рассматривается). Тело человека — это живая, открытая, оптимально функционирующая сложнейшая, саморегулирующаяся и самообновляющаяся биологическая система с присущими ей принципами самосохранения и приспособляемости. Тело представляет собой единство множеств, поскольку определенные органы и системы органов зарождаются в эмбриональный период из конкретного зародышевого листка. «В развитии человека эмбриональный период является критическим. Эмбрион особенно подвержен влиянию различных факторов среды и зависит от состояния материнского организма». (2) Поэтому и ранние, и более поздние нарушения в работе одного органа или какой-либо системы органов отражаются прежде всего на функционировании тех органов или систем, которые находятся с ними в наиболее тесной, «родственной» связи. Система «тело» находится во взаимодействии с окружающей средой и нуждается в постоянном обмене энергией (веществами) с ней. Этот обмен возможен благодаря постоянному влиянию раздражителей внешней и внутренней среды. Они всегда являются новой информацией для организма и перерабатываются его нейро-гуморальной системой. Раздражители воздействуют на параметры организма, которые сложились до данного воздействия. Поэтому характер переработки информации зависит от характера той информации, которая записана к этому моменту в аппарате памяти системы регуляции.Это, как мы считаем, один из основополагающих факторов в образовании индивидуальных особенностей телесности, сформировавшийся на заре биологических форм жизни. Другим важнейшим фактором, по нашим наблюдениям, является соответствие (конгруэнтность)/несоответствие (неконгруэнтность) текущего состояния организма и объективной ситуации, в которой этот организм находится в данный момент. К примеру, конгруэнтность «состояние- ситуация» была очень высокой у Homo sapiens (100 — 40 тыс. лет назад), поскольку основной целью древнего человека была адаптация к реальным условиям. Три фактора развития — стремление к жизни (страх смерти), реальное наличие опасности и простые мотивы и установки древнего человека — направляли работу его тела. Стресс был естественного происхождения и потому вызывал активную работу организма, увеличивал его возможности и способствовал совершенствованию формы. У тела наших далеких предков было еще много общего с животным телом на фоне ряда биопсихических преимуществ. Так, развитые, как у животных, рецепторный аппарат органов чувств/кожи и важнейшие подкорковые образования мозга, дополнялись гораздо более развитыми, чем у животных, теменными и лобными отделами коры мозга. Особенно важно, что у человека того времени была уже достаточно развита верхняя лобная доля коры, отвечающая за контроль эмоций. Программирующая и контролирующая функции сознания были тогда еще в «нежном возрасте», что, однако, не мешало им способствовать выживанию и формированию новых навыков человека. В то же время, древний человек уже формировал отношение к жизни через переживание смерти: мертвое (неподвижное) тело соплеменника вызывало ужас. Таким образом, конгруэнтность обеспечивалась простыми мотивами и установками, а реализовалась сложноорганизованными, «животно-человеческими», процессами чувственного познания: глубокое целенаправленное «животное» внимание, руководимое «человеческими», хоть и примитивными, целями, задачами и переживаниями, приводило к эффекту синхронизации, который создавал ощущение идентичности с наблюдаемым явлением или объектом. Иными словами: равенство в ощущениях между наблюдаемым явлением/объектом и интериоризированным образом этого явления/объекта. Характерные для явления или объекта движения вызывали переживания через микродвижения тела человека. Синхронизация вызывала в организме отклик, реакцию в ощущениях, язык которых был понятен нашим предкам, а потому приносил знание и облегчал адаптацию. Благодаря заинтересованности людей, память записывала и хранила в мышечной ткани тела и в виде вегетативных реакций организма значимую информацию как полезную для жизни (полезная — не обязательно позитивная). В случае опасности память тела через естественные знаки напоминала человеку значение данной опасности, способствуя одновременной актуализации соответствующих друг другу мышечных и вегетативных реакций. Это помогало сформировать полезные навыки избегания опасности и закрепить их в памяти, а тело само применяло эти навыки в нужный момент. И этоспособствовало обучаемости и развитию способностей, из которых наиболее ценные и устойчивые закреплялись на генном уровне и передавались по наследству. Таким образом, в суровой реальности жизни древнего человека его «животное» тело языком реакций выполняло роль эксперта в вопросах безопасности и эволюции. (Для сравнения: конгруэнтность «состояние организма — текущая ситуация» очень низка у современного цивилизованного человека, живущего уже не в реальном, но в «идеальном» мире — мире отраженных и воплощенных идей. Телесные реакции современного человека «западного образца» социализированы и жестко контролируются. Само тело подвержено директивному воздействию ментальности человека, которая, увы, как правило, является продуктом иллюзий и представлений об истинности оценки момента). Однако продолжим наши рассуждения о теле-организме. Живой здоровый организм, благодаря способности воспринимать постоянный приток энергии (информации), находится в динамическом равновесии, которое можно изобразить синусоидой. Это правило устанавливают гомеостатические системы организма, которые действуют по принципу обратной связи (отрицательной или положительной), причем отрицательная связь повышает стабильность системы и потому более распространена в гомеостатических системах живых организмов. Непосредственное участие в процессах обмена веществ и энергии и поддержании гомеостаза в организме принимают внутренняя среда организма (кровь, лимфа и тканевая жидкость), мощный иммунитет и компенсаторные механизмы, направленные на устранение или ослабление серьезных функциональных сдвигов — результатов сверх-агрессивных факторов среды (в том числе социальных). Синусоида гомеостаза выражается через ритм, чередование фаз дуальности и движение, проявляя признаки основополагающего Закона Жизни. Он выражается в материальном мире через процессы зачатия, рождения, развития, угасания и смерти.Жизнь биологического организма человека, как и любого другого, возможна лишь потому, что каждое мгновение в его «недрах» происходят многочисленные рождения и смерти: благодаря способности всех клеток к размножению, организм имеет возможность замещения стареющих и погибающих клеток, но в результате умирания клеток создаются условия к регенерации тканей: рождение приводит к смерти, способствующей жизни ….+….-…..+…..-… Чередование фаз дуальностиопределяет и обеспечиваетнепроизвольность всех процессов идеятельноститканей, систем и жидкостей организмачерез «напряжение-расслабление», «сжатие-расширение», «приток-отток» (в том числе, процессы нормальных родов и естественной смерти) … Таким образом, нормальный биологический организм представляет собой единство множеств. Это «живое, которое просто функционирует» (В. Райх) в соответствии с установленным Природой порядком вещей: оно может, исходя из особенностей текущего момента, самостоятельно выбрать оптимальные для себя состояния и реакции. Биологический организм человека призван обеспечить уникальную адаптацию и самореализацию уникального индивида. Его отличительными особенностями являются естественность и природная целесообразность. Перейдем теперь к условиям взаимодействия психики и организма. Р ождающийся на свет человек обладает уникальным генотипом. При этом «биологическое» (телесное) уже неразрывно связано с «психическим»: разнообразные факторы объективной и субъективной жизни матери и ее отношение к ним опосредованно оказывают на плод в утробе воздействие через ее психо-вегетативные реакции. И поскольку я считаю, что именно в утробе матери закладываются основы уникальной телесности человека, нам предстоит разобраться с особенностями влияния матери на плод и путями формирования телесности. Психо-вегетативные реакцииматери- результат сочетания многих условий и факторов, которые отражаются на характере ее восприятия реальности. Информацию о реальности доносят экстероцептивныеощущения, а факторы и условия, коротко, сводятся к: 1)особенностям ситуации и ее объективному стрессогенному уровню; 2)психофизиологическим особенностям человека (биоэлектрическим в сочетании с вегетативными и биохимическими, а также типологическими свойствами нервной системы); 3) индивидуально-личностным свойствам (экстраверсии / интроверсии, уровню нейротизма, типу межполушарной асимметрии или амбидекстрии, характеру); 4)когнитивному стилю (полезависимости — поленезависимости, импульсивности — рефлексивности, ригидности — гибкости); 5) текущему состоянию (активному — пассивному, бодрственному-просоночному, трансовому — гипнотическому); 6) качеству внимания при той или иной выраженности внутренних и внешних помех (5). Иначе говоря, особенности целостного образа восприятия зависят от того, что человек выделяет как наиболее важное, значимое в потоке информации (например, фонематический или семантический аспекты речи; форму или цвет; образ или слово; громкость, интонацию или тембр голоса; суть события или эмоции, связанные с ним и т.д.); как он эту информациюизвлекает (эмоционально или рационально, неосознанно или осознанно, критично или некритично, узнавая, как модификацию пройденного опыта, или воспринимая, как новый опыт и т.д.); почему он именно эту информацию извлекает и для чего ему это нужно (мотивации, стратегии и тактики). Следовательно, характер самого восприятия (чувственного познания мира) и образа восприятия зависит от врожденных и приобретенных свойств и качеств человека, его текущего состояния, объективных и субъективных факторов и следов памяти всех прошлых восприятий (см. выше).Сложносоставный генезис образа восприятия ставит нас перед фактом размывания трех границ: между генотипической — фенотипической составляющими сенсорных процессов матери, между объективной — субъективной обусловленностью ее внимания, между физиологическим — личностным компонентами ее перцепции. «Что», «как», «почему» и «для чего» экстероцептивных ощущений создают только часть целостного образа восприятия. Другую часть образа восприятия создают интероцептивные и проприоцептивные ощущения, которые обеспечиваются действием соматовисцеральной системы; их общим свойством является то, что они не образуют сенсорные органы, а широко распространены по всему телу" (3). Соматовисцеральные ощущения не являются пассивным процессом, но вызывают двигательные реакции организма, вегетативные либо мышечные и, наряду с экстероцептивными, формируют поведение человека, хотя в норме находятся по интенсивности на околопороговом уровне, увеличиваясь при различных нарушениях внутренней среды организма" (3). Они создают основу для аффективной деятельности, чем в итоге формируют и регулируют поведение и в большой степени определяют сам характер познания, психические состояния и свойства личности (5). В процессе адаптации (соцадаптации) индивида при определенных внешних условиях свойства соматовисцеральной системы в совокупности со свойствами органов чувств создают определенные феномены. Известно, что человек (и организм, как неотъемлемая его часть) адаптируется каждое мгновение, т.к. изменения внешних и внутренних условий происходят постоянно. Адаптация организма к слабым и средним по силе раздражителям происходит достаточно быстро и мало заметна для человека, при этом повышается устойчивость организма и вырабатываются навыки и привычки. Недостаточно значимая информация воспринимается организмом как слабый раздражитель. Психикой она часто даже не осознается и слабо структурирована. Чуть более значимая информация воспринимается организмом как средние раздражители, поэтому реакции организма на нее более явные, и психика ее больше структурирует. Адаптация же к любым значимым для организма и психики факторам является стрессом. «В процессе адаптации все вовлеченные в нее органы, изменяясь количественно и качественно, образуют функциональную систему, ответственную за адаптацию. Развивающиеся здесь структурные изменения представляют собой системный структурный след…» (3) Изменения, наступающие вследствие стресса, вызывают ряд физиологических, психических и психологических явлений, поскольку «следы даже однократных воздействий экстремальных факторов… на организм человека приводят к изменениям вегетативных функций… Эти изменения формируют в организме так называемую »вегетативную память", в основе которой лежит (среди прочего) своеобразная взаимосвязь между отдельными элементами тканевой, сосудистой, эндокринной, иммунной систем…" (3), осуществляемая посредством мышечных фасций (7). Именно на уровне стресс-реакции на всякую значимую информацию и появляются характерные психосоматические феномены, порождающие более или менее устойчивый «продукт» взаимодействия психики и тела в виде индивидуальных психосоматических паттернов. Вопрос об устойчивости «продукта» взаимодействия психики и тела неразрывно связан с инерционными свойствами материи тела, свойствами памяти и психологической значимостью информации. Поскольку для организма и психики информация — это «раздражители», которые воздействуют на параметры, сложившиеся до данного воздействия, то и характер переработки новой информации зависит от характера переработки прежде записанной информации. Наслаиваясь, однотипная информация и однотипные способы обработки информации (реагирование) создают характер индивидуальной адаптации. «В основе формирования индивидуальных адаптаций лежат следы предшествующих раздражителей» (3). Сталкиваясь всякий раз с ситуацией, отчасти и чем-то напоминающей значимую, и тем более эмоционально значимую, человек будет испытывать похожие состояния через переживание комплекса первоначальных ощущений и представлений. Они возникают в результате воссоздания сформировавшегося в момент стресса системного структурного следа в организме с тем же, примерно, набором соматовисцеральных ощущений. Произойдет вспоминание тех же эмоций, мыслей, настроений, сигнализирующих о значении соматовисцеральных ощущений: в связи с тем, что в памяти хранится энграмма стимула-эталона (память о стрессогенной информации), информация будет узнаваться человеком «как прежняя». Равным образом, это справедливо при актуализации энграммы на фоне подпороговых ощущений. Образ восприятия подобного типа ситуаций и характерного типа реагирования на них будут тем более устойчивыми, чем сильнее было первое потрясение и чем меньше было оказано впоследствии противоположных влияний. Я считаю, что здесь размыты границы телесных и психических реакций, и потому нет никаких оснований разводить их во времени (что возникло раньше): одну и ту же информацию психика опосредованно познает через тело (вегетативная память — «субстрат» эмоциональноаффективного знания), а тело опосредованно познает через психику (узнавание стимула-эталона есть припоминание его значения).При этом экстероцептивные ощущения создают, в основном, когнитивный компонент образов восприятия, следов памяти, мыслей, рефлексивных образов («я знаю, что это…»), а проприоцептивные и интероцептивные ощущения создают, в основном, их аффективный компонент («я переживаю то, о чем знаю, что это…»). Такой плотный характер взаимодействия, взаимовлияния и взаимопроникновения психики и тела соединяет энергии тела и психики в единую биопсихическую энергию человека(греч. energeia — деятельность, активность, сила в действии). Таким образом, все ощущения являются конгруэнтными друг другузнаками, совместно сообщающими значение одной и той же информации, и отчасти формирующими устойчивый «продукт». Сам же «продукт» проявляется «процессуально» в характерных ритмах, темпах, температуре тела, степени его «протекаемости», движениях, позах, осанке, дыхании, запахе и звучании. Именно этот «продукт» беременной женщины сообщает плоду сигналы, которые он телесно переживаетидентичнозначению (+,-) ее текущих реакций, переживаний и соматовисцеральных ощущений. Однако, знаки "+" и "-" не содержат в себе смысла воспринимаемой информации («почему это случилось, и для чего это нужно»): поскольку смысл — образование духовной сферы человека, плод его не может постичь. Но так ли это? Смысл пронизывает состояния и переживания человека, каждое действие содержит в себе смысл и обусловлено им. Смысл, как психологическая реальность, 1) «суть, главное, основное содержание (иногда скрытое) в явлениях, сообщении или поведенческих проявлениях; 2)личностная значимость тех или иных явлений, сообщений или действий, их отношение к интересам, потребностям и в целом к жизненному контексту конкретного субъекта» (8). В психологии смысл используется во втором определении. Смысл позволяет человеку, руководствуясь определенными оценочными критериями, выбирать актуальный тип поведения и формулировать отношение к своему опыту. Представления о смыслах начинают формироваться еще в раннем детстве в недрах семьи в соответствии с культуральными/национальными особенностями, общим культурным уровнем и морально — нравственными/этическими представлениями ее старших членов. Однако мы предполагаем, что зачатки системы смыслов берут свое начало в пренатальный период развития человека и гораздо более сложно организованы, чем об этом принято считать. Поэтому анализ начальных этапов процесса формирования смыслов (как я это понимаю) поможет понять хранящийся в глубинах памяти основной «материал», из которого развиваются жизненные стратегии человека. В течение жизни человек «обрастает» множеством критериев оценки, но прежде других образуются, как известно, критерии «удовольствия»- «неудовольствия». Зачатки этих критериев зарождаются, не в младенчестве, но у эмбриона, и выражают, по моему мнению, отношение качества и силы внешних влияний к уровню реактивности нервной системы плода. Зародыш находится во внутреннем пространстве матери, но для него это пространство — внешнее: невзирая на теснейшую связь, единение с матерью, он представляет собой отдельную жизнь, подобно зерну, посаженному в почву. Насколько желанна или нежеланна эта зарождающаяся жизнь, настолько эмоционально это переживается матерью и выражается в её настроениях, психических состояниях и изменениях на соматическом уровне (на уровнях нервной системы, мышечном, жидкостей внутренней среды и др.). Посредством материнских психосоматических реакций информация об её отношении (осознанном или не осознанном — не имеет значения) к данной беременности кодируется на клеточном уровне и закрепляется в нервной системе зародыша с момента закладки нервной пластинки, т.е. примерно с третьей недели после зачатия; этот код — первая предпосылка будущих базовых, биопсихических паттернов человека. В дальнейшем все значимое для матери, что изменяет ее состояние, «проецируется» во внешнее пространство плода. «Информация» поступает с кровью, лимфой и тканевой жидкостью. Это — внутренняя среда материнского организма, состав которой зависит от реакций ее организма на внешние и внутренние воздействия. Состав внутренней среды порождает «явления», благоприятные или неблагоприятные для плода (естественно, спектр «явлений» гораздо шире, и здесь разводится на полярности намеренно). Уже во второй половине внутриутробного развития плод ощущает характерные изменения околоплодной жидкости, сигнализирующие об актуальном психосоматическом состоянии матери, через запах и вкус, что отражается на его активности и состоянии. Он переживает противоположные по знаку влияния и их нюансы через все виды и типы ощущений множество раз, обучаясь телесному знанию о сути явлений его мира, с которым слит, но которым не является (вероятно, способность к синхронизации и идентификации с объектом восприятия имеет внутриутробный генез). Неблагоприятные условия означают угрозу жизни, т.е. опасность отторжения и преждевременного изгнания — смерть, в отличие от благоприятных условий, просто означающих жизнь как данность. Это является «смыслом — сутью», основным содержанием в явлении, сообщении (8). Ощущение опасности стимулирует в биологическом организме избегание смерти, или стремление к жизни, за которую он борется в меру своих сил. Поэтому небольшие внутриутробные «сложности» видятся непременным и необходимым условием успешного развития навыков выживания еще до рождения. В равной степени это справедливо и по отношению к самому процессу родов (хоть и своевременное, но — «изгнание-смерть»): прохождение десяти сантиметров родовых путей является настолько большой опасностью и сильной травмой для плода, что уровень адреналина в его крови повышается намного выше уровня, наблюдаемого у взрослого человека во время сердечного приступа. Но именно эти физиологические условия являются ключом к успешному прохождению плодом родовых путей и выходу из материнского лона. Эти же условия дают первый реальный (телесный!) опыт преодоления «смерти» и способствует совершению первого дыхательного акта и адаптации к новым условиям. Так, первые и основные смыслы человек познает и оценивает через опыт телесных состояний равновесия и тревоги еще в утробе матери; эти состояния раскрывают суть дуального бытия физических тел через образование двух базовых групп ощущений: удовольствия (жизнь) и неудовольствия (смерть). Стремления к смерти биологический организм не знает. «Живое, которое просто функционирует» (В. Райх), знает только одно стремление — к жизни. Поскольку знание о жизни и смерти (реакции плода) соответствует сообщаемым в явлениях смыслам (материнские психосоматические реакции) и приобретается телом посредством опыта до и во время рождения, оно является надежным биопсихическим знанием. Младенец в гораздо большей степени «биологическое», чем «социальное» и «психическое» существо, и система знаков в этом возрасте телесная, состоящая из конкретных, «естественных знаков» (6). То, что младенцу ощутимо известно как приятное или неприятное (состояние), и есть естественные знаки. Они тяготеют по законам консолидации следов памяти к создавшимся в дородовой период двум полярным группам знаков-состояний, образуя день за днем две части единого фундамента всех знаковых систем человека. Естественные знаки формируют первые причинноследственные связи (с кем/чем связано приятное-неприятное), образующие базовый уровень памяти человека — моторную биполярную память. В младенчестве хороший контакт с матерью, грудное вскармливание и нежная забота усиливают позиции знаков удовольствия, а отсутствие такого контакта усиливает позиции знаков неудовольствия. Поэтому наличие или отсутствие любви матери в основном определяют параметры развития эмоциональной памятичеловека,которая закладывается на материале естественных знаков моторной памяти. Следовательно, в норме биопсихическое знание о жизни (удовольствие) и смерти (неудовольствие) усложняется и углубляется фактом появления эмоциональной памяти. Она образуется знаками безусловной любви, вызывающей РАДОСТЬ. Биопсихическое знание, подобно телу зародыша в первые недели эибриогенеза, приобретает трехслойное строение, а некое количество причинно-следственных связей между знаками трех типов (жизнь/удовольствие — любовь/радость — смерть/неудовольствие) образует базу данных первой знаковой системы — системыощущений. На нее, постепенно развиваясь, накладывается ассоциативная и образная знаковые системы, а позже — системы представлений и понятий. Поскольку для ребенка 1,5–2-х лет основными критериями оценки все еще остаются базовые состояния (хорошо/плохо= удовольствие/неудовольствие=жизнь смерть), то в процессе воспитания и социализации, через механизм подкрепления и отвержения любви, в многоуровневой знаковой системе происходит образование конгруэнтностей. Но конкретно мыслящий ребенок, в силу все еще сохраняющейся внутриутробной способности к синхронизации и идентификации, воспринимает и обобщает конгруэнтные знаки в тождества. И потому, исходящее от родителей: «Это хорошо» для него означает: «Мне спокойно» (состояние равновесия) = «Это приятно» (ощущение удовольствия) = «Я хороший» + возможно наличие образа = «Меня любят (радость)» = «Это »жизнь" (смысл). Исходящее от родителей «Это плохо» означает: «Мне тревожно» (состояние) = «Это неприятно» (ощущение) = «Я плохой» + возможно наличие образа = «Меня не любят (печаль)» = «Это »смерть" (смысл). Таким образом, состояние и ощущение ребенка, сообщающие суть явлений (смысл), но пронизанные индивидуальными ассоциациями, трансформируются в фундамент будущего здания морально-нравственных критериевчерез понятия взрослых — «хорошо» и «плохо». Поэтому, когда в 3–7 лет ребенок вступает в общество, законы которого устроены не по принципу удовольствия и радости, но по правилам «можно», «нельзя», «должно», «полезно», «вредно», «выгодно», он остается вне телесных меток и ориентиров, по которым до сих пор происходило непосредственное познавание сути предмета; теперь оно подменяется опосредованным — через мнение значимых взрослых, соответствие которому приносит любовь. Но поскольку значимые мнения ребенком переживаются, то они вызывают в теле ряд характерных вегетативно-мышечных реакций, которые закрепляются при последующих подобных переживаниях. У ребенка 7–10 лет уже образуется в начальной стадии система смыслов, при этом «личностная значимость… явлений, сообщений… действий…» возникает из телесных переживаний и воспоминаний о пережитом принятии или отвержении значимыми людьми, которое связано с интеграцией в общество взрослых и социализацией. Ориентируясь на возникающие при отвержении или принятии ощущения, человек и далее, в течение всей жизни, привыкает оценивать значительность, значимость и полезность всего, что с ним происходит, по этим или соответствующим понятийным меткам. Такая позиция способствует тому, что человек не «включен» в наблюдение и осознание основополагающего Закона Жизни, который проявляется во всем и выражается через процессы зачатия, рождения, развития, угасания и смерти. Адаптация происходит чаще не к реальным условиям, а к условиям, порождаемым иллюзорными представлениями. Поэтому человек воспринимает как «жизнь» все, что не содержит реальной опасности (эту иллюзию обеспечивает, как правило, «неизменяемость», стагнация его бытия), и как «смерть» все, что содержит в себе отвержение, окончание стабильности и опасность (в частности, всякий новый опыт таит в себе такую опасность). Так, на фундаменте биопсихических смыслов («жизнь» — «смерть») происходит двойное опосредование, слияние личностных и базовых смыслов и подмена понятий. Иллюзии сотен миллионов людей, разрастаясь, порождают псевдореальность, к которой и происходит соцадаптация. В соответствии с таким типом соцадаптации формируется определенный тип телесности, призванный защитить человека от характерных для него дезадаптаций и декомпенсаций. Установка «страх перед жизнью» (опасность!) переориентирует деятельность тела, а именно качество и знак действия механизмов адаптации. Поскольку стремление к жизни проявляется через преодоление опасности (смерти), адаптационные механизмы порождают психосоматические защитные паттерны в опасной (стрессовой) ситуации (или в тех, которые личность считает стрессовыми): «каждая мышечная судорога содержит историю и смысл своего возникновения» (В. Райх). Лишенный, как правило, радости, человек обучается программировать свои действия так, чтобы избежать телесного неудовольствия и/или соответствующего ему индивидуального представления, и через это достичь удовольствия более «высокого» порядка. Уникальные системы соответствий индивидов, пронизанные уникальными ассоциациями и смыслами, выражаются в едином, наблюдаемом и переживаемом, «продукте». Назову его «телесность». Под телесностью понимается качество, сила и знак телесных реакций человека, формирующихся с момента зачатия в процессе всей жизни. Телесность не идентична телу и не является продуктом одного лишь тела. Как реальность, она — результат деятельности триединой природы человека. Это субъективно переживаемое и объективно наблюдаемое выражение и свидетельство вектора (+ или -) совокупной энергии индивида (греч. energeia — деятельность, активность, сила в действии). Телесность образуется в контексте генотипа, половой принадлежности и уникальных биопсихических особенностей индивидуума в процессе его адаптации и самореализации. Основой формирования телесности является единая память. Телесность проявляется как процесс в форме тела через асимметрии, характерные движения, позы, осанку, дыхание, ритмы, темпы, температуру, «протекаемость», запах, звучание и гипнабельность. Телесность изменяема: характер ее меняется в соответствии со знаком телесно-чувственных процессов. Эти изменения не идентичны процессам развития, взросления или старения, но перечисленные процессы влияют на нее и в ней проявляются. Поскольку ее формирование зависимо от внешних и внутренних условий, то значительные изменения этих условий влекут за собой изменения телесности человека. На состоянии телесности отражаются мотивации, установки и, в целом, система смыслов индивидуума, поэтому она хранит обобщенное знание человека и представляет собой материальный, видимый аспект души (психе). Так же, как и тело (слав. tъlo / лат. Tellus — основа, почва, земля), телесность призвана выполнять охранительную и поддерживающую функции в адаптационных процессах, и в этом — ее первое назначение. Уровень развития телесности (диапазон) позволяет человеку в той или иной степени «резонировать» с миром, что является другим ее назначением. Третьим, последним назначением телесности является обеспечение разъединения духа/души и тела в момент смерти. Феноменология тела (ч. 3) (Продолжение. См. предыдущие публикации 1 , 2) В. А. Подорога Главы из монографии «Феноменология тела» печатаются с личного разрешения автора. Кожа, кожная поверхность нашего организма — самое близкое к миру Внешнего. Последняя граница, барьер, порог. Последняя граница, столь часто нарушаемая жизнью, которую мы проживаем. Парадоксальность этой телесной границы видна сразу же: она — самая ближайшая к миру и вместе с тем то, что нас в силах бесконечно от него удалять. Держа в памяти весь этот набор поразительных свойств, какими наделена наша кожная поверхность, я, тем не менее, выделяю одно решающее ее свойство, могущее служить отправной точкой для трансцендентального суждения, — свойство границы (37). Как если бы вся наша жизнь сосредоточивалась и растекалась по тонкой пленке поверхностных натяжений, как если бы мечтания о глубине, объеме или дали, т.е. о чем-то бесконечно себе Внешнем, но достижимом, были бы лишь эпизодами событий, происходящих на поверхности. Эта граница — вибрирующая, постоянно меняющая свою линию напряжения, консистенцию, толщу, активность двух сред, совпадающих в ней (Внешнего и Внутреннего), — и есть промежуток жизни, который мы не в силах покинуть, пока живем; нечто, что всегда между, - может быть, интервал, пауза, непреодолимая преграда, охранительный вал, а может быть, и дыра, разрез — и тем не менее, только здесь мы обретаем полноценное чувство жизни. Конечно, следует оговориться, что местоположение чувства жизни не является местом, находимым на границах организма. Границу организма и границу жизни следует различать. Для организма его внешняя граница (собственно кожа в своей биологии и физиологии) является лишь одной из границ, так как весь организм, как целое, представляет собой определенным образом свернутые друг в друге кожные поверхности со своими сложными кривыми границ. Граница же жизни является виртуальной или потенциальной границей, изменяющей в каждое последующее мгновение предыдущий образ нашего тела, и мы даже не всегда «схватываем» эти мгновенные изменения; порой эта граница смещается столь далеко за предписанные организмом пределы, что не в силах вернуться к исходной физиологической границе, — то, напротив, сжимается, наподобие шагреневой кожи, ускользает от себя в глубины Внутреннего, словно убегая от проникающей боли, — от лезвия ножа, которым нас убивают. Не так ли движется любовь, которую мы отдаем, или та мука телесная, которая нас внезапно поражает? Выбора нет. Это единственное пространство пограничных переживаний жизни, где сама жизнь предстает в качестве границы. Пример: пороговое тело (Ф.Достоевский). Мир Достоевского избыточно наполнен тем, что я бы назвал регрессивными телами, т.е. телами, устремленными к финальным состояниям телесности, регрессирующими от нормальной телесной практики как в абсолютную мощь, так и в каталепсию — максимальные и минимальные проявления жизненной энергии. Образ тела как бы заключен в границы двух знаков: положительного и отрицательного. Я полагаю, что для того, чтобы видеть именно так, мы, как читающие, должны сместиться из нарративного плана (а к нему я отношу риторические, сюжетные, морально-нравственные и идеологические ценности текста) в поперечный ему телесный план, исключаемый нарративным. Другой вопрос, можно ли называть это зрение чтением. Ведь мы попытаемся увидеть то, что должно остаться невидимым и действительно им остается. Видеть — это значит отказываться от языка, который делает видимое невидимым. Не видеть через язык, а видеть без языка. Именно в видении мы можем встретиться с особым типом реальности, которая не требует для подтверждения собственного существования языка, рассказывающего о ней: она просто есть, она бытийствует, движется, рождает напряжения и готовит катастрофы, не настроенная на нас, она а-коммуникативна, отчуждена и всегда занята только собой, так как не предполагает собственной видимости, строится без учета взгляда Другого, но тем не менее всегда проглядывает там, где язык не в силах скрыть ее и полностью оттеснить в область невидимого. Мощь этой телесной реальности у Достоевского настолько велика, что она деформирует сам язык, и, причем, настолько, что он открывает в себе ее присутствие почти в каждое мгновение рассказа. Как идеолог Достоевский вводит строгий запрет на реальность и старается его повсюду соблюдать, но как писатель, создающий письмо, он не может ее нейтрализовать, и она прячется за слоем психологизированных конструкций, идеологем и евангельской символики, она жалит исподтишка. Итак, я вижу тела: тела алкоголические, истерические, эпилептоидные, тела-машины, тела-жертвы и т.п., но не вижу и не могу видеть субъектов, наделенных сознанием, волей, следующих за произволом авторской идеологии. Благодаря этому смещению из языка в видение, я отказываюсь принимать за единственную реальность ту, на которую указывает и которую непрестанно комментирует язык. Скорее, я хочу приоткрыть завесу тайны над теми силами, что организуют само чтение, но остаются невидимыми ради того, чтобы чтение состоялось. Девиз: видеть то, что невидимо! И поскольку мы уже не можем видеть ничего, кроме тел, кроме действующего «здесь и там» потока телесных сил, мы остаемся (на время) бесчувственными к игре и конфликтам «сознаний», к голосам, заявляющим о своем присутствии в мире и требующим от нас напряжения слуха. Мы остаемся глухими, мы можем лишь видеть, и поэтому усматриваем в них все то же утверждение телесного плана, борьбу тел и их гибель. Я задаюсь вопросом, как делаются тела в литературе Достоевского, в каких хронотопических и топологических пределах они могут существовать; меня интересует время тел, способность их к преобразованию в другие тела, их страсть к саморазрушению и перверсии. Я склоняюсь над этими великими текстами и читаю, но так, словно не знаю, что это — литература, я вижу только письмо, точки разрывов, напряжения, кривые смещений, указывающие на силу аффекта. Меня также интересует и то, в какие телесные практики, более универсальные и могущественные, вписывается литература Достоевского, те моменты судьбы ее в нашей культуре, где она перестает быть всего лишь литературой и оказывается поразительным документом телесного опыта, — а не просто мемориалом персонифицированных идей, который стал культурно осваиваться в имперской России XIX столетия. У Достоевского можно условно выделить три типа телесности, конституирующих собой динамику романного пространства: тело до-пороговое, пороговое и после-пороговое. Существование этих тел неавтономно и может быть описано в определенной топологии, которая образуется на основании «аффектированной» геометрии катастрофической кривой: одна точка (тело до-пороговое) — точка ожидания, кумулятивная, свертывающая в себе множество отдельных событий (как внутренних, так и внешних) — и ее ближайшее пространственное окружение связывается колеблющейся, спазматической кривой с другой точкой (тело после-пороговое), точкой катастрофы, взрыва, припадка, «конца времени». Эти точки не столько тяготеют друг к другу или взаимозависимы, сколько «встроены» друг в друга и действуют одновременно: предельное сжатие мгновенно переходит в свою противоположность — полное освобождение энергии, еще мгновение назад использованной для подавления всякой свободы движения. Катастрофическая кривая образуется в силу того, что между этими двумя точками существует невидимый рубеж, препятствие, «черта», которую я буду называть, как это уже принято в литературе о Достоевском, «порогом» (38). Можно определять порог в терминах «пустой интервал», «лиминальное пространство», «промежуток без пространства» (39). Я же полагаю, что будет точнее определить порог, представив его как особый вид пространства внутри пространства. Почему? Только потому, что порог не является хронотопическим, но обладает топологическими качествами. Нормативное тело, — а это тело, как известно, формируется с помощью совокупности самых различных идентификаций (от психологических до социокультурных) , — попадая в телесную машину Достоевского, с необходимостью проходит по крайней мере три стадии преобразования: сначала оно сжимается, подавляется всем ему внешним, это — тело ожидающее, накапливающее энергию; затем оно становится пороговым, т.е. таким телом, которое деформировано тем, что совмещает или может совмещать в себе два вида пространств (святости и греха, животности и божественности, вины и искупления) и может быть одновременно внутри и вне каждого из этих подпространств, быть телом и до-пороговым, и после-пороговым. Иначе говоря, тело, что образуется на пороге, всегда асимметрично по отношению к нашему представлению о нормальном образе телесности, в нем совмещается избыток и недостаток телесных сил в их неравновесном соположении. Все персонажи, на которых возложена миссия «пре-ступать», сплошь и рядом пребывают внутри сплющенного, деформированного пространства, в неких выжидательных, кумулятивных пунктах, это — «углы», «каюты», «гробы», «шкафы», «комнатенки», «норы», — сравнения, часто используемые Достоевским для описания пристанищ его героев. Именно в этих пунктах ожидания скапливается энергия своеволия. Ближайшее внешнее окружение — интерьер комнаты — действует как ограничивающее движение препятствие. И тем не менее эта внешняя пространственность придает персонажам форму, которую они сами не в силах для себя создать, ибо их тела таковы, что они неспособны организовать вокруг самих себя ближайшую жизненную предметность, без которой, как известно, существование вообще невозможно. Персонажи Достоевского декоративны, и, всматриваясь в их облики, мы не испытываем надежд на то, что «почувствуем» их телесную жизнь, ее автономность, ее историю. Я говорю «всматриваясь», а это значит, что я останавливаю процесс чтения, и там, где я остановился, именно из этой стоп-точки я и пытаюсь визуализировать читаемое. Нас не должна смущать мысль: а что если в мире Достовеского дисквалифицирован тот культурно высокозначимый смысл, который мы придаем понятию близости, телесной близости между человеком и другим человеком, между человеком и вещами, человеком и животными. Быть в состоянии близости с миром — это мочь коснуться. Близость определяется касанием - не столько как чисто физическим действием, сколько открытостью всего мира навстречу касаниям. Чтобы быть миром, мир должен быть означен касаниями. В мире Достоевского действует иной вид касаний, проникающая сила которых настолько велика, что от них ни один из персонажей не может найти защиты. И это вполне понятно, ведь персонажи Достоевского — это образы людей без кожи. Как только мы снимаем проблему кожной чувствительности, столь необходимой для локализации отдельного тела в пространстве и времени, мы радикально меняем статус самого касания. Ведь касание не может нарушить определенные параметры близости, которые регулируются самой кожей; касание перестает быть касанием, когда проникает за или сквозь кожу. Достоевский, если сказать точнее, не ставит под сомнение касание и всю связанную с ним стратегию близости, но он отказывается признавать в коже границы телесного опыта. Кто же это такие — люди без кожи? Это, прежде всего, люди без индивидуального тела. Тела как кровоточащие раны, жест как надрезание раны — эти тела лишены самообладания. Если придерживаться логики такого пути анализа, то легко прийти к заключению, что персонажи Достоевского представляют не людей, но скорее психомиметические аффекты. Его персонажи трансгрессивны и не могут быть локализованы в границах нормативных телесных знаков, фигур или картин. Мы признаем их в качестве «живых» лишь тогда, когда существует единый психомиметический континуум, образующийся реально с помощью тел не видимых, но аффектированных, захваченных в своем движении по отношению друг к другу катастрофической кривой, предельно внешних себе, почти марионеток. Итак, тела без кожи, тела как раны. Теперь становится понятно, почему для многих персонажей Достоевского внешняя пространственность интерьера той же комнаты играет роль своего рода кожного панциря (писатель использует другое слово — «скорлупа»), настолько сильно он сжимается вокруг них. И, подобно некоторым видам животных, эти персонажи несут на себе свой собственный дом, ибо, в противном случае, агрессивная и враждебная среда просто убила бы их. Основной вопрос: как при этой гиперчувствительности, незащищенности стать бесчувственным, абсолютно защищенным? И наконец, — это можно назвать последней стадией телесного преобразования, — послепороговое тело. Это уже такое тело, которое Антонен Арто называл «телом без органов»: тело сновидное, пре-ступное, эпилептическое, садо-мазохистическое, тело, захваченное в момент своего движения с наивысшей быстротой, предельно интенсивное, экстатическое. Кривая катастроф, в сущности, описывает нам путь становления послепорогового тела: от тела минимальной жизненной интенсивности до тела максимальной жизненной интенсивности, — т.е., она «показывает» нам, как преобразуется жизненная энергия, идущая от внешнего к внутреннему и от внутреннего к внешнему (40). Если же суммировать все вышесказанное, то можно заключить, что эксперимент Достоевского направлен на то, чтобы продемонстрировать нам телесный опыт, страдающий от острого дефицита адаптивных механизмов и поэтому неспособный учесть в своем становлении нормативные и жизненно важные для культуры идентификации. Но, с другой стороны, нельзя упускать из виду, что подобный опыт телесности являет собой попытку выявить новые типы тела: например, универсальной нормой будет тело перверсивное, а высшей — тело святости (или юродивое). Возможен краткий итог: тело не есть тело, тело есть не то, что видимо нами в качестве тела. Тело — это множественность всех тел, которыми оно постоянно становится благодаря порогу. Тело, начинающее свое движение со все нарастающим ускорением, обретает новые качества, преодолевая порог; только, преодолев его, оно изменяется, становится себе внешним. Порог действует как своего рода интенсификатор психомиметических различий, он удваивает то же самое, различая. Важно понять, что порог не имеет определенных хронотопических характеристик и не может быть локализован в каком-либо из своих мифических или литературных значений. Порог — не то, к чему просто движутся (и затем или преодолевают или «застревают» на нем). Открывать себя как тело и вступать в психомиметический континуум — это значит «всегда быть на пороге». Один порог в силах, например, сделать речь связной, артикулировать ее до голоса, который могут услышать другие. Именно порог может выявлять и изменять тела, увеличивать их скорость по отношению к другим, и благодаря ему — его «следу» в теле персонажа — мы можем различать самоубийц, садистов, святых и юродивых. В противном случае весь этот громадный психомиметический материал, который представляется нам творчеством и жизнью Достоевского, так и не стал бы романами, повестями, рассказами и дневниками. Не стал бы тем, что мы называем литературой Достоевского. Вполне допустима гипотеза: область существования того или иного персонажа в литературе Достоевского определяется скоростью (или быстротой), с какой описывается событие, в которое он вовлечен. Первичен не персонаж, а событие. Персонаж про-является из событийной энергии (стено-графии). Если мы примем эту гипотезу, то нам будет крайне трудно утверждать, что событие может быть сведено и теоретически реконструировано в диалогической форме. Конечно, диалогическая форма в силах остановить психомиметическую волну, эту «зубчатую кривую», и упорядочить романное время и пространство. Но в таком случае диалогическая форма устранит психомимесис, т.е. тот слой литературного произведения, который является базисным условием режима чтения. Психомиметические аффекты связывают читающего с читаемым, диалогическая же форма вводит иной порядок смыслового задания, обрывая, «останавливая» процесс чтения. Диалогическая форма - просто теоретический конструкт, наложенный на подвижную, изменяющуюся романную текстуру. Действительно, диалогический анализ Бахтина преследует вполне определенную цель — создать единый (почти универсальный) герменевтический конструкт, с помощью которого может быть культурно внятно интерпретирована психомиметическая вибрация текстов Достоевского. Устранить психомиметические аффекты, т.е. сам процесс чтения, не допускающий никаких уступок в пользу культурной идеи. Поэтому актуально вопрошание: является ли диалогическая форма - в том виде, в каком она истолковывается Бахтиным, - имманентной композиционной и смысловой структуре текстовой реальности? Ответ: нет, не является. Она скорее ее создает, чем из нее извлекается. Речь здесь, конечно, не идет о поисках несоответствия метода Бахтина самому материалу анализа, а скорее о загадочном пока для нас торможении самого диалогического принципа: он словно наталкивается на что-то, что может поставить под сомнение его применимость к материалу; и этот страх перед неудачей нарастает по мере все более успешного продвижения вглубь литературного опыта Достоевского, будто вновь начинают действовать силы, недавно уничтоженные, силы психомиметических событий. Диалогическая форма вдруг оказывается один на один с тем, что уже было ею «освоено» и поглощено — с психомиметическими эффектами. Попробуем разобраться в этих «страхах» более систематично. Первый вопрос: что является основой самой диалогической формы? Для Бахтина, как известно, это принципиально содержательное взаимодействие двух голосов: голоса внутреннего и голоса внешнего; т.е. голоса, идущего из глубин сокровенно внутреннего: голоса одинокого, в котором .монологически заявляется "я", его присутствие-в-мире, и второго голоса, в котором это одинокое присутствие диалогически ставится под сомнение. Диалогический minimum — это со-присутствие в событии речи по крайней мере двух голосов: своего и «чужого», Я-голоса и голоса Другого. Бахтин предлагает нам «читать» Достоевского в границах этого двухголосия, вслушиваясь в оттенки, направления, вибрации произносимого, следя за смещениями акцентов, разлагая авторскую речь героев до означенного предела, т.е. до того, где может наиболее эффективно осуществляться диалогический анализ. Но вот мы достигаем (вместе с Бахтиным) фразового, точнее, высказывательного предела, т.е. предела, где высказывание как единица смысла, сотворяемая непрерывным столкновением голосов, исчезает, распадаясь на еще более мельчайшие единицы (крики, сипы, скрежеты, падения в обморок, жужжания, вопли, грохот, треск, смех, стоны). Бахтин часто делает столь проницательные (его собственную мысль опережающие, даже превозмогающие) суждения, что они выпадают из чисто диалогического контекста. Вот одно из них с характеристикой’«человека из подполья»: «Интерференция, перебой голосов как бы проникает в его тело, лишая его самодовления и односмысленности» (41). «Интерференция, перебой голосов…» — но что это влечет за собой: не утрату ли внятной речи, способности к артикулированному выражению, нарушение дикции, телесный ступор? Проблема, которую следует здесь поставить, подбираясь к пределу диалогического, может быть сформулирована в рамках темы «голоса(ов) и тела». Что такое внутренний голос и что такое внешний; да и существует ли голос, привходящий извне? Тема «Я и Другой» (внутреннее — внешнее моего голоса) должна быть проинтерпретирована и на языках тела, а не только в некотором поле автономных, себя сознающих сознаний. И в этом истолковании лучше всего следовать самому Бахтину. В своих ранних набросках, посвященных, феноменологии телесного чувства, Бахтин различает два телесных канона, доминирующих, как нам представляется, попеременно в микродиалогических структурах: тело внутреннее, тело «восчувствованное, переживаемое изнутри», «тяжелая плоть» и тело внешнее, пластические формы Другого. Тело внешнее: «Внешнее тело объединено и оформлено познавательными, этическими и эстетическими категориями, совокупностью внешних зрительных и осязательных моментов, являющихся в нем пластическими и живописными ценностями. Мои эмоционально-волевые реакции на внешнее тело другого непосредственны, и только по отношению к другому непосредственно переживается мною красота человеческого тела, то есть оно начинает жить для меня в совершенно ином ценностном плане, недоступном внутреннему самоощущению и фрагментарному внешнему видению. Воплощен для меня ценностноэстетически только другой человек. В этом отношении тело не есть нечто самодостаточное, оно нуждается в другом, его признании и формирующей деятельности» (42). Тело внутреннее: «Внутреннее тело — мое тело как момент моего самосознания — представляет из себя совокупность внутренних органических ощущений, потребностей и желаний, объединенных вокруг внутреннего мира; внешний же момент, как мы видим, фрагментарен и не достигает самостоятельности и полноты и, имея всегда внутренний эквивалент, через его посредство принадлежит внутреннему единству. Непосредственно я не могу реагировать на свое внешнее тело: все непосредственно эмоционально — волевые тона, связанные у меня с телом, относятся к его внутренним состояниям и возможностям — страдания, наслаждения, страсти, удовлетворения и проч» (43). Взаимодействие Я и Другого (как голосовых, речевых единиц) может быть описано как взаимодействие по крайней мере трех тел, по Бахтину, всегда выявляющих себя в двухголосии. Два голоса - три тела - вот как может быть представлено диалогическое высказывание. Когда Бахтин говорит об «интерференции», — а этот термин трудно опознать в качестве полифонического, — он скорее указывает на то, что голоса (отдельные и автономные) могут смешиваться в своей борьбе до такой степени, что способны деформировать телесный облик персонажа, т.е. разрушить «правильную», равновесную структуру диалогической речи и ее телесных образов. Я-голос всегда пассивно-реактивен, но голос Другого деятелен, проникновенен, уплотняющ. Внешнее как пластически, фигурно очерченная территория Другого выступает одновременно и гарантом и высшим судом для внутреннего. В силу того, что нарциссистская, солипсистская картина мира не может быть завершена без опоры на Другого, то Другой (как противник) не допускает ее воплощения. Если бы это было возможно, то внешнее тело I поглотило бы внешнее тело II . Высшей ценностью — всегда желаемой — остается тело Другого. Теперь мы можем продвинуться несколько дальше. Еще одно сомнение. Бахтин попытался карнавализовать романные миры Достоевского, т.е. найти такую устойчивую, адекватную для них, повторяющуюся форму высказывания, которая бы соответствовала жанровой. Изобретение жанра. Ведь нет ничего в литературе и речевом опыте, что не могло бы быть сведено к соответствующей жанровоопределенной форме высказывания. Сомнение вызывает не то, что Бахтин попытался карнавализовать романное пространство Достоевского, а то, что якобы именно карнавализация «сделала возможным создание открытой структуры большого диалога». Неожиданный вывод, если учесть, что в самом деле Бахтин понимает под «карнавализацией». Бахтин, хотел он этого или нет, дает нам повод рассматривать микродиалог (Я-Другой) и макродиалог (карнавализация) как производные друг от друга. Достаточно обратиться к материалу по проблемам архаической травестии или, — если это назвать в языке, который мне ближе, психомиметической обратимости человеческого, животного и божественного, сегодня, кстати, широко и тщательно исследованной, — чтобы понять: решение подобных проблем всегда отыскивалось на путях, далеких от устойчивых форм диалогических отношений. И это понятно, ведь речь идет об описании и анализе специфического телесного опыта, опыта незатронутого, нестигматизированного тела, которое Бахтиным в его работе о Рабле определяется как гротескно-карнавальное. Это тело иной анатомии, всегда «двойное», «становящееся тело», не поддающееся реконструкции посредством диалогической модели, какую бы культурологическую универсальность ей ни придавать. Это тело запрещает взгляд на себя извне. Не об этом ли говорил Ницше, представляя нам дионисийскую форму античной телесности? Итак, гротескное тело как тело, «восчувствованное изнутри», не имеет лица, головы, глаз, губ или системы мышц, хребта, регламентирующих необходимым образом жесты и позиции тела в определенных хронотопах, это уже и не тело, раз оно взято «изнутри», а скорее сама плоть, восчувствованная так, что «не знает» внутри себя никаких делений на «мое» и «чужое», она просто есть в какой-то высший по интенсивности момент времени, в другой момент ее уже может не быть. По отношению к ней, повторяю, нельзя найти наблюдателя, который бы «увидел», смог коснуться, очертить образ места, которое она занимает в мире. Естественно, что если мы понимаем статус плоти в нашем непосредственном опыте только таким образом, то нам не приходится говорить о ней, как о «живой» в границах Закона или Запрета. Плоть беззаконна и не подчиняется «налагаемым запретам», так как она не соотносима ни с каким «сознанием», "я" или тем более с той формой субъективности, о которой заявило картезианское cogito. Разъятость, агрегатность, несобранность — вот что, пожалуй, ждет нас, если мы вдруг, подобно Бахтину, пожелаем остановить уникальное и сверхбыстрое движение гротескного тела. Все аффектированные, «дионисийские» состояния «внутреннего тела» — а это всегда всеединое становление одного во всем и всего в одном — проявляются как активные силы забывания, стирающие следы культурного опыта, шрамы и метки Закона, т.е. все записанные на нем разделяющие, стигматизирующие, запрещающие и т.п. знаки. Но даже если мы все-таки остановим действие этой великой плоти мира, как это сделал Бахтин, и попытаемся выделить ее «чистую» культурологическую схему, нас ждет неудача. Как же в таком случае познать этот специфический телесный опыт, в который мы повседневно погружены? Гротескное тело как фигура плоти, не имеющая четких очертаний, несводимо к ряду своих оппозиций, которые выделял и исследовал Бахтин (рождение-смерть, высокоенизкое, лицо-низ, хвала-брань и т.п.); оно не представляет собой в момент проявления структурного образования, составляемого из своего рода кривых зеркал, отражающихся друг в друге и вместе с тем легко опознаваемых, ибо «живет», существует, есть в промежутках между культурными оппозициями, налагаемыми на него оптикой языка. Гротескное тело в порядке культурного Закона хронотопично, но в порядке собственного беззаконного проявления — топологично, И этого, как мне думается, не учел Бахтин. Точнее, он ставил перед собой иные цели. Другими словами, гротескное тело в своем дионисийском порыве не может быть структурировано по кантовской модели чувственности (априорность пространства-времени); напротив, оно создает своим становлением тот вид пространства-времени, который необходим для него, чтобы продолжать становление (поэтому-то здесь вообще нельзя использовать термины «пространства-времени», его становление ими не определяется). Проблема, собственно, заключается в том, какую, например, власть (психологическую и культурную) могло бы иметь первое тело над вторым; или в том, не существуют ли иные тела, которые могли бы вписать себя в эти два тела и соединить эти две истории? Из тех наиболее выдающихся исследований творчества Достоевского, которые мы сегодня знаем, — «Поэтика Достоевского» Бахтина, «Хроника рода Достоевского» Волоцкого, «Достоевский и отцеубийство» Фрейда, — можно выявить направление поисков единственного и уникального тела Достоевского, преодолевшего свою двойственность и разрыв собственных историй. Одно направление, которое мы связываем с герменевтическим (диалогическим) принципом интерпретации Бахтина, вообще исключает из анализа реальность безумия и находит единый тип телесности, культурно представленный в гротескно-карнавальном каноне тела. Во всяком случае, Бахтин напрямую связывает структуру романного мира Достоевского, его динамику (особенно скандалов в гостиных) с гротескно-карнавальным образом телесности. Эта попытка жанровой логики захватить произведение Достоевского не представляется нам успешной. Здесь происходит явная переоценка «неофициальности» телесного низа; гротескнокарнавальное тело — это не тело «низа»; оно не подвергалось настолько строгому и непрерывному исключению и запрету, чтобы вообще быть исключенным из нормы телесной жизни. Гротескно-карнавальное тело — это тело нормы, возведенное в степень. Эпоха Достоевского — и это сегодня все более заметно — это не эпоха повторного рождения карнавального жанра как литературной нормы, скорее, это время — эпоха Краффта-Эбинга, период становления перверсивных типов телесности. Действительно, если мы присмотримся к гротескно-карнавальному телу, то увидим, что оно управляется логикой повседневного человеческого опыта — с той лишь разницей, что является реакцией на жесткие каноны нормативного тела. В эпоху Достоевского культурный запрет проходит не здесь; да, конечно, гротескно-карнавальное тело сдвигается на нелитературную периферию, живет в фольклоре, обыденной речи и т.д.; оно не признано, но и не находится под абсолютным запретом. Перверсивное же тело Краффта-Эбинга запрещено как больное тело. Если гротескно-карнавальное тело — это пугающий избыток телесного здоровья, то тело перверсивное — это, прежде всего, сексуально извращенное тело, и оно никоим образом не может быть видимо в повседневной жизни. Почему? Прежде всего, потому, что оно лишено какого-либо культурно-адаптивного смысла, это тело - одна из ошибок природы. Однако перверсивное тело Краффта-Эбинга может отчасти служить моделью для телесной практики персонажей в романах Достоевского; работа всех органов этих персонажей — в отличие от нормального тела — смещена и деформирована, здесь очень сильна тенденция к фетишизации полового чувства. Перверсивное тело лишено радости, это тело запрещенного наслаждения. Гипертрофированность по величине, по силе, динамике и т.п. органов гротескнокарнавального тела и их взаимозаменяемость вовсе не делает это тело перверсивным и ни в чем не нарушает его возможных биологических и генетических функций. Даже напротив, — только усиливает их, подкрепляет, интенсифицирует, но ни в коем случае не искажает до перверсивной анатомии тела. Психиатризованное тело — это по сути дела приговор, поскольку психиатризации подвергаются любые способы достичь сексуального удовлетворения вне связи с деторождением. Психиатризация и ставит своей целью опутать тело физиологическими запретами, признать весь спектр сексуальных наслаждений, лежащих вне нормы, противоположными самой природе человека. Перечисление перверсии — это установление законов и правил нормального использования своего тела. Называние отдельной перверсии есть ее запрет. Всей практикой называния руководит язык, который, как полагает Барт, не способен передать целостный образ тела. «Будучи аналитическим, язык захватывает тело только если оно раздроблено; целостное тело - вне языка; единственное, что достигает письма — куски тела; для того, чтобы сделать тело видимым, необходимо или сместить, отразить в метонимии его одежды, или свести его к одной из его частей, описание становится тогда визионерским, счастье выражения вновь обретается…» (44) Бахтин представляет гротескно-карнавальное тело посредством его языкового расчленения: каждый орган имеет свое имя (это рука, это глаз, это зад и т.д.). Другими словами, только язык способен сделать это тело видимым, но одновременно и агрегатным. Перверсивное фетишистское тело Краффта-Эбинга повторяет гротескное тело тем же самым использованием языка. Метонимическое расчленение тела как member dijecta . Язык контролирует опыт гротескного тела как тела жизни и нормализует его, делает его видимым со всех сторон. Этот момент очень важен для понимания различия между структурой диалогического высказывания и психомимесисом. Когда трансцендентальная схема диалога вводится в тексты Достоевского, а вместе с ней особое место уделяется символу как центральному коммуникативному посреднику, то именно в силу ее качественных черт исключается из сферы понимания и анализа то, что не поддается интерпретации через символ. Исключается возможность описания телесных практик, независимых от диалогических структур, которая не только не подрывает их, но даже и не исчерпывает хоть отчасти, а скорее исключает, поскольку эти практики акоммуникативны и не поддаются герменевтическому анализу. С самого начала диалогическое высказывание требует для себя, по крайней мере, «двух голосов», двух равноправных субъектов, вступающих в равноправный диалог (двух «сознаний», "я" и т.п.). Фундаментальные, как их называет Бахтин, конститутивные особенности высказывания следующие: 1) смена речевых субъектов, определяющая границы высказывания; 2) завершенность высказывания. Ответ-вопрос, вопрос-ответ — в этом непрерывном чередовании «моего» и «чужого» в высказывании устанавливаются его границы; как бы и сколько бы ни длилось высказывание, оно должно быть завершено; интересно и то, что, говоря, субъекты как бы переключаются из одной жанровой формы в другую; в этом смысле любое (даже самое сложное) диалогическое высказывание всегда разложимо на атомы, мельчайшие жанровые формы и всякое высказывание не может не подчиняться этой жанровой логике. Так, исследуя Достоевского, Бахтин разлагает его речевые структуры по логике, диктуемой жанрами «диалога на пороге» (мениппея); другой тип диалогической речи (в экстремальной ситуации) — карнавализация как жанр и т.д. «Речевые жанры организуют нашу речь», они выступают в качестве культурно-принудительных форм нашего речевого поведения. Жанровая логика как бы пред-дана нашему видению, мы «видим» только то, что уже сказано в самом жанре: мы видим жанровые сцены («скандал в гостиной» строится по логике жанра карнавала (мениппея); другими словами, жанровая логика есть форма высказывания, которая включает в себя определенную структуру мира, отражает в себе, как в «монаде», тип пространства, времени, ориентацию, дистанции, в пределах которых действуют по отношению друг к другу субъекты высказывания. Иначе говоря, диалогическое высказывание, — а это обмен вербальными смыслами (знаки, символы), — определяет в конечном итоге нашу возможность правильно читать Достоевского; это, так сказать, «внутренняя форма» его романных миров. Получается, что всякий субъект, строящий свою речь, как бы постоянно производит в ней переключения с одного языка на другой, но в пределах общей жанровой формы. В каждый момент высказывания субъект «присваивает» речь Другого как «свою», т.е. в каждый момент он осуществляет действие присвоения и в этот же момент он как бы господствует, утверждает свою субъективность в качестве единственной реальности. Тело-аффект, или «тело без органов» (А.Арто) Допустим, что существуют такие телесные состояния, когда, лишаясь пороговой защиты (все того же Я), наше тело открывается силам становления, захватывается психосоматическими вихрями, смещениями, колебаниями, падениями. И то, что мы ранее называли грамматической структурой тела и помечали как Я-здесь, Я-тело, Я-чувство, становится чем-то подобным «кинестетической амебе» (Арнхейм), протоплазматической субстанции (Эйзенштейн, Райх), гротескной телесности (Бахтин), дионисийскому танцующему телу (Ницше, Арто), уже не имеющим четких организмических границ; при этом экзистенциальная территория расширяется или сужается в зависимости от сил, действующих в потоке становления, т.е. становится трансгрессивным телом (Батай), превозмогающим собственную границу, поставленную телом Другого, и поэтому выскальзывает за «человеческие», антропоморфные границы. «Превозмогающим собственную границу» — и именно поэтому, переходя из одного состояния в иное, подобное тело не переходит в другое, так как является не ставшим, а становящимся телом, имманентным своей незавершенности и неоформленным отражательными свойствами порога. Вот это-то тело мы и называем телом-аффектом, памятуя о том, что любая сильная эмоция, шок или подъем чувств создают в нас движение, которое направляется против организма и Я-чувства. «Сильная эмоциогенная ситуация является, если можно так выразиться, агрессией против организма. Мобилизация энергетических ресурсов организма в этом случае столь велика, что исключает возможность их использования в адаптивных реакциях; возбуждение приводит к „биологическому травматизму“, характеризующемуся, в частности, нарушениями функционирования органов, иннервируемых симпатической или парасимпатической системой»(45). Все происходит так, что подлинная реальность переживания — как только мы ее достигаем — освобождает нас от тела как материально-биологического субстрата, в это мгновение сильного переживания делая такое тело бесполезным, «опустошенным», и мы оказываемся в другой реальности, реальности внетелесных (внеорганических) состояний, возможно более высокой и бесконечно более значимой для нас, чем та реальность, которую мы называем реальностью «моего тела». Это тело, тело-аффект не может быть изображено или сконструировано (хотя многие — и не только Арто — пытались это сделать). С самого начала можно предположить, что существует некий изначальный, если хотите, нулевой порог, где тело = собственному состоянию, и тогда, захваченное этим состоянием, оно не может быть защищено никаким порогом; его отражательная способность минимальна, силы Внешнего «пропитывают» его, и оно существует в эти мгновения так, как если бы было не в силах выделиться из потока становления мировых сил. Это — телоаффект. В сущности, этот вид тела может быть приравнен материи становления (тела, о которых говорят как о телах «высшей» или «чистой страсти», тела экстатические, сомнамбулические, шизо-тела, тела «световые» и т.п.). Все же другие тела и их состояния образуются по мере расширения наших возможностей отражать ответным действием тела любые возмущения, исходящие от мира Внешнего, т.е. воспринимать их (причем Внешним будет являться для нас любое воздействие, откуда бы оно ни исходило — из глубин нашего организма или от света далеких звезд). 1. Антонен Арто «Тело есть тело, оно одно, ему нет нужды в органах, тело не организм, организмы — враги тела, все, что мы делаем, происходит само по себе, без помощи какого-либо органа, всякий орган — паразит…» Реальность до сих пор не была еще создана, так как не были составлены и расставлены по местам истинные органы» (46). «Чума берет спящие образы, сокрытый внутри распад и внезапно доводит их до самых крайних жестов; вот так же и театр берет жесты и доводит их до крайности: подобно чуме, он заново создает цепочку между тем, что есть, и тем, чего еще нет, между виртуальностью возможного и тем, что существует в овеществленной природе. Он заново обнаруживает представление о фигурах и символах-типах, которые действуют подобно внезапным молчаниям, подобно вставным ферматам, перерывам в биении крови, пробуждениям страстей, воспаленным вспышкам образов в нашем внезапно пробужденном сознании; он заново восстанавливает все спящие в нас конфликты вместе с их силами, давая силам этим имена, которые мы приветствуем как символы» (47). Поэзия и мысль Арто вводят нас в проблематику тел без органов, тел-аффектов. Арто начинает с чумы. Почему ему так необходим этот слишком «сильный» образ тела без органов? Тело закрыто, защищено своими органами-орудиями и органами-покровами, оно незыблемо и неприступно, оно не допускает в себя ничего Внешнего, а если допускает, то только на условиях уже обработанного органами Внутреннего. Как одолеть «организмы», как освободить сокрытые и подавленные в них силы жизни? Возможно ли освобождение реальности жизни от тел-организмов, тел-паразитов, ее населяющих, возможно ли то, что Арто называл decorporisation de la realite * (48)? Чумная атака должна иметь свою стратегию и тактику. Основная цель — это легкие и мозг как сосредоточения сил воли и рассудка. В своих подчас совершенно фантастических размышлениях об особых качествах чумы Арто приходит к выводу, что чума — это болезнь, которая поражает прежде всего волю и сознание, т.е. болезнь скорее абстрактная, ментальная или «спиритуальная», нежели инфекционная в привычном медицинском смысле. Все начинается с того, что тело заболевшего покрывается красными пятнами. В центре пятен образуются жгучие точки, вокруг этих точек кожа приподымается волдырями, которые похожи на пузырьки воздуха под верхней коркой лавы; пузырьки эти очерчены концентрическими кругами, последний из которых, подобный кольцу Сатурна вокруг ярко светящейся звезды, помечает собой крайнюю границу бубона. Тело изборождено ими. Но подобно тому, как вулканы имеют свои точки подъема над поверхностью земли, у бубонов есть свои излюбленные точки подъема по всему человеческому телу. На два-три пальца от паховой складки, под мышками, в бесценных и уязвимых местах, где активные железы старательно осуществляют свои функции, появляются бубоны; через них организм выделяет либо свою внутреннюю гниль, либо, в зависимости от случая, и саму свою жизнь. Сильное высыпание, четко локализованное в одной точке, чаще всего указывает на то, что жизненный центр не утратил своей силы и что возможна ремиссия или даже выздоровление. Подобно белому гневу, самая страшная чума — та, которая не выдает свои симптомы" (49). Полный набор тактических инструментов для тотальной шизо-интерпретации тела: и, прежде всего, совокупность «жизненных точек», сквозь которые прорываются жизненные силы, более не нуждающиеся в организме или, точнее, в устойчивой организации каналов коммуникации с внешней средой. В этих точках открывается другой порядок жизненных сил. Вспомним об изысканиях Арто в области китайской акупунктуры, когда он пытается применить ее рекомендации в деле порождения истинных качеств крика. Чтобы захватить точку, которая поможет ему проявиться, «мы находим точку сосредоточения этого дыхания, мы распределяем дыхание по разным сочетаниям сжатия и расслабления. Мы используем наше тело как решето, сквозь которое мы тщательно просеиваем волю и слабость этой воли» (50). Тело-решето — вот что необходимо, чума делает свою работу превосходно. Замысел Арто должен был оправдать «театр жестокости»: освободить тело от органов, высвободить чистые энергии жизни, которые, если этого не сделать, так и останутся заточенными в системе органов, откуда им нет выхода, разве только в виде ужасающей по своим последствиям болезни. Чумная атака «освобождает» тело от органов, но не спасает его. Не проще ли было бы, используя опыт чумных эксцессов, научиться проявлять тело без органов с неменьшей силой и жестокостью, но как бы минуя завершающую стадию эксперимента — смерть? 2. Ж.Делёз, Ф.Гаттари: «Тело без органов: наступает момент, когда тело, пресытившись органами, хочет их сбросить — или теряет их. Длинная вереница тел. Тело ипохондрическое: его органы разрушены, непоправимый ущерб уже нанесен, больше ничего не происходит; «мадемуазель X утверждает, что ни мозга, ни нервов, ни груди, ни живота, ни внутренностей у нее больше нет, остались только кожа да кости полностью дезорганизованного тела — это ее собственные слова». Тело параноическое: органы подвергаются непрестанным атакам извне, но и восстанавливаются благодаря притоку внешних энергий; «долгое время он жил без желудка, внутренностей, почти без легких, с разорванным пищеводом, без мочевого пузыря, с раздробленными ребрами, иногда вместе с пищей он проглатывал кусок собственной глотки, и так далее. Но божественные чудеса („лучи“) всегда восстанавливали разрушенное». Тело шизоидное, приступающее к активной внутренней борьбе, которую оно самостоятельно ведет против органов — ценой кататонии. Далее, тело наркотическое, экспериментальный шизоид: «Человеческое тело вопиюще неэффективно. Почему бы вместо рта и заднего прохода, которые то и дело выходят из строя, не пробуравить одну дыру на все случаи жизни — чтобы и есть, и испражняться? Мы могли бы закупорить нос и рот, заткнуть желудок и провести вентиляционное отверстие прямо в легкие, где ему, кстати, и место». Тело мазохистское: его не понять до конца с учетом одной боли, это, прежде всего, проблема тела без органов; работающие с ним садист или проститука должны зашивать каждое его отверстие: глаза, задний проход, уретру, соски, нос; оно заставляет подвешивать себя, чтобы остановить работу органов, сдирать с себя кожу, точно органы липнут к ней, драть себя в задницу, душить — чтобы наглухо запечатать любую отдушину. Откуда столь унылая вереница остекленевших, кататонических, выжатых как лимон, наглухо зашитых тел — разве тело без органов не полнится в то же время радостью, экстазом, танцем? С чего бы тогда именно эти примеры, почему нужно начинать с них? Тела пустые вместо наполненных… В чем тут дело? Хватило ли вам осмотрительности? Не мудрости — осмотрительности. В умеренных дозах; таково имманентное правило экспериментации: инъекции осмотрительности. В этой битве многие потерпели поражение. Действительно ли это так печально и опасно — когда нам до смерти надоедает видеть своими глазами, дышать своими легкими, глотать своим ртом, говорить своим языком, думать своими мозгами, иметь анус, глотку, голову и ноги? Почему бы не ходить на голове, не петь брюшной полостью, не видеть кожей, не дышать животом: простая Вещь, Сущность, наполненное Тело, Путешествие на месте, Анорексия, кожное Видение, Йога, Кришна, Любовь, Экспериментация — почему бы нет? Там, где психоанализ призывает: «Стойте, найдите снова свое Я», нам следовало бы сказать: «Идем дальше, мы еще не нашли свое тело без органов, не до конца разобрали свое Я». Замените анамнез забыванием, интерпретацию — экспериментацией. Найдите свое тело без органов, узнайте способ сделать это, это вопрос жизни и смерти, юности и старости, печали и радости» (51). «За рамками организма — но и как предел тела, данного в переживании, — существует тело без органов, открытое и названное так Арто. «Тело есть тело, / оно одно, / ему нет нужды в органах, / тело не организм, / организмы — враги тела. Тело без органов противостоит не органам как таковым, но той организации органов, которую называют организмом. Это тело интенсифицированное, интенсивное. Некая волна пробегает по такому телу, намечая в нем те или иные уровни и пороги в зависимости от своей меняющейся амплитуды. Итак, у этого тела нет органов — есть лишь пороги и уровни. Так что ощущение бескачественно и не поддается качественному определению; оно обладает лишь интенсивной реальностью, определяющей в нем уже не репрезентативные данные, но всевозможные аллотропические вариации. Ощущение — это вибрация. Известно, что яйцо представляет как раз такое состояние тела „до“ органической репрезентации: всевозможные оси и векторы, градиенты, зоны, кинематические движения и динамические тенденции, по отношению к которым формы случайны и вторичны. „Ни рта. Ни языка. Ни зубов. Ни глотки. Ни пищевода. Ни желудка. Ни живота. Ни заднего прохода“. Целая неорганическая жизнь — ведь организм не жизнь, а темница жизни. Тело: совершенно живое и все-таки не органическое. Поэтому ощущение, пронизав организм и достигнув тела, принимает характер эксцессивный и спазматический, прорывает границы органической жизнедеятельности» (52). «В жизни существует множество неоднозначных подходов к телу без органов: алкоголь, наркотики, шизофрения, садомазохизм и т.д. Но вот можно ли назвать „истерией“ живую реальность этого тела — и в каком смысле? Волна с изменчивой амплитудой пробегает по телу без органов; она намечает в нем те или иные зоны и уровни в соответствии с изменениями своей амплитуды. При столкновении этой волны на таком-то уровне с внешними силами возникает ощущение. Следовательно, этим столкновением определяется какой-то орган — однако орган временный, сохраняющийся лишь до тех пор, пока продолжается движение волны и действие силы. Когда же волна прокатилась дальше, а действие внешней силы прекратилось, этот орган трогается с места и располагается где-то еще. „В абсолютной темноте рот и глаза стали одним органом, который норовит укусить прозрачными зубами… Но ни один орган не имеет ни постоянной функции, ни постоянного местонахождения… повсеместно произрастают гениталии… открываются, опорожняются и вновь закрываются прямые кишки… весь организм меняет цвет и консистенцию — аллотропические изменения налаживаются в доли секунды…“ На самом деле тело без органов лишено не органов: мы не найдем в нем только организма, этой организации органов. Значит, основной признак тела без органов — некий неопределенный орган, тогда как признак организма — четко определенные органы: „Почему бы вместо рта и заднего прохода, которые то и дело выходят из строя, не пробуравить одну дыру на все случаи жизни — чтобы и есть, и испражняться? Мы могли бы закупорить нос и рот, заткнуть желудок и провести вентиляционное отверстие прямо в легкие, где ему, кстати, и место“. Но как можно говорить, что речь действительно идет об одном поливалентном, на все случаи жизни, отверстии — или о каком-то неопределенном органе? Разве нет строгого разграничения рта и ануса, разве можно перескочить от одного к другому без всякого перехода, в мгновение ока? Разве нет четко обозначенного рта даже у „туши“ — рта, узнаваемого по его зубам и не сливающегося с прочими органами? Необходимо уяснить следующее: по телу пробегает волна; на том или ином уровне определяется, сообразно встреченной волной силе, какой-то орган; этот орган меняется, если меняется сама сила или происходит переход на иной уровень. Короче говоря, основной признак тела без органов — не отсутствие всяких органов и не только наличие какого-то неопределенного органа, но в конечном счете временное и преходящее присутствие органов определенных» (53). «Мы постепенно начинаем понимать, что тело без органов — вовсе не противоположность органам. Его враги не органы. Враг его — организм. Тело без органов противостоит не органам, но той организации органов, которую называют организмом. Верно, что Арто ведет борьбу против органов --- но при этом целит он как раз в организм, именно против организма он имеет зуб: »Тело есть тело,/ оно одно, / ему нет нужды в органах, / тело не организм, / организмы — враги тела». Тело без органов не противостоит органам: вместе со своими «истинными органами», которые должны быть составлены и расставлены по местам, оно противостоит организму, органической организации органов. Суд Божий, система Божьего суда, система теологическая — вот что такое действие Того, кто создает организм, организацию органов, называемую организмом, — потому что Он не может вынести тело без органов, потому что Он преследует и потрошит его, чтобы пройти первым самому и протолкнуть вперед организм. Организм — это уже суд Божий, чем пользуются в корыстных целях врачи и на чем они основывают свою власть. Организм — вовсе не тело, не тело без органов, но лишь некий страт на этом теле, т.е. феномен аккумуляции, коагуляции и седиментации, навязывающий телу без органов всевозможные формы, функции, связи, доминирующие и иерархизованные организации, организованные трансценденции — чтобы добыть из него какой-то полезный труд. Страты — это путы, клещи. «Свяжите меня, если хотите». Мы непрестанно стратифицируемся. Но кто это «мы», которое не есть "я", — ведь субъект точно так же, как и организм, принадлежит к какому-то страту и от него зависит? Теперь у нас есть ответ. Это тело без органов, это та ледниковая реальность, где образуются все эти аллювиальные наносы, седиментации, коагуляции, складки и разглаживания, из которых составляется организм — а также значение и субъект" (54). «Тело без органов устроено так, что занимать или заселять его могут лишь интенсивности. Протекают и циркулируют только интенсивности. При этом тело без органов — не сцена, не место, даже не опора, на которых что-либо может протекать. Ничего общего с фантазмом, интерпретировать тут нечего. Тело без органов вызывает протекание интенсивностей, оно производит и распределяет их в таком spatium ’ e , который сам по себе интенсивен, лишен протяженности. Оно не пространство и не в пространстве, оно есть материя, в той или иной мере занимающая пространство — в той мере, которая соответствует произведенным интенсивностям. Тело без органов — интенсивная, неоформленная и нестратифицированная материя, интенсивная матрица, нулевая интенсивность — но в этом нуле нет ничего негативного: нет интенсивностей негативных или контрарных. Материя равняется энергии. Производство реального как интенсивной величины — начиная с нуля. Вот почему мы рассматриваем тело без органов как наполненное яйцо: до экстенсии организма и организации органов, до формации страт; как яйцо интенсивное, которое определяется осями и векторами, градиентами и порогами, динамическими тенденциями, влекущими превращения энергии, и кинематическими движениями, предполагающими перемещения групп, миграции, — все это независимо от каких-то вторичных форм, поскольку органы тут появляются и функционируют только как чистые интенсивности. Орган меняется, пересекая известный порог, изменяя градиент. „Ни один орган не имеет ни постоянной функции, ни постоянного местонахождения… повсеместно произрастают гениталии… открываются, опорожняются и вновь закрываются прямые кишки… весь организм меняет цвет и консистенцию — аллотропические изменения налаживаются в доли секунды…“ Тантрическое яйцо» (55). «Тело без органов — яйцо. Но яйцо не регрессивно: напротив, оно в высшей степени современно; мы всегда носим его с собой как свою собственную среду экспериментации, свою ассоциированную среду. Яйцо — среда чистой интенсивности, spatium , а не extensio . Нулевая интенсивность как принцип производства. Налицо фундаментальное срастание науки и мифа, эмбриологии и мифологии, биологического яйца и яйца психического или космического: яйцо всегда обозначает такую интенсивную реальность, в которой не царит неразличенность, но просто вещи и органы различаются только градиентами, миграциями, зонами близости. Яйцо — тело без органов. Тело без органов не существует „до“ организма, оно к нему примыкает — и непрестанно созидает самое себя. Если оно и связано с детством, то не в том смысле, что взрослый регрессирует к ребенку, ребенок — к Матери, но в том, что ребенок — вспомним близнеца-догона, уносящего кусочек плаценты, — отрывает от органической формы Матери некую интенсивную и дестратифицированную материю, что составляет, напротив, его окончательный разрыв с прошлым, его нынешний опыт, нынешнюю экспериментацию. Тело без органов есть блок детства, становление, противоположность воспоминанию детства. Это не ребенок „до“ взрослого, не мать „до“ ребенка: тело без органов есть строгая современность взрослого — ребенка и взрослого, их карта сравнительных плотностей и интенсивностей, а также всевозможные вариации на этой карте. Тело без органов есть именно эта интенсивная зародышевая плазма, в которой нет и не может быть ни родителей, ни детей (органической репрезентации). Вот чего не понял Фрейд в теории Вейсмана: ребенок как зародышевый современник родителей. Так что тело без органов никогда не бывает „твоим“, „моим“ и т.п. Это всегда какое-то тело ( un corps ). Оно не в большей степени проективно, чем регрессивно. Это некая инволюция, но инволюция творческая и всегда современная. Органы распределяются по телу без органов; но распределяются-то они независимо от формы организма: формы становятся случайными, органы уже не более чем произведенные интенсивности, потоки, пороги, градиенты. „Какой-то“ живот, „какой-то“ глаз, „какой-то“ рот: неопределенный артикль не демонстрирует какой-либо нехватки неопределенности или не-различенности, но выражает, напротив, чистую определенность интенсивности, интенсивное различие. Неопределенный артикль — проводник желания. Ведь речь вовсе не о раздробленном, расколотом теле — или об органах без тела. Тело без органов — прямая противоположность всему этому. Нет никаких органов-осколков, сопоставимых с неким утраченным единством, или возврату к неразличенности, контрастирующей с какой-то поддающейся дифференциации целостностью. Есть распределение интенсивных принципов органов, снабженных позитивными неопределенными артиклями, внутри коллектива или множественности, в известном устройстве ( agencement ) и сообразно действующим на теле без органов машинным сцеплением. Logos spermaticos . Ошибка психоанализа — в том, что феномены тела без органов были поняты как регрессии, проекции, фантазмы, поняты исходя из какого-то образа тела. Как следствие, психоанализ ухватил лишь изнанку и сразу же подменил мировую карту интенсивности семейными фотографиями, воспоминаниями детства и частичными объектами. Он ничего не понял относительно яйца, неопределенных артиклей и современности непрестанно созидающей самое себя среды» (56). Попробуем, насколько может позволить данная выборка текстов из работ Делёза и Гаттари, дать некоторые пояснения. Продолжение следует Список литературы 1. Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1987, с.44– 45 (пер.Елизаренковой Т. Я., Топорова В. Н.). 2. Бергсон А. Материя и память. СПб., 1914, с.146. 3. Там же, с.160. 4. Там же, с.71- 72. 5. Там же, с.23. 6. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988, с.83–102. 7. Ницше Ф. Воля к власти, Киев, 1994, с.306. 8. Там же, с.315. 9. Там же, с.316–317. 10. Husserl E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und Phanomenologischen Philosophie. Zweiles Buch, Hague, 1969, S.143–172. 11. Valery P. Reflexions simples sur le corps. — in: Valery P. GEuvres, l.l. P.. 1957, p.926– 929. 12. Ibid., p.931. 13. Dolto F. L’image inconscienle du corps. P., 1984, p.22–23. 14. Pankow G. L’Homrac el sa psychose. P., 1993, p.276. 15. Deleuze G. Logique du sens. P., 1969, p.107. 16. Laing R. D. The Divided Self. New York. 1969, p.57. 17. Merleau-Ponty M. Phenomenologie de la perception. P., 1969, p.175. 18. Бенвенист Э- Общая лингвистика. M., 1974, с.296. 19. Там же. 20. Хрестоматия но истории психологии, М., 1980, с.194. 21. Lacan J. Ecrits. P., 1966, p.94. 22. Anzieu S. The Skin Ego. New Haven and London, 1989. 23. Stern D. N. The Interpersonal World of the Infant. New York, 1985. 24. Anzieu S. The Skin Ego, p. 170. 25. Lacan J. Ecrits, p. 113. 26. Lacan J. Le Seminaire. P., 1973, livre XI, p.I21. 27. Ibid., p.106. 28. Мерло-Понти М., Око и дух. М., 1992, с.23. 29. Sartre J.-P. L’Etre ef Neant. P, 1972, p.459. 30. Lacan J. Le Seminaire, p. 11 9. 31. Sartre J.-P. L’Etre el Neant, p.462. 32. Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1989, с.396. 33. Там же, с.396–397. 34. Ремизов A. M. Избранное. М., 1978, с.441–442. 35- Там же, с.449. 35. Valery P. CEuvres, ML P., 1960, р .215. 36. Anzieu S. The Skin Ego. p.101 -105; Montagu A. Touching. The Human Significance of the kin. New York, 1986, p.14–15. 37. Арбан Д. "Порог" у Достоевского. (Тема, мотив и понятие.) — В кн.: До-стоеоский. атериалы и исследования. Л., 1976, с.19–29. 38. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983, с. 168–169. 39. См.: Катто Ж. Пространство и время в романах Достоевского. — В кн.: Достоевский. атериалы и исследования. Л., 1978, с, 44–47. 40. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с.316. 41. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с.44. 42. Там же, с.47. 43. BarlhesR. Sade, Fourier, Loyola. P., 1971, p.33. 44. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М., 1975, с.117. 45. Artaud A. CEuvres completes, t.XIII. P., 1974, p,288–289. 46. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993, с-27 (пер. С.Исаева). 47. Artaud A. L’Ombilic des Limbes. P., 1954, p.63. 48. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993, с.18. 49. Там же, с.146. 50. Deleuze G., Guattari F. МШе plateaux. P., 1981, p.186–187. 51. Deleuze G. Logique de la sensation, vol.1. P., p.33. 52. Ibid., p.34–35. 53. Deleuze G., Guattari F. Mille plateaux. P., 1981, p.196–197. 54. Ibid., p.189–190. 55. Ibid., p.202–203. 56. Фрейд 3. Психология бессознательного, с.38–120. 57. Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. New York, 1990, p.206–212. 58. Deleuze G-, Guattari F. Anti-(Edipe, p.137. 59. Deleuze G., Guattari F. Mille plateaux, p.21–22. 60. Ibid., p.13–22. 61. Ibid., p.17. 62. Ницше Фридрих. Сочинения в двух томах. М., 1990, т.Н, С.455–456. 63. Флоренский П. А. Органопроекция. — В кн.: Русский космизм. М., 1993,1 с.149– 162. 64. Арто А. Театр и его двойник, с.161 -162. 65. Deleuze G. Spinoza — philosophie practique. P., 1981, p.6. 66. Ibid. Мотив смерти в развитии нормальной телесности © 2005-2009 Е. Газарова Выступление на конференции «Тело: между жизнью и смертью» (Москва, 11–13 ноября 2005 года) Как понимать фразу «мотив смерти в развитии нормальной телесности», которая содержит в себе сразу несколько неизвестных. Что мы подразумеваем под телесностью? Как мы собираемся определять, нормальна данная телесность или нет? Что такое мотив и что такое мотив смерти? Итак, общепринятой дефиниции «телесность» не существует. Психологи и философы стараются уходить от прямых определений, ограничивая себя дискурсивным способом взаимодействия с этим явлением. Такой подход, с одной стороны, обоснован необъятностью и подвижностью явления, открывает горизонты экспериментирования, с другой, накопившиеся знания об этом явлении позволяют все же конкретнее его описать. Поэтому мне кажется возможным все же дать такое определение телесности, в котором были бы отмечены как постоянно присутствующие отличительные свойства и признаки явления, так и изменяющиеся, как неизменные для любого человека, так и зависимые от индивидуальной истории жизни. Телесность человека не тождественна телу (соме-биологическому организму), его свойствам и качествам. Телесность - качество, сила и знак телесных реакций человека, формирующихся с момента зачатия в процессе всей жизни. Она не является продуктом одного лишь тела: эта реальность - результат деятельности триединой природы человека, и потому телесность — «дочерний» феномен: это объективно наблюдаемое и субъективно переживаемое выражение и свидетельство вектора (+ или -) совокупной энергии индивида (здесь греч. energeia - деятельность, активность, сила в действии). Телесность образуется в контексте генотипа, половой принадлежности и уникальных биопсихических особенностей индивидуума в процессе его адаптации и самореализации. Основой формирования телесности является единая память . Телесность проявляется как процесс в форме тела через характерные движения, позы, осанку, дыхание, ритмы, темпы, температуру, «протекаемость», запах и звучание. Телесность изменяема: характер ее меняется в соответствии со знаком телесно-чувственных процессов. Эти изменения не идентичны процессам развития, взросления или старения, но перечисленные процессы влияют на нее и в ней проявляются. Поскольку ее формирование зависимо от внешних и внутренних условий, то значительные изменения этих условий влекут за собой изменения телесности человека. На состоянии телесности отражаются мотивации, установки и, в целом, система смыслов индивидуума, поэтому она хранит обобщенное знание человека и представляет собой материальный, видимый аспект души (психе). Так же, как и тело (слав. tъlo / лат. Tellus - основа, почва, земля), телесность призвана выполнять охранительную и поддерживающую функции в адаптационных процессах, и в этом - ее первое назначение. Уровень развития телесности (диапазон) позволяет человеку в той или иной степени «резонировать» с миром и духовно совершенствоваться, что является другим ее назначением. Третьим, последним назначением телесности является обеспечение безболезненного разъединения души и тела в момент смерти. Следующий вопрос: как мы собираемся определять, нормальна данная телесность или нет? Ибо в данном случае вопрос нормы намного сложнее вопроса патологии. Итак, в переводе с латыни «norma» — правило, образец. Словари дают следующие определения норме: 1) «Общее правило, коему должно следовать во всех подобных случаях; образец или пример» (Даль); 2) «Установленная мера, средняя величина чего-то» (Ожегов); 3) «Предписание, образец поведения или действия, мера заключения о чем-либо и мера оценки. Норма выражает то, что существует или должно существовать во всех без исключения случаях» (Краткая философская энциклопедия) Какая телесность может считаться правильной, мерной, предписанной и образцоводейственной? Из психотерапевтической практики мы знаем, что телесность современного цивилизованного человека, в основном, выполняет ограждающую, или социальнозащитную функцию. Причем, так, как он это понимает, с чем, собственно, и связаны психосоматические заболевания, душевные расстройства и болезненная смерть. Вполне понятно, что такая телесность не может считаться вполне нормальной, хотя для каждого отдельно взятого человека именно его, вот такая, не вполне нормальная телесность — нормальна. Исходя из опыта работы и предложенного определения телесности, под вполне нормальной телесностью я понимаю такую, которая отвечает трем основным назначениям: 1) выполняет охранительную и поддерживающую функции в адаптационных процессах; 2) позволяет человеку в той или иной степени «резонировать» с миром и духовно совершенствоваться; 3) обеспечивает безболезненное разъединение души и тела в момент смерти. Теперь о мотиве. В переводе с итальянского " motivo " — основание, движущая сила. В контексте данного исследования уместным является определение мотива в теории музыки: «мотив — наименьшая часть мелодии, которая обладает ясным, определенным музыкальным содержанием… Отдельные мотивы (особенно начальный мотив) определяют характер мелодии в целом» (Краткий музыкальный словарь). Предполагая наличие мотива смерти в развитии нормальной телесности, я выдвигаю гипотезу о том, что этот мотив является основным ведущим мотивом движущих сил, определяющих это развитие. Как и когда появляется мотив смерти в жизни человека? Конечно же, в момент зачатия. Ясность этого явления («гибель» сперматозоида в яйцеклетке) не оставляет сомнения в том, что в начале развития жизни лежит смерть, смысл которой — жизнь. Создание сопряжено со смертью части создающего, но для того чтобы оно свершилось, необходимо место, в котором можно было бы умереть, и место это — начало. Только придерживаясь аксиоматичности восприятия и мышления можно это постичь, поскольку мы здесь сталкиваемся с взаимообусловленностью бессмертия и смерти: начало уже должно существовать для того, чтобы некое новое содержание через свою смерть положило бы в нем новое начало. Сравнение смысла и механизмов зачатия и последующего развития с механизмами и смыслом развития нормальной телесности человека позволяет обнаружить в обоих случаях мотив смерти как базовый паттерн развития. Наблюдаемый факт: в трансформирующих жизнь событиях непременно проявляется универсальный для всех мотив смерти. Но в каждой истории жизни этот мотив приобретает уникальный характер, поскольку проявляется для уникальных характеров, в уникальных условиях данной жизни, вызывает уникальные состояния перехода, и призван помочь решить уникальные цели и задачи развития души. И, тем не менее, есть некая закономерность, общая для всех людей, так как все мы живем в своей телесности: для того, чтобы требуемое новое содержание стало доступным развитию, необходима определенная «готовность» телесности, ибо память телесностии есть то начало. Индивидуальная телесность отражает характер человека, и потому мотив смерти появляется на стыке характерных для него кризисных событий: в этот период,с одной стороны, наблюдается заострение особенных черт характера, большая рельефность черт телесности, состояние дискомфорта — иначе, дефицитарность, с другой — появление некоего внешнего условия «смерти»этого дефицита. На таком стыке телесность становится более восприимчивой к изменениям, но шанс к изменениям появляется только при готовности к преодолению или принятию условий смерти. Рассмотрим эти положения на примере анализа телесности, достаточно типичной для психастенического типа характера. (Психастения — психическая слабость, истощаемость). Движения психастеника выражают вовне постоянное сомнение в необходимости принять решение и совершить действие. Потому часто резкие и рваные движения чередуются с замирающими. Наиболее распространенные позиции тела: свернутые плечи, вдавленная грудь, нагруженная спина и напряженные, особенно в коленях, ноги. Основные напряжения в пояснице, шее, коленях и голеностопе. Частыми становятся нарушения верхнего и средне-грудного отдела позвоночника и шеи. (Иногда встречается другой тип телесности — расслабленный, как бы «стекающий» к земле). Дыхание неравномерное и замирающее, особенно слабое — грудное. Ритмы и темпы колеблются в очень большой амплитуде от самых слабых и медленных до сильных и быстрых в зависимости от напряжения и истощаемости. Температура тела — с тенденцией к психосоматическим подскокам и снижениям; часто — гипотония. Протекаемость затруднена в груди, плечах, кистях, паху, коленях. Звучание голоса наполненное (сочное) только в счастливые моменты жизни, чаще — натужное, сменяется с сиплого на трескучее, демонстрируя сомнение в собственной правоте и необходимости позиционирования. Общий вектор энергии, как правило, аутоагрессивный. Нормальна ли данная телесность? — только в известной степени и с социальной точки зрения, поскольку призвана защитить и оградить совестливого, вечно тревожащегося и сомневающегося в себе психастеника от крушения в жестком и агрессивном социуме. И только до тех пор, пока ощущения напряжения (или чрезмерного расслабления) чувствующей телесности не становятся невыносимыми. С этого момента она уже не отвечает даже критериям индивидуальной нормы психастеника, поскольку уже не обеспечивает его сохранность в мире в силу зашкаливающих напряжений или расслаблений. Начинает зреть дискомфорт и оформляться дефицит, еще больше заостряющие «трудные» черты характера и телесности. И тогда, на пике такого кризиса появляются достаточно типичные внешние условия «смерти» этих дискомфорта и дефицита. Каковы же достаточно типичные условия такой «смерти» для психастеника? Иначе, как для психастеника звучит мотив смерти? Здесь проявляется секрет универсума: мотив смерти всегда и для всех звучит как основной запрос человека, но зеркально. Основным, часто скрытым, но внутренне «громким» желанием психастеника является страстное желание безусловной любви и внутреннего покоя. Именно поэтому кризисные моменты в жизни психастеника отмечены такими событиями, в которых содержится максимальное число беспокойных ситуаций и фрустраций на тему безусловной любви и покоя. С одной стороны, он и сам формирует такие ситуации, с другой, — и здесь место некой мистике пространства и скрытых целей развития души — они появляются как бы ниоткуда. Создается такое впечатление, что эти ситуации многократно возникают специально для того, чтобы человек непременно справился бы со своими особенными чертами характера — нерешительностью, склонностью к сомнениям, тревожностью, недооценкой себя и переоценкой других, и, самое главное — психической истощаемостью, ключом к которой чаще всего и бывает неспособность решить проблему любви и покоя. Но чем более страстный запрос, тем чаще психастеник ошибается в узнавании подлинности событий и людей, поскольку больше всего боится рискнуть и ошибиться и потому идет на поводу у своих иллюзорных представлений о желанном. Потому вектор его совокупной энергии, которую и позиционирует телесность, направлен в сторону стагнации и аутоагрессии. Здесь-то и возникают психосоматические бронхиты, ларингиты, трахеиты, болезни суставов, дерматиты, снижение зрения и пр. Становится ли навязчиво повторяемый мотив смерти базовым паттерном развития в таком случае? — нет, поскольку его фундаментальным качеством является зачатие новой жизни, которого здесь не происходит. Но размышляющий и наблюдательный человек с течением времени может догадаться, что неспроста такая навязчивая повторяемость именно этого мотива, сеющего семена внутреннего раздора. И что, при всей ценности, его запрос — лишь один из поводов для какой-то более существенной цели его жизни. Иными словами, верно и точно узнать смысл мотива смерти. И тогда он согласится меняться. Такое положение дел потребует от склонного к сомнениям человека способности рисковать, пробовать новое, отказываться от привычной стратегии «Как бы чего не вышло!», искать необычных тактических решений. Душевным переживаниям необыкновенной силы вначале вновь сопутствует обострение стереотипа телесности. И становится ясно, что если не начать действовать, то психосоматика будет развиваться дальше и глубже (что и бывает чаще всего). Но ведь новые действия предполагают не только осознавание необходимости изменений, но и перестройку привычных движений, позиций, дыхания, звучания и прочих проявлений телесности! Причем, осознавание для психастеника всегда легче, потому желаннее, а вот изменения стереотипов телесности проходят очень тяжело, поскольку связаны с актуализацией чувств, которых он стремится избежать. Поэтому есть такое наблюдение, что у психастеников существенные изменения стереотипов телесности происходят либо в результате сильного внушения (и самовнушения) и/или потрясения, либо в результате направленной работы с телесностью, либо и того, и другого. Нужно сказать, что «точки входа» в работу с телесностью определяются индивидуально: для кого-то она начнется с изменений стереотипов и характера движений — и за этим стоит скрытая работа с нерешительностью и непоследовательностью, со способностью решительно совершать поступки. Для когото — с дыхания, и за этим стоит работа с фрустрацией чувств и большей выносливостью при стрессах. Для кого-то — с ощущений, и за этим стоит работа с ощущением себя единой в разнообразии, устойчивой, но гибкой опорой себе и другим. В любом случае, корректно проведенная, такая работа приводит к большим позитивным изменениям. И если эти изменения поддерживаются и происходят вкупе с осознанием смысла самих изменений, то телесность становится менее уязвимой, более пластичной в дыхании, ритмах, темпах и протекаемости, доступной притоку и обработке более разнообразной информации разными, а не стереотипными, способами. И это — самый важный аспект процесса развития, спровоцированного мотивом смерти. Потому что именно этот аспект является свидетельством появившейся способности к преодолению страха смерти и через эту способность — к преодолению заданности, узкого восприятия и ограниченных душевных стереотипов. Становится ли верно и точно узнанный мотив смерти базовым паттерном развития в этом случае? — да, поскольку его фундаментальным качеством является зачатие новой жизни! Является ли он одним из важнейших условий развития нормальной телесности? Психология телесности и психосоматика / Арина Г.А. Психосоматический симптом как феномен культуры Мысль о способностях и функциях сознания порождать феномены, симптомы телесных нарушений живет в современной медицинской и психологической науке и практике какой-то странной двойной жизнью: утверждаясь все прочнее в прикладных интерпретативных схемах практикующих врачей и психологов, превращаясь зачастую в удобный конструкт-миф "все - от нервов", в науке идея активной роли механизмов сознания оказывается редуцированной до скромной и неопределенной идеи "влияния". Мифологический панпсихологизм прекрасно уживается с "научным" представлением о здоровом теле как хорошо отлаженной машине, для которой вмешательство психологических (сознательных) сил только разрушительно.В этом пункте неожиданно пересекаются построения 2-х теорийантагонистов - психоанализа и кортико- висцеральной. Согласно этим взглядам, здоровая телесность человека предетерминирована и, в идеале, - рефлекторна. Содержательный анализ и критику данного подхода в контексте проблемы сознания см. в работе Зинченко В.П. за 1990 год. Логическое следствие подобного рассуждения выглядит довольно парадоксально: освобождение от жестких пут предетерминированности телесность получает через болезнь, ибо получает свое субъективное существование, новые степени свободы и регуляции. По той же логике психосоматический феномен отождествляется с симптомом, так как обретает право на существование только в цепочке причинно-следственных связей, закономерностей болезни. При такой постановке вопроса здоровая телесность оказывается оторванной, отделенной от психоcоматичеокой феноменологии, а значит, и от психосоматической проблемы. Абсолютизация патогенеза симптома выводит за рамки психосоматической проблемы обширное поле феноменов психической саморегуляции и произвольного контроля телесных и вегетативных функций, и наконец, отрывает саму проблему от развивающегося контекста нормальной психологии. Преодолеть "коллекционирующий" характер психосоматических исследований, соединить в единой концептуальной схеме онтогенез телесности и актуалгенез психосоматических расстройств возможно на основе пересмотра определения объекта психосоматической проблемы: нужно утвердить и операционализировать представление о телесности как явлении культурно-историческом и развивающемся (Л.С.Выготский). Согласно этому подходу, главный вектор развития телесности совпадает о центральной линией развития любой психической функции и видится как преобразование ее (телесности) в универсальный символ и орудие (12). Телесность встраивается в общий ход психического развития как необходимое условие и инструмент его, и подобно любой психической функции, обретает знаково-символический характер, "культурную" форму. Предпосылки анализа психосоматических явлений как знаково-символических были созданы еще в психоанализе. Исходным и ключевым моментом психосоматического симптомообразования З.Фрейд считал конфликтный смысл. Сам процесс его воплощения в симптом Фрейд описывал с помощью образа реки, текущей по двум руслам: препятствие на пути движения потока бессознательных смыслов и переживаний в первом русле с необходимостью ведет к переполнению в русле, соединенном с ним, - это и есть прорыв бессознательного. Для Фрейда не имеет принципиального значения, произошел ли прорыв в сфере телесных функций (и тогда возникает такой психосоматический симптом как конверсия) или в сфере открытого поведения (и тогда возникают многочисленные симптомы "психопатологии обыденной жизни"). На вопрос о носителе смысла в телесном русле нет однозначного ответа, но можно вычленить 2 пути, 2 механизма прорыва в телесную сферу: • в первом случав, носитель - телесные иннервации, а симптом - вариант нормального выражения чувств в телесных иннервациях, закрепившийся в силу ситуативных совпадений с определенными переживаниями. Эта линия анализа нашла свое дальнейшее развитие в трудах Кеннона, Селье, последователей школы Психосоматической Медицины. • главные черты второго механизма - его неспецифичность, "отвязанность" от содержания переживаний, смыслов. Психосоматический симптом выполняет функцию разрядки напряжения. Описанный - динамический - аспект процесса симптомообразования задает предмет собственно психофизиологических исследований, определяет границы психосоматического феномена внутри психофизиологических соотношений. В исследовательском плане обладает определенной автономией, позволяющей изучать процессы симптомообразования как вне контекста культуры, так и вне психологического онтогенеза. Второй путь симптомообразования раскрывает содержательную компоненту прорыва смысла. Носитель смысла - язык тела. Психосоматический симптом конверсия - с помощью органов тела, на языке тела в форме аллегории воплощает конфликтный смысл. Актуалгенез симптома является производным от истории развития личности, ее онтогенеза: и конфликтный смысл и форма его объективации в симптоме детерминированы характером и стадией опредмечивания либидо. В такой постановке психосоматической проблемы содержатся многие важнейшие предпосылки культурно-исторического подхода к телесности: симптомогенез содержательно и структурно зависит от характера и хода социализации человека; психосоматический симптом возникает на основа собственно человеческого психического новообразования - смысла, имеет знаково-символический характер; вписан в контекст межличностных отношtний. В рамках психоанализа психосоматическая проблема обрела два интереснейших для психологического иcследования аспекта - выбора симптома и выбора органа. Ответить на вопрос о том, каким образом произошел выбор симптома и выбор органа. - это и значит, во-многом, разрешить проблему симптомогенеза. Однако общие недостатки психоаналитического подхода имеют свою проекцию и в конкретной модели процесса симптомообразования. В модель заложены жесткие ограничения, связанные прежде всего с представлением о природе и содержании самого конфликтного переживания. Согласно психоанализу, порождающий конверсию смысл укоренен в раннем периоде развития личности, он эгоцентричен по направленности. по содержанию - отвечает принципу удовольствия, функционирует только в пространстве межличностных отношений. Конверсия, в узком смысле слова, - коммуникативный жест самопрезентации. Конверсионный симптом не столько символичен (воплощает смысл), сколько аллегоричен, ибо он изначально рассчитан на своего истолкователя (возможно, не только в интерпсихологическом плане, но и в интерпсихологическом)-. Он существует не столько из-за чего-то, сколько ради, для чего-то. Психоанализом рассмотрен единственный и очень специфичный вид симптома, для которого паттерны механизмов "из-за чего" и "для чего" во многом совпадают или закономерно между собой взаимосвязаны, а смыслы, воплощенный в симптоме и обретенный в результате психоаналитической интерпретации, принадлежат единому смысловому образованию. В дальнейшем расширение границ понятия конверсии шло по пути абсолютизации описанных в психоанализе характеристик процесса симптообразования: смысл всем симпотам приписывался жестокий, коммуникативный, смысл (протоязык по Шашу), либо смысловая компонента симтомообразования наполнялась за счет эгоцентрической направленности личности и принципа удовольствия. Найдя варинат ответа на вопрос для чего существует симптом, психоанализ не ответил на вопросы из-за чего и как он существует. Осталось неясным , могут ли смылы иного содержания и происхождния объектироваться в психосомтаическом симптоме-феномене. В дальнейшем было показано, что для заболеваний психосоматической специфичности характерно иное конфликтное переживание, чем для истерического конверсионного симптома (15). Не решенной также осталась и проблема поиска такого носителя смысла, который сохранаял бы его содержание. Предположенный на эту роль язык тела скорее метафора, чем конкретный интрапсихический механизм, так ка здесь опущена вся цепь посредников от смысла до симптома-жеста. Вопрос о посреднике между бессознательным и симптомом занял центральное место в концептуальных посторениях Лакана и его школы. По мнению Лакана, определяющим звеном, средством структурирования смысла и объективации его в симптоме является язык. Главный теоретический тезис: бессозантельное структурировано как язык, опирается на предположение, что структура речи, языка прозрачна для психологических смыслов. Смысл себя проявляет через игру означающих. В соответсвтии с такой моделью происхождения симптома предполпгается и лечение избавление от симптома как поиск адекватного дискурсивного означающего. Однако остается неясным, открытым вопрос, каким образом надличное и безличное озаначающее становится на уровне индивидуального сознания и индивидуальной жизнедеятельности, в том числе и телесной. Ответ на этот вопрос невозможен, если признать единственной формой существования означающего его дискурсивную, языковую природу. Подход Лакана обладает высокой клинической валидностью для невротических расстройств поведения и личности, но не раскрывает функциональные струтуры психосоматической связи (1). Проблема означения и его роли в соматизации приобретает исключительный статус в связи с изучением особой группы феноменов, объединенных общим названием алекситимия. Сам термин указывает на неспособность психосоматических больных выразить, описать в словах свои внутренние переживания. Больные испытывают трудности в различении чувств, при необходимости отделить события телесной жизни от душевных состояний и т.д. Невербализуемость и недифференцированность структур внутреннего опыта, как считают многие исследователи, в своей основе имеют недостаточность символических функций и средств (14). Немногочисленные и, главное, успешные попытки психокоррекционной работы с алекситимиками (8) направлены на развитие и расширения арсенала средств символического выражения переживаний, базируется, на наш взгляд, на принципе гармонизации двух слоев опыта человека смыслов и значений. Таким образом, клиническая феноменология, экспериментальные данные, концептуальные модели психосоматического симптомообразования позволяют предположить, что содержание и структура, организация субъективного психологического опыта играют важнейшую роль в актуалгенезе психсоматических расстройств и определяют процес социализации телесноссти. Теоретический анализ в структуре целостного опыта вычленяет такую его составляющую как взаимоотношения смысла и значения, которые в контексте психосоматических взаимоотношений приобретают драматический характер. По нашему замыслу, краткая экспозиция узловых моментов психосоматической проблемы должна была продемонстрировать возможность и необходимость нового поворота в ее анализе, трансформации в проблему опосредования. На наш взгляд, это позволит дополнить принцип культурно-исторического подхода к психосоматическому феномену психологической моделью процесса симптомообразования. Безусловно, преждевременно говорить о том, что такая модель уже существует, но некоторые основания ее можно предложить для обсуждения. 1. Психосоматический феномен не тождествен психосоматическому симптому, он является следствием закономерной социализации телесности человека. Характер психосоматического феномена является производным от психологических новообразований, трансформируется в соответствии с логикой психологического развития. Путь социализации телесных феноменов пролегает через усвоение (означивание) и порождение телесных знаков, расширение сети телесных действий. Первичный носитель психосоматического феномена - диада "матьдитя", благодаря чему символический план изначально существует наряду с натуральным планом психосоматического феномена (12). В совместноразделенных телесных действиях матери и ребенка мать выполняет функцию означивания и осмысления (наполнения смыслом) витальных потребностей и телесных действий ребенка. В диаде телесные действия ребенка изначально оказываются вписанными в психологическую систему "образа мира", обретают 5-е квазиизмерение (17). Содержание и структура телесных действий определяются развитием системы значений и смыслов. Одной из ранних форм существования значения и, видимо, центральной для анализа процесса психосоматического симптомообразования, является та его форма, которая себя осуществляет на языке чувственной модальности (9) - как начальное звено процесса формирования образа тела и как посредник между более поздними и развитыми формами значения. Следующий этап развития телесных, психосоматических феноменов связан с организующей ролью системы значений уже на уровне репрезентации, на уровне символического манипулирования в плане представлений. (Не этот ли этап развития психосоматического феномена рассматривается в школе Лакана!). Главным медиатором телесных действий становится вербализуемый образ тела, обретающий многообразие смысловых характеристик в контексте целостного "образа мира". Можно предположить, что преобразование смысловой стороны психосоматических феноменов диктуется, определяется этапами развития смыслового, интенционального компонента деятельности ребенка (смена ведущей деятельности, возникновение психологических новообразований). Так, первичный коммуникативный план существования осмысленных психосоматических феноменов с возрастом теряет свою актуальность. (Видимо, правомерно считать жестовый характер истерического симптома проявлением регрессии - возвращения к наиболее раннему смысловому контекту симптома). Следующий этап развития психосоматических феноменов связан о включением в них гностических действий, обретающих самостоятельный смысл и преобразующих психосоматическую связь. Этот этап характеризуется интересом ребенка к собственному телу, поиском средств вербального и иного символического обозначения телесных событий. Ребенок учится различать описывать свое телесное Я (3), формируется система интрацептивных категорий. Новый этап социализации телесности связан, видимо, с возникновением рефлексивного плана сознания, способного порождать новые смысловые системы, трансформировать устоявшиеся. Разделение телесного и духовного Я делает тело и его феномены участником внутреннего диалога, порождающего новые жизненные смыслы. (Видимо, здесь надо искать точку отсчета для возникновения ипохондрических черт личности). 2. Актуалгенез психосоматических симптомов детерминирован достигнутым уровнем социализация телесности. Модель симптомообразования можно представить как процесс взаимоперехода, взаимодействия единиц сознания: Смысла, Значения, Чувственной Ткани, Биодинамической Ткани (6, 4). Среди всего многообразия психосоматических симптомов выделяется класс феноменов, процесс возникновения которых можно теоретически осмыслить и эмпирически исследовать как процесс движения и взаимодействия единиц сознания (по Леонтьеву, а не как часть оппозиции "сознание-бессознательное"). Данному классу принадлежат симптомы, которые встречаются при неврозах, истерии, ятрогении, психогенных и хронических болях, ипохондрии и т.д. (см. статью А.Ш.Тхостова в этом сборнике). Принципиальной характеристикой такого симптома является то, что структурно он является феноменом сознания, существует как соматоперцептивный образ. Процесс симптомообразования повторяет структурно познавательный акт, который начинается с познавательной гипотезы, запускающей особое интрацептивное действие. В генерировании системы гипотез-ожиданий интрацептивного стимула себя воплощает образ мира, носитель 5-го квазиизмерения значений и смыслов. Суть симптома состоит в том, что вне зависимости от характера подтверждающей или опровергающей его стимуляции система: личностный смысл - значение - чувственная ткань - приобретает характер устойчивой структуры. Такого рода явления фиксируется и в области предметного восприятия (9). В данном случае процесс симптомообразования во многом совпадает с процессом становления соматоперцептивного образа. Корни психосоматических расстройств, согласно этой модели, нужно искать в отклонениях развития каждой составляющей (смысл, значение, чувственная ткань, биодинамическая ткань) и в нарушениях операционально-технических средств их соединения. Схематично укажем некоторые механизмы симптомообразования, которые могут быть поняты на основе данной модели. Первичные психосоматические симптомы могут в своей основе иметь 2 принципиально разных источника: • 1-й тип симптома психофизиологический по своей природе связан с нарушением предпосылок собственно человеческой симптоматики: первичные дефекты биодинамической или чувственной ткани, базовой эмоциональной регуляции телесных проявлений. • 2-ой тип симптомов детермирован ситуацией совместно-разделенных телесных действий в диаде мать-дитя. Симптом может выступать как следствие нарушений в знаково-символическом опосредовании социализации телесности. Он может иметь характер задержки в развитии категориальных систем образа тела, или в ситуации симбиоза с матерью телесные проявления излишне долго и стереотипно сохраняют коммуникативный смысл, тем самым задерживая становление гностических и отрефлексированных телесных действий. В основе многих психосоматических симптомов можно обнаружить недооснащенность, недифференцированность системы значений: неразвитые образа тела, категориалные оценочные шкалы интрацепции, сложности перехода от операциональных, предметных значений к более развитым формам вербальным (11). Модель позволяет по-новому операционализировать и понять психоаналитический тезис о том, что соматизация наступает как следствие поломки защитных механизмов личности (Бассин Ф.В. и др., 1978 ). Если защитные механизмы понимать как определенный способ воплощения смысла в значениях преобразование значений, направленных на предотвращение конфликта значащих переживаний (10, с. 100), то ситуация поломки может выглядеть как переход к более примитивным эмоциональным, чувственным системам значений, которые служат механизмом запуска ранних психосоматических стереотипов по типу кольца Бернштейна. Тем самым, определенные психофизиологические механизмы включаются в неадекватную им по смысловому содержанию ситуацию, не будучи с нею содержательно связанными. В отличие от истерического симптома здесь смысл воплощенный и смысл, поддающийся интерпретации, принадлежат к разным смысловым образованиям. Также понятно, что и феномен алекситимии может иметь гетерогенную природу: • неразвитость систем означения телесного опыта, трудности перехода от эмоциональных универсалий к вербальным системам значений. Данный механизм обнаруживает себя в корреляции между харктером, глубиной и частотой соматизации, с одной стороны, и когнитивной недифференцированностью, диффузностью структур категоризации субъективного опыта, с другой; • неразвитость смысловой саморегуляции, несформированность деятельности смыслопорождения, что ведет к нарушениям развития телесного Я человека. В этих условиях психосоматические феномены могут получать неадекватно завышенную ценность в системе смысловой йерархии личности (см. работы Николаевой В.В. и ее учеников). Подводя итог, можно констатировать, что психосоматический феномен есть закономерное следствие и проявление процесса социализации телесных функций в онтогенезе. Психосоматический симптом, его актуалгенез отражает достигнутый уровень опосредования психологических явлений и действий знаковосимволическими орудиями, представляет собой воплощение смысла через систему значений в чувственной и биодинамической ткани. Развитый психосоматический феномен обладает особыми характеристиками: как феномен сознания, он включает в свою структуру все единицы сознания смысл, значение, чувственную и биодинамическую ткань; как феномен человеческой жизнедеятельности приобретает черты высших психических функций (социален по происхождению и характеру функционирования, опосредован, и в некоторых случаях, даже произволен). Возможности эмпирических исследований, экспериментальной проверки положений представленного здесь подхода, открываются при изучении отдельных систем телесных действий. В настоящее время совместно с А.Ш.Тхостовым и И.В.Молдовану проводится экспериментальное исследование роли интрацептивных действий в психосоматическом симптомообразовании. Литература: 1. Бассин Ф.В., Прангишвили А.С., Шерозия А.Е. Роль неосознаваемой психической деятельности в развитии и течении соматических клинических симптомов. // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 2, С. 195-215. 2. Выготский Л.С. Собрание сочинений. М., 1984. 3. Дорожевец А.Н., Соколова Е.Т. Исследования образа тела в зарубежной психологии. // Вестн. Моск. ун-та, сер. 14. Психология, 1985, 4, с. 39-49. 4. Зинченко В.П. Проблема "образующих" сознания в деятельностной теории психики. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология, 1988, Л 3, о. 25-34. 6. Зинченко В.П. Наука - неотъемлемая часть культур?//Вопросы философии, 1990, 1, с. 33-50. 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. 7. Леонтьев А.Н. Психология образа. //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология, 1979, 2. с. 3-13. 8. Семенова Н.Д. Групповая психологическая коррекция в системе реабилитационно-профилактических мероприятий с больными бронхиальной астмой.//Автореферат канд. дисс. М., 1988. 9. Смирнов С.Д. Психология образа: Проблема активности психического отражения. М., 1985. 10. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. 11. Стеценко А.П. Понятие "образ мира" и некоторый проблемы онтогенеза сознания. //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология, 1987, 3., с. 26-37. 12. Тищенко П.Д. Жизнь как феномен культуры.//Биология в познании человека. М., 1989, с. 243-253. 13. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989. 14. Warnes, H. Alexithymia, Clinikcal and Therapeutic Aspects. Psychother. Paychosom., 1986, v.46, p. 96-104. 15. Wittkower, E.D., Warnes, H. Historical Survey of Psychosomatic Medicine. // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 2, с. 239-252.