визуальные исследования в психологии
advertisement
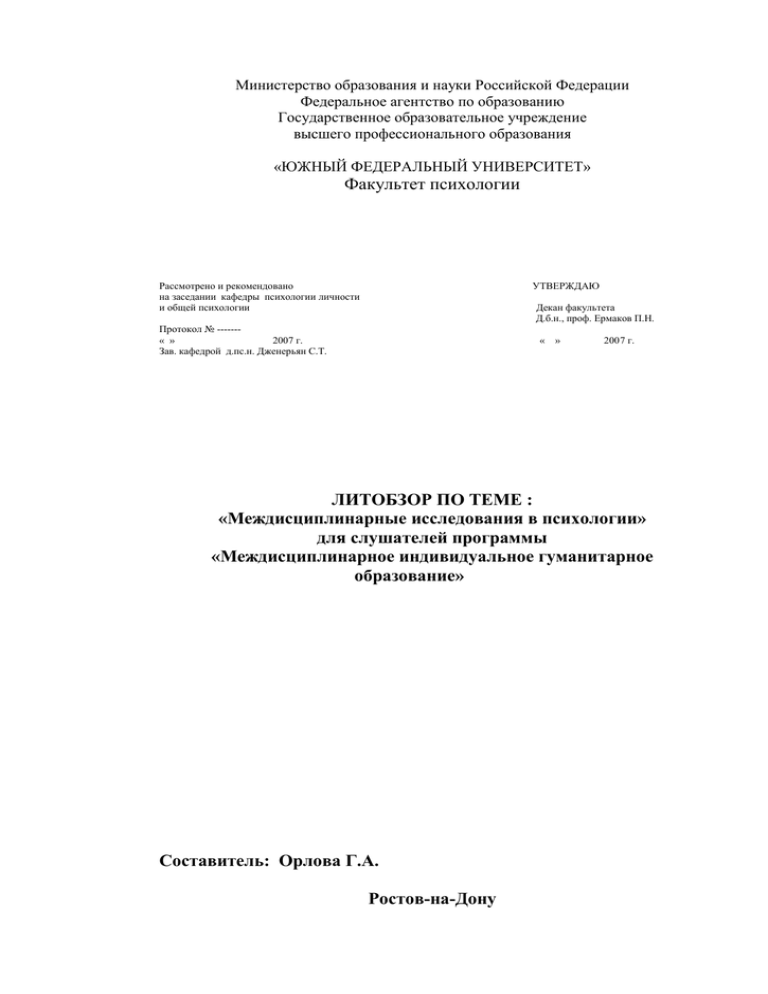
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Факультет психологии Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры психологии личности и общей психологии УТВЕРЖДАЮ Декан факультета Д.б.н., проф. Ермаков П.Н. Протокол № ------« » 2007 г. Зав. кафедрой д.пс.н. Дженерьян С.Т. « » 2007 г. ЛИТОБЗОР ПО ТЕМЕ : «Междисциплинарные исследования в психологии» для слушателей программы «Междисциплинарное индивидуальное гуманитарное образование» Составитель: Орлова Г.А. Ростов-на-Дону 2007 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ..............................................................................................................................2 АННОТАЦИЯ ................................................................................................................................3 ВВЕДЕНИЕ: ПСИХОЛОГИЯ И ДРУГИЕ ..................................................................................3 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ИЛИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ? ..................................5 МЕТОДОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ..................................................................................8 ПСИ-КУЛЬТУРА И ПОП-НАУКА............................................................................................10 ДИСКУРСИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ..........................................................................................14 НАРРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................16 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ........................................... Error! Bookmark not defined. КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ ...........................................23 КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ .................24 МЕДИА-ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ ...................... Error! Bookmark not defined. ПИСХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ............................................28 ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ..........................................................30 ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ ............. Error! Bookmark not defined. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ .............................................34 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ...................................37 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ...................................44 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ ..................................................46 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДВАНИЯ ТРАВМЫ .....................................................50 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛА .........................................................54 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИЙ .................................................56 ЛИТЕРАТУРА: ............................................................................................................................58 АННОТАЦИЯ В данном литобзоре реферируются и анализируются тексты, объединенные темой психологической междисциплинарности, рассматриваемой как изнутри психологии, так и с позиций представителей других социогуманитарных антропологов, филологов дисциплин и т.д.), (историков, работающих с социологов, традиционно психологической проблематикой. Составителем предпринята попытка представить различные уровни осмысления междисциплинарности в методологии, дать выборочное описание гибридным полям в структуре современного психологического знания, а также рассмотреть некоторые междисциплинарные области исследования традиционных для научной психологии явлений (памяти, идентичности, эмоций и т.д.). ВВЕДЕНИЕ: ПСИХОЛОГИЯ И ДРУГИЕ Для научной психологии проблема если и не междисциплинарности, которой посвящен этот литобзор, то органичного совмещения различных дисциплинарных кодов – философского и физиологического, гуманитарного и естественно-научного, – была стартовой в её чуть более чем столетней истории. В монолитность дисциплинарных дисциплины, которая этих обстоятельствах знаний изначально была имела целостность условием и выживания расщепленный предмет, методологию и методы, что делало её репутацию сомнительной с позиций позитивного знания. Если вспомнить, то один из первых и все еще самых масштабных проектов этой дисциплины – психология Вильгельма Вундта – совмещал в себе две психологии. В нее входили экспериментальная психология, изучающая индивида в лаборатории методами точных наук (Вундт 2002), и психология нардов, сосредоточенная на описании надындивидуальных психических особенностей больших объективированных в языке, традициях и ритуалах (Вундт 1912). групп, Довольно символично, что именно проект психологии народов, задуманный с особым размахом, так и не был завершен. Да и программа социогуманитарного оснащения психологии остается программой по сей день. Сотрудничество представителей психологической науки с коллегами из смежных гуманитарный областей до последнего времени существенно сдерживалось низкой социальной резистентностью психологического знания, его ограниченностью рамками лаборатории и принципиальной контекстуальной нечувствительностью. Критика этих позиций стала одним из оснований новой эпистемологии в постсовременной психологии (Джерджен 1999; Поттер&Уезерелл 1993; Murrey 1995). В первой половине ХХ века психология представлялась важным партнером по проектам, предполагавшим междисциплинарный синтез. Так, отцы-основатели французской школы «Анналов», М. Блок и Л. Февр (Февр 1991), рассчитывали на эффективное сотрудничество с психологической наукой в деле построения исторической психологии. Однако довольно в быстрые сроки этот проект был переопределен в категориях исторической антропологии – прежде всего из-за неудачной интеграции лабораторного психологического знания в исторические штудии (Степанов 2007). Представители Вабургской междисциплинарного анализа школы мыслили создать на основе истории мирового искусства историю образов и зрительного восприятия. Сегодня этот проект реализуется в пространстве культурной истории (Crary 2003), визуальных исследований (Mirzoeff 1995), но только не общей психологии или психологии восприятия. Представители различных дисциплин, работающих в перспективном и активно развивающемся сегодня поле исследований памяти (известное английское издательство социогуманитарной литературы Sage в этом году учредило журнал Memory Studies – один из очевидных знаков институционализации и легитимации этого исследовательского поля) охотно апеллируют к данным современной нейронауки (Вельцер 2005), но только не к психологическим исследованиям памяти, замкнутым на автономном индивиде. Случаи удачного заимствования психологических доктрин и их использования в социогуманитарных науках, конечно же, известны. И самый известный пример – психоанализ, оказавший серьезное влияние на культурную антропологию, литературоведение, искусствознание и т.д. Так, опираясь на фрейдистское понимание визуального удовольствия и лакановскую концепцию взгляда, Лаура Малви создает свою теорию фильмического гендерного неравенства (Малви 2000). Другое дело, что сама психологическая наука куда менее активно осуществляет импорт концепций и теорий из смежных дисциплин. Остается предположить, что это устройство и способы воспроизводства психологического знания способствуют его относительной изоляции в современной ситуации повсеместного размывания междисциплинарных границ и их активного пересечения. Сегодня эти принципы активно пересматриваются. Выходит, что /стать открытой междисциплинарности и измениться в случае психологической дисциплины означает одно и то же. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ИЛИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ? Один из вопросов, возникающих в ситуации междисциплинарного исследования – вопрос междисциплинарных о вариантах исследовательских и стратегиях программ. М. реализации Гиббон, С. Швартцман и др. предлагают последовательно рассматривать различные уровни междисциплинарного взаимодействия в современном исследовании (Gibbons, Limoges, Schwartzman, Scott 1994): Мультидисциплинарность: механическое соединение усилий нескольких дисциплин для решения какой-либо проблемы. В этом альянсе каждая из дисциплин сохраняет свою методологическую специфику, незыблемость дисциплинарных границ и независимость («кооперация без интеракции»). Кроссдисциплинарность: исследование, проводимое внутри одной дисциплины с позиций другой. Междисциплинарность: интеграция знаний и методов нескольких дисциплин для решения какой-либо проблемы, при которой напряжение методологических и инструментальных заимствований может сохраняться Трансдисциплинарность (термин предложен в 1970 г. Жаном Пиаже) – сфера исследований, формирующаяся за пределами дисциплинарных различий или поверх них, учитывает специфику современного и постсовременного производства знаний как целостного (комплексного) процесса. Хельга Ноутни в своей статье «Потенциал трансдисциплинарности» указывает, что за исследованиями подобного рода различима другая логика порождения знаний: в центре оказываются не столько дисциплинарные приоритеты и кодексы, правила соблюдения границ и политики профессиональной идентификации, сколько решение проблемы (Nowotny 2003). Трансдсциплинарность, таким образом, становится чем-то большим, чем соположение принципов и методологий различных дисциплин. При этом исследовательская проблема диктует правила и принципы решения – если, скажем, анализ стратегий конструирования субъектности требует обращения к принципам построения экспериментально-биологического знания, как это произошло в случае Эрика Наймана (Найман 2000), то культурный историк, работающий с явлениями, традиционно интересовавшими психологов и философов, обращается к теоретическим рамкам социологии знания и контекстуальной истории науки. Опыт такого рода оказывается по определению трансгрессивным – то есть, преодолевающим запретные некогда для представителей разных дисциплин границы. При этом стирается грань между различными практиками производства знания, а наука теряет монополию на это производство, становясь пространством коммуникации (контекстуализируется, по определению П. Скотта (Scotte 2001)). И тогда, скажем, новелла М. Кундеры (Кундера 2003), посвященная политическим технологиям забвения, включается в контекст исследований памяти наряду с аналитическим текстом об этой новелле представителя французской школы анализа дискурса М. Пёше (Куртен 1999). А инсталляция О. Кулика «Мертвые обезьяны» может быть рассмотрена как способ изучения социальной сконструированности эмоций не в меньшей степени, чем дискурсивная концепция эмоций Р. Харре (Harre 1996). Трансдисциплинарный подход наиболее явно проявляется в активно формирующихся сегодня гибридных полых исследования (маркером их выявления можно считать использование конструкта “studies” – «gender studies”, “visual studies”, “urban studies”). Одни из этих полей (например, те же городские или гендерные исследования) возникли относительно давно и уже имеют собственную историю существования, другие (например, исследования памяти или исследования травмы) только находятся в стадии становления. Среди свойств трансдисциплинарности можно назвать: • производство знаний нового типа, отказ от традиционной дисциплинарной структуры или производства разновидностей знания, которое принципиально не может быть вписано в традиционную систему координат; • помещение связей междисциплинарного типа внутрь общей системы координат без стабильных границ между дисциплинами; • трансгрессивность – пересечение границ как принцип новых полей знания; • новое коммуникативное пространство; • отказ от иерархических принципов в производстве знаний; • контекстуальность (Nowotny 2003, Scotte 2001). Области гибридных исследований в современной психологии, в которых реализуются трансдисциплинарные проекты, в наибольшей степени занимают составителя этого литобзора. МЕТОДОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ Проблема выхода психологии за свои пределы – в область изучения символических практик, культурно-исторических контекстов, политических технологий и рефлексии по поводу природы, формы и эффектов психологического знания – активно проговаривается в постсовременной психологии (Moscovici 2000, Edwards et al., 1995; Sabrin 1986, Rose 2002, Rijsman 1989, Джерджен 1999 и др.). А сами психологи все чаще выступают в роле методологов и эпистемологов – специалистов в области социального порождения и эффектов знания. Методологическая рефлексия (не суть важно, по поводу участия психологии в изобретении внутреннего мира западного человека (Gergen 1996), по поводу психологических словарей (Harre 1986) или же по поводу влияния интервьюера на процесс интервью (Riessman 2002) становится обязательной опцией психологического исследования. Описание психологии западного образца в категориях политической технологии (Rose 2000; Haking 2003) или же методологическое сближение психологического исследования с литературной критикой (Сарбин 2004, Брунер 2005, Murrey 1995) позволяют открыть междисциплинарный потенциал внутри психологической дисциплины, ввести новые уровни анализа (например, социолингвистический, как это предлагают дискурсивные психологи) или по-новому определить предметную область психологии (например, версия социальных конструкционистов – способы, которыми люди объясняют и делают для себя понятным этот мир и свое поведение, - исключительно близка к тому, как видят сферу своих исследований современные социальные антропологи). Среди новых принципов организации психологического знания называются: социально-конструкционистская ориентация; критический подход к производству знания, выявление социальных и лингвистических оснований такого производства; чувствительность к социальным контекстам (в т.ч. историческим); признание историчности и культурной обоснованности самого психологического знания – ограниченные возможности применения психологических выводов и концепций; релятивизм, дефундаментализм (несвязность познания с фактами «реального» мира – связь с фактами языка и социальными практиками); двойная онтология – признание «реальности» фактов нейронауки и социальных фактов в сочетании с критикой ментальных репрезентаций и возможности их психологического изучения; акцент на изучении языковых фактов и символических практик; особое место отводится нарративу и дискурсу – использованию языка в ситуациях социального взаимодействия и его эффектам; связь между знанием и социальными процессами, знанием и социальным поведением; изменение представлений о роли знания вообще и психологического знания в частности в постсовременном мире (разрушение монополии науки на знание, эпистемологический приоритет обыденного знания, социальная ответственность, локальный моральный порядок, отказ от прогнозирования и т.д.). Джоннотан Поттер, характеризуя позиции дискурс-анализа, выразил общую установку постсовременной психологии: «ДА характеризуется метатеоретическим акцентом на антиреализме и конструктивизме. Это значит, что ДА подчеркивает способ, с помощью которого в дискурсе создается описание мира, событий, внутренней психической жизни человека. Такой подход не может избежать учета, с одной стороны, позиций собеседников, с другой - позиций исследователя и его версии о событиях. Тем самым он сталкивается с реальностью, обсуждаемой либо участниками дискурса, либо исследователем и потому как риотрическая продукция может быть подвергнут изучению» (Поттер 2000; 34). ПСИ-НАУКА, ПСИ-КУЛЬТУРА И ПОП-НАУКА В этом ключе становится понятно особое внимание, уделяемое постсовременными исследователями влиянию психологического знания на социальные практики. Так, Серж Московичи исследовал влияние психоанализа на социальные представления французов в послевоенную эпоху (Moskovici 1976), Кеннет Джерджен обращал внимание на роль психологической информированности в изменении поведения (Джерджен 1999) и в объективации внутреннего мира (Gergen 1996), а Николас Роуз, используя фукианские теоретические ключи, ввел понятие «пси-науки» для того, чтобы описать изобретение западной «души» посредством трех «пси» - психологии, психоанализа и психотерапии (Rose 2000, Rose 2002). При этом психологический проект неизменно описывается сферу исследований как проект политический. Самостоятельную составляет изучение культурных образов и репрезентаций как психологического знания, так и представителей психологической профессии (психоаналитиков, психотерапевтов, семейных консультантов и т.д.). Для описания этой области Александр Сосланд водит категорию «пси-культура»: «Если мы говорим о пси-культуре, то следует разобраться и с соответствующим ей культурным персонажем. психоаналитик) чаще всего Пси-персонаж встречается (психиатр, в искусстве психолог, в контексте терапевтической работы. В развитых пси-державах, психолог – популярный герой кинематографа, романа, ток-шоу. Вокруг него сложились определенные кинематографические стереотипы (например, «безумный психиатр»)». (Сосланд 2007) Связь между репрезентацией научных знаний в публичных пространствах, активным формированием культурных репрезентаций психологических знаний исследовала Анджела Кэссиди. Она изучала дебаты о популярной в 1990е годы в Великобритании эволюционной психологии. И показала, что представители этой области исследований были в то время необычайно активны в медиа. Куда более активны, чем в научных публикациях. Исследовательница приходит к выводу, что таким способом они добивались легитимации своей сферы знаний и установления дисциплинарных границ. Пространство популяризации, таким образом, рассматривается в качестве конструктивной для ученых зоны, в которой создается образ их науки и позволяет им выходить за устоявшиеся пределы и конвенции (Cassidy 2006). Таким образом, мы переходим к третьему направлению исследований в области производства психологических знаний в культурных контекстах – к исследованиям популяризации и поп-науки. Популяризация научных знаний и роль медиа в этом процессе активно изучается в гибридном поле дискурсивных исследований, куда психологи активно вовлекаются наряду с другими представителями социогуманитарных дисциплин. Одной из наиболее ранних попыток описать процесс популяризации научных знаний (с точки зрения средств и техник репрезентации) были предприняты Хилгартнером (Hilgartner 1990) и Кавалли (Cavelly 2000). Для этого использовались категории «канонического» или «доминантного взгляда», позволяющего выделить два параллельно существующих дискурса: один – внутри академических институций, другой – описывающий научные достижения извне. Эта модель предполагала, что происходит постоянный перенос информации из одного дискурсивного поля в другое, а также а) что академические институты аккумулируют авторитет, тогда как публичная сфера демонстрирует невежество; б) что производство и трансляция знаний происходит лишь вдоль одного вектора – от науки к обществу, в) что содержание научной информации представляет собой серию письменных авторитетных утверждений и не может носить устного ситуативного характера; г) что в процессе переноса из научного в популярный дискурс научная информация вульгаризируется и опрощается. Именно по перечисленным выше направлениям началась критика традиционного представления о научном знании и его соотношении с поп-наукой с позиций постсовременной эпистемологии. В рамках так называемого «демократического поворота» в общественном понимании науки и научных достижений произошел отход от представлений о монополии ученых и академических институций на производство знаний, отказ от представлений о моноканальности передачи научной информации и т.д. И, напротив, классическая система производства знаний, а также соотношение в ней научного и популярного компонентов были реинтерпретированы в категориях дискурсивной гегемонии и власти. Сегодня можно выделить следующие версии интерпретации попнауки: 1) поп-наука как поверхностное, излишне доступное изложение1; 2) поп-наука как наука потребительского общества; 3) поп-наука как наука массовой культуры (Pumbery 2003); Сошлемся здесь на идеи лидера эпистемологически оснащенного социального конструкционизма К. Джерджена, который указывает на риторическую функцию сциентичной и непонятной ученой речи в производстве эффекта «научности» и авторитетности научного знания. См. Джерджен К. Обыденное, оригинальное и достоверное. Минск, 2005. С.56. 1 4) поп-наука как наука для обывателей – Жан-Клод Бико отмечает, что именно различие между обыденным знанием и формами организации научного дискурса было одной из базовых его характеристик в классической системе координат (Beace 2002). Софи Мойран предлагает смягчить эту оппозицию, рассматривая популярную науку как место встречи между специалистами и общественностью (Moirand 1993). 5) поп-наука как наука для прессы – или, что зачастую оказывается тем же самым, наука, производимая прессой; Так, Росслин Рид анализирует фокусированные интервью журналистов, освещающих научную проблематику в медиа, и ученых с точки зрения их непростого отношении к репрезентации научной информации в СМИ. Она подчеркивает, что характер отношений между заинтересованными сторонами (журналистами и учеными) может быть неизменно описан в категориях конфликта, что не в последнюю очередь определяется отсутствием «джентльменского кодекса» в освещении научных достижений. Автор отмечает, что неизбежность рисков при подаче научной информации способствует формированию нового типа научности, а также – нового типа социальности. (Reed 2001). 6) поп-наука как околонаучные сферы производства сенсаций –поп-наука оказывается пространством и инструментом аккумуляции и канализации «странной» информации; она занята констатацией парадоксов, предсказанием кошмарных катастроф, генерацией чудесного, артикуляцией невероятного и, наконец, демонстрацией невозможного; 7) поп-наука как специфичная социальная практика - Грэг Майер предлагает рассматривать популяризацию не просто как совокупность текстов, а как специфическую совокупность социальных действий, объединенных в практику, с особым типом деятеля, взаимодействия и социальными эффектами (Myer 2003). способами ДИСКУРСИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Дискурсивная психология – гибридное поле, возникшее на пересечении дисциплинарных нтересов социальной психологии, теории коммуникации, этнометодологии, социальной антропологии, социолингвистики, философии языка. Её представителей – Рома Харре, Джонотанна Поттера (Поттер 2000), Джона Шоттера (Shotter 1989), Ирвина Паркера (Parker 1987), Маргрет Уезерелл (Уезерелл 1993), Тьена Ван Дейка (Дейк 1989) и др. объединяет интерес к эффектам социального использования языка (дискурса). Дискурс неоднозначно интерпретируется в сфере современных социогуманитарных исследований: дискурс - коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающих в процессе коммуникативного действия, реализуемого в определенном контексте; • дискурс - организация языка в соответствии со структурами, свойственными высказываниям людей в различных сферах социальной жизни; • дискурс – письменный или речевой продукт вербального действия (текст или разговор), актуально произнесенный текст; • дискурс как жанр; • дискурс – определение социальной действительности посредством языка, «дискурс конституирует социальный мир и социальную деятельность. Эта деятельность составляет особые формы субъективности, которая управляет людьми и придает им форму» Уровень, на котором рассматривается функционирование дискурса, колеблется от микро-, где порождение смыслов и реальности изучается в ситуации локального взаимодействия и координируется локальным моральным порядком (Якимова 1999, Йоргансон 2000) до макро-, где дискурс описывается в категориях формации и соотносится с символическим порядком (порядком высказывания), присущим той или иной социальной формации (Квадратура 1989). Представители дискурсивной психологии могут тяготеть к философии языка Витгенщтейна и в этом случае сосредотачивать свое внимание на анализе эффектов использования языка психологических описаний и интерпретации его в категориях языковых игр (Harre 1986), на функционировании высказывания «я не знаю» в интервью принцессы Дианы (Поттер 2000). Исследователи этого направления могут использовать тезаурус и парадигму конгнитивистики для исследования, например, процесса обработки информации в процессе передачи и восприятия новостей или же в устройстве этнических стереотипов жителей Амстердама (Дейк 1989). А могут – с опорой на критические социальные теории знания изучать, каким образом либеральные дискурсы участвуют в воспроизводстве расовой дискриминации в Новой Зеландии (Wetherell 1996) или же выяснять, какие последствия для взаимоотношений со своим «я» (выделенность этой сферы опыта, её маркированность в качестве значимой, дифференцированность и т.д.) имеет использование популярных психотерапевтических руководств и пособий (Hazleden 2003). Одни авторы делают акцент на порождении в дискурсивных обстоятельствах субъекта, другие – на локальных правилах и конвенциях, а третьи – на общекультурном репертуаре интерпретации (понятие введено М. Уезерелл в дополнение к дискурсу). Среди задач дискурсивной психологии – изучение того, как люди строят понимание мира в процессе социального взаимодействия, как это понимание влияет на идеологию и поддерживает формы существующего социального устройства, закрепляющего неравное распределение власти; как производство высказываний вовлечено в производство субъектности и т.д. Важно отметить, что многими представителями дискурсивной психологии дискурус трактуется как особая форма социального действия. Под дискурсивной практикой понимаются все возможные символические способы продуцирования психологических и социальных реальностей – институционализированные в политике, культуре, повседневных конвенциях – посредством языка или иных знаковых систем (Davise 2003). Основной метода исследования – дскурс-анализ (Edwads, Potter 2005). НАРРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Можно сказать, что нарративная психология, возникшая в 1980х годах, – это лишь одно из множества новых исследовательских направлений, где нарратологический подход используется вне традиционных рамок литературоведения для понимания того, как именно работают рассказы других людей (Prince, 1982). Один из основателей нарративной психологии Т. Сарбин определяет ее дисциплинарную область как «рассказанную природу человеческого поведения», где люди обращаются к своему опыту и упорядочивают его посредством своих и чужих историй (Sarbin, 1986). Основные представители нарративной психологии – Теодор Сарбин (Сабрин 2004), Джером Брунер (Брунер 2005), Элиот Мишлер (Mishler 1997), Дэн МакАдамс (MacAdams 1993), Кэтрин Риссман (Riessman 2002), Кэтрин Юнг (Young 1986), Кевин Мюррей (Murrey 1995) проявляют интерес к тому, как тексты, имеющие сюжетно-линейную организацию (повествования, нарративы) оказывают структурирующее влияние на персональный опыт, конструирование памяти и идентичности, организацию перцепции и т.д. Интересы нарративной психологии к идентичности, нарративному выявлению и определению самости, структуре опыта, автобиографической памяти артикулированы предельно отчетливо. Показательно, что создатели базового Интернет-ресурса по нарративной психологии (Internet Guide in Narrative Psychology) в качестве приоритетных для этой дисциплинарной области вопросов называют те, что отсылают к персонологическому аспекту: каким образом нарратив позволяет нам ответить на вопросы идентификации? Что же имеет в виду психология, когда обращается к категории «я» и оперирует ею? Какова природа нашей идентичности? К. Мюррей и В. Хевен отмечают, что вопросы, традиционно поднимаемые в рамках философии и философской антропологии, сегодня обсуждаются в рамках нарративного подхода (одно или несколько «я» имеется в распоряжении индивида? Каким образом человек приходит к знанию о себе? И вообще, можем ли мы располагать знанием о том, кем является? Каким образом люди адаптируют свой уникальный опыт к культурноприемлемым типам личности? Какова роль культуры в конституировании «я»? насколько аккуратно человек обращается со своей памятью (в т.ч. с памятью о своем детстве, памятью своей семьи)? Фундаментальное исследование статуса нарратива в различных социогуманитарных дисциплинах и, прежде всего, в психологии принадлежит Дональду Полкинхорну. Полкинхорн рассматривает нарратив как фундаментальную культурную форму, позволяющую наделять персональный и социальный опыт смыслом, работать с переживанием темпоральности и социального действия. По мнению Полкинхорна, нарратив представляет интерес для психологии. Прежде всего, в качестве культурного основания для оформления психологического развития и персональной идентичности (Polkinghorn 1989). Особе внимание уделяется «истории о себе» (self narrative) и «истории жизни» (life narrative). Именно эти типы повествования рассматриваются как выполняющие наибольшую психологическую нагрузку в структурировании опыта и конструировании идентичности. Karl Scheibe поясняет понятие «я»-нарратива: «Я-нарративы – это истории развития, которые должны быть рассказаны в специфических исторических терминах, с использованием особого языка, отсылающего к базовым для культуры верованиям и ценностям. Наиболее фундаментальные Нарративные формы универсальны, но способы их присвоения и модификации специфики». (Scheibe 1986). зависят от конкретно-исторической Представители нарративного подхода обсуждают, следует ли считать нарративную возрастной психологию психологией особым или разделом психологии психолингвистикой? Елиот наряду с Мишлер предлагает отказаться от попыток осмыслить нарративный подход в жестких дисциплинарных категориях и рассматривать его как проблемную область исследования, мультидисциплинарную по определению (Mishler 1995). Это замечание справедливо в отношении формы организации постсовременного научного знания, каким и является нарративная психология. Одной из отправных точек в истории развития нарративной психологии становится коллекция эссе, собранных Sarbin (1986) – первая коллективная монографии, явно посвященная нарративной психологии. Sarbin определил этот проект как исследование способов, которыми индивиды создают ощущение их собственного мира посредством историй. «Тексты идентичности» оказались программным текстом, во многом определившим стратегии развития нарративного подхода в психологии. Одна из связей между нарративом и жизнью в этой коллекции эссе относится к клинической ситуации. Кин (Keen 1986) исследует клинику паранойи как особую нарративную стратегию, включающую в себя катастрофический горизонт будущего, поляризованность добра и зла и абсолютный раскол между «я» и окружающими. Подобный же подход был реализован Мюрреем в иследовании популярных психологических тестов, которые в отличие от их профессиональных аналогов тяготели к знаменитым мифологемам Фрая от романса до трагического сценариев (Murrey 1986). С позиций психоанализа нарратив рассматривается как особый процесс, при помощи которого аналитическая терапия реконструирует истории индивида о себе. Для Спенса процесс психоанализа позволяет объективировать и воплотить в слове опыт, который иначе был бы заточен в травматическое молчание. Облечение дискретного, разорванного и неровного опыта в форму истории описывается в категориях «нарративной полировки», которую Spence описал где-то еще как практику предоставления «крыши» для смыслов: «истина заключена в служении само-когерентности (достижении связности и правдоподобном описании своего опыта). По мнению Спенса, успешная история о себе (целостная, правдоподобная, помещенная в коммуникативный контекст) - это непременное условие психологического благополучия. Этот тезис стал одним из фундаментальных оснований для активно развивающейся нарративной психотерапии. Стремление отрефлектировать не только психологическую теорию, но и психотерапевтическую практику из нарративной перспективы составляет одну из отличительных особенностей нарративно-психологического знания на современном этапе. Неслучайно модуль, посвященный нарративной критике различных психотерапевтических систем и подходов, является обязательным и одним из наиболее воспроизводимых в зарубежных университетских курсах по арративной психологии. Психоаналитик Шафер уделяет внимания особым видам нарратива, которые составляют ядро терапевтичекой работы – конструирования. Для Шафера основополагающей целью терапии должно быть помещение анализанда в активные отношения с его (или ее) ситуацией: когда действие интерпретируется как выражение неосознанного желания, анализанд может рассматриваться, скорее, как активная сила в этой истории, нежели чем как жертва обстоятельств. Для других нарративных терапевтов главная цель – это «самоавторизация» (‘self-authoring'), посредством которой индивид может быть рассмотрен таким образом, чтобы обрести контроль над историями, что управляют его (или ее) идентичностью (Epston, White & Murray, 1992). Это здорово отличается от метода Шафера, который несмотря на внимание к агенту, все же отдает аналитику роль главного рассказчика. Эта проблема может быть описана в катеогриях распределения власти в терапевтической ситуации. КУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В рамках культурной психологии культура (символическая среда обитания) рассматривается как одна из базовых детерминант психического. Джейн Миллер, например, рассматривает культурную психологию как междисциплинарную область, которая имеет исторические корни в антропологии, психологии и лингвистике, при чем часто они находятся в тех областях перечисленных дисциплин, которые считались периферийными или даже на время были забыты. Культурная психология сохраняет интерес и к индивидуальной психологии, но индивидуальная психология трактуется как культурно сконструированная (Коул 1997, Wersch 1989). В духе культурноисторической психологии Выготского психические процессы рассматриваются в их культурной опосредованности, историческом развитии, контекстуальной специфичности и связи с практикой. Представители культурной психологии, С. Шведер, Дж. Брунер, Е. Миллер, утверждают, что индивиды, живут в культурно сконструированном мире, что является фундаментальным обстоятельством для развития их способностей. Миллер: «В рамках культурной психологии культурные и психологические феномены трактуются как взаимозависимые , более того – взаимоконструированные… Предполагается, что индивид – носитель культуры и его субъективность формируется под воздействием культурных значений и практик». В частности, Дж. Верч поясняет: «Я использую термин «социокультурный», когда хочу понять, как осуществляются ментальные действия в культурном, историческом и конституциональном контексте» (Wersch 1989; 15). Объяснить с этих позиций означает показать, каким образом человеческая деятельность обуславливается культурными, историческими и институциональными фактами Фокусируя свое внимание на дискурсе, интеракции и практике, культурная психология уделяет большое внимание переформулированию психоаналитической теории использованию её для понимания психологических изменений культуры. Качественная природа субъектности и самости в разных культурах различны. Индивидуализированное «я» вместе со связанными с ним эмоциональными силами и ограничениями преобладает в Америке, а родственный и духовный проект «я» - в Японии. Один из принципиальных вопросов для культурной и кросскультурной психологий – это вопрос о степени универсальности когнитивных способностей или же их локальной обусловленности культурной ситуацией. В рамках комплексного изучения культуры и психологии на первый план выходит психологических проблема соотношения составляющих. культурных Клиффорд Гирц, значений глава и школы символической антропологии, настаивал на том, чтобы не приписывать психологическим фактам противники настаивали культурных значений на том, что (Гирц 2004). культурные значения Его имеют мотивационные и эмоциональные компоненты. Описания научной психологии в качестве одной из разновидностей культурной практики, обусловленной особенностями западной цивилизации и поддерживающей эти особенности, довольно популярны в современной психологической теории. И к тому же не очень новы: еще Маргрет Мид на полинезийском полевом материале показала ограниченность психоаналитических интерпретативных схем (эдипова комплекса, пубертатного периода и т.д) и констатировала их производность от установок европейской буржуазной культуры. Подобного рода трактовка психологических знаний привносит в дисциплинарное исследование антропологическую и культурологическую темы, требует от психолога обращения к кросс-культурным данным, а нередко и обращения к теоретической/идеологической рамке постколониальных исследований. Быть может, что псевдонаучные исследовательские техники по большинству своему «эмпирической» современной психологии и статистический анализ, который их сопровождает, неуловимо связаны с западными способами мышления, так, что уже само использование этой методологии в местах, отличных от отделений психологии в западных университетах, извлекают западные паттерны мысли из всякого. Как это прекрасно описал Майкл Коул, это может привести к совершенно ошибочным заключениям, например, относительно когнитивной компетентности тех, из кого эти паттерны были извлечены. Опыт Коула заслуживает того, чтобы стать пищей для размышления всякого, имеющего отношение к психологии. Используя «инструменты» доминирующей психологии в своих исследованиях образовательных успехов в Африке, он должен был прийти к выводу, что местные жители имеют крайне низкий уровень компетенции в решении самых элементарных когнитивных задач вроде арифметических действий или подсчета денег. Но затем к своему удивлению он увидел тех же самых детей, только что заваливших его импортные тесты, быстро и хитроумно совершающих те же операции счета на рынке. Как и в физике, явления, которые мы наблюдаем, всегда определены тем, что наши измерительные инструменты позволяют нам извлечь из физической реальности, так и в психологии. Не существует нейтральных инструментов. Акцент на контекстуальной обоснованности психологической теории и профессиональных представлений об устройстве психики значении культурной ситуации в производстве знаний позволяют ввести психологическое исследование в круг культурологических дисциплин. Важно отметить, что контекстуальное описание и культурная критика психологических знаний осуществляется не в герметичной области «истории психологии», куда традиционно вытесняется все «историческое», а в пространстве психологического исследования, посвященного изучению личности, эмоций, памяти и т.д. Выявление историко-культурных рамок и контекстов, как, например, обнаружение К. Джердженом в психоаналитических доктринах романтических кодов и оснований, в этом случае становится одним из способов осуществления рефлексии по поводу того, как именно работает психологическая теория. КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ Поле кросс-культурных исследований в психологии – это область изучения разнообразия человеческого поведения в зависимости от культурного контекста. При этом акцент делается на описании различий и выявлении влияний культурной среды: когнитивные способности у жителей Бангладеш и Нью-Йорке в сопоставлении, стратегии потребления информации во Вьетнаме и в Болгарии, кризисы идентичности в разных культурах, страхи ядерной войны у младших школьников в шести европейских странах – характерная для кросс-культурных психологических исследований постановка проблемы. В отличие от культурной психологии, представители которой сделали рефлексию по поводу культурного обоснования психологического инструментарий и теорий объектом тщательной рефлексии, в кросскультурной психологии зачастую применяется стандартная батарея методик и опросников. Полученные на их основе данные о фундаментальных различиях в уровне развития когнитивных способностей, например, у жителей Африки и Северной Америки, в последние годы подвергается критики с позиций метапсихологии и постколониализма. Примеры кросс-культурных исследований в психологии: Когнитивные сценарии и культурные контексты. Всемирная исследовательская бригада по изучению лжи представила результаты изучения стереотипа лжи в 75 странах на основе анализа 43 различных языков (A World 2006). Было проведено две серии исследований: в первой респонденты отвечали на один открытый вопрос: «Опишите, пожалуйста ситуацию, когда вы понимаете, что человек лжет». Во второй части участники отвечали на вопросы опросника о лжи. В результате исследования было установлено, что «бегающие глаза», «спрятанные глаза» - оказываются доминирующим панкультурным стереотипом идентификации лжи. В исследовании К. Тедмора и Ф. Тетлока представлена не менее важная для кросс-культурных исследований в психологии проблематика – изучение аккультурации и бикультурализма. Способы существования человека в культуре и особенности психической активности и поведения в ситуации усвоения двойного культурного стандарта вызывают интерес исследователей. Тедмор и Тетлок (Tadmor, Tetlock, 2005) изучают лингвистический и идентификационный потенциал человека, пребывающего во «второй культуре» с точки зрения усвоения набора необходимых когнитивных навыков, позволяющих оперировать смыслами и их порождением в рамках иной культурной традиции. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В последние годы качественные исследования из метода и даже методологической системы координат все больше превращаются в самостоятельно дисциплинарное поле, конституированное вопросом «как изучать?». Парадоксальным образом в психологии, претендующей на изучение и описание индивидуального опыта, качественные методы развиты довольно слабо. Для качественных исследований ключевую роль сыграло то обстоятельство, что нарратив позволяет рассказчику находить и выражать смыслы. Если изначально нарративные данные рассматривались лишь как фундаментальное эмпирическое основание качественного исследования, сосредоточенного на аналитическом раскрытии смыслов устных и письменных высказываний, то сегодня и позиция исследователя начинает определяться как позиция рассказчика. Кландини и Конелли отмечают, что сегодня пришло осознание того обстоятельства, что исследователь он тоже рассказывает истории о своих респондентах, их символических мирах и практиках. А уже в процессе этого рассказывания чужие субъективные миры обретают форму и становятся понятными, выявленными, наделенными смыслом. В какой-то степень исследователь, работающий в парадигме качественных методов, претендует авторство в культуре. Переопределение роли рассказа в качественных исследованиях Губриум и Гольдштейн описывают как «движение по направлению к нарративу как новому языку качественных методов». Дело не столько в том, что работа исследователя, разворачивающаяся в постнеклассических контекстах, оказалась куда в большей степени сдобрена повествованием. Дело в том, что сегодня появились возможности для легитимации позиции рассказчика как одной из приоритетных, естественных и эффективных для исследователя. Признание такой позиции не позволяет избавиться от деформирующих эффектов наррации, зато делает всякую «биографическую утопию» (описание истории жизни в телеологических категориях, выделение в ней лейтмотивов и другие последствия нарративной формовки чужого жизненного опыта) предметом тщательной рефлексии. Переход от доминирования описания в качественных исследованиях к рассказыванию историй окончательно закрепляет позицию качественного исследователя в аналитическом поле – субъективную, включенную, индуктивную, неиерархическую, чувствительную к чужим голосам и рефлектирующую по поводу собственного голоса. Надо сказать, что в наиболее интересных и продуктивных качественных исследованиях (таких как работы Нэнси Рис, Натальи Козловой или Елены Трубиной) позиция исследователя определяется именно как позиция рассказчика. В этом случае исследование приобретает форму истории исследования, а читатель получает доступ к опыту автора – пожалуй, одной из самых важных, но столь редко и с таким трудом артикулируемых сторон качественного подхода. Например, Нэнси Рис вводит в аналитический обиход одну из эмблематичных для анализа российского устного дискурса жанровых категорий – жалобу (литанию, ламентацию) – именно посредством нарратива. Она рассказывает о том, как оказалась в конце 1980х годов в Москве, как удивлялась слушала готовности московские россиян разговоры, жаловаться, как как по-американски её американские дискурсивные сценарии, позволяющие перевести самодостаточную жалобу в формат инструментального решения проблемы, оказались неэффективны. Итогом стали размышления о функции русской жалобы в коммуникации и – построение теории, буквально вырастающей из опыта на глазах читателя. В этом различим не только эффектный риторический прием, но и продуктивный прием методологический. Согласно Хуберу, эвристические стратегии первичной обработки качественных текстовых данных могут состоять в: поиске специфических категорий (например, Луи Бунюэль в истории-прологе, с которой начинается его автобиография, уделяет особое внимание памяти и её утрате (хотя бы уже по одной только частотности мнемотические категории заметно выделяются среди прочих), что приводит к структурированию текста в категориях памяти, а в дальнейшем – к концептуализации – жизни-как-как памяти; поиске последовательностей – акценте на структурной организации нарратива (например, Айседора Дункан начинает историю своей жизни с описания смерти своих детей, затем следует линейное описание жизни от рождения до отъезда в революционную Россию. Примечательно, что в тот момент, когда автор доходит до трагических обстоятельств гибели, она воспроизводит сцену с точностью до последней буквы. В данном случае объектом анализа может стать и повтор, и столь заметное нарушение линейной последовательности изложения жизненных событий – нарративные формы, позволяющие выявить и сконструировать травматический разрыв в опыте Дункан); поиск тем (например, в историях, которые рассказывают «дети семидесятых» о страхах ядерной войны, можно выделить следующие темы: «идеологическая обработка на уроках НВП», «страшное в медиа (фильм «На следующий день», радиопостановки, книга про Хиросиму, новости и т.д)., «смерть Брежнева и ожидание конца света», «кошмары ядерной войны» и т.д. Выявление степени связности тем, их частотности, чередования, вариаций, степени эмоциональной и риторической окрашенности, степени детализации вполне может стать в этом случае и способом дальнейшей организации материала, и траекторией исследования. Ф. Щюце предлагает следующую последовательность ходов при работе с данными нарративного интервью: прежде всего, из текста следует удалить все ненарративные фрагменты, чтобы стала заметна сюжетная структура истории; далее – структурно описать этапы жизненного пути в той последовательности. В какой они приведены в тексте (коллизии, кульминации, драматические поворотные пункты); затем – аналитическая абстракция – конструирование «формулы», в которой выражена структура биографических процессов и жизненного опыта (например – жизнь из двух половинок или жизнь, редуцированная к детскому опыту); после того, как общая формула выведена, в анализ возвращают ранее отсеченные ненарративные фрагменты для того, чтобы выявить их функцию в истории (ориентация, оправдание, доказательство и т.д.); сравнительный анализ с использованием стратегий «минимального и максимального контраста»; и, наконец, на последней фазе завершается построение теоретической модели, работа с которой продолжалась на всех предшествующих фазах; ПИСХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА Несмотря на то, что Джером Брунер указывал на принципиальное равнодушие психологии и психологов к Обстоятельствам (и, прежде всего, обстоятельствам места, в которые помещается опыт и в которых протекает поведение), отдельные опыты психологического исследвоания пространства можно различить в истории дисциплины. В их ряду следует, прежде всего, различить исследования пространственного восприятия (в т.ч. и стереоскопического зрения), полевую теорию Курат Левина и работы когнитивных психологов, связанные с анализом когнитивных карт – ментальных схем, координирующих и организующих опыт пребывания в пространстве. Как справедливо отмечал Найссер, изобретение термина «когнитивная карта» принадлежит бихевиористам (введен Толменом). Новая волна интереса к этому понятию пришлась на семидесятые годы и была связана с развитием междисциплинарных исследований, посвященных пространственной ориентации (в них были вовлечены психологи, географы, градостроители и представители других профессий). Найссер предложил рассматривать когнитивные карты в связи с процессами воображения: «Пространственные схемы осуществляют жесткий контроль за нашим воображением. В значительной степени они и есть наше воображение». Человек, не имеющий адекватной ориентировочной схемы, чувствует себя «потерянным» — стрессовая ситуация, с которой связан свой набор метафор (Найссер 1976; 15). В этом контексте когнитивная карта рассматривается как активная, направленная на поиск информации структура: «Вместо того чтобы определять когнитивную карту как своего рода образ, я выскажу предположение, что само пространственное воображение является ориентировочных схем. всего лишь аспектом Аналогично другим функционирования схемам они принимают информацию и направляют действие» (Найссер 1976; 19). Изучение когнитивных карт в настоящее время выделяется в самостоятельное исследовательское поле, относящееся к сфере исследований пространства. Одновременно происходит расширение спектра исследовательских направлений и числа работ, посвященных этой проблематике. В частности. Патриция Прингл «удовольствие от обращается пространства» к анализу (Pringl такого 2005; 141). феномена Она как вводит чувствительность современного человека к пространственному опыту в социокультурный контекст и рассматривает ее как отличительную черту модерности. Прингл сосредотачивается на концептуализации трех составляющих этой пространственной чувствительности: превращении пространственных манипуляций в нечто завораживающее для современного человека; историчности пространственного опыта и его связи с историей восприятия; на развлечениях, востребованных в данном обществе, как одном из наиболее удобных объектов для анализа. Представленное выше исследование может быть отнесено к области психогеографии, находящейся в данный момент в процессе становления. Сюда же может быть отнесено и исследование Скотта МакКвайера, посвященное роли освещения и электричества в организации городской жизни и поведения горожан (McQuire 2005). МакКвайер показывает, что вплоть до Второй мировой войны освещение было основным фактором развития современной городской среды, в которой привычные формы архитектуры теряют свою устойчивость и превращаются в нечто зыбкое и подвижное. Автор исследует вклад электричества в создание нового типа городского пространства (Relational space), в котором город все больше и больше определяется переплетением материальных и нематериальных пространственных режимов. Социолога А. Бикбова устройство города – урбанистика – вот еще одна междисциплинарная область, куда вписываются многие современные исследования пространства - интересует со стороны его вписанности в структуры городского пространства и в телесные схемы жителей города. ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ Нашествие визуального, неоднократно предсказанное, все же застало гуманитариев врасплох. Тезисы о конце письменной эпохи и декларации победы видеоцентризма над логоцентризмом едва ли могут помочь, когда становится очевидным, что сборка реальности, идентичности и опыта происходят в новой системе координат по неизвестным традиционному книжнику лекалам. Складывается перспектива, «в которой «видеть»/«делать себя видимым» и «существовать» начинают обозначать одно и то же. В условиях, когда изменения в психокультурной организации спровоцированы сменой базовых способов медиации, от гуманитария требуется не столько «новая критика», производная от способов чтения, сколько «новая оптика», позволяющая осмыслить конструкции, опирающиеся на образ и взгляд» [Орлова, 2003]. «Все, что видит, хочет быть увиденным», - эта мысль Х. Арендт о фундаментальной интенции проявления себя, обретения своей социальной и персональной идентичности через предъявление себя миру и взгляд на мир, близкая к идеям М. Хайдеггера о мире как тотальной картине, не менее актуальна, чем восходящий к Лакану, Мерло-Понти и Фуко тезис о том, что никому не дано избежать видимости, бытия под взглядами. Сегодня через видение человек обретает не только осознание поднадзорности или возможности властвовать, но собственную идентичность: знание о себе, о других, о своем месте в мире, о своих разнообразных ролях. Возникает потребность в качественно ином аналитическом инструменте, необходимом для понимания способов существования современного человека в визуально ориентированной культуре, приходит осознание недостаточности языка описания для анализа/концептуализации актуальных психокультурных явлений. Переход интерпретации гуманитариев к от видеоцентричным литературоцентричных получил название моделей «визуальный поворот» (“visual turn” – понятие, введенное Т. Митчеллом). Понятие «миркак-картина» (world picture), введенное М. Хайдеггером, означает не картину мира, но мир, представляемый и понимаемый как картина – является отличительным признаком современности. Этот мир-образ, мирфотография, мир-кинофильм, естественно, не может быть целиком визуальным, но он уже не поддается описанию в исключительно лингвистических терминах. Смена методологических установок стала реакцией на изменение психокультурных приоритетов, базовых способов медиации, заставил пересмотреть устоявшуюся научную гуманитарную парадигму и ее интерпретационные схемы. Феноменология (В. Беньямин, М. Мерло-Понти), психоанализ (Ж. Лакан), постмарксизм (Д.Джеймсон) и постструктурализм (М.Фуко, Ж. Делез, С. Жижек) предложили базовые теоретические модели анализа визуального. Тема визуального оказывается тесно связана с проблемой бессознательного. Французский психоаналитик Ж. Лакан, развивая свою концепцию «стадии зеркала», показал, что определяющим моментом в формировании Я (ребенка) является ситуация узнавания себя в зеркале на основе идентификации себя с изображением. Идентификация с изображением подобия является базисом для формирования способности ко всем последующим вторичным идентификациям, посредством которых формируется, структурируется, дифференцируется в последующем личность субъекта. Visual studies междисциплинарных – активно формирующаяся исследований, сегодня сосредоточенных на область изучении визуальной культуры. Один из основателей visual cultural studies N. Mirzoeff, полагает, что в визуальной культуре информация, смыслы и удовольствия входят в сферу потребления с помощью визуальных технологий – различных приспособлений для повышения качества естественного видения или предметов, созданных для того, чтобы быть увиденными – от живописи до TV и Интернета [11, P. 3]. Особое внимание уделяется анализу визуальных стратегий - способов порождения, упорядочивания, структурирования, передачи, восприятия и интерпретации визуального. Роль визуального в формировании идентичности – как сознательных, так и неосознанных ее структур – привлекала внимание психоаналитически ориентированных исследователей еще в начале 70-х. Они делали акцент на том, каким образом «видение» оказывается инстанцией формирования идентичности посредством зрительных практик (Л. Малви). На уровне бессознательного в этот процесс включается идеология, навязывающая зрителю «чужой» взгляд и идеологическую позицию субъекта видения. В процессе восприятия визуального продукта (фильма, фотографии) происходит двойная идентификация – отождествление себя не только с репрезентируемым персонажем, но и с субъектом видения – с тем, чью точку зрения репрезентирует камера (Ж. Лакан, Ж.-Л. Бодри). Идентификация, т. о., являет собой результат структурной диспозиции взглядов, а не сознательное желание зрителя отождествить себя с персонажем. Масштабные же эмпирические исследования в области визуального начались после пересмотра традиционного искусствоведческого дискурса. Появилось множество работ по истории художественного образа и его эволюции (Bryson, Holly and Moxey, Melville), истории фото- и кинообраза (P. Hamilton, R. Hargreaves). В социологии, социальной и исторической антропологии разрабатываются социальные теории визуальности (Jenks, J. Berger, J. Crary), исследующие контекстуальную составляющую визуального в том или ином обществе: как социальный заказ, идеология, традиция, конкретноисторическая ситуация и уровень развития технологии влияет на способы видения и производства образа. Особый интерес для исторического психолога представляют исследования J. Berger «Ways of Seeing” J. Crary “Techniqus of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Centhury», первое из которых посвящено культурной истории зрительного восприятия, а второе – трансформации оптики в связи с появлением новых механизмов опосредования взгляда – прежде всего, фотографии и кинематографа, тому, каким образом культурная технология производства визуального изменяет специфику восприятия. Однако для целей нашего исследования не менее интересным оказывается направление, представители которого продуцируют визуальные теории социального и антропологического (T. Mitchell, N. Mirzoeff, L. Pollack). Они заняты выяснением роли визуальных технологий в производстве реальности и субъектности, анализом того, как структура общества и идентичности могут быть опосредованы визуальным продуктом. Визуальное в данном случае рассматривается в неразрывной связи с дискурсом и идеологией, как например, в коллективной монографии “Iconology: Image, Text, Ideology» под редакцией W.J.T. Mitchell или работа Ш. Плаггенборга «Революция и культура», посвященная выявлению места культурных технологий, прежде всего, визуальных (плаката, фотографии, кинохроники, музейного дела) в проекте культурной революции и создании нового человека. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ Исследования личности активно ведутся в различных областях социогуманитарного исследования. Так, Игорь Кон представляет историю персонологических словарей, характерных для западной ситуации. Жак ЛуГофф готовит фундаментальный труд, один из разделов которого посвящен историко-культурной реконструкции Людовика святого (в план реконструкции включено все – от жестов и слов до ролевых позиций). Для ЛеГоффа одной из наиболее значимых и, одновременно, сложных задач является установление соотношения между нормой биографического (агиографического) описания эпохи и «реальным» Людовиком. Особое внимание уделяется деталям, не вписывающимся в канон и, с позиции автора, являющимися проводниками в миры Любовика Святого (ЛеГофф 2001). История, а точнее – история происхождения личности – одна из приоритетных областей исследования исторической психологии. На сегодняшний день фактически не существует, наверное, ни одной эпохи в развитии западной цивилизации, которой бы не приписывалось «изобретении» личности (Кон 1984, Тахо-Годи 2000, Петров2001, Гиддерс 2004, Гринбладт 2000, Фуко 1996, Хархордин 2002). Личность изучается и средствами лингвистики. Здесь особенно хочется упомянуть о школе языковой личности Ю. Караулово, пытающейс совместить подход к языку с подходом к человеку. Караулов так определяет свое понимание языковой личности: «Под языковой личностью я понимаю совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью. В этом определении соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов. Три выделенные мною в дефиниции аспекта анализа текста сами по себе всегда существовали по отдельности как внутрилингвистические и вполне самостоятельные задачи» (Караулов 1989). В структуре языковой личности караулов выделяет три уровня: 1) вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя — традиционное описание формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную, более или менее систематизированную "картину мира", отражающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень устройства языковой личности и ее анализа предполагает расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, через процессы говорения и понимания — к знанию, сознанию, процессам познания человека; 3) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире. При таком представлении структуры языковой личности и, соответственно, задач исследователя, воссоздающего эту структуру методами лингвистического анализа, естественно может возникнуть вопрос, а не превышает ли свои возможности языковед, когда вторгается столь глубоко в сферы психологического интереса: ведь в приведенной характеристике, особенно двух последних уровней, содержатся в основном относимые к психологии категории и объекты? Да, это верно, психологический аспект в изучении языковой личности представлен очень сильно, он пронизывает не только два последние — когнитивный и прагматический уровни, — но и первый, поскольку основывается на заимствованных из психологии идеях его организации в виде ассоциативно-вербальной сети. Но в то же время психологическая глубина представления языковой личности лингвистическими средствами не идет ни в какое сравнение с глубиной представления личности в психологии. Перефразируя крылатое выражение, можно сказать, что лингвист, обращаясь к языковой личности, имеет в качестве объекта анализа ein Talent, doch kein Charakter, т. е. оставляет вне поля своего внимания важнейшие с психологических позиций аспекты личности, раскрывающие ее именно не как собирательное представление о человеке, а как конкретную индивидуальность. Языковедческий подход раскрывает и новые возможности для конкретного и конструктивного наполнения некоторых важных, но слишком обобщенных и потому трудных для оперирования ими понятий. Возьмем такое, чисто философское понятие, как мировоззрение. С учетом того содержания, которое я вложил в характеристику уровней в структуре языковой личности, могу дать методическое определение этого понятия: мировоззрение есть результат соединения когнитивного уровня с прагматическим, результат взаимодействия системы ценностей личности, или "картины мира", с ее жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, проявляющийся, в частности, в порождаемых ею текстах. Лингвистический анализ этого материала (при достаточной протяженности текстов) позволяет реконструировать содержание мировоззрения личности. Причем для такого анализа вовсе не обязательно располагать связными текстами, достаточен определенный набор речевых произведений отрывочного характера (реплик в диалогах и различных ситуациях, высказываний длиной в несколько предложений и т. п.), но собранных за достаточно длительный промежуток времени. Этот материал я называю дискурсом. Примером дискурса может служить сумма высказываний какого-нибудь персонажа художественного произведения, который выступает в этом случае как модель реальной языковой личности. Возвращаясь к опытам реконструкции мировоззрения конкретной языковой индивидуальности, хочу подчеркнуть, что в этих опытах практически никогда не удается выявить систему, гармонию и единство, которые любят подчеркивать философские и психологические словари, определяя это понятие. В самом деле, трудно требовать единства и гармонии воззрений от человека, который, с одной стороны, кровно связан со своей эпохой, а в то же время многое заимствует из всевозможных источников прежних эпох для своей "картины мира", и жизненные установки которого складываются под влиянием самых разнообразных условий. Только у плохого писателя или в результате очень пристрастной интерпретации герои оказываются последовательными и гармоничными. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ История становления современного содержания понятия «идентичность» восходит к Дж. Локку, который ввел это понятие, определив его как «осознание индивидом непрерывности, тождественности во времени собственной личности»; душа же человека есть tabula rasa, на которой опыт посредством единичных восприятий пишет свои знаки, создавая условия и возможность постоянной идентификации. Эта дефиниция принципиальна для современного гуманитарного исследования структур персональных содержаний, которые нередко рассматриваются как производная от дискурсов, социальных риторик и практик взаимодействия человека с другими. Э. Эриксон, автор концепции возрастных кризисов идентичности, следуя локковской традиции, определяет психосоциальную идентичность как субъективно переживаемое чувство непрерывной самотождественности, основывающееся на «принятии личностью целостного образа своего Я в его неразрывном единстве со всеми своими социальными связями».. «Психосоциальную» значит локализованную как в индивидуальном, так и в общественной жизни, причем без четких границ перехода из одной в другую, находящуюся в постоянном процессе флуктуации. Дж. Мид, один из основателей символического интеракционизма, приравнивает идентичность (Self) к способности воспринимать свое поведение как связное целое, единство I (спонтанное, автономное, индивидуальное внутреннее Я) и Me (стереотипы, социальные нормы, установки), - самопознание человека в таком случае происходит путем отражения им себя в окружающих, как в зеркале; он видит себя таким, как его видят другие и развивает и поддерживает таким образом свою идентичность. Нас интересует все многообразие манипуляций с идентичностью в социуме – навязывание, присвоение, трансформация etc. Гоффман также выделяет социальную и личную идентичность, добавляя к ним эгоидентичность (типизация личности в групповой атрибуции), личную (индивидуальный опыт, воспринятый сквозь призму Другого) и эгоидентичность (ощущение непрерывности и своеобразия жизни). И. Гоффман, автор концепции социальной драматургии, вводит понятие роли – набора «деятельностей, качеств и стилей поведения, которые ассоциированы с социальными позициями». Социальные позиции понимаются как эталоны идентификации: существуют социальные позиции жен, мужей, преступников, политиков и т.д.; через закрепление в них человек обретает идентичность, точнее, множество идентичностей, которые зачастую противоречат друг другу. Нас же интересуют не столько фиксированные позиции, сколько процесс позиционирования, не столько система ролей, сколько корпус тактик и стратегий, которые используются для обозначения тождественности участников социального взаимодействия. В современном неустойчивом мире идентичность – относительно устойчивая в романтической и модернистской традициях логоцентричного, поддающегося осмыслению и теоретизированию мира – становится множественной, текучей (“multiple self”, “pastiche identity”), многократно опосредованной «взрывом социальных связей» (К. Джерджен) Наиболее адекватное современному состоянию гуманитарной науки – с его мощными антисциентистскими тенденциями, восходящими к середине 70-х годов ХХ века и характеризующимися как поиск альтернативной позитивизму (когнитивизму) парадигмы психологической науки, которая обратилась бы к обыденному знанию и переместила акцент на социальный генезис психологических явлений и их интерпретацию, наиболее отвечающее требованиям современной ситуации понимание термина «идентичность» было предложено в рамках новой парадигмы (философско-социологическими предпосылками которой являются воззрения Э. Дюркгейма, Дж. Мида, А. Шюца, П. Рикёра, М. Фуко, П. Бергера, Т. Лукмана), объединяющей социальный конструкционизм (К. Дж. Джерджен, М. Джерджен, Т. Сарбин), дискурсивную психологию (Р. Харре, Дж. Поттер, Дж. Шоттер, Я. Паркер) и теорию социальных представлений (С. Московичи). Традиционное понимание личной идентичности как устойчивого внутреннего ядра перестает работать в эпоху постмодерна. Индивиду, обнаруживающему себя включенным в густую сеть различных социальных отношений, требуется, скорее, потенциал для коммуникации и самопрезентации. «Личность может обладать или не обладать стабильной идентичностью в том или ином реляционном поле, но нет никаких оснований рассматривать ее наличное состояние как непоколебимую внутреннюю целостность», - считает Джерджен. Идентичность является продуктом не сознания, а отношений; сам же контекст социальных отношений представляет собой сеть взаимных идентичностей, нуждающихся в участии друг друга. Поэтому социальный конструкционизм, главным теоретиком которого является К.Джержден, отказывается от понятия «личность» в пользу идентичности, от идентичности – в пользу идентификации, pastish personality, relational self - набора конструктов, ролей, ситуативных самостей, соприкасающихся, множащихся, зыбких, переходных позиций, конфигурации которых в каждый момент образуют версии тождественности индивида себе, Другому, миру. В исследовании идентичности социальные конструкционисты делают упор на описании способов социокультурного построения идентичности, анализ базовых дискурсов, от которых эта идентичность производна. В этом случае «Я» рассматривается как процесс и результат самоповествования, разворачивающегося в рамках социальных взаимоотношений. К. Дж. Джерджен определяет самоповествование (или Я–нарратив) как «индивидуальное объяснение отношений в контексте значимых для индивида событий, развертывающихся во времени». Идентичность описывается через совокупность психопоэтических категорий. По характеру описываемой последовательности событий Я-нарративы могут быть восходящими, стабильными или нисходящими; они могут разворачиваться на макро- и микроуровне, включаться одни в другие, находясь сразу в нескольких реляционных контекстах. Свойственная западному сознанию драматическая форма повествования реализуется в выделенных К. Мэрреем рассказовых структурах личности: комедии, романе, трагедии и иронии (или сатире). Е. Трубина высказывает идею о том, что утрата формы повествования ведет к утрате идентичности, поскольку идентичность человека опосредована не только и не столько его словами и намерениями, сколько той формой, которую приобретает история его жизни, соприкасаясь с историями других. Утрата возможности выхода на публику сопровождается утратой конфигурации повествования и влечет за собой утрату идентичности; «человек без качества в мире, полном качеств, но бесчеловечном, не может быть идентифицирован» [5, С. 28]. «Я– нарративы» конструируют мир отношений, координируя события жизни во времени и пространстве, отвечая требованиям социальных конвенций. «В современной западной культуре, - пишет Е.В. Якимкина, структура Я-нарративов задается следующей совокупностью шагов: а) устанавливается значимая конечная цель описываемых событий; б) производится отбор релевантных происшествий; в) осуществляется их временная и относительная пространственная стабильность организация; личностной г) обеспечивается идентичности участников событий; д) проводится экспликация каузальных связей между событиями; е) устанавливаются демаркационные знаки начала и конца повествования» [7, С. 42]. Сходным образом трактуется понятие идентичности в дискурсивной психологии (Harre 1986). Дискурсивный анализ изучает приемы Явыстраивания в различных дискурсивных ситуациях, рефлексии как самоконструирования и самоинтерпретации. Р. Харре, Б. Дэвис и Л. Лангенхоф разрабатывают «позиционную теорию дискурсивного продуцирования множественных Я», где «позиционирование» (positioning) – это наделение себя и других участников взаимодействия статусом и полномочиями в контексте актуальной дискурсивной практики, основной способ индивидуального бытия. Визуальный дискурс как пространство производства идентичности – это не рассказанная, а показанная идентичность. Визуализация ее производится посредством матриц идентификации, описанных С. Московичи. Применительно к исследованию визуального в них можно выделить эталоны – культурно-исторически легитимизированные наборы фотографических, живописных, кинематографических образцов «настоящего советского человека», и маркеры идентичности – корпус разнообразных ситуаций, черт, интерпретативных и технических приемов, позволяющий распознать сконструированный с их помощью эталон идентификации как «настоящий», отвечающий требованиям психокультурного контекста эпохи. Для визуальной идентичности незначимо временное измерение – гораздо важнее порядок демонстрации, просмотра, формовки и интерпретации образа. Здесь важна не только визуальная поэтика, но и технология изготовления образа. Если идентичность, производная от наррации, устанавливала связь времен, событий, мотивов, в переплетении их размещая «Я», то идентичность, сконструированная средствами визуального, – это утверждение, объективация, манифестация наглядности. В этих обстоятельствах жизнь обретает новый смысл – видеть и быть видимым. Это еще и овнешненная идентичность – все смыслы – на поверхности, кожа в прямом смысле слова становится зеркалом души. В.А. Шкуратов вводит понятие медиаличности для описания конструкции, собирающей вокруг видеоцентризма себя (Шкуратов). персональные Он полагает, содержания что в эпоху медиаличность конструируется при помощи взаимонаправленных процессов визуализации личности и персонализации образа. Человек узнает себя в различных визуальных эталонах и клише, предоставляемых варьирующимся (в зависимости от культурных приоритетов эпохи) по полноте и важности набором средств фотографии, кинематографа, живописи рекламы, постеров и прочих визуальных способов репрезентации эталонов идентификации, производимых en masse в ту или иную эпоху, но включающих также некоторые отвечающие ее идентификационным стандартам элементы предшествующих визуальных ориентиров идентичности, наполняя их своими смыслами и значениями (психологическими, идеологическими, историческими). Из образного арсенала социальной памяти извлекаются новые идентификационные эталоны (например, «советский человек», «враг народа», «герой труда»), выступающие не средствами описания реальности, а бесспорными ее элементами, являющимися тем, что они обозначают. Основные тезисы в исследованиях идентичности: идентичность принципиально не завершена и постоянно нуждается в определении и переопределении (Ж. Лакан); каждая культура имеет свой дискурсивный порядок производства идентичности (P. Robinson); социально-конструкционистская парадигма – акцент на использовании языка в ситуации коммуникации для производства идентичности (K. Gergen); идентичность как дискурсивный эффект и ресурс (R. Harre); отход от жестких персонологических категорий и описании «личности» как исторического продукта западной цивилизации Нового времени (романтический проект) (K. Gergen); на смену представлениям о стабильном Я и его эссенциалистских основаниях – представление о гибком ресурсе и множественных идентификационных версиях (K. Gergen); Особую историю имеет изучение идентичности в литературоведении: внимательным к идентичности было литературоведение феноменологического толка: рецептивная эстетика Г. Яусса и И. Нгардена, Поль Рикер. Последний ввел в обиход понятие повествовательной идентичности: «Под повествовательной идентичностью я понимаю такую форму идентичности, к которой человек способен прийти посредством повествовательной деятельности» (Рикер 1999). ; МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ В основании современных междисциплинарных подходов к исследованию субъектности, как правило, лежит критика картезианского субъекта – автономного, целостного, самовластного. Начиная с работ Л. Альтссера, М. Фуко, М. Пёше, Ж. Лакана субъектность традиционно интерпретируется в категориях дискурсивного производства, власти и контроля. Акцент делается на условиях – социальных, политических, идеологических, но неизменно – дискурсивных –производства субъектности. Используютс доктрины (пост)марксизма, психоанализа, постструктурализма, гендерной теории и феминистской критики. Луи Альтюссер предлагает концепцию интерпелляции – «оклика власти» как условия и механизма производства субъектности. Французская школа анализа дискурса (М. Пёше, Квадратура смысла 1989) рассматривает субъекта (высказывания) как позицию в дискурсе, определяемую и задающую единство производимых возможных высказываний. Джудит Батлер, возвращаясь к доктрине интерпелляции, вводит представление о двойной онтологии структуры субъекта, выделяя два уровня в дискурсивном взаимодействии с властью: уровень подчинения, принятия субъектом «оклика власти», уровень отказа субъекта от «оклика власти» - двойная онтология структуры субъекта (Батлер 2004); Историко-антропологическую концепцию производства субъектности в связи с отношениями контроля над телом предлагает М. Фуко. В различных текстах он описывает различные культурно-исторические и политико-психологические рамки, которые позволяли ухватывать, опредмечивать и объективировать индивидов. Исповедь и вообще признание в широком смысле), «забота о себе», телесные режимы и дисциплины – все это контексты, позволяющие рассматривать историкокультурную обусловленность субъекта. Интерес представляет концепция Дж. Батлер о перформативном производстве гендерной субъектности. Ниже будут приведены основные тезисы концепции Батлер (Батлер 2004): отсутствие аутентичного ядра идентичности или «внутренней сущности» , того, что 2мы на самом деле есть»; наличие перформативной репрезентации – того, что мы совершаем в данный момент времени (в т.ч. посредством языка); вместо того, чтобы настаивать на своей гендерной сущности, мужчина или женщина могут сказать что они в той или иной степени ощущают себя женщиной или мужчиной эффект перформативной процедуры – в ретроактивном производстве существования некоторого внутреннего ядра субъективности Для анализа субъектности значима концепция позиционного дискурсивного производства множественных «я» Харре и Дэвиса. Здесь уже речь идет не столько об исторической субъектности и историческом субъекте, сколько о локальных процессах производтсва субъекта в связи с неаделением его позицией в ситуации коммуникации (Davis 2003) . Ниже приводятся основные тезисы этого подхода: местоимение «я» - элемент языковой игры, производство перформативных эффектов; «психология сознания подчиняется грамматике местоимений»; «психология Я не может базироваться на феноменологии структур сознания, она должна быть частью антропологии и истории моральных универсумов»; позиционная теория – наделение себя и других участников определенными позициями в ситуации коммуникации, «я» - как позиция (множество позиций), актуализированных в ситуации коммуникации; дискурсивное производство субъектности как единства «личности и динамики ее множественных «я»»; быть «я» - обладать теорией (Р. Харре) МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ Одним из первых, кто поместил изучение памяти – традиционный объект экспериментально-психологического исследования – в контекст социального, исторического, антропологического анализа, был французский социолог Морис Хальбвакс. Центральный тезис, приводимый во всех работах Хальбвакса, - это социальная обусловленность памяти. Он полностью отвлекается от физической, то есть коренящейся в физиологии нервной системы и мозга, основы памяти, вместо этого он выявляет социальный контекст, без которого невозможно складывание и сохранение индивидуальной памяти. «Невозможная память вне референциальных рамок, на которые опираются живущие в обществе люди, чтобы зафиксировать и удержать свои воспоминания» (Хальбвакс 2007). Индивид, воспитанный в полном одиночестве, рассматривается французским исследователем как не имеющий возможность обладать памятью – таков его тезис, нигде, впрочем, не сформулированный в столь отчетливой форме. Память возникает у человека лишь в процессе его социализации. Хотя «обладает» памятью всегда лишь отдельный человек, эта память сформирована коллективом. Поэтому выражение «коллективная память» не относится к разряду метафор. Коллективы не «обладают» памятью, но обуславливают память своих членов. Даже самые личные воспоминания возникают только через коммуникацию и взаимодействие в рамках социальных групп. Мы помним не только то, что испытали от окружающих, но и то, что окружающие нам рассказывают, важность чего подтверждена для нас их словами и поведением. Уже само переживание возникает у нас с оглядкой на окружающих, в контексте социально заданных рамок значения. Ведь не существует памяти без восприятия (3637). Понятие «социальных рамок» (“cadres sociaux”) введено Хальбваксом… cadres конституируют и стабилизируют воспоминание… Преимущество этой теории состоит в том, что она способна объяснить не только память, но и забвение. Если отдельный человек - и общество – способны хранить в памяти только то, что поддается реконструкции как прошлое в рамках данного настоящего, значит, забвению будет предано именно то, для чего в настоящем утрачены референциальные рамки. Другими словами: индивидуальная память создается в каждой отдельной личности благодаря её участию в процессах коммуникации. Память является функцией вовлеченности личности в разнообразные социальные группы, начиная с семьи и кончая религиозной и национальной общностью… Мы помним только то, что можем сообщить и для чего можно найти место в рамках коллективной памяти… Память… индивидуальна в смысле уникальной в каждом случае комбинации коллективных воспоминаний, будучи вместилищем различных связанных с группами коллективных памятей и их в каждом случае специфической комбинации… (38) Ян Ассман вводит в исследовательский обиход понятие «фигуры воспоминания»: «Из… комбинации понятий и данностей опыта возникает то, что мы назовем «фигурами воспоминания»… Под «фигурами воспоминания» мы подразумеваем… культурно сформированные, общественно обязательные «образы воспоминания» и предпочитаем понятие «фигуры» понятию «образа» потому, что оно может относиться не только к иконической, но, например, и к нарративной форме… Их специфика точнее определяется тремя признаками: отнесенностью к конкретному времени и пространству, отнесенности к конкретной группе и воссозданием как специфическим для них способом действия (Ассман 2005; 39) Харольд Вельцер обращается к анализу конструктивной и моделирующей природы памяти: «Ведь всякий раз, когда воспоминание вызывается из памяти, - например, в ходе рассказа - за этим следует новое его запоминание. При таком повторном запоминании, как указывает невролог Вольф Зингер, запоминается и контекст последней ситуации вызова из памяти - то есть изначальное воспоминание обогащается новыми нюансами, корректируется, фокусируется на тех или иных аспектах, переписывается. Воспоминание - это всегда событие плюс воспоминание о том, как его вспоминали, поэтому разговоры о коллективно пережитых ключевых событиях обладают необычайно сильным воздействием на индивидуальные воспоминания каждого. Когда речь идет о таких сильных переживаниях, как те, что связаны с войной, регулярно можно наблюдать феномен стандартизации набора воспоминаний, существующих в обществе, - так, как будто все участники войны в какой-то период пережили одно и то же. В ходе социальной коммуникации внутри коммеморативных сообществ - а таковыми могут быть и жители одного города, и военнослужащие одного подразделения, - обмен историями производится так долго и истории при этом модифицируются и переоформляются до такой степени, покуда у всех членов сообщества не окажется примерно одинаковый набор примерно одинаковых историй. Все эти истории базируются на отдаленно схожих фундаментах личного опыта, однако в деталях зачастую оказываются ложными воспоминаниями, созданными коммуникацией, а не собственно опытом. На сегодняшний день благодаря исследованиям памяти в когнитивной психологии и нейробиологии мы знаем, что человек может встраивать в историю своей жизни сведения, эпизоды и даже целые событийные ряды, происходящие не из его собственного опыта, а из совершенно иных источников - например, из рассказов других людей, из романов, из документальных и художественных фильмов, а также из снов, грез и фантазий. Этот феномен называется «забвением источника», потому что само событие человек помнит правильно, но путает источник, из которого получено воспоминание о нем. В ложных воспоминаниях или в тех, которые заимствованы из других источников, особенно раздражает то, что события могут буквально «стоять перед глазами» у человека, как у тех пожилых дрезденцев, - «так, словно все было вчера». Именно визуальная репрезентация прошедшего события субъективно более всего убеждает человека в том, что он вспоминает то, что было в самом деле и было именно так, как он видит это своим мысленным взором. Дело, однако, не в том, что это событие сначала отразилось у него на сетчатке и потом врезалось в память, а в том, что нейрональные системы переработки визуальных восприятий и образов, порожденных воображением, частично совпадают друг с другом, так что даже события, представляющие собой исключительно плод фантазии человека, могут «стоять у него перед глазами» и казаться живыми и объемными воспоминаниями. После работ Т. Адорно, введшего категорию «политика памяти», память рассматривается как мишень политического воздействия и одновременно – политический инструмент, позволяющий устанавливать контроль над социальным опытом и идентичностью. Здесь имеет смысл упомянуть работу Дэвида Кинга «Отретушированная история», в которой рассматривается тоталитарный опыт оперирования с памятью, опосредованной визуально (отретушированные и вырезанные фотографии). Б. Куртин указывает на постоянное присутствие власти в дискурсе памяти и в дискурсе о «процеживает» памяти: порядок воспоминания дискурса (дискурсивный официальных фильтр), языков обеспечивает повторяемость одних высказываний и исключение других (Куртин 1989). После исследований М. Фуко (Фуко 1996) особое внимание уделяется процедурам исключения. Забвение интерпретируется как исключение из меморативного дискурса. Ян Ассман показывает, что механизм забвения стоит искать в выпадении того или иного события, факта, обстоятельств из референциальных рамок памяти – что не имеет смысла, то забывается (Ассман 2005). В то же время и анализ техник сохранения информации представляет интерес. Здесь следует отметить работу Ф. Йейтс об истории мнемотехники в западной цивилизации от античности до Нового времени. Йейтс показывает, как изменение культурного контекста, значений, которыми наделяли память, и аксиологических позиций, которые ей приписывали, качество не только техники запоминания, но и памяти, а вместе с нею – и устройство внутреннего мира меняются. (Йейтс 1996). МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДВАНИЯ ТРАВМЫ Изучение травм («психических ран») и травматического опыта изначально начиналось во фрейдизме. Фрейд предложил концепцию, в которой устанавливалось соотношение между травмой и памятью: травматический опыт вытесняется, а воспоминание согласуется с конфликтами внутри бессознательного. Однако в последние годы началось активное исследование и изучение культурного контекста возникновения и функционирования травмы. Открытие надындивидуальных аспектов изучения травмы оказалось связано с традицией изучения холокоста. Так, в середине 1990х годов в исследовательский обиход было введено понятие «постпамяти», описывавшееся в категориях травматического опыта, переживаемого потомками, непосредственного отношения к травматическим событиям не имевшего, но вовлеченного в переживание и отрабатывание травмы. Автор конструкта, В. Хирш, пишет: «Постпамять «отделена от памяти дистанцией поколения и от истории – глубокой личной связью, её сила состоит в том, что она связана со своим объектом не через воспоминание, а через воображаемый вклад и сотворение (Hirsh 1996). «Постпамять включает события и опыт, которые находятся за пределами лично пережитого и, тем не менее, оформляют субъектность «сторонних наблюдателей» самым сеьезным образом» - отмечает Ропер. Ю. Херман на историческом материале показал, что не только устройство травмы, но и её содержание является культурно-специфичным. Было выделено три клинических проекции внутри европейского травматического опыта 19-20вв. и три дискурсивные стратегии, социально легитимируюющие и дискурсивно артикулирующие эти травматические конструкции: французский республиканизм, антивоенное движение, феминизм. Вокруг них собирался травматический опыт, связанный с женской истерией, ПТСР и насилием (цит. по Федорова 2003). Концепция культурной травмы была предложена П. Штомпкой (Штомпка 2002). Основной упор автором был сделан на описание стратегий конструирования травмы, её отреагирования и механизмы «работы» . Штомпка уделяет особое внимание изучению того кА ксоциальное изменение (особенно в обществах транзитивного типа) становится травмой. ОН делает акцент на социальной составляющей травматичного. . «Любая травма по определению – культурный феномен. Но она может быть культурной, воздействующей на культурную ткань общества. Только это и может считаться культурной травмой в полном смысле слова. Такая травма наиболее важна, потому что она, как все феномены культуры, обладает сильнейшей инерцией, продолжает существовать дольше, чем другие виды травм, иногда поколениями сохраняясь в коллективной памяти или в коллективном бессознательном, время от времени при определенных условиях проявляя себя.» (Штомпка 2001). Травма – «культурно интерпретируемой раны». Среди состояний, в той или иной степени совпадающих с культурной травмой – аномия, цивилизационная некомпетентность, социальное трение синдром недоверия, коллетивное чувство вины, коллективное чувство стыда, кризис идентичности, кризис легитимности… Этиология травмы: подрыв оснований культуры, несоответствие ключевым ценностям (поражение в войне, коллективная вина) – конфликт между фактами настоящего и прошлого, интерпретируемыми как несоответствующие базовым основаниям культуры. Охваченность новой культурой Обновление образа жизни под воздействием новых технологий, экономических или политических условий Авторы отмечают, что разные группы отличает разная чувствиетльность к травме. На основе этого критерия были выделены центральные и переферийные группы. С. Бойм в связи с травматическим опытом рассматрвиает феномен ностальгии и выделяет ее виды: роеставрационная – восстановление мифического коллективного дома; ироническая – размышление о тосковании и недостаче как таковых; постсоветская ностальгия и стратегии её дискурсивного производства; ностальгия и проблема идентичности (Бойм 1998); Важнейшее значение в описанной ситуации приобретает понятие «травма». С ним произошло то же самое, что несколько лет назад произошло с такими понятиями, как «коллективная память» или «идентичность»: никто уже не знал, что конкретно они означают, но употребляться они стали уже повсеместно, так что можно было прилагать их к чему угодно. Область употребления понятия травмы простирается на сегодняшний день так широко, что включает в себя и животных в кабульском зоопарке, которых травмировали военные действия, и футбольного вратаря, пропустившего важнейший одиннадцатиметровый удар, и внуков «изгнанных», глубоко страдающих от того, что их дедушки и бабушки были изгнаны или вынуждены бежать из восточноевропейских стран. И если президент германского «Союза изгнанных» Эрика Штайнбах сегодня говорит о травме изгнания, хотя отец ее родился под Франкфуртомна-Майне и только во время войны приобрел ту землю, с которой недолгое время спустя был изгнан, - то речь явно идет о политике памяти. Что, впрочем, присуще дискурсу травмы как таковому. Изначально понятие травмы бытовало в клиническом обиходе и долгое время понималось узко. Его использовали для описания психических последствий пережитого насилия, от которых страдали жертвы, в частности - те, кто пережил Холокост. Понятием этим обозначался четко очерченный спектр психических нарушений, которые приводили к тому, что травмированный человек сталкивался со значительными затруднениями в своей жизнедеятельности. Холокост - травмирующее событие par excellence - приобрел свою нынешнюю значимость только в конце 1970-х годов. После того, как на протяжении четверти века о нем предпочитали не говорить, в Германии этой темой стали спорадически заниматься в конце 1960-х - в первую очередь в связи с такими событиями, как процесс Эйхмана в Иерусалиме или процесс преступников Освенцима во Франкфурте. Потом, в 1970-х, на экраны вышел четырехсерийный телефильм «Холокост», который превратил эту тему в постоянную и всеобщую, так что в конце концов она вошла в учебные планы средних и высших учебных заведений. Как показывает этот пример, воспоминание о коллективных исторических травмах и переработка их сильно зависят от того, каким образом эти воспоминания используются в настоящем. Будет ли то или иное событие вообще истолковано как травмирующее, зависит порой не столько от самого события, сколько от того, какое значение ему будет придано впоследствии, задним числом. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛА Достижение идеального веса, устранение целлюлита, приобретение средиземноморского загара среди промозглой российской зимы, наращивание мышц, пирсингирование, боди-арт, нанесение шрама либо татуировки, диеты и пластическая хирургия – все это актуальные практики изменения тела. Сегодня массовая культура вместе с развивающимися биомедицинскими технологиями настойчиво перерабатывает натуральную телесность в своего рода тело-конструктор, объект и продукт непрерывных модифицирующих воздействий, тело метаморфичное и модное. Такая концепция тела как нельзя лучше отвечает представлениям о зыбком, подверженном непрерывным постиндустриальной эпохи. стабильной идентичности изменениям «Я» человека Отказ от идеи фиксированного тела и означает радикальный пересмотр антропологических и психологических взглядов, находящихся в обиходе представителей западной цивилизации, начиная с эпохи Просвещения. Более того, модификации тела сегодня все чаще рассматриваются в качестве инструмента для преобразования не только внешнего вида, но и внутреннего мира наших современников. Физерстон называет их «пластическим ресурсом» для постмодернистской идентичности («pastiche personality», «relational self», теория которых разрабатывалась Кеннетом Джердженом, Джоном Шоттером, Ромом Харре и др.). Виктория Питтс выражается еще более определенно, говоря о «гибком теле» (flexible body), которое конструируется и воспроизводится в рамках современной западной культуры. Валери Валь в своей культовой монографии «Современные примитивы» - одной из первых работ, посвященных модификациям в современной культуре, - по ходу интервьюирования специалистов в области телесных модификаций выясняет, каким образом можно создавать свою индивидуальность, используя тело в качестве основы. В частности, он обращается к анализу опыта современных художников – француженки Орлан и австралийца Стеларка, которые исследуют пределы западного канона красоты, экспериментируя со своими телами при помощи боди-арта, пластической хирургии и протеинов. Они буквально воплощают в жизнь исследовательскую метафору о современном «я» как «проекте тела». В основе представлений о значимости модификаций тела для «я» современного человека лежит идея о том, что с помощью модификаций внешность приводится в соответствие с эталоном или образом «я» или же происходит намеренное изменение персональной идентичности через серию телесных трансформаций. Крис Шиллинг, развивая идеи Энтони Гидденса, утверждает, что проект человеческого «Я» в современном обществе, в сущности, оказывается проектом тела. По его словам, «возникает тенденция, при которой тело становится все более значимым для современного ощущения человеком своей идентичности». Под этим углом мы и будем рассматривать практики модификации. Рост популярности этих телесных практик среди представителей западной цивилизации совпал с началом постиндустриальной эпохи, т.е. с 1960-1970 годами и достиг (пока) своего апогея в последнее десятилетие. Так, по данным американских социологов (приводятся по материалам Kеннета Гэя на середину 1990х), из десяти американцев в возрасте до 30 лет каждые 7 имеют опыт татуировки, пирсинга или какой-либо иной бодимодификации. По данным М. Армстронга (на 1999 год, приводятся по Л. Карволл), опросившего студентов 19 американских университетов, 73 % респондентов имели татуировку (а более, чем в половине случаев – и не одну), а около половины опрошенных, 51 %, - пирсинг. Массовое обращение к татуировке как ресурсу проектирования персональной идентичности и средству самовыражения, переход этой практики модификации тела из маргиналий западной культуры в мейнстрим, уже было охарактеризовано и как «tattoo renaissance», и как «телесная эстетика для среднего класса» (Уайт и Юнг, 1997; цит. по Каплан). Российские практики модификации тела изучены слабо, однако распространение модификаций тела среди жителей больших российских городов и активное развитие индустрии услуг в этой сфере – очевидно. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИЙ Особое внимание в постсовременной психологии уделяется анализу эмоциональных словарей – реализация проекта психологической семантики началась именно с них. Эмоции оказались особенно убедительным доказательством того, что на месте ментальных фактов, которыми оперирует традиционная психология, следует искать социальные и лингвистические артефакты (поведенческие эквиваленты эмоциональных явлений являются поведенческими актами, эмоции бесконечно итенциональны (мы радуемся «чему-то», надеемся «на что-то»), эмоции уоптребляются в соответствии с локальным моральным порядком, а связь между физиологическими проявлениями и эмоциональными конструктами – условна). … Социально-психологический анализ (эмоций) должен предваряться лингвистическим анализом словарей эмоциональных терминов и условий их применения. Изучение специфического функционирования эмоциональных понятий как элементов дискурса позволяет не только сопоставить эмоциональный опыт различных культур, но и дает ключ к пониманию экзотических либо исторически утраченных эмоциональных состояний, подчеркивает Харре (с. 64) Внутренний мир становится предметом доверия прежде всего в силу достижения всеобщего согласия относительно категорий существования: базовых разграничений, необходимых для описания или объяснения психических состояний. Без подобного словаря было бы просто нечего описывать или объяснять, а без разумного широкого согласия по поводу терминов в права вступают двусмысленность и сомнение. Так, например, мы можем с определенной долей уверенности говорить об эмоциях страха, гнева и печали, поскольку эти категории являются элементами общепринятого словаря (в который входит около десятка эмоциональных терминов), наиболее часто употребляемого в культуре… Можно ли быть человеком, не испытывая гнева или печали? Другие психологические предикаты, разделяемые менее крупными и иногда более маргинальными культурными группами, не внушают подобного доверия. Такие понятия, как «экзистенциальная тревога», «посттравматический стресс», «духовное пробуждение», «поток сознания» и «канализирование чувств» приемлемы в разнообразных областях культуры, но большинство может скептически относиться к ним как к некоему жаргону или культовому языку. Возможны и более жесткие варианты: если бы кто-то заявил, что его переполняет acidae (популярный в средневековых монастырях психологический термин), что он страдает от сильного приступа меланхолии (термин, которым необычайно увлекались поэты и романисты XIX века) или охвачен mal de siecle (термин, который подвигал многих на самоубийство менее ста лет тому назад) – это, скорее всего, вызвало бы удивленные взгляды у его товарищей… По сути, без публичного подтверждения претензий – без того, чтобы в итоге было сказано: «Да, я понимаю, что ты чувствуешь», - человек вряд ли может вести уверенное психологическое существование. Дискурсивно-психологическая концепция эмоций, набилогее полно изложенная в работах Рома Харре, представляет собой интерпретации эмоциональных проявлений в терминах локальных словарей и характерных способов употребления эмоциональных понятий в рамках культурных сообществ. Представители этого направления рассматривают эмоциональные проявления в их обусловленности работой интерпретации. При этом Харре отмечает, что классическому анализу поддаются либо те эмоции, чьи физиологические аспекты могут быть легко измерены, либо те, что имеют большое социальное значение. Для дискурсивной психологии эмоции являются частью локального морального порядка (эмоциональные терзания кальвиниста немыслимы в системе африканских культов), а полноценное переживание меланхолии за пределами культуры, которая эстетизирует утрату или абсолютизирует эсхатологические ожидания – невозможно. ЛИТЕРАТУРА: 1. A World of Lies (The Global Deception Research Team)// Journal of Cross-Cultural Psychology, 2006, Vol. 37 (1). 2. Beaco J.-C., Claudel Ch. Science in media and social discourse:new channels of communication, new linguistic forms// Discourse Studies. 2002, vol. 4(3), p. 277-300. 3. Berger J. Ways of Seeing. L., 1972. 4. Berry J., Poortinga Y., Segall M. Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. L. 2002. 5. Bruner, J. S. The "remembered self."// In U. Neisser & R. Fivush (Eds.), The remembering self: Construction and accuracy in the self-narrative. Cambridge, 1994; 6. Bruner, J. The autobiographical process//Current Sociology, 1995, 43, 161-177. 7. Cassidy A. Evolutionary Psychology as Public Science and Boundary Work// Public Understanding of Science, 2006 , Vol. 15, p. 175-205. 8. Gergen K. Technology and the Self: From the Essential to Sublime/ Grodin and Lindlof (Eds.) Constructing the Self in a Mediated World, Sage, 1996. 9. Cole M. Culture and Cognitive Science. N.Y. 1992. 10.Cossley M. Narrative psychology, trauma, and the study of self/identity//Theory & Psychology, 2000. N 10, 527-546. 11.Crary D. Techniques of Observer. Oxford, 1993. 12.Davis B., Harre R. Positioning: the discursive production of selves// Journal for the theory of social behavior. Oxford. 1990. vol 20, № 1, p.4363. 13.Edwards D., Potter J. Discursive Psychology, L. : Sage, 2005. 14.Gibbons M, Limoges C., Schwartzman S., Scott P., Trow M. The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage , 1994. 15.Gibbons M, Scott P. Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press, 2001. 16.Goldstein S. Cross-Cultural Explorations: Activities in Culture and Psychology . Oxford UP, 1996. 17.Harre R. (ed) The social construction of emotion. Oxford, 1986. 18.Hazleden R. Love Yourself: The relationship of self with itself in popular self-helpful text/ Journal of Sociology, 2003, Vol. 39 (4). 19.Hilgartner S. The Dominant View of Popularization: Conceptual Problems, political Uses //Social Studies of Science, 1990. vol. 20, p. 519-539. 20.Keen E.Paranoia and cataclysmic narratives// Sarbin (ed.) Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct.N.Y. 1989. 21.Kotre J. Outliving the Self: Generativity and the Interpretation of Lives. 22.Lee D.E. (Ed.), Life and story: Autobiographies for a narrative psychology. Baltimore, 1994; 23.Levy D. Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications. Harvard UP, 2006. 24.Myer G.. Discourse Studies of Scientific Popularization: Questioning the boundaries //Discourse Studies, 2003, vol.5(2), 265-279 25.McAdams, D. P., & Ochberg, R. (Eds.). Psychobiography and life narratives. Durham, NC: Duke University Press. 1998. 26.Mirzoeff M. Introduction in Visual Culture. N.Y., 1995. 27.Mishler E.G. Modes of narrative analysis. A typology// Journal of Narrative and Life History. 1995 vol.5, N 2, p. 87-123. p.94. 28.Moirand, S. (ed.) Un lieu d’inscription de la didacticité: Les catastrophes naturelles dans la presse quotidienne, Les Carnets du CEDISCOR 1. 1992 29.Moscovici S., Markova I. The Making of Modern Social Psychology. Cambridge, Polity Press. 2000. 30.Moscovici S. La psychanalyse, son image et son public. Paris, P.U.F., 1976. 31.Murrey K. Narrative Partitioning: Ins and Outs of Human Being Identity// The Journal of Life and Narrative, 1995, Vol. 34(2). 32.Nowotny H. The Potential of Transdisciplinarity// http://www.interdisciplines.org/ interdisciplinarity/papers/ (2003) 33.Polonoff D. Self-Deception// Social Research, 1987, vol.54, № 1. 34.Psychology and Culture. Oxford, 1995. 35.Rogoff B. Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in Social Context. N.Y. Oxford UP, 1990. 36.Rose N. Governing the soul: The shaping of the private self. 1999. 37.Rose N. Inventing Our Selves: Psychology, Power, and Personhood. 1998. 38.Pumphery S., Cooter R. Separate Sphere in Public Places: Reflection on the History of Science Popularisation and Science in Popular Culture// History of Science. 2003, vol. 32. p. 237-267. 39.Reed R. (Un)Professional Discourse: Journalist’s and scientist’s stories about science in media// Journalism. 2001, vol 2(3). P. 279-298 40.Rijsman G. Stroebe W. The tow social psychologies or whatever happened to the crisis// European Journal of Social Psychology. 1989, Vol. 19 (5). 41.Reissman C. Illness Narrative: Positioned Identities. Invited annual lecture. Health Communicational Research Center. Cardiff University. Walls. U.K. 2002 42.Schwartz T. (ed.) New Derection in Psychological Anthropology. Cambridge UP, 1994. 43.Shweder R. Cultural Theory: Essays on Mind, Self and Emotion. CambridgeUP, 1984. 44.Singer, J. A. Seeing oneself: A framework for the study of autobiographical memory in personality//Journal of Personality, 63, 429457. 1995. 45.Smolka A. The Construction of the Subject: A Persistent question// Sociocultural Studies of Mind. Cambridge UP, 1995. 46.Sunderland J. Feminism and Discourse: Psychological Perspectives. L.:Sage, 2006. 47.Tadmor C., Tetlock P. A Model of the Effects of Second-Culture Exposure on Acculturation and Integrative Complexity// Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 37, No. 2, 173-190 (2006) 48.Wertsch J. Culture, communication and Cognition: Vygodsky perspective. Cambridge UP, 1985. 49.Wilkinson S. Language and Gender: An Advanced Resource Book. N.Y., 2004. 50.Young K. `Narrative embodiments: Enclaves of self in the realm of medicine'// J. Shotter & K. J. Gergen (eds) Texts of Identity London: Sage. 1989 51.Адорно Т. Проработка прошлого// Память о войне 60 лет спустя. М., 2005. 52.Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. 53.Батлер Дж. Гендерное беспокойство//Антология гендерной теории, Минск,. 2000, С. 297–346. 54.Батлер Дж. Психика власти. СПб., 2003. 55.Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе// Бахтин М. Вопросы литературы и эстетки. М., 1976. С. 234-407. 56.Брунер Дж. Жизнь как рассказ// Журнал постсовременной психологии, 2005, №3. 57.Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М., 2002. 58.Вельцер Х. История, память и современность прошлого// Неприкосновенный запас, № 2. 2005. 59. Вирильо П. Машина зрения. СПб., 2004. 60.Власова Т. Рассматривание, рассказывание, припоминание: нарративизация содержания семейных фотоальбомов// Визуальная антропология. Саратов, 2007. С. 123- 146. 61.Вундт В. Введение в психологию. СПб., 2002. 62.Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1912. 63.Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий// Социологическое обозрение, Т.2 (1), 2002. 64.Гигзбург К. От Вабурга до Гомбриха// Мифы-эмблемы-приметы. М., 2005. 65.Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. Изд-во Питер, 2004. 66.Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. 67.Гринблатт С. Формирование «Я» в эпоху Ренессанса// НЛО, № 35 (1, 1999). 68. Дарентон Р. Читатели Руссо откликаются: сотворение романтической чувствительности// Дарентон Р. Кошачье побоище. М., 2002. С. 250-300. 69. Дебор Г. Общество зрелища. М., 2000. 70. Дейк, ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 71.Делюмо Ж. Грех и страх. Екатеринбург. 2003. С. 188-245. 72.Делюмо Ж. Ужасы на Западе. М., 1994. 73.Джерджен К. Закат и падение личности// электронный документ. 74.Джерджен К. Социальная психология как история// Социальная психология: саморефлексия маргинальности. М., 1999. 75. Дубин Б. Биография. Репутация. Анкета (о формах интеграции опыта в письменной культуре)// Дубин Б. Слово. Письмо. Литература. М., 2001. С. 98-120. 76. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню реального-2. М., 2002. 77.Иейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1996. 78.Калина Н. Анализ дискурса в психотерапии// Психологический журнал, 2000, №2. 79.Калмыкова К., Мергенталер Э. Нарратив в психотерапии: Рассказы пациентов о личной истории// Психологический журнал, 1998, №6. 80.Караулов Ю. Русская языковая личность и задачи её изучения// Сб. Язык и личность. М., 1989. 81.Квадратура смысла. Сб. под ред. П. Серио. М., 1990. 82. Козлова Н, Сандомирская И. Я так хочу назвать кино. Наивное письмо. Опыт лингвосоциологического чтения.- М.,1996. 83.Козлова Н.И. Советский человек: опыт прочтения. М., 2006. 84.Козлова Н.Н. Документ жизни: опыт социологического чтения. М.: Sociologos, 1996 85.Козлова Н.Н. Культурно-историческая антропология. СПб., 1998. 86.Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997. 87.Кундера М. Книга смеха и забвения. СПб., 2003. 88.Куртен Д. Шапка Климетиса (заметки о памяти и забвении в политическом дискурсе)// Квадратура смысла. М., 1999. 89.Ле Гофф Ж. Людовик Святой. М., 2001. 90.Либера, де А. Средневековое мышление. М., 2004. 91. Лотман Ю. Поэтика бытового поведения в русской культуре 18 века// Лотман Ю. Избр. Труды в 3х т. Т.3., Таллинн, 1992. 92.Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. Л., 1995. 93. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005. 94.Лурье С. Введение в историческую антропологию. М., 2005. 95.Макаров М. Основы теории дискурса. М., 2003. С. 162-203. 96. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга.: сотворение человека печатной культуры. Киев. 2003. 97. Маклюэн М. Понимание медиа. М., 2003. 98.Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000. с. 280-297 99.Мюррей К. Интернет-зависимость с точки зрения нарративной психологии// Гумарнитарные исследования в Интернете. М., 2000. 100. Найман Э. Дискурс, обращенный в плоть: А. Замков и воплощение советской субъектности// Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 609-625. 101. Найссер У. Когнитивные карты как схемы// Найссер У. Познание и реальность. М., 1981. С. 125-137. 102. Нуркова В. Зеркало с памятью. Феномен фотографии. Культурно-исторический анализ. М., 2006. 103. Нуркова В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти. М., 2000. 104. О муже(н)ственности/ под ред. С. Ушакина. М., 2004. 105. Память о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание общества. М., 2005. 106. Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М., 2005 107. 2004. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб., 108. Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский: человек эпохи реализма. М., 1996. С. 7-77. 109. Пол. Гендер. Культура/Под ред Шоре Э. и Хайдер К. М. 1999. 110. Поттер Дж. Дискурс-анализ как метод исследования естественно протекающей речи// Иностранная психология, №10. 111. Поттер Дж., Уезерелл М. Дискурс и социальная психология// электронный документ. 1993 112. Пушкарёва Н. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX в.). М.: Ладомир, 1997. 113. Рикер П. Время и нарратив. СПб., 2000. Т.1, Т.2. 114. Рикер П. Повествовательная идентичность// Рикер П. Герменевтика, этика, политика. М., 1995. 115. Рис Н. Русские разговоры: культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М., 2005. 116. Розенталь Г. Реконструкция рассказов о жизни: причины отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических нарративных интервью// Хрестоматия по устной истории. СПб., 2006, С. 332-356. 117. Рустин М. 2002. Размышления по поводу поворота к биографиям в социальных науках//Интер. 2002. № 1. С. 7–24. 118. Сабрин Т.Р. Нарратив как базовая метафора для психологии// Постнеклассическая психология, 2004, №1. 119. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М., 2002. 120. Сеннет Р. Падение публичного человека. М., 2002. 121. Серио П. Как читают тексты во Франции// Квадратура смысла. М., 1999. 122. Серль Дж. Что такое речевой акт?// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986. С. 151-169. 123. Серто, де М. Хозяйство письма// НЛО, № 28 (1997). 124. Сосланд А. О психологократии// Московский психотерапевтический журнал, 2007. №1. С. 182-199. 125. Степанов Б. Тонкая красная нить: споры о личности и индивидуальности как зачин историографии 1990-х// НЛО, 83. 2007. 126. Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования. М., 2001; 127. Тахо-Годи А. О древнегреческом понимании личности на материале термина «сома»// В: Онианс Р. На коленях богов. М., 2000. 498-533. 128. Трубина Е. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. Екатеринбург., 2002. 129. Трубина Е. Рассказанное «я»: отпечатки голоса. Екатеринбург, 2004. 130. Тхостов А. Психология телесности. М., 2002. 131. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе 19 века. Екатеринбург, 2002. 132. Улановский А.М. Качественная методология и конструктивистская ориентация в психологии// Психологический журнал, 2006. С. 27-27. 133. Усманова А. Научение видению: к вопросу о методологии анализа фильма// Визуальная антропология. Саратов, 2007. С. 183205. 134. Ушакин С. Пол как идеологический продукт // Человек. 1997. № 1. 135. Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 136. Филипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ: теория и метод. Харьков, 2004. Фуко М. Забота о себе. Киев, 1998. С. 7-45. 137. Фриндте В., Келер Т. Публичное конструирование «я» в опосредованном компьютером общении// Гуманитарные исследования Интернета. М., 2000. С. 40-54. 138. Фуко М. Порядок дискурса// Фуко М. Воля к истине: за пределами власти знания и сексуальности. М., 1996. 139. Фуко М. Формы проблематизации// Фуко М. Использование удовольствий. М., 2004. С. 22-55. 140. Хархордин О. Фуко и исследование фоновых практик// Мишель Фуко в России. М., 2001. С. 46-82. 141. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003 142. Шкуратов В. От Манхеттена до Норд-Оста. Самара. 2001. 143. Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997. 144. Штомпка П. Социальное изменение как травма// Социс, 2001, №3. 145. Энафф М. Маркиз де Сад: изобретение тела либертена. СПб., 2005. 146. Якимова Е. Дискурсивная психология Р. Харре// Якимова Е. Социальное конструирование реальности: социально- психологические подходы. М., 1999. 147. Ямпольский М. Интернет и постархивное сознание// Новое литературное обозрение, №32.