Бикулова Надежда (С) КЛУБ ИЗГОЕВ
advertisement
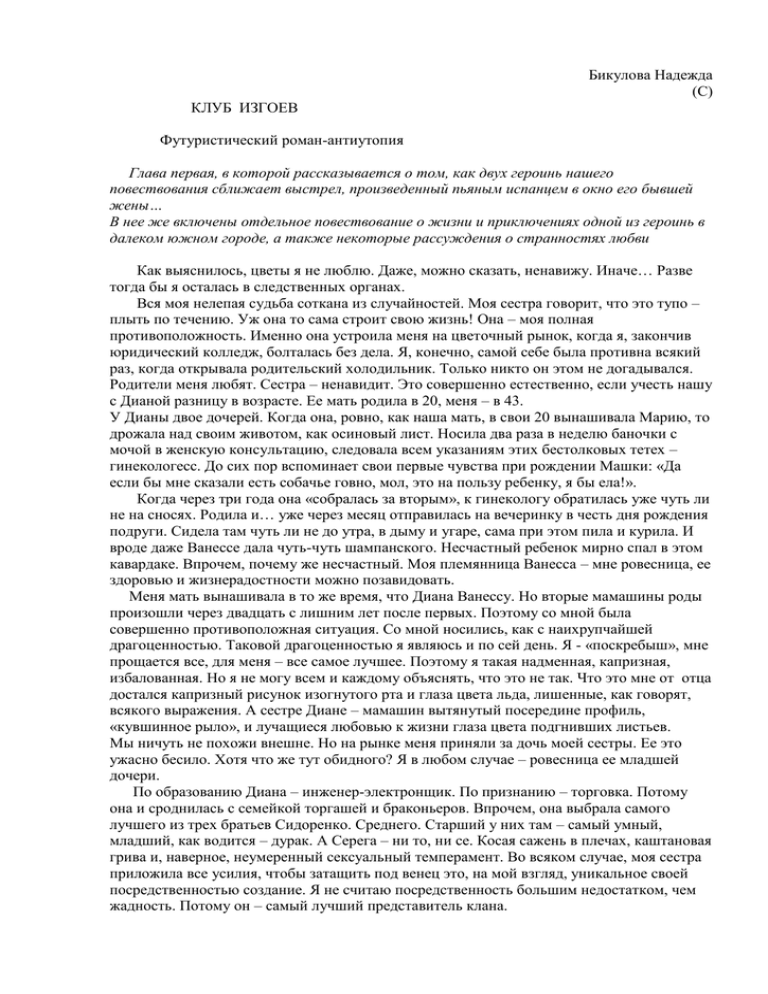
Бикулова Надежда (С) КЛУБ ИЗГОЕВ Футуристический роман-антиутопия Глава первая, в которой рассказывается о том, как двух героинь нашего повествования сближает выстрел, произведенный пьяным испанцем в окно его бывшей жены… В нее же включены отдельное повествование о жизни и приключениях одной из героинь в далеком южном городе, а также некоторые рассуждения о странностях любви Как выяснилось, цветы я не люблю. Даже, можно сказать, ненавижу. Иначе… Разве тогда бы я осталась в следственных органах. Вся моя нелепая судьба соткана из случайностей. Моя сестра говорит, что это тупо – плыть по течению. Уж она то сама строит свою жизнь! Она – моя полная противоположность. Именно она устроила меня на цветочный рынок, когда я, закончив юридический колледж, болталась без дела. Я, конечно, самой себе была противна всякий раз, когда открывала родительский холодильник. Только никто он этом не догадывался. Родители меня любят. Сестра – ненавидит. Это совершенно естественно, если учесть нашу с Дианой разницу в возрасте. Ее мать родила в 20, меня – в 43. У Дианы двое дочерей. Когда она, ровно, как наша мать, в свои 20 вынашивала Марию, то дрожала над своим животом, как осиновый лист. Носила два раза в неделю баночки с мочой в женскую консультацию, следовала всем указаниям этих бестолковых тетех – гинекологесс. До сих пор вспоминает свои первые чувства при рождении Машки: «Да если бы мне сказали есть собачье говно, мол, это на пользу ребенку, я бы ела!». Когда через три года она «собралась за вторым», к гинекологу обратилась уже чуть ли не на сносях. Родила и… уже через месяц отправилась на вечеринку в честь дня рождения подруги. Сидела там чуть ли не до утра, в дыму и угаре, сама при этом пила и курила. И вроде даже Ванессе дала чуть-чуть шампанского. Несчастный ребенок мирно спал в этом кавардаке. Впрочем, почему же несчастный. Моя племянница Ванесса – мне ровесница, ее здоровью и жизнерадостности можно позавидовать. Меня мать вынашивала в то же время, что Диана Ванессу. Но вторые мамашины роды произошли через двадцать с лишним лет после первых. Поэтому со мной была совершенно противоположная ситуация. Со мной носились, как с наихрупчайшей драгоценностью. Таковой драгоценностью я являюсь и по сей день. Я - «поскребыш», мне прощается все, для меня – все самое лучшее. Поэтому я такая надменная, капризная, избалованная. Но я не могу всем и каждому объяснять, что это не так. Что это мне от отца достался капризный рисунок изогнутого рта и глаза цвета льда, лишенные, как говорят, всякого выражения. А сестре Диане – мамашин вытянутый посередине профиль, «кувшинное рыло», и лучащиеся любовью к жизни глаза цвета подгнивших листьев. Мы ничуть не похожи внешне. Но на рынке меня приняли за дочь моей сестры. Ее это ужасно бесило. Хотя что же тут обидного? Я в любом случае – ровесница ее младшей дочери. По образованию Диана – инженер-электронщик. По признанию – торговка. Потому она и сроднилась с семейкой торгашей и браконьеров. Впрочем, она выбрала самого лучшего из трех братьев Сидоренко. Среднего. Старший у них там – самый умный, младший, как водится – дурак. А Серега – ни то, ни се. Косая сажень в плечах, каштановая грива и, наверное, неумеренный сексуальный темперамент. Во всяком случае, моя сестра приложила все усилия, чтобы затащить под венец это, на мой взгляд, уникальное своей посредственностью создание. Я не считаю посредственность большим недостатком, чем жадность. Потому он – самый лучший представитель клана. Семейка Сидоренко – типичный продукт нашего общества. ……………………………………………………………………… Дон Рикардо. На самом деле – Эдуард Петрович. Просто Петрович. Или Богатый. Якобы так его называют во дворе. Дворик замечательный. Главное – тихий. Тенистый. Мальчишки во дворе гоняют мяч. Скамейки у подъезда пустынны. Это странно для подобных двориков наших панельных пятиэтажек. В следственный отдел районного УВД я пришла работать в качестве поначалу стажера после того, как моя сестра отчаялась отыскать во мне хоть тоненькую коммерческую жилку. Я по-прежнему продолжала напрасно есть хлеб. Мои букеты выглядели ужасно. Их никто не брал. Сестра искренне удивлялась, когда мне удавалось хоть что-то продать. И все заработанное я тратила тут же на хот-доги. Первое впечатление, произведенное на меня следственным отделом, видимо, задело во мне какие-то скрытые комплексы. В обшарпанных прокуренных коридорах я чувствовала себя не амбициозным молодым специалистом, а, скорее, подследственным. И мне предстояло разобраться в деле, не стоящем, конечно же, выеденного яйца. Ну, если бы я действительно на что-то годилась в жизни… Итак, в деле фигурировало заявление некой гражданки Рикардо, проживающей по адресу Липовый бульвар, 26, квартира 72. Вечером 14 апреля, как заявляла гражданка, ее муж выстрелил в окно ее квартиры, находящейся на третьем этаже. Странноватые граждане Рикардо, состоящие в официальном браке, проживали по разным адресам. Подозреваемый в немотивированной стрельбе Эдуард Петрович Рикардо назначил мне встречу у себя дома. Я опоздала. Увы, может быть, так нескладна моя судьба, что мне никогда не удается ничего более-менее эффектно начать. «Потому что плохое начало много хуже плохого конца», - написал местный поэт. «Опаздываете!» - громогласно заявил дон Рикардо, чтото обсуждавший с соседом на лестничной площадке. Доном-то я окрестила его позже, заочно. Но все-таки ожидала увидеть нечто соответствующее фамилии – не шляпу с пером, так хотя бы усы, огненный взгляд. Эдуард Петрович оказался обычным, немного задастым мужиком среднего роста с нагловатым, хотя и маловыразительным смуглым лицом. - Водку будете? – это было следующее его предложение, последовавшее после моих скомканных объяснений про плохую работу общественного транспорта. Я ограничилась растворимым кофе и магазинным печеньем. Не дожидаясь моих вопросов, дон Рикардо начал повествование. Достаточно издалека. Его рассказ должен был, как я поняла, вызвать у меня негативное отношение к жене Эдуарда Петровича, Анастасии. Но по мере погружения в эту семейную историю незнакомая женщина стала вызывать у меня жалость. Очевидно, ее отношение к браку было бескорыстным. Ведь упор в своем рассказе Рикардо делал на свое перманентное благосостояние, по причине которого и получил во дворе прозвище Богатый. Для подтверждения своих слов подследственный организовал для меня экскурсию по квартире. - Евроремонт! Видишь? – Петрович уже называл меня на ты. Хотя мы не пили с ним на брудершафт даже кофе. – Все сам сделал. Вот этими руками. Перепланировка, стеновые панели. Э-э… Плитка на потолке отклеилась – соседка-старушка кран забыла выключить. Ты видишь, какой у меня порядок? Два раза в день пылесосю… Я с видом знатока крутила ручку на двери в ванной и со стыдом вспоминала, когда я в последний раз прикасалась к пылесосу. Наконец мне удалось набраться смелости и прервать славословия Рикардо в адрес собственного трудолюбия и чистоплотности. Меня все-таки интересовало, зачем Петрович пальнул в окно своей супруге. И почему Анастасия Львовна оказалась в другой квартире, не в этой, с евроремонтом. - Купила она эту квартиру, тайком от меня, - неохотно признался Рефердо, - откуда я знаю, зачем?! Деньги где взяла? В тумбочке… Далее последовал нудный рассказ о периоде проживания в одной квартире с супругами пожилой парализованной родительницы Анастасии Львовны. Хозяину, мягко говоря, было неприятно такое сожительство. «Все понятно, кто бы не свалил от такого зануды и чистюли…» Эти комментарии я оставила при себе, конечно. Но картина вырисовывалась более-менее понятная… Мой взгляд упал на фотографию размером пятнадцать на двадцать. Интересная молодая женщина с длинными черными волосами и мрачными глазами на худощавом лице стояла возле клетки. За прутьями решетки находился какой-то зверь. Рука девушки осторожно лежала на его полосатой шкуре. - Это кто, ваша дочь? - Это? – Рикардо мельком взглянул на фото. – Это моя дочь. Анастасия не может иметь детей. Рита – моя дочь от первого брака. - Да? У вас уже такая взрослая дочь… - попыталась я польстить моему малоприятному собеседнику. - Да. Она уже очень взрослая, уже сидит в тюрьме. – Рикардо поставил ощутимую точку, закрывая тему. Но мне следовало выяснить самое главное: зачем все-таки он выстрелил в окно? - Она все врет! – Рикардо вдруг метнулся из кухни и уже через мгновение потрясал охотничьим ружьем. – Вот посмотри, посмотри! Да я последний раз стрелял из него прошлой осенью. У меня охотничий билет есть, мы с Блэком на уток ходим. Эй, Блэк! – черный спаниэль, миролюбиво крутившийся в кухне в начале моего визита, послушно вырос на пороге. Он всем своим видом выражал готовность подтвердить любые показания хозяина. Я сидела на кухне уже больше двух часов. Я уже знала все про жизнь этой странной пары, мне было жаль Анастасию, которую увидела только на фотографии, – Рикардо показал мне семейный альбом и даже видеозапись какой-то мирной семейной сцены: игры на диване с собакой. Стройная моложавая женщина. Дона Рикардо, вновь предложившего мне водки, я заподозрила во лжи. Но что от меня требовалось? Насколько мне известно, существует баллистическая экспертиза. Пусть они выяснят, стрелял Эдуард Рикардо из ружья или нет… По-моему, стрелял, в пьяном виде. Он, наверное, псих. Пора уже мне сматываться. Из вежливости, а если честно, немного из простодушного любопытства, я выяснила фамильную тайну подследственного. Собственно, никакой тайны не было. Отца Эдуарда звали Педро, он был испанцем. Мальчишкой его вывезли в СССР, спасая от ужасов режима генерала Франко. А Петрович родился и вырос уже здесь, напитавшись исконно русским менталитетом, гармонично наслоившимся на пылкость истинного сына «южных ночей». С виду же обычный русский мужик. Подследственный напросился меня провожать. Мы прошли пару десятков метров и оказались под вывеской «Кулинария». Рикардо порывался зайти и опрокинуть сто граммов водки. «Здесь очень дешево – сотка всего двенадцать рублей», - зачем-то увещевал меня Эдуард Петрович. Я повторила уже раз в четвертый, что спешу, что лимит времени, отведенный мне, исчерпан. Петрович посмотрел на меня пристально и покачал головой: «Слушай подруга, - голос его прозвучал на этот раз совсем уже фамильярно, - а ты что-то подкашливаешь. Давай-ка вернемся, тебя надо спиртом натереть. У меня есть…» ………………………………………. Я и раньше догадывалась, что работники следственных органов (не знаю про прокурорские, но, во всяком случае, в районном УВД) с виду мало отличаются от своей «клиентуры». Ходят они исключительно в штатском, изъясняются на шокирующем жаргоне, якшаются с еще более подозрительными на вид типами – «информаторами» или нештатными осведомителями. Меня поместили в обшарпанный кабинет, расположенный за углом изогнувшегося, как кишка, коридора. Рядом с туалетом, запах из которого вызывал ассоциации с провинциальным вокзалом. Стол, за который меня усадили, такой же драный, как и кабинет, принадлежал еще одной моей коллеге. Ее стаж превышал мой буквально на несколько месяцев, но погружение в работу было таково, что в течение недели мне так и не удалось ее встретить. Кабинет то пребывал в безлюдье и безмолвье, то наполнялся гоготом, запахом курева и зажевываемого диролом перегара. Правда, взрослые коллеги относились с грубоватой трепетностью к моему возрасту, пытались не материться. Кто-то из них вычитал в юмористической рубрике совет, как избежать внезапного появления начальства на своем рабочем месте. Дознаватели последовали ему буквально: на входную дверь повесили мишень и пуляли в нее дартс. С внешней стороны двери вывесили жирным шрифтом отпечатанное объявление: «Стучите во избежание колотых ран». Я не посмела возразить, но чувство испытала гадкое: мне лично вообще не свойственно читать, что написано на дверях. Теперь на свое и без того неуютное рабочее место приходилось буквально прокрадываться. В один из дней этого странного холодного лета к кабинету подкралась, осторожно постучалась и бесшумно открыла дверь некая особа в очках, напоминавших велосипедные колеса. Гладко зачесанные наверх волосы свисали сзади слишком роскошным хвостом. Очки делали даму похожей на насекомое. Она спросила, может ли видеть Киру Валентиновну. То есть меня. - Я из газеты, по поводу Эдуарда Петровича Рикардо… - И чем я могу вам помочь? - Видите ли, он позвонил к нам в редакцию, и мне дали задание… - Хотите написать сенсационную статью? А меня вы как нашли? - Я встречалась с Эдуардом Петровичем. Он рассказал, что жена, якобы, клевещет на него, обратилась с заявлением в РУВД, но вы это дело расследовали и можете, как он уверяет, подтвердить его невиновность… Господи, как это скучно! Зачем я пошла учиться в юридический колледж? Чтобы заниматься подобной чушью?! - Боюсь, что у вас не получится никакой сенсации. Дело яйца выеденного не стоит. Конечно, раз заявление есть, обстоятельства будут расследованы. Но пока нет баллистической экспертизы… Впрочем, разве вам и так не ясно, какая это мелкая бытовая грязь? Вы об этом пишете? Моя собеседница горько вздохнула и полезла в сумочку. Порылась и извлекла сигарету. Посмотрела на меня вопросительно: «Можно?» Я пожала плечом, газетчица восприняла мой жест, как разрешение. - А про что писать? – горько спросила она, затянувшись, - Я только что пришла в газету, вот дали мне эту дурацкую тему, надо из нее конфетку сделать. В газетах так, понимаете? Помолчав и сделав подряд две длинные затяжки, она продолжила: - Вообще я в своей жизни ничего полезного не производила. Представляете? Только папиросы и информацию. Другие хоть клубнику выращивают. А у нас в семье дачи никогда не было… Давайте познакомимся, - вдруг спохватилась она, - Раиса Шарапова. - А я Кира. Кира Чудненко. - Я знаю, мне о вас Рикардо рассказывал. Но я подумала, что вы несколько старше… …Все-таки Раиса твердо решила написать статью про Рикардо. И написала. Газету мне принес потом сам герой, он махал ею у меня перед носом и брызгал слюной. Мои мрачные коллеги вывели его под белые ручки из кабинета, а газета осталась у меня. Имя и фамилия героя там были самые сермяжные, ничего испанского. Но речь, конечно, шла о Рикардо: спившемся придурке, который кичится каким-то своим богатством и как главный козырь своей супружеской состоятельности то и дело повторяет фразу: «Да я ее за одиннадцать лет ни разу пальцем не тронул». Раисе действительно удалось сделать из этой дерьмовой истории конфетку. Без всякого там морализаторства и ходульных комментариев специалистов из центра «Семья». Тем не менее, мораль была: институт семьи разлагается на корню. В квартирах с евроремонтом десятилетиями живут чужие люди, готовые убить друг друга за малейшую попытку изменить стереотип «благополучной семьи». Я позвонила Раисе. Она рассказала со смехом, что из редакции Рикардо тоже вывел под белые ручки охранник. Но ее саму испанец успел осыпать угрозами и обозвал крысой. Коллеги с пониманием отнеслись к скандальному последствию первой статьи Шараповой. Она заслужила авторитет и уважение. Ей стали доверять более сложные темы. Честно говоря, люди меня не слишком интересуют. Смешная тетка с шиньоном, написала забойную статейку про моего подследственного, ну и что? Совершенно случайно – а что вообще бывает неслучайно? – мы, можно сказать, подружились. Я пришла на цветочный рынок, проведать бывших коллег, и задержалась там. Сидела на табуретке, разглядывала из-за букетов чопорных покупателей, потягивала пиво, заедая сладковатым сушеным угрем. Какой-то быковатый тип долго приценивался к одному, другому, третьему букету. «Знаю я ваши цветы, - ворчал он, - не успеешь телку вы…ать, как они уже облетят». Наконец он освободил мое поле зрения, и я увидела Раису. Она пробиралась вдоль рядов, волоча за собой длинный красный зонтик. - Привет! – неожиданно для себя окликнула я ее, - собираем материал про цветочную мафию? - Не-ет, - протянула слегка испуганная моим приветствием из цветочной засады газетчица, - а вообще, можно. Если поделитесь информацией. - Не бесплатно, - ответила я, не на шутку развеселившись, - Бери пиво! Про мафию я ей, конечно, ничего не рассказала, – зачем мне ссориться с сестрой. Наоборот, стала задавать ненавязчивые вопросы, не слишком-то ожидая подробных ответов. Раиса рассказала, что на газетном поприще испытала себя еще в те благодатные, как она уверяла, времена, когда этой профессии можно было не стыдиться. А потом… - Меня всегда швыряло от любви к любви! – откровенничала Шарапова, откупоривая уже второй ваучер, - тогда меня любил один мальчик. Наверное, он один любил меня по настоящему. Но он был тогда таким еще…плохо пропеченным. Не скажу, чтобы совсем уже сырое тесто, из которого можно лепить, что захочешь. Но вот… Как тебе объяснить… Он меня слушал, чуть ли не раскрыв рот, перенимал мои замашки, мои словечки. То есть ему было, что у меня взять, а мне у него – нет! Несправедливо! Мне скучно стало. Потом меня в себя влюбил взрослый архитектор, он мне стихи посвятил! Он их на музыку положил и пел, на меня поглядывая! Это в поэтическом кружке было. Ловелас! Он приехал из Сибири, там у него осталась жена и десятилетний сын. А в Приреченске он искал себе новую жену – девственницу с квартирой. И он, ты представляешь, приперся без приглашения ко мне домой – смотреть квартиру! На следующий вечер я устроила ему истерику, запретила звонить. Наутро выхожу – он стоит напротив подъезда. Я быстрее в другую сторону пошла, а самой приятно: неужели, думаю, он так всю ночь стоял, на мои окна глядел? На работе звонок, меня зовут к телефону – он! «Я вчера не понял – ты просила позвонить?». Я гордая, отвечаю, мол, неправильно ты понял, наоборот. Ну и, в общем, нашел он себе другую девственницу. И самое обидное, он ей мои стихи перепосвятил! - Вот это да! – мне было страсть как интересно, - а сейчас что с этим архитектором? - Я из Одессы приехала полтора месяца назад. Мне в последнее время почему-то Андрей снится – тот мальчик недопеченый. Хотя какой уж он теперь мальчик… Но я не знаю, может, его и нет в Приреченске. Зато этого Иннокентия уже встретила. Он меня не узнал – и слава Богу! Что с ним может быть? Плащ кожаный, «мерседес» и блондинка крашеная под боком. Такие не пропадают. А вот Андрей, знать бы, где он… - И в Одессу ты из-за этого Иннокентия уехала? - Да! Тогда еще все на север стремились за длинным рублем. А я – на юг! То есть мы, я еще Ларку сблатовала – тоже из нашего поэтического кружка. Эх, ну и приключение это было поначалу. Мне все казалось – рулетка крутится, крутится. Сейчас, думаю, вот уже скоро остановится – либо выигрыш сказочный, либо – зеро… - И что? - Да ничего. Одессея. Я же вернулась. Потому что не было ни зеро, ни выигрыша – обыкновенная жизнь. А я так не хочу. Уехала. Закрыла эту историю. Она у меня здесь, Раиса постучала по выпуклому лбу, - Одессея… - Супер… - я еще никуда не уезжала из нашего Богом забытого Приреченска, только в детстве меня родители один раз возили на море. Тетка в очках была такая смешная, затушив очередную сигарету, она чуть не рухнула мимо табурета, с которого только что привстала. Что она делала в Одессе? Писала статьи? Уж там, наверное, есть темы поинтереснее проделок Рикардо. - Папиросы! – чуть ли не крикнула мне в ответ подвыпившая Рая, - Я же говорю, – ничего в жизни полезного не делала. Папиросы «Беломорканал». Знаешь? «Беломорканал, канает, и будет канать»! На табачной фабрике работала, как Кармен. - А… Нафига ехать в такую даль? У нас под боком тоже есть табачная фабрика… - Нет. Я не на фабрику ехала. Долю искать. Если тебе и вправду интересно, я тебе почитать дам эту свою «Одессею». Приходи завтра к нам в редакцию, я у тебя в отделе уже была… «Одессея» оказалась кипой потрепанных листов формата А4, покрытых плотными, почти без пробелов, строчками. Печатными! Набраными не на компьтере, а на старинной печатной машинке. Буква «т» прыгала над строкой, а «о» выбивала круглые дырочки. ОДЕССЕЯ …Говорил, как Заратустра Веня Угляр – угловатый, костлявый тип, явист (не рокер и не мотоциклист, а именно – явист, владелец и раб «Явы») и художник. Первое – призвание, второе – профессия. Усы на изможденном от скупой диеты лице, квадратные заплаты на квадратных коленях. «Ява» - имя женское. Второе женское имя, с неизбежным уменьшительно-ласкательным суффиксом – Лидасик. Это жена Вени, которую мы так и не увидели, хотя больше года поддерживали насмешливое общение с явистом. Если разобраться, Веня должен казаться весьма благополучным мужчиной. У него есть прописка, он одессит, не «черт» какой-нибудь. Есть жена Лидасик, которая где-то обитает, следовательно, есть и квартира. Мало того – есть дача в Аркадии, где-то в районе 12-й, но может, и 9-й станции Фонтана. С этой дачи за пять минут, в одном купальнике, можно дойти до лучшего одесского пляжа, с белоснежными лестницами и куполами ресторана. А в дачном саду растут ореховые и абрикосовые деревья, под которыми так здорово накрывать стол и обедать всей семьей. Кроме того, у Вени есть работа. Очень даже не пыльная. Он – художник в УКРОПТе. Это сокращение явно отсылает к двадцатым годам и обозначает «украинская оптовая торговля». Этот УКРОПТ, хрустящий на языке, как пучок свежей зелени, выделил Вене Угляру на двоих (как сейчас говорят – на паритетных началах) с Мариком Шиллером мастерскую. После «Явы» для Вени это самая большая ценность. Лидасик и дача даже не в счет. Мастерская представляет собой бывшее жилое помещение в полуподвале двораколодца на улице Пушкинской, недалеко от железнодорожного вокзала. Нырок в подворотню с галдящей вороньем тенисто-платановой улицы и – направо. Дверь отдельная, окруженная витийством винограда. На козырьке среди звездчатых листьев нащупывается ключ. Все нужно делать быстро и бесшумно, не привлекая внимания соседей, – мы живем по Вениному дозволению в мастерской нелегально. Все-таки служебное помещение. Оно небольшое: несколько ступенек вниз, налево – туалет. Есть кран, из которого только в разгар рабочего дня или глубокой ночью чуть-чуть сочится вода в предусмотрительно подставленную выварку. Это же Одесса. Далее коридор отделяет направо и налево две комнатки, из которых одна – именно мастерская, как правило, пустая и незадействованная. В другой, со шкафом и диваном, мы с Ларкой живем. Над диваном висит портрет – Веня, с усами и в берете. «Художник молодой», - насмешливо окрестили мы картину. Автор себе несколько польстил, как водится. На диване мы с Ларкой спали вальтом. Моя голова находилась под шкафом, на углу которого мирно стояла десятилитровая пустая бутыль. Она мирно простояла и в ту ночь, когда разразилось землетрясение с эпицентром в Кишиневе. Я проснулась от гула, глухого и грозного, стихийное происхождение которого мне даже спросонья было очевидно. «Какой ужас, - подумала я, - землетрясение…» И закуталась в одеяло, чтобы спать дальше. Утром ночное происшествие даже не вспомнилось. Только потом мы обратили внимание на опасное положение огромной бутыли. А Ларка сокрушалась, что проспала стихийное бедствие. Но мы-то обитали в подвале. Жителям многоэтажек при всем желании не удалось бы, проснувшись в ту ночь, вновь заснуть. Посуда скользила по столам и дребезжала в шкафах, собаки выли. Марик Шиллер, коллега Вени Угляра, устроивший нас в мастерскую, тоже не слишком часто появлялся там по делам службы. Ларку он подцепил на Приморском бульваре – малорослый курчавый мальчик тридцати лет. Не совсем то, что она в шутку запрограммировала – «еврей-миллионер». Он обитал с родителями на Короленко, в коммуналке. Недавно умерла бабушка-соседка, и Марика поселили на освободившуюся жилплощадь. Ларка говорила, что все убранство комнатки составляет железная кровать и табурет с тазом для умывания. Марик, смеясь, рассказывал, что, проснувшись в ночь землетрясения, спросонья решил, что не иначе как его трясет…покойная старушка, забравшись под кровать. Он даже заглянул вниз. Легкомысленный роман, завязавшийся на Приморском бульваре, на время решил нашу основную проблему – с крышей над головой. Ларка часто уходила ночевать к Марику. Но по вечерам, после смены на табачной фабрике, мы жарили картошку, делали салат из огурцов и помидоров, и с отменным юным аппетитом поедали все это в мастерской – в комнате, предназначенной для оформительской работы. Веня приезжал в мастерскую как раз в это время. Но отнюдь не для того, чтобы поработать. Он ставил «Яву» во дворе и спускался вниз. В клетчатой рубахе, кожаном жилете и заплатанных джинсах. Ему было 37, нам он казался старым. Мы приглашали Веню разделить нашу неприхотливую трапезу. Он отказывался самым ужасным способом: «Нет, зачем я буду вас объедать». Похоже, весь рацион Угляра состоял из чайчика, хлебчика и сигарет без фильтра «Памир». Веня любил приделывать словам уменьшительно-ласкательные суффиксы. Но не всем. «Ява» никогда не была в его устах «Явочкой». Это было немыслимо. Одесские круглые хлебы умиляли Веню «пупочками» - бледными ямками посередине. Трепетно он относился и к процессу заваривания чая. Как-то он привез с дачи перчик, долго восхищался его сочностью и богатством витаминами, после чего с хрустом съел. Никогда не изгладится из моей памяти история с «розовым кальвином» - сортом яблок, произраставших на Вениной даче. Веня приезжал на «Яве», мы слышали грохот его башмаков и над диваном возникали его усы и клетчатая рубаха. Поприветствовав нас, он доставал откуда-то пару румяных яблок, действительно, не красных, а розовых, очень ароматных. Далее следовала лекция об уникальности сорта и полезности фруктов, после чего «кальвины» торжественно вручались нам – по одному фрукту в вечер. Как-то в гости к нам пришел Марик со своим другом Леней Штейном. Леня был абсолютным блондином, и я ошибочно думала, что он немец. Мне наскучило общение, и я ушла из диванной комнаты в соседнюю, рабочую. Я сидела за столом, рассматривая какие-то рисунки и трафареты. Тут мое внимание привлекло не совсем обычное явление. Мелкие муравьи, которые летом нагло обитают в городских квартирах, бегали по столу. Но не хаотично: они шествовали колонной по проторенной тропинке в недра стола. Нужно было выяснить конечную цель этой процессии. Ею оказалась матерчатая торбочка, наполненная яблоками «розовый кальвин», уже начавшими покрываться темными пятнами. Муравьев можно было понять – подгнивавшие яблоки источали манящий сладкий аромат. Свое открытие я немедленно обнародовала. Нам стало ясно, откуда ежевечерне появлялись в руках Вени два плода. Мы тут же разделили на четверых содержимое торбы и с хрустом уничтожили. Но неизбежен был момент расплаты. И мы к нему подготовились. Легенда была такова: «В гости пришел Леня Штейн. Он зашел в рабочую комнатку. Мы были увлечены беседой и не знаем, чем Леня там занимался. О существовании яблок мы, разумеется, и не догадывались». На следующий вечер мы Веню не увидели: где-то пропадали и разминулись. Но Веня должен был посетить мастерскую, и, стало быть, праведный гнев уже закипел в нем. В ожидании развязки мы валялись на диване, чутко прислушиваясь к звукам во дворе. Вот и внушающий неведомый доселе трепет рев мотора «Явы». Вот и стук башмаков. Я лежу, сдерживая истерический смех и «увлеченно» читаю. Разумеется, буквы прыгают перед глазами, лишенные всякого намека на смысл. Веня молчит, но мы слышим его яростное сопение. Наконец, звучит железный голос: «Где «розовый кальвин»?» Нет, я не в силах ответить. Ларка поднимает недоуменные синие, наглые глаза: «Какой «кальвин»?» «Яблоки!!!». Легенда прошла. Леня Штейн обрел в глазах Вени значение нарицательного персонажа, средоточия всяческой скверны и подлости. Веня имел обыкновение изъясняться притчами, как Заратустра. В процессе беседы его голос наполнялся ядом и он начинал: «Существуют такие люди, для которых нет ничего святого…(далее – длительное рассуждение о разновидностях людских пороков – Авт.) Вот, например, есть такой Леня Штейн…» Я сомневаюсь, что Веня был знаком со Штейном, это был друг Марика, вовсе не художник, а, кажется, инженер. * * * Сохань, великий и ужасный Веня идентифицировал личность неведомого одессита, столкновение с которым в первые же дни могло бы напрочь убить в нас с Ларкой всякое желание остаться в этом городе. Мы прилетели на самолете в разгар лета. В аэропорту нас окружили одесситы, наперебой предлагающие углы для проживания на различных станциях Фонтана. Нас это не устраивало. «Так где же вы хотите поселиться?» - в сердцах спросили нас аборигены. «В центре», - высокомерно ответили мы. «В каком центре?» - «В историческом». От нас отстали. Мы решили ехать на железнодорожный вокзал. Но там мы никого не встретили и расположились с сумками в сквере. Мимо шел мужик с граблями на плече. Его взгляд задержался на нашей живописной группе, и он обратился с невинным, на первый взгляд, вопросом о местонахождении какой-то улицы. Мы чистосердечно поведали о том, что не местные. И этот тип с граблями, несказанно обрадовавшись, поспешил уведомить нас о том, что его товарищ сдает комнату. Мы даже не стали спрашивать, где, в историческом ли центре… Ну, разумеется, это был Фонтан, станция 11-я, не ближе. Вот так-то! Но это были еще цветочки. Паспорта и деньги мы отдали мамаше того товарища, к которому нас привел тип с граблями. Сумки мы бросили в маленьком домике в саду, который был нам предоставлен в качестве жилища. И тут же побежали к морю. Погода была довольно пасмурная, пляж поэтому был пустынен. Однако наше ритуальное омовение рук в водах Черного Моря все же было замечено. На пляже дежурил спасатель. Мы зашли в его вагончик и добрый час беседовали, а точнее слушали рассказ Миши о том, как несколько лет назад он приехал в Одессу, чтобы заняться под руководством мастера-нелегала запрещенным в стране каратэ. Только что прибывшим с берегов Волги, нам тогда просто не могло броситься в глаза разительное отличие Миши от одесситов. Типичный одессит спрашивает дорогу, чтобы убедиться в том, что его собеседник – «черт», чужой, приезжий, стало быть, его можно и даже нужно кинуть. Единственное, что мне напоминает подобное же отношение к «не нашим», это протокол сионских мудрецов… Когда мы вернулись, то застали в нашем домике пьянку. Хозяин по имени Леша и тип с граблями пили. Они настойчиво предложили нам принять участие в застолье. Мы выпили чуть-чуть, и тут нас позвала мать Леши. Вид у нее был напуганный. Она отдала нам паспорта, сумки и велела быстро сматываться. Мы заикнулись об уплаченных вперед деньгах. Она отмахнулась: мол, сейчас ее чадо с дружком напьются, и нам всем придется туго. Почему-то Ларка жутко испугалась и настояла на том, чтобы мы немедленно уехали в город на трамвае. Трясясь в пустом салоне и глядя в чужую, быстро сгущающуюся темноту, я впервые с тоской подумала о бессмысленности своей затеи. Это ведь была моя затея, которой я постаралась заразить Ларку. Она сейчас в Сан-Франциско… Почему мы не пошли ночевать в вагончик к Мише? Я уверена, что он дал бы нам приют. Конечно, я не уверена, что он бы врезал жесткой ладонью по шее Соханю. Или типу с граблями. Эти мерзавцы пошарили в наших сумках и нашарили там некую сумму, отложенную на ближайшие расходы. Основные деньги были запрятаны более тщательно. Разумеется, мы рассказали об этом «боевом крещении» Марику и Вене. Угляр был настолько взбешен описанием этих пройдох, что можно было вообразить: он переживает за честное имя одессита. Веня направился в отделение милиции на Фонтан и выяснил, что Сохань известен правоохранительным органам. Он якобы заманивает приезжих девиц, чтобы ограбить их и изнасиловать. Портрет мерзавца был нарисован столь густыми темными красками, что мы засомневались. Может быть, Веня и не разговаривал с милиционерами? Этот Леша казался нам простым алкашом и мелким воришкой, а отнюдь не садистом-рецидивистом. А поступок мамаши, которую Веня счел сообщницей? Зачем же она нас выпроводила, спася от насилия? Поначалу Угляр даже рвался самолично разобраться с подонками. Но мы считали, что справедливо наказаны судьбой за легкомыслие и доверчивость. Да и местонахождение дачи, несмотря на пристрастный допрос Вени, мы не могли вспомнить. Девушки фабричные Тютюнова, она же табачная фабрика расположена на улице 1905 года. Все называют улицу по старому – Тираспольской*. С улицы Пушкинской мы сначала едем на троллейбусе до перекрестка. Стоим не на самой остановке, а возле стены дома, как и все прочие ожидающие транспорта. Густые кроны платанов (за облезшие стволы одесситы называют платан «бэсстыдница») обжиты вороньем. Птицы гадят непрерывно, пробегать под деревом к троллейбусу нужно как можно стремительнее. По Тираспольской доезжаем до фабрики. Она желто-зеленого, табачного цвета. Здесь делают «Ватру» и «Приму» без фильтра, «Орбиту» с фильтром, папиросы «Беломор» и «Сальве». «Сальве» - фирменные одесские папиросы, в квадратной плоской желтой пачке. Внутри мундштука – фильтр, не такой, как в сигаретах – просто кусочек рыхлой ватной нити. По преданию, эмигрировавший хозяин фабрики подарил ее большевикам с одним условием: не прекращать выпуск «Сальве». «Сальве» означает по латыни «Привет». На всех линиях, кроме «Беломора», работают одесситы. Приезжие, «черти» (здесь не говорят «лимита») работают на «Беломоре». Наверное, здесь хуже всего. Я работаю на ПУЧе. Это значит «пачкоукладочная Черненко». Черненко придумал, как укладывать беломорины в пачки. Кажется, это было еще до второй мировой войны. На линии машины скручивают из плотной бумаги мундштук, из тонкой – гильзу. Забивают в нее сыроватый турецкий табак, который нарезается здесь же, на фабрике. Папиросы медленно движутся к ПУЧу, подрагивая на конвейерной ленте. Серая масса повернута ко мне мундштуками. Если какая-то папироса вывернулась – перевернуть. Мундштук выпячивается из общей массы – дерни его, наверняка окажется, что табак торчит из гильзы неопрятным пучком. Это брак, «шейка» - пустота между мундштуком и табачной гильзой. Стоя, подравниваю серповидно изогнутой плоской «ложкой» серую массу, которая подползает к грохочущей железной рамке, отсекающей ровно 25 штук, чтобы загнать их в свернутый «этикет». Это с одной стороны ПУЧа. Здесь нужно только следить, чтобы не прошли бракованные папиросы, чтобы не перелезла папиросная волна через стеклянную перегородку, разделяющую сферы деятельности двух сменных упаковщиц. Если работают все десять машин, папиросы не успевают паковаться. Лишнее нужно снять «ложкой» и поместить в специально подготовленный картонный короб. Пачки с другой стороны вылетают очень быстро. Они спускаются столбиком, еще горячие, выползая по пять штук на металлическую полочку. Четыре таких столбика нужно схватить и поставить, не разъединяя, на полоску бумаги, расстеленной поперек стола – две пачки слева, две – справа. Крайние стремительно передвигаются так, чтобы получился куб из 20 пачек. Этот куб охватывается бумажной лентой, она моментально отрывается, склеивается и аккуратный кубик плотно укладывается в короб. Короб стоит на металлическом столе с двумя плоскостями. Дальняя – горизонтальная, ближняя – наклонная. Когда короб на горизонтальной плоскости наполняется и заклеивается, одним движением руки упаковщица сдвигает его вниз, а на верхнюю плоскость ставит очередной пустой короб. Вовремя убрать полный короб, обеспечить наличие пустых обязан грузчик. Он следит за действиями упаковщиц – их в нашем цехе всего две, но стремительность механических действий такова, что покурить грузчику удается только в регламентированное время. Впрочем, на «Беломоре» почему-то курят все, не только грузчики. Во всей процедуре упаковки, определенно, есть поэзия. Я убедилась, что на других линиях процесс идет значительно медленнее. Особенно на «Сальве» - да они там чуть ли не спят! Но одесситы по сути своей – лодыри. Поэтому даже странно, что кроме нас, приезжих, на допотопной линии «Беломора» работают еще две местные – Желтобрюхова и Каракатица. Последней прозвище придумала я. За малорослость и короткие ноги, на которых она ходит вперевалку. Подбородок у нее покрыт седой растительностью, характер отвратительный, голос ворчливый. Желтобрюховой называют мою наставницу все. Оказывается, прозвище образовано легкой деформацией фамилии. Рослая блондинка с грубым голосом и такими же повадками, она не желает давать мне, ученице, поблажки. А другие дают! Труднее всего стоять не на присмотре за папиросной волной, а на самой упаковке. Пачки вылетают стремительно, я должна еще убирать бракованные – с приклеившимися, не успевшими вовремя залететь под крышку папиросками. У меня не получается донести двадцать пачек до стола, а уж тем более свернуть их в куб с серединкой на бумажной ленте. Пачки, как голуби, вылетают у меня из рук! Весь стол завален пачками, а они все вылетают из раскаленного жерла ПУЧа. Другие наставницы в такие моменты останавливают машину и «выбирают» изогнутой «ложкой» движущуюся папиросную волну в короб. Ничего, потом это все можно выработать, подкладывая на ленту. Для того, чтобы сыпучую массу сложить в четыре ряда в короб, потом вынуть, тоже сноровка нужна. Но управляться с пачками куда труднее. Желтобрюхова никогда не выключает машину. Да еще и орет на меня, обзывает «молдаванкой». Это в Одессе то же самое, что «дура». Было дело, я схватила разлетающиеся из рук пачки и, размахнувшись, бросила их куда-то вглубь цеха. Потом ушла от ПУЧа сама, глотая слезы. Только тогда Желтобрюхова выключила машину. Но мне пришлось вернуться, так как кроме «табачки» устроиться на работу было негде. А потом… Я сама не заметила, как моя работа на ПУЧе превратилась в комплекс автоматических, как дыхание действий. Я даже умудрялась листать журнал между ловлей стремительно летящих пачек. Так быстро, как у Желтобрюховой, никто не учился. На тютюновой фабрике – свои законы. Домой через проходную можно вынести две распечатанные пачки или раскурку – рассыпные сигареты в любом количестве. Мы с Ларкой курим, поэтому сразу же воспользовались этим правом. «Орбита», конечно, невероятно дрянные сигареты, но мы круче «Родопи» ничего не видели. Веня тоже курит. Мы рады оказать ему услугу, которая нам ничего не стоит. Но сталкиваемся с черной неблагодарностью. «Девочки, как вам не стыдно! Зачем вы крадете сигареты?» Угляр стоит у буфета и громким голосом читает нам проповедь. Громким, чтобы заглушить шорох нашей раскурки, которую он запихивает себе в пачку. При этом Веня заслоняет широкой костлявой спиной свои парадоксальные действия. До чего ж невероятный тип! Без таких жить на свете было бы скучно… *после обретения Украиной суверинетета, всем улицам в Одессе возращены исторические названия Главное – не ссать! Но если бы наш неприхотливый явист только знал, как на самом деле воруют на табачной фабрике! В первый раз мы были весьма шокированы происходящим в раздевалке. Еще во время смены я видела, как Желтобрюхова, оставив меня выбирать в короб непрерывную папиросную реку, куда-то быстро смоталась. Сначала в руке у нее была скомканная тряпичная торбочка. По возвращении торбочка была туго набита. Я увидела красные пачки «Примы». Зачем ей столько? К тому же пачки не распакованные… В раздевалке бабы, болтая и посмеиваясь, надели на себя длинные трусы. Трусы оказались двойными. Внизу штанины их сшиты меж собой. В пояс верхних вдета веревочка. Из шкафов достаются заветные торбочки, и пачки аккуратно укладываются в штаны. Эти штаны называются калымными. Вынесенные из стен фабрики пачки – калым. В штаны упаковывается около ста пачек «Примы» или «Ватры». Эти сорта самые ходовые. Из-за спроса, а еще – из-за плотных небольших пачек, ими легко паковаться. Пачки складываются в чулок, который завязывается вокруг пояса. Пачки можно положить в лифчик, зимой – в шапку, в рукава. Можно вынести двести пачек. Впрочем, многое зависит от фигуры. Выгоднее иметь мужскую фигуру с широкими плечами и узким тазом. Чем меньше задница, тем больше можно на нее наложить сигаретной «брони», не привлекая внимания к деформации очертаний фигуры. Логика крадущих всегда проста. Да стали бы они крутиться у потогонных конвейеров, вдыхая табачную пыль, которая к концу смены сворачивается в носу черными жгутами, если бы не возможность обогащения! Какое обогащение? Какова его технология? Ну вот, набиваешь калымные трусы, лифчик, рукава и сапоги. Влезть может, в зависимости от наглости, времени года, сорта курева и собственных габаритов, от 50 до 200 пачек. Все это выносится мимо вертушки, где бдительная вахтерша уже ждет от тебя влажный мятый рубль, незаметно вложенный в незаметно подставленную ладонь. Донести калым до дома - полдела. Потом пачки в плотных сумках относятся на «точки» к своим продавцам. Шестнадцатикопеечная пачка «Примы» сдается по одиннадцать копеек. Сто пачек – одиннадцать рублей. За месяц у самой скромной воришки (какой из интереса к острым ощущениям стала и я) набегает вторая сторублевая зарплата. Но и за воротами фабрики может поджидать опасность. Чаще всего, об опасности работницы предупреждаются заранее. Разведчик сообщает сигнальными жестами: сначала указывает на плечи (погоны), затем скрещивает руки – мол, сегодня на калыме можно ставить крест. Но ОБХСС может подкрасться незаметно. Если это мужик, главное не ссать. Причем, и в прямом смысле тоже. А то рассказывала как-то одна баба про загубленный таким образом калым. Ну, и выдержка, конечно, нужна. Мент в сумку залезет, но под юбку – нет. А если это баба… Она там одна такая. Настоящая овчарка со знаменитой ныне фамилией Явлинская, переделанной в Еблинская. Но эта овчарка, как я потом для себя уяснила, сама по себе редко нападает. Ее использовало в своих целях руководство фабрики, если нужно было убрать какую-либо особо «черноротую». Бороться за свои права на фабрике поэтому мало кто решался. Это был молчаливый сговор руководства и работников. Первое милостиво позволяло набивать штаны и подкармливать рублями охранников, которые тоже дорожили своими весьма хлебными местами. При единственном условии покладистости. Да это было и не такое трудное условие. Единственное, что могло потребоваться – работа в выходной или ночью. Но и тут мастер интимно сообщал: «Пару раз выйдешь». Разумеется, не порожняком. В обычные-то дни выйти с калымом можно было только один раз – после смены. А работники совсем ничего не требовали от начальства. Даже встреч с ним. Я, например, видела директора фабрики только один раз, мельком и издалека. Разумеется, за глаза начальство склоняли, как хотели, и уверяли, что ворует оно в гораздо больших масштабах. Охотно верю! И все-таки, даже на фоне нынешней демократии мое пребывание на фабрике вовсе не кажется мне ужасным социалистическим адом. Что касается комсомола, я резко пресекла попытки робкой молдаванки – комсорга включить меня в идеологический процесс. Я не рвала и не бросала на стол свой комсомольский билет. Просто заявила Таньке, что не комсомолка и вступать не собираюсь. Кстати, без этой тягомотины жилось веселее. В Одессе не видно было никаких проявлений социалистической идеологии. Кажется, даже красных плакатов не было. Или я их просто не замечала. Все, что оставалось – работа и отдых. Мне ни разу не пришлось работать ночью. Только две смены. Если первая - утром рано вставать, если вторая – поздно возвращаться. Сам процесс работы, конечно, поначалу был трудным, потом стал просто монотонным. Но в этом грохоте можно было даже сочинять стихи и вообще, просто думать о чем-нибудь… Зато в обед за какие-то копейки можно было в столовой съесть изумительный борщ с пампушками, смоченными в чесночном соке, пышные, тающие во рту пирожки. Ах… Вспоминаешь, и слюнки текут. За вредность нам выдавали молоко – литровая бутылка на два дня. Конечно, мы молоко не пили, пекли оладушки. А главная роскошь, которую предоставляла фабрика – вода. В традиционно безводной Одессе – горячая вода в душе, круглосуточно! ……………………………………………………………………….. Прощание с Веней Жизнь в мастерской УКРОПТа казалась невыносимой только мне. Ларка вела себя лениво и нагло. Наши отношения ухудшались. К моим попыткам воспитательной работы был вынужден подключиться даже Марик. Наслушавшись моих воплей о Ларкином иждивенстве, он повел ленивицу в магазин. Их возвращение уже с порога было ознаменовано где-то даже торжествующим воплем Шиллера: «Лара раздает чаевые!» Оказывается, совершая в магазине покупки, моя сожительница не брала сдачи в сумме одной-двух копеек. Несколько смущенная реакцией Марика, она пожимала плечами: «Это же мелочь…» «Мелочь?! - патетическим тоном возражал Шиллер, - но если я не доплачу копейку, мне ведь не дадут товар!» Разумеется, я присоединилась к обличителю, хотя уже тогда я заподозрила, что его мелочность осложнит их с Ларкой отношения. Веню наши склоки с Ларкой умиляли. «Смотри-ка, - обращался он к Марику, - вот так вот и супруги поначалу ссорятся из-за всяких мелочей, а потом…» Меня это бесило, тем более, что художники подшучивали над нашей ориентацией – лишь потому, что мы вынуждены были спать на одном диване. Нет, меня это все раздражало. Когда мы входили во двор, я бросала взгляд влево, где в окне постоянно маячила подозрительная физиономия какой-то бабки. Рано или поздно что-то должно было произойти. А эта болванка словно не чуяла опасности, могла громко разговаривать, входя во двор. Веня тоже стал намекать на то, что соседи строчат на него «телегу». Я не могла удержаться, чтобы не поиздеваться над ним: - Веня, ты не отвертишься в любом случае! Сам посуди. Помещение служебное, а ты содержишь в нем двух девиц. Вопрос: в каких целях? Допустим, в корыстных. Ты сдаешь нам жилье. Наживаешься на социалистической собственности! А если ты держишь нас тут бесплатно, то кто поверит, что еще и бескорыстно? Ты, Веня, не иначе, как сутенер… Веня старался не показать виду, но мои рассуждения его явно тревожили. Хотя наше пребывание в мастерской, отчасти, вносило и приятные моменты в его странную жизнь. Он любил порассуждать в нашем присутствии. Да и не только в нашем. Марика он тоже пытался грузить, хотя коллега относился к нему снисходительно и пренебрежительно. Как-то явист трудился над изготовлением трафарета в рабочей комнатке, бормоча под нос о каких-то своих проблемах присутствовавшему там же Марику. Тот вышел, но Веня не заметил, что на порожке комнаты уже сидит Ларка. «Лидасик мне не дает…» - пробубнил в этот момент очередную часть своего нудного монолога Веня, поднял глаза и осекся. Видимо, сексуальная жизнь его складывалась не очень удачно. Хотя Ларка рассказывала, что ей попался «гусарский» список художника. Но это скорее подтверждает мой вывод. Так вот, однажды, дымя «Памиром» в длинном самодельном мундштуке, Веня мечтал вслух. О том, что существует такой вид услуг – не проституция, нет. Заказываешь столик в ресторане и двух красивых девушек. Общаешься с ними очень утонченно и разнообразно за очень приличную плату. Но – никакого секса, только возвышенные отношения. - Веня, представляешь, сколько ты нам задолжал? – подвела я итог его рассуждениям. Но не это стало последней каплей. Наверное, к расставанию с Веней нас подвиг визит мастера УКРОПТа. Вообще-то она обязана регулярно проверять работу художников в разбросанных по городу мастерских. Но на Пушкинскую она заявилась впервые чуть ли не за три месяца. О возможности этого визита говорилось, но произошел он врасплох. Мы находились в нашей диванной комнате, дверь в которую Веня тут же закрыл, сказав даме, что здесь, мол, сушатся планшеты. Они беседовали о работе, потом мастер вышла в коридор, уже прощаясь. Ее взгляд, видимо, упал на наши с Ларкой туфли. Две пары, одна из них – на каблуке, вторая – типа мокасин. - А это чья обувь? – услышали мы. - Это? – голос Вени не дрогнул, - это я туфли жены принес, починить. А эти мокасины, видимо, Шиллер оставил. - Надо же, какая у Марика маленькая нога… Не знаю, как Ларке, а мне было страшно за закрытой дверью. Мы решили съезжать. …………………………………………………… Капитанская вдова Без особой спешки через квартирное бюро мы нашли подходящий вариант. Это была крошечная – не больше пяти квадратных метров – проходная комнатка в квартире на Тираспольской. То бишь – на улице 1905 года. Наш выбор пал на это жилье, в первую очередь, из-за близости к фабрике. Второй аргумент – дешевизна, всего 30 рублей в месяц. Хозяйка квартиры - белокожая в разгар лета, как все коренные одесситы, брезгующие загаром, с крашенными черными волосами, рыхлая дама за пятьдесят. Ее летний квартирный бизнес – обычная для этого города статья дохода. Наша комнатка отделяет просторную кухню от другой, очень просторной комнаты, в которой обитают, кроме хозяйки, семья отдыхающих и разбитная молдаванка, приехавшая на сессию в консерваторию. Она любит по вечерам рассказывать о своих сексуальных похождениях, на которые у нее хватает времени даже в горячий экзаменационный период. Что тут скажешь – кровь! Хозяйка общается с нами на кухне, расчесывая свои жидкие волосы. Она вдова. Муж был отважный капитан и объездил, надо полагать, много стран. Но оказался повинен в грехе прелюбодеяния. Жена сообщила в партком. Капитан повесился в ванной квартиры на Тираспольской. Кстати, в квартире была ванна! Интригующие подробности прошлой жизни хозяйки нам рассказала музыкантша Вероника. Она обитала в этой квартире уже не первую сессию и была исключительно проинформирована. Лежа в ванной, я с интересом рассматривала трубу под потолком и полагала, что хозяйка, несомненно, свихнулась. Если не до мужнина суицида, то после. Мое предположение было верным. В один из дней в гости к Ларке пришел Марик. После его визита хозяйка, вытаращив глаза, дрожащим от ужаса шепотом спросила меня: «Это ее друг? Он – еврей?!» Услышав подтверждение, она перешла почти на крик: «Я не позволю еврею посещать мой дом! Пусть встречаются в другом месте!» Я передала этот разговор Ларке. Та сообщила Марику, что хозяйка против его визитов – умолчав о национальной подоплеке. Марик, как всегда, разорался: «Какое она имеет право запрещать! Вы платите за комнату, что ей еще надо?!» Пару раз он демонстративно проходил через просторную кухню в нашу крошечную комнатку. Хозяйка молчала. Но уже через месяц мы поняли, что 30 рублей – слишком много за возможность опять спать на одной кровати. Две в нашей конуре просто не помещались. Но тут, очень кстати, в общежитии фабрики освободилось как раз два места. «Букинист», общага, «Зирка» Общежитие – две квартиры в обычном жилом доме на улице Чичерина. На углу с улицей Советской Армии. Кажется, сейчас это Соборная. По Чичерина, прямо от подъезда и до бывшего Ланжерона идет «пятый» трамвай. Уже через пять минут от конечной, минуя тихие дворики и поросший бурьяном склон, спускаешься на Комсомольский пляж. Худший из одесских пляжей, зато он – ближе всех. Напротив нашего дома – кинотеатр «Зирка». «Зеркало?» - переспрашиваю. «Зирка», недоуменно утверждают одесситы. Они не говорят на украинском языке. Но «зирка» - это, оказывается «звезда». В нашем доме со стороны Советской Армии располагается магазин «Букинист». Я в нем купила потрепанную книжку Шолом Алейхема с экслибрисом. А напротив «Букиниста» - православный храм Успения Пресвятой Богородицы. Красивый. Но внутри я была только один раз. Вспомнить стыдно. Был какой-то большой праздник, я зашла туда в подпитии (в трезвом виде было неудобно). Встала в очередь к батюшке, и он намазал мне лоб маслом… На других углах располагались спортивный магазин «Старт» и кофейня «Антилопа Гну». В пору антиалкогольной кампании многочисленные одесские кабачки превратились в кофейни. Но там варили натуральный кофе! Натуральный! Здесь, в средней полосе, похоже, и не догадываются, что этот растворимый порошок в банках вовсе не кофе. А в Одессе меня даже убедили специально посетить кофейню, где варят лучший турецкий кофе в городе. «Антилопа Гну» или «Коза» в устах завсегдатаев играла роль клуба. Если мне нужно было кого-то встретить, я шла в «Козу». По крайней мере, можно было навести справки. Уютное помещение кофейни украшали резные деревянные панно со сценками из бессмертного романа, снабженные крылатыми подписями, например «Пилите, Шура, пилите!» На плитах пола были изображены автомобили соответствующих марок, также снабженные подписями, например «Студебеккер». Имелись и самодостаточные цитаты, например: «Бензин – ваш, идеи – наши». Ильфом и Петровым одесситы гордились. В Одессе имелся еще кабачок «Золотой теленок» с большим фотографическим портретом этого самого теленка (не Корейко). А у Шиллера при мне произошел как-то диалог, может быть, с тем же Штейном: «Леня, у тебя отсутствует чувство юмора!» - «И что же мне делать?» - «Выучи для начала Ильфа и Петрова наизусть» - «Ты с этого начинал?» – «Ну да!». Сторонним взглядом на дом по улице Чичерина, конечно, нельзя было определить, что в нем живут лимитчицы с табачной фабрики. Общежитием являлись две квартиры на третьем, последнем этаже – восьмая и одиннадцатая. Нумерация квартир на площадке – справа налево. Наша одиннадцатая квартира с двустворчатыми дверями из тонкой фанеры – это было время повсеместного отсутствия железных дверей, с погребом (!) в прихожей, я нашла в нем резиновые боты с пустыми каблуками, а потом мы прятали в нем калым, увы, безуспешно. Мы жили в половине первой из трех проходных комнат, разделенной шкафами и матерчатой занавеской. Передняя часть служила кухней и гостиной: здесь стояли казенный холодильник, телевизор и двухконфорочная электроплитка. В ванной стояла традиционная выварка. Умывались по утрам из ковшика. И ничего, ощущения дискомфорта я не помню. Анфилада состояла из трех комнат. Дальняя считалась лучшей, там жили старожилы. Кто поновее, обитали в средней комнате. В дальней жила ветеран фабрики Марина, одна из двух хохлушек, приехавших на фабрику из окрестных деревень. Вторая, Лена, жила в нашей, самой проходной комнате. Обе они были до слащавости участливы, любезны, у обеих были постоянные женихи, чуть ли не прописавшиеся в нашей общаге. Хохлушки не ходили в рестораны, пили весьма умеренно… Видимо, Одесса сделала меня националисткой. Вся эта пристойность была показной. Обе оказались воровками, что еще хуже – крысами, так как тащили у своих. Маленькая Лена жила с усатым Пашей, ее «жених», как и Маринкин, тоже не был одесситом. Парень был веселый, запомнился его фирменный тост в застольях: «Будем здравы, бояре!» и непонятная присказка «Эх, Христофоре Колумбе!» Маринкин друг производил впечатление несколько замкнутого и угрюмого, но при этом более серьезного и надежного парня. Однажды в тонкие фанерные двери 11-й квартиры начал ломиться какой-то рецидивист, откинувшийся с зоны и решивший проведать свою подругу, давно уже с фабрики уволившуюся. Меня успели предупредить, чтобы я не открывала. Я натерпелась страху, но при этом была уверена, что Леша находится в дальней комнате. А его, как потом оказалось, не было…. Две Таньки обитали в средней комнате. Обе приехали с Урала, из деревни в Курганской области. Чистейший образец русской души! Их откровенность, иногда даже граничившая с хамством, мне все же была ближе угодливой хитрости хохлушек. А с другой стороны, эти деревенские девки умом, конечно, не блистали. Главным, чего они достигли и чем гордились, были дубленка одной и кожаное пальто другой. «То, что ты ешь, никто не видит, а что наденешь, – все видят», - как-то глубокомысленно изрекла одна из Татьян. Хохлушки же поесть любили, постоянно готовили что-то чрезвычайно вкусное. Кстати, готовить-то я научилась именно в Одессе. Если бы я была селекционером, я бы создала оптимальную нацию, руководствуясь тем принципом сочетания лучших черт и отсекания худших, какой провозгласила гоголевская Агафья Тихоновна. Мечты… Как стать антисемитом Вскоре после заселения в общагу у нас с Ларкой возник конфликт. Она продолжала лениться, удивляя меня наплевательским отношением к ответственности ладно, передо мной – перед всем населением 11-й квартиры. Свою очередь убираться она наглым образом игнорировала. А моя очередь была как раз после нее. Так что вывозить грязь приходилось за двоих. Мои жалобы прочих сожительниц не трогали, с Ларкой после переезда в общагу мы практически перестали общаться. Назревал взрыв. Однажды к нам в 11-ю постучался пьяный Степаненко, механик, часто посещавший девиц, проживавших в восьмой квартире. Он проведал про коньяк, хранящийся у нас в шкафе. Который я проспорила Диане из восьмой. Кстати, предметом спора был как раз Степаненко, о чем он, несомненно, знал. Но важен был именно коньяк, с которым Сашка захватил и меня. Когда я вернулась, разумеется, поддатая, Ларка начала на меня шипеть – из зависти, конечно, ее же не позвали! На все ее выступления я парировала: «А ты не убираешься! А, между прочим, здесь, кроме твоего паршивого еврея, никто в обуви не топчется…» Знать бы мне тогда, пьяной и сонной, что вот он, и забил в тот момент родник антисемитизма моего… В принципе, если бы он был татарином, и я сказала «кроме твоего паршивого татарина», что бы было? Да кто угодно может быть паршивым. Но татарин бы разулся! Наверное… Почему никто не догадается выпустить книжку об особенностях поведения в быту представителей разных религиозных конфессий? На первом курсе преподавал у нас такой забавный, такой забывчивый, повторявший по несколько раз свои шутки Виль Ефимович (по паспорту, оказывается, Фроимович) Волис. Вел он у нас…все подряд. Причем имел особенность уклоняться от темы занятия вслед за течением причудливой мысли. Как-то на занятии то ли по охране труда, то ли по географии, он вдруг увлекся объяснением зависимости формы носа от климатических условий: - У негров носы плоские и короткие, потому что в Африке тепло, а у жителей северных стран носы длинные, чтобы воздух нагревался в носовых пазухах. - А вы, видно, северянин, - заметила одна девушка. Волис вдруг изменился в лице и железным голосом произнес: - А это уже бестактность… Можно подумать, семнадцатилетняя девушка из деревни желала поддеть представителя древнего народа! Ничего подобного, все мои ровесники были надежно ограждены в те годы от религиозных знаний. В чем вина евреев перед человечеством, мы не ведали, они же сами – не забывали ни на секунду и смотрели на всех и каждого, ожидая нападения. Вот и дождались. Шутка была невинной. А вот реакция заставила, может быть, впервые задуматься о том, что обидного в слове «еврей». Ларка, так же, как и я, не придававшая значения национальному вопросу, – мечтала о еврее – миллионере? Ну и что! – затаила на меня мелкую бабью злобу. И не преминула, как я понимаю, при первом же удобном случае передать Марику, как я его назвала. Это я поняла по хмурому взгляду исподлобья, каким Ларкин товарищ теперь меня окидывал. Дружба наша кончилась. Но продолжалась моя дружба с одесситкой Элен, с которой нас познакомил все тот же Марик. У этой юной девицы был ребенок, трехлетний пацан, который еле произносил обычные слова, зато лихо матерился, высунувшись из окна. Сожительствовал с Элен некто Вулицкий, прозванный одним Мариковым товарищем Двулицким. Как-то Шиллер застал меня у Элен и, уходя, молча бросил в меня пепельницей. Я пожаловалась подруге, а та – пришедшему позже сожителю. Вулицкий сочувственно выслушал мои жалобы на третирование четой Шиллеров, вздохнул и предложил коньяка. Я обрадовано согласилась. Александр принес 200-грамовую баночку от растворимого кофе, на дне которой плескалось немного темно-золотистого напитка… В другой раз все было значительно хуже. Никогда не забуду той дрожи в коленках. У Элен толпились подруги, которые звали ее на морвокзал, в излюбленный бар. Она попросила меня посидеть с Леней, – так звали ее сопливого матерщинника. Но тут зашли к Вулицкому, которого не было, но который ожидался, Шиллер и Штейн. Я взмолилась: «Не оставляйте меня с Шиллером! Он меня убьет!» Элен очень нужно было на морвокзал – кого-то там встретить, и она рассчитывала оставить на меня чадо. В некотором изумлении, она все же убедила меня, что Штейн не позволит Шиллеру расправиться со мной. И ушла. На кухню, где я сидела, тут же ворвался Марик, с пеной у рта. Наконец-то он смог излить на меня кипевший в нем уже давно гнев! Да он просто хватал меня за горло! Приходилось отбиваться с помощью Штейна. Которого Марик не замедлил привлечь в союзники. Но надо отдать должное Леониду, он старался сохранить объективность и убеждал Марика примерно следующими доводами: - Марик, ну пойми! Им не понять, как оскорбительно это определение – «паршивый еврей» - для нашего, вечно гонимого, всеми проклятого народа! Назови их – «паршивый кацап», или «паршивый хохол» - им плевать, их это не заденет! Это мы сорок лет ходили по пустыне после сотен лет египетского рабства, это нас презирали, не позволяли учиться и занимать высокие посты. Х-м. Не позволяли им! А кто на этих постах сейчас? А у кого из них нет «верхнего» образования?! - Наконец, Марик, ты же воспитанный человек, - истощались аргументы Штейна, - Тебе ли мне объяснять, что женщин нельзя бить! - Какая она женщина!? – визжал Марик, - Она – АН-ТИ-СЕ-МИТКА!!! …А потом пришла Элен с Вулицким. Вулицкий испытывал ко мне сострадание, ради которого пожертвовал столовой ложкой коньяка. Он был на голову выше Марика и на полголовы выше Штейна. Сочувственно посмотрев на меня, он спокойным голосом попросил объяснить, что здесь происходит. Шиллер подобрался, как ученик перед строгим учителем, и выстроил спич самым выгодным для себя образом: - Саша, как бы ты поступил с человеком, который позволил бы себе выражение «паршивый еврей»? - Дал бы в морду, - ответил Вулицкий, ни секунды не раздумывая. - А если бы это была женщина? – с вкрадчивыми интонациями. - Все равно, дал бы в морду. - Вот – это она сказала! – Марик указующий перст направил в мою сторону. На кухне воцарилось молчание. Даже сопливый отпрыск Элен проникся напряженностью момента. Двулицкий пообещал дать мне в морду… Но вместо этого он лишь посмотрел на меня, потом на Элен и сказал ей внушительно: - Чтобы я ее больше здесь не видел. …Уже потом, когда мы с Элен остались вдвоем, она, осмелев, раскричалась: - Кто он такой, чтобы мне указывать? Муж?! Да скорее его ноги здесь не будет! И еще пару ножей из-за спины антисемтизма. Однажды Марик Шиллер рассказал нам, как за ним гнался сильно подвыпивший антисемит, к тому же довольно рослый. Маленький Марик резво убегал от пьяного буяна, а тот споткнулся и вытянулся во весь свой гренадерский рост. - Тогда я подошел к нему и пинул, - торжествующе закончил Марик свой рассказ. Но однажды он привел нас в мистический ужас, зайдя как-то вечером в мастерскую на Пушкинской, где мы с Ларкой тогда обитали. Нам, в те атеистические времена ничего не знавшим о библейских персонажах и сюжетах, он принес Ветхий завет. Речь зашла о Вечном Жиде. Я до сих пор считаю, что это не Агасфер, а Каин – Марик меня в этом убедил. Он сказал вдруг, что он сам – Каин, Вечный Жид. Долго, убедительно и подробно он нам рассказывал о своих многовековых скитаниях. А я, хоть и видела озорной блеск в его черных глазах, скорее склонна была принять его за мудрую насмешку не прощеного убийцы, свыкшегося с мыслью о вынужденном бессмертии и с непроходимой глупостью временно живущих людишек, кои годятся ему, бессмертному, в пра-пра-пра- Бог знает, сколько правнуки. В общем, ах, обмануть меня не трудно, было бы желание. Когда же насладившийся нашим страхом Марик признался в своей вычурной шутке, я испытала огромное облегчение. Какое счастье жить рядом с обычными людьми, пусть и жидами, но не вечными. Жертва аборта Потом Марик стал регулярно появляться в нашей общаге и питаться сваренными неумехой Ларкой обедами. Их отношения стали клониться к официальной развязке. Или завязке – кому как угодно. Случайное знакомство на Приморском бульваре было обусловлено, с одной стороны, расплывчато-шуточной мечтой о еврее-миллионере, с другой – жаждой сексуальных интрижек достаточно взрослого мальчика. Шиллер сразу же пригласил Ларку на пляж, а там, полюбовавшись ее чересчур увесистой задницей, решил: «На один раз сойдет». Потом, видно, втянулся. Но игривый нрав не переборол. Да, по-моему, он и до сих пор не собирается его перебарывать. Ларке он рассказывал без стеснения о своих прежних похождениях. Была в его коллекции даже девушка без груди. Но именно эти рассказы и вызывали в его подружке сомнения в отсутствии продолжения. Помню, как Ларка каталась по полу Вениной мастерской и рыдала: «Он мне изменяет! Я это знаю! Именно сейчас! Я это чувствую!» Иногда Ларка задавала мне глупый вопрос: «Как забеременеть?». А когда забеременела, случился скандал. Марик категорически настаивал на аборте, Ларка поначалу стала врать, что врачи не разрешают. - Тогда уезжай в Приреченск, к маме. Живи там. А я подумаю. Если я решу, что ты мне нужна, я тебе напишу, чтобы ты приехала. - А как же я?! – ревела Ларка, - Я ведь к тебе привы-ыкла… - Привыкла – отвыкнешь! Ларка сделала аборт. После этого она вдруг сильно похудела, фигурка стала точеная, но с полными ножками. Внутренне же стресс отразился в том, что Ларка зачастила по кабакам, где напивалась сильнее прочих. Как-то она притащила в общагу двух мариманов, один из которых, рассудив известно как – «кто девушку обедает, тот ее и танцует», стал приставать к невменяемой пьянчужке. Спасая ее честь, пострадала я – получила по морде. В другой раз, когда она – теперь уже она! – приползла пьяная из восьмой, вслед за ней к нам в комнату забежал какой-то совершенно не знакомый случайный собутыльник. Меня он, конечно, не признал, а к Ларке забрался в постель. Видимо, пытался ее растормошить, но та лишь мычала. «Трубы горят, понимаю…» - пробормотал неопознанный хмырь и тотчас заснул. Утром я услышала хриплый голос подруги: «Ты кто? Ты как сюда попал?!» - «Ты что, не помнишь? Это ты меня сюда привела. Ты так меня всю ночь любила!» Ларка чуть не поверила. Только я ее потом разубедила. А вообще-то, напилась она тогда в усмерть отнюдь не из-за переживаний по поводу аборта. Возвращались компанией с Таньками из очередного похода в ресторан, но у подъезда встретили девчонок из восьмой, встревоженных донельзя. Они выбежали из дома, захватив только деньги и документы. Выгнал их не пожар, а некий откинувшийся зэк, решивший посетить свою зазнобу, давно уже уволившуюся с фабрики. Пьяный в дымину, он снял штаны и приказал Динке: «Соси!». Наши находились в состоянии понятного куража и тут же на улице нашли защитников. Большая группа поднялась по лестнице, чтобы изгнать мерзкого уголовника. Кстати, я находилась дома, в неосознаваемом одиночестве. Ларка еще во время переговоров на улице поднялась ко мне с благородной миссией. Она сообщила мне, что в восьмой находится пьяный зэк: - Ты всегда дверь открываешь, не спрашивая. Имей в виду – он тебя заколбасит… И ушла вниз. Меня она действительно спасла – рецидивист вскоре начал стучаться в хрупкую фанерную дверь. Я затаилась, но меня грела уверенность, что Маринкин угрюмый хахаль сидит в дальней комнате. Но его не было. Хорошо, что я об этом узнала потом… Ларка там, внизу, вступила в довольно хамоватый диалог с одним из вербуемых в спасители прохожих. Кончилось это довольно печально. Одессит, быдловатый, надо полагать, услышал не местную речь (а Ларка ею даже бравировала, не желая обучаться воляпюку), и решил проучить наглую «чертовку». Затащил ее в соседний подъезд и изнасиловал. На крики никто не вышел. Но и этого мало… Я сидела дома, натиск рецидивиста закончился, видно, он решил, что в одиннадцатой никого нет. И тут зашла Ларка. В грязной дубленке, с зареванным лицом. Она громко сказала: «Дай два рубля». Залезла в собственную тумбочку, взяла собственные деньги и вышла. Я ничего не поняла, но тут Ларка вернулась и все мне объяснила. Подонокнасильник еще потребовал с жертвы деньги на такси! Просьба о двух рублях была адресована, в общем-то, не мне – она боялась, что этот гад потребует еще большую сумму. Вот так-то! Так что, не удивительно, что после такого происшествия она поспешила напиться в восьмой, где праздновалось изгнание рецидивиста… Письма про киви Видимо, Марик был таки садистом. Испытав Ларку сначала абортом, а потом – обедами, он согласился на ней жениться. Свадьбу справили как нельзя скромно, заказав в ресторане столик на четверых со свидетелями. На Ларке было нарядное платье свекрови. И сразу же молодая жена стала подвергаться обструкции со стороны молодого мужа – за то, что не могла забеременеть! Каков подлец… Долгожданный младенец родился в Вене: парочка эмигрировала в Америку транзитом через Европу. Я получила лишь несколько писем с фотографиями. На них была растолстевшая пуще прежнего Ларка с очаровательным мальчуганом на руках, чудные виды Сан-Франциско и…ломящиеся от изобилия фруктов прилавки. Тогда еще нас можно было этим шокировать, и название плода киви я впервые прочитала в письме от подруги. В посланиях проскальзывали жалобы на мужа, – в припадке гнева он как-то разломал туфлю о Ларкину голову. Последнее письмо было кратким, между скупыми строчками присутствовал немой животный крик. Они развелись, ребенка суд оставил Марку – он больше зарабатывал. В Америке в подобных вопросах нет лицемерного «матриархата». По-моему, это справедливо. Не думаю, что Дэвику будет хуже с отцом, – евреи любят детей до беспамятства. Но Ларка, видимо, сильно страдала. Больше писем от нее не было. …На этом «Одессея» обрывалась. Странное произведение. Сначала – легко набросанный ироничный портрет диковатого Вени Угляра с его розовыми кальвинами, потом – наивное признание в антисемитизме и печальная история погибшей в эмиграции любви. Видно, в журналистке не хватило запала, и задуманную эпопею она скомкала. Чем же все-таки занималась она в приморском городе, кроме упаковки папиросных пачек и склок с аборигенами? Возвращая тетрадь, я прокомментировала, не испытывая потребности прибегнуть к лицемерию: - Интересно читать. Только это не совсем «одессея». Ты о себе почти ничего не рассказала. Зачем ты туда уехала? Почему вернулась? - Не знаю… Я свои поступки не всегда могу объяснить. Наверное, сбежала туда из-за того архитектора. Или просто, потому что в Одессе тепло, море. Я иногда по вечерам в порт ходила, садилась у причала на теплый камень и смотрела на воду, на корабли, думала о чем-то. А однажды Женька, грузчик, распахнул в цехе окно и говорит: «Подойди-ка сюда. Чувствуешь, как акация пахнет?!» - Романтика. Понимаю. И все-таки ты не договариваешь чего-то… - Конечно. Но я ничего скрыть не пытаюсь. Влюбилась там в одного ушастого маримана, а он предпочел капитанскую дочку – ну не меня же, лимиту, как и он сам. Все нормально. «Я, - говорит, - тебе ничего не обещал». А я все равно уехала, но об этой истории и рассказывать нечего. Неинтересно… - Ага! Как вы яблоки у Вени тырили – значит, интересно, а про любовь – нет?! - Ну ладно, сама напросилась. О любви могу бесконечно, а тем более сейчас: ничего не болит, знаешь ли… Чувство это до невыразимости субъективно и неизвестно чем обусловлена предрасположенность к нему. Может быть, недостаточностью родительской любви в детстве? Но вряд ли. Знаю немало примеров, скорее, явствующих об обратном: залюбленные мамочками и папочками девочки вырастали самовлюбленными эгоистками. А столь же часто – наоборот, влюблялись со всем пылом неиспорченной души в негодяев. После длительных рассуждений я пришла к выводу, что эта самая любовь, о которой мы всегда говорим – это отражение любви абсолютной, которая и есть Бог. У кришнаитов существует такой постулат: любовь нужно возвращать Богу, а для этого нет необходимости любить людей, как нет необходимости поливать ветви, чтобы напитать корни дерева. Мы же по неопытности даже простенькую заповедь «Возлюби ближнего» в нужном виде исполнить не можем! Тычемся, как слепые щенки, влюбляемся в первый встречный объект, соответствующий по внешним признакам навязанному обществом стереотипу. Кто был, например, моей первой любовью? Хорошо, что у меня хватило ума не зациклиться на индийском актере Амитабхе Баччане. Хотя фотографию в фойе кинотеатра я все-таки сперла. Но влюбилась хоть в какое-то подобие реальной личности. Мудрено выражаюсь? Но как иначе… Принца я ждала, правда, не на белом коне и не под алыми парусами. Я ж реалистка… Но совершенно очевидно, что сидеть за соседней партой или жить в моем дворе он не мог. Впрочем, симпатичен мне был одноклассник Стас, благо, прочие, не в пример мне зрелые девицы его вниманием обходили, говорили, что глаза узкие. Зато раскосые. Вида я, конечно, не подавала. Симпатия, впрочем, быстро растаяла. Первого мая нас вели на демонстрацию и в скверике на подходе к главной городской площади остановили, чтобы дружной колонной в нужный миг могли мы бодро шагнуть пред ясные очи партийного руководства. Вокруг стояли другие колонны с довольно яркой бутафорией, которую грех было не рассмотреть. И вот Стас, глядя сквозь меня равнодушными узкими глазами, процедил: «Сблюнь с экрана». Предельная индифферентность, которой окружали меня отроки противоположного пола, подвигала меня мечтать о далекой родственной душе. И однажды в чехословацком луна-парке передо мной мелькнули смуглые плечи и черные кудри. Хоть видела я парня только со спины и только один раз, этого мне было достаточно, чтобы дорисовать образ, дать ему имя и судьбу, чтобы страдать, плакать и сочинять стихи с призывом остаться. Может быть, он и не чех был вовсе и не словак, а местный парень, подрабатывавший летом билетером или механиком на каруселях. Но, честно говоря, узнавать правду я не хотела. Боялась, наверное… Но разве мои чувства к придуманному объекту были менее напряженными, слезы – менее горячими, мысли – менее мучительными? Качество любви совершенно не зависит от качеств объекта. Поначалу, в юные годы робость не давала мне приблизиться к моему объекту, потом возник сидром шор, когда разум отказывается констатировать несоответствие объекта идеалу, потом берет свое привычка, не позволяющая нарушить статус кво… Мужчины лучше нас – они ближе к природе. Среди них тоже встречаются волки и лебеди – существа-однолюбы. Но в большинстве они с честью выполняют свое природное предназначение и с относительной легкостью переносят свои увлечение с объекта на объект. Природное же предназначение, если непонятно – это продолжение рода людского. Зачем оно нужно, я не знаю. Только замечаю, что особенно плодовиты в наше время те особи, чья карма отягощена максимумом грехов. Видимо, таков промысел Божий и ко дню страшного суда все более-менее положительные представители человечества давно упокоятся, и ужас конца света обрушится на тех, кто его заслужил… Произнеся этот гладкий монолог, Рая замолчала, очевидно, потеряв нить повествования. Какие-то внутренние противоречия и комплексы мучили эту странную тетку, с которой меня угораздило вступить в смахивающие на дружеские отношения. Ну, мне постоянно везет на подобные знакомства. Я же ради непонятного мне самой интереса незаметно включила диктофон Раи, который она нечаянно выложила из сумки, когда искала зажигалку. - Мы отвлеклись, впрочем… Моя следующая любовь мало чем отличалась от предыдущей. Я ее почему-то называю первой, хотя очевидна ошибка в счете. Ну, рассказывать подробно не имеет смысла, это было на первом курсе. Я училась на филфаке, а он – на худграфе. У нас еще был физкультурный факультет, и у девчонок было принято влюбляться в спортсменов: они были накачанные, ходили в походы, пели под гитару. На своих-то вообще внимания не обращали. У этого художника было конкретное имя, даже фамилия и адрес, которые не составило труда узнать. Но что это изменило? Я страдала, сочиняла стихи и доверяла свои чувства двум самым близким подружкам, причем не из числа сокурсниц. О, это была примитивная хитрость! Сокурсницам бы ничего не стоило узнать и рассказать мне, что мой возлюбленный учится из рук вон плохо, пьянствует, в общаге сожительствует со своей коллегой-художницей, которую, кстати, поколачивает. Как видишь, я все это узнала сама… Ну и что? Любила и страдала до тех пор, пока его не исключили с третьего курса. - А Андрей? – вставила я давно назревший вопрос. - Но он же был – свой! Филолог: ни мышц, ни вдохновенного взора, ни гитары, ни этюдника под мышкой. Беленькая водолазочка под пиджаком, длинные волосы. Он был моей подружкой – я ему рассказывала о своих влюбленностях, разумеется, не раскрывая инкогнито последних. Потом я устроилась в газету и таскала его с собой, потому что одна боялась. Боялась общаться с людьми, лезть к ним с вопросами. Присутствие Андрея добавляло мне наглости, которая, в общем-то, мне не свойственна. Ну, а потом был архитектор. Обычно я придумывала себе любовь, а тут получилось нестандартно: он начал за мной ухаживать. Вообще-то он действовал строго по схеме, в результате выяснил, что у меня недостаточно комфортные условия проживания и скверный характер… Странное дело: мне долго было невдомек, что стихи, песни, признания в любви и даже стояния под окнами – это то же самое, что и голубиное воркование с распусканием перьев по весне. Атрибутика, не более. В Одессе мне объяснили максимально доступно, что отсутствие конкретных обещаний освобождает стороны от взаимных обязательств. Я даже не посмела выдвинуть аргумент, которым воспользовалась моя подруга Ларка – мол, я же привыкла. Ну, а ей что ответили: «Привыкла – отвыкнешь». Но, тем не менее, Марик все-таки на ней женился и взял с собой в Америку. Чем руководствуется мужское предпочтение? - Подожди, Рая. У меня есть старшая сестра. Она мне рассказывала об одной истории, которая с ней приключилась. Она познакомилась с одним парнем, который начал ее буквально преследовать – звонил, приходил, они в кино с ним ходили постоянно. И как-то посмотрели странный фильм, польский, кажется. Почему странный? Ну вот, озвучивается название: «Мужчина в поисках любви», а в это время на экране высвечивается только одно слово «Porno». Ну, тогда порнухи не было ведь вообще. И там, в общем-то, порнухи не было, только эротика, но эти понятия и сейчас не слишком различают. Там мужик вспоминает о своих похождениях, в то время как у него перед глазами маячит противная толстая тетка – его жена. Там юмор своеобразный и трах, но основная мысль моей сестре показалась не ясна, и она спросила того парня, о чем же фильм. И он сказал: «О том, что мужчина никогда не женится на той женщине, которую любит». - И он на ней не женился… - печально протянула Рая, не спрашивая, а утверждая. Когда история с Рикардо уже сошла на нет… Глава вторая, в которой читатель знакомится с главным героем нашего повествования в момент его появления в некоем таинственном учебном заведении, узнает о создании Государства качественной жизни, а также встречается с другими персонажами, коих объединяет обучение в этом вузе. Здесь читатель убеждается, что каждый из них обладает личной тайной, благодаря наличию которой они и завербованы некоей загадочной структурой… - Запишите тему сегодняшнего занятия… Ритмичное постукивание мела по доске звучит куда внушительнее скрипа современного фломастера. На доске появляются ровные ряды одинаково закругленных снизу букв: «Спонтанное неверие в смерть». - Извините, можно напомнить ваше отчество? – четкий юный голос доносится с середины первого ряда. Препод оборачивается к сидящей там брюнетке в белом джемпере: - Зовут меня Майдака Георгий Брониславович. Родом я из Украины. Майдака, я думаю, происходит от слова «майдан» - сельская ярмарочная площадь. После войны мы, парубки с девчатами гуляли на майдане… В улыбке обнажаются его лишь слегка желтоватые, крупные зубы под аккуратно подстриженными «ворошиловскими» усами. Топорщатся странные, разросшиеся вверх и в стороны брови. Майдака, в сущности, хороший дед, несколько занудный, но беззлобный. Его не склоняют. Начальство так и пишет: «Профессору Майдака обеспечить после занятий явку студентов для уборки вузовской территории». Так вот именно и пишут. Для меня, будущего космофилолога, такие документы – нож в сердце. Или серпом по яйцам, одно и то же. Но не для застарелых штатов Академии Космобиотехнологий, где просто по какому-то недоразумению открыли факультет парапсихологии. Майдака преподает у нас психологию литературы. К чему объяснять, что это мой любимый предмет. - Спасибо, Георгий Станиславович, - бесстрастно поблагодарила препода девица в белом. Майдака рассеянно кивнул и продолжил уже официальным учительским тоном: - Итак, спонтанное неверие в смерть, - «Броня» обводит нас торжествующим взглядом. Весь вид этого высокого, прямого старика, даже несмотря на извечный похоронно-черный костюм, убеждает, что его неверие в смерть даже не спонтанно – оно существует априори. - Идешь, на меня похожий, Глаза устремляя вниз… О, нет, эта торжественная декламация – тот же серп, тот же нож… Райка читала эти стихи – с такой болью и страстью. Обожала Цветаеву. -…За быстроту стремительных событий, За правду, за игру… Послушайте, еще меня любите, За то, что я умру… Майдака наконец-то остановился и обвел нас строгим вопрошающим взглядом. - Теперь, пожалуйста, ответьте мне, судари и сударыни, могла ли двадцатилетняя женщина всерьез верить в то, что она смертна? Я вижу, здесь в основном, люди, которым уже за двадцать. Это очень похвально, если учитывать особенность нашего факультета. Нам нужны люди с некоторым жизненным опытом. Его взгляд остановился на студентке в белом джемпере. - А, впрочем, ладно. Послушаем юных. Вот вы, девушка, как ваша фамилия? - Маргаритова, - отрапортовала брюнетка. Надо же, фамилия, рожденная фантазией чудного, злобного Аверченко, оказывается, существует? - Маргарита? Хорошо, Риточка, так скажите нам, пожалуйста, верите ли вы в собственную смерть? Маргаритова не выразила никаких эмоций от такого вторжения в собственные ночные страхи и ответила: - Извините, довольно странный вопрос, Георгий Станиславович. По крайней мере, с десяти лет каждый ребенок знает, что люди смертны. - Нет, милая Риточка, вы не ответили на мой вопрос. Я не спрашивал, знаете ли вы. Я спросил, – верите ли? Я вам процитирую другого поэта. Кстати, тот, кто назовет мне его фамилию, тут же получает пятерку, слышите, тут же! Так вот, цитирую: И одной головой обладая Никогда не войдешь в обе двери. Если веришь, то веришь не зная, Если знаешь, то знаешь не веря. У меня мурашки побежали по коже. Мне даже показалось, что Майдака прочитал эти строки с чувством. Но пятерка мне сегодня не светит. - Так вот, дорогие мои судари и сударыни. Каждый ребенок, выразимся точнее, подросток, знает о том, что все люди смертны, но поверить в свою смерть он не может, скажу вам честно, до седых волос. Именно поэтому так много подростковых суицидов, именно поэтому растет число суицидов в преуспевающих странах. Можете ли вы, Риточка, вообразить саму себя, лежащую во гробе? Вы можете вообразить себе собственное, застывшее лицо, подретушированное в фирме по оказанию ритуальных услуг? Вам известно, что гроб следует заказывать для покойника на вырост, так как мертвое тело вытягивается сантиметров на десять? Вы встаньте, пожалуйста, я вам покажу, какого размера гроб вам следует заказывать. Кто-то сзади тихо заскулил. Я обернулся. Там сидела какая-то толстушка, тоже, как и я, с «жизненным опытом», так необходимым на факультете парапсихологии. - Что девушка, коллапс? – зоркий взгляд казавшегося маньяком препода цепко выловил мою испуганную ровесницу, - а вы не знали, куда шли. Вы, наверное, и Кастаньеду не читали. Он именно так произнес фамилию знаменитого мексиканца. И словно читая мою случайно мелькнувшую мысль, продолжил: - А следующую пятерку я поставлю тому, кто назовет мне писателя, талантливо изложившего народную мексиканскую сказку о крестьянине, поделившем лучший в своей жизни ужин с собственной смертью… Я чуть не подпрыгнул, – я ведь читал, читал еще в детстве. Но фамилия, такая близкая, так долго жившая в памяти, оказалась недоступной, не видать мне сегодня пятерок! Впрочем, мои свежеиспеченные однокашники пребывали в ступоре и тоже не рассчитывали на высший балл. Описавший трапезу крестьянина со смертью остался неизвестным. Толстушка попросилась выйти. А мы уже без лишних убеждений готовы были верить, что действительно, не могла страстная натура Марины Ивановны представить, как это будет: Исчезнет все, что пело и боролось, Звенело и рвалось, И зелень глаз моих, и чудный голос, И золото волос… Ранний суицид поэтессы, как объяснил нам Майдака, вызван именно этим, темой нашего занятия, - спонтанным неверием в смерть. Чем чаще мы говорим о смерти, думаем о ней, мечтаем обобщенно и возвышенно, тем сильнее в нас бессмысленный страх, совершенно чуждый животным и мудрым диким народам… - Вспомните, как часто в обществе, где заходила неожиданно речь о чьей-то недавней смерти, находились люди, с испуганными недовольными лицами просившие поменять тему беседы. Как часто над гробом вдова покойного произносила совершенно бессмысленные слова: «Он так любил жизнь»… Броня посмотрел на часы и с видимым сожалением начал закругляться: - Тема сегодняшним занятием не исчерпана. Она вас, надеюсь, шокировала. Но этот эффект быстро сгладится. Для успешного обучения на нашем государственном, открытом, напомню вам, по особому распоряжению министерства, факультете, вам придется ознакомиться с творчеством выше упоминавшегося писателя Кастаньеды, известного буддистского поэта Гребенщикова, э-э…так… для начала достаточно. И запомните две вещи: смерть так же естественна и неизбежна, как жизнь. Она находится, на расстоянии вытянутой руки каждого из вас. Если вы не передумали обучаться далее на нашем государственном факультете парапсихологии, вам придется отныне ужинать, а также завтракать и обедать с собственной смертью. Вы увидите, это замечательный сотрапезник. Майдака обнажил свои крепкие лошадиные зубы. В его улыбке не было ни издевки, ни иронии. - Но почему-у?! – раздался душераздирающий крик, моментально слившийся со звонком. Броня лишь недоуменно пожал плечами и вышел из аудитории. Мне стало интересно, кто кричал. Пригорюнившийся бородатый очкарик, похоже, был пьян. Я решил завязать первое знакомство и подошел к нему: - Ты куришь? - И пью. И с женщинами тоже… - Похоже, мой однокашник был парень, получивший не только жизненный опыт, но и нормальную прививку цинизма. - Как тебе Броня? – спросил я, когда мы с удовольствием совершали первые затяжки на крыльце академии. - Броня – приятнейший чудак. А ты откуда его погоняло знаешь? - Пообщался на абитуре. Говорят, он раньше знаешь, что преподавал? Научный марксизм. Да, мы ведь не познакомились. Глядишь, четыре года одну кашу хлебать придется. Своей трусоватой усмешкой я на всякий случай дал понять, что в принципе, парапсихология – лишь очередная причуда уставшего от жизни странника. Глупо в нашито годы гордиться прохождением конкурса в 33 с половиной человека на место. - А, да, - парень протянул руку, - Тимофей из Нижнего Тагила. Слышал хоть, где это? - Вроде бы. Петросян шутил: чудила из Нижнего Тагила. А я – Андрей из Приреченска. Уверен, что ты даже не слышал, где это. - Почему? Знавал я в своей жизни несколько Приреченсков. В течение перемены мне так и не удалось выяснить, что привело Тимона в эту академию. Не тяга к престижности, однозначно. Для меня было важно выяснить, чем руководствовались другие, тогда, возможно, я понял бы, чем руководствовался я… ………………………….. Парапсихологов – как собак нерезаных. Приходилось и мне с ними сталкиваться в мою недолгую бытность журналистом. В небольшой, но когда-то единственной в городе газете с умилительным в своей самоуверенности названием «Приреченская правда» печаталась предвыборная ложь бессменного мэра и…репортажи с рок-концертов, подписанные «Раиса Глебова». Райка Шарапова (это ее настоящая фамилия) – была щупловатым подростком лет двадцати. Джинсовая куртяшка времен взаправдашних хиппи и штаны из той же демократичной ткани, мешковато сидевшие на худосочном заду, да очки в тонкой оправе – вот ее постоянный прикид. В огромном, кондовом редакционном кабинете она вела себя не по годам вольготно – закидывала ноги в драных босоножках на стол и, мудро улыбаясь, говорила: «Поверь моему опыту… Я в журналистике достигла всего, на что способна. А что дальше?» На редакционных пьянках она горланила: «А остальным дадим по роже, ведь жизнь и смерть одно и то же». Творчество великого буддийского поэта, как выразился Броня. Мы с ней учились на филфаке. Она недоучилась, бросила – ушла в газету. Однажды она напилась на работе текилы и уснула, уткнувшись лицом в подшивку. Разбуженная в поздние сумерки шефом, наговорила ему гадостей и ушла. Уехала куда-то, я слышал – в Одессу. У нас с ней был романчик – так, наверное, казалось со стороны. Но я ее любил и все прощал. Я, может быть, уехал бы с ней. Но она не позвала. А потом я пришел по ее следам в кондовый редакционный кабинет, чтобы писать об откуда-то нахлынувших экстрасенсах. В какой-то промежуток времени все сходили с ума. В газетах, кажется, печатали только про выборы и экстрасенсов. Райка не смогла бы работать в таких условиях. Когда одна коллега с ужасом поведала ей диагноз услышанный тысячи так за полторы новыми: «У вас круги под глазами, вас кто-то сглазил», Райка Шарапова безапелляционно заявила: «Плюнула бы ей в рожу!» Но эта раззвездяйка, вечно забывавшая дома расческу, просто обожала тему нынешнего моего занятия на государственном, как подчеркивал Броня, факультете. «Зачем ты съела пачку димедрола?» - с ужасом вопрошал я ее. «Скорее сдохну», отвечала она с сонной улыбкой, склоняясь на мое плечо в переполненном автобусе. Обожая поспать, она не брезговала и химическими методами погружения в царство Морфея. - Если бы я жила, как хотела, - делилась она со мной, - я бы только спала, часов так четырнадцать в сутки, а в остальное время – ела и читала. Сны – это лучшее, что есть в жизни. Если бы ты знал – какие краски, какие звуки!.. ******* - Тема урока сегодня прежняя. – Майдака стоял у доски, прямой и строгий в своем черном костюме, как пастор. - Итак. Литература есть продукт страдания… Нынче, направляясь в академию по традиционному маршруту, мимо городского парка, я увидел у ограды скрюченного спящего человека. Пожилой, с взлохмаченными седыми волосами, в очках, в костюме землистого цвета. Заметьте, что я уловил все мельчайшие детали его облика. Мне даже показалось, что он похож на писателя Кондратова, но, конечно, сильно запущен. Я очень сочувственно отношусь к сирым и убогим. Но тут я подумал: может быть, истинное счастье – именно здесь, у ограды парка, покинуть свою скрюченную оболочку и воспарить в сладостные эмпиреи. Неважно, что потом приедет труповозка и уже не слишком брезгливый милиционер поднимет щуплое тело за отвороты грязного пиджака, чтобы забросить в эту неуютную повозку… Следом за бомжем я миновал павильон с тусклой днем, но сияющей по вечерам вывеской «Игровые автоматы». Обычно здесь звучит идиотская электронная музыка, толкутся кавказцы, подростки и женщины средних лет. Они хотят получать от жизни удовольствие. Пожалуйста, усвойте, что нельзя руководствоваться лозунгом «Цель жизни – получение удовольствия». Цель жизни – получение страдания! …Мне не очень нравится, что в группе присутствует молодежь. Я не люблю нынешнюю молодежь. Она чрезмерно весела и заражена тягой к наслаждениям. Причем они не понимают, что есть наслаждение. Я не спорю – есть исключения. Вот моя хорошая знакомая – Маргарита – возможно, не столь уж безнадежна, чтобы настаивать на ее отчисление. А вон тот юноша средних лет, да-да, вы, в очках и с бородой, слишком любит хмельные напитки и следующую за их потреблением эйфорию. Конечно, если это помогает ему усваивать материал, – я не буду возражать. Но мне нужно убедиться… Тимон чуть не поперхнулся. Он имел привычку приносить и прятать под стол двухлитровый ваучер пива. Тянул напиток через соломинку, прикрываясь рукой, которой он задумчиво почесывал бороду. Двух литров хватало на первую пару, после чего остальные занятия пролетали незаметно. Гедонизм выпирал из Тимона, как его округлое брюшко – из ремня штанов. - Все сочувствуют Акакию Акакиевичу, - тяжко вздохнув, продолжил Георгий Брониславович, - Маленькому человечку, все мечты которого ограничивались новой шинелью. Почему? Почему никто не сочувствует Гоголю? Почему никто не сочувствует Кафке? Кто он был, Кафка? Лес рук… Ничего, ничего, это я сейчас задаю так называемые риторические вопросы. Отвечайте на них не мне, а себе. Сидел себе в маленькой гнусной конторе маленький человек, переписывал какие-то бумажки, подобно Акакию Акакиевичу. Но в его воспаленном мозгу рождался не фасон шинели, а – миры! Миры, рожденные страданием… Тут Броня резко нагнулся и извлек из-под кафедры доисторический рыжий портфель, очень плоский, с дребезжащей металлической ручкой. Лязгнув защелками, он выволок и брезгливо бросил на стол три ярко размалеванные книжки, всплеснувшие, словно крыльями, своими мягкими обложками. - Вы читали эти книги? Вам знакомы эти авторы, я позволю себе даже сказать – авторши? Джулия Жилова, Марья Попцова, Устинья Татьянина… Майдака с некоторым недоумением произносил эти имена, прочитываемые им скошенным взглядом – он поднимал каждую книжицу двумя пальцами, как грязную тряпку, за крылышко обложки. - Вы читали эти книги? Кто-нибудь? – настойчиво и уже не риторически вопросил Майдака. Никто не решался ответить. Наконец, подала голос чувствительная толстушка сзади меня: - Я читала, Георгий Брониславович. - Вот как, - препод оживился, - так поделитесь впечатлением от прочитанного! - Лихо закручен сюжет, - попыталась сформулировать дамочка, - у авторов много фантазии. Женщины очень любят читать… … - торговки на рынке читают эту литературу, потому что им близко мировосприятие героинь, цель жизни которых – получение удовольствия. На самом деле это чтиво литературой даже не называется. Но оно востребовано. Что греха таить, я как-то купил детектив Карининой для прочтения в поезде. После завершения поездки я без сожаления выбросил книжицу в урну. Разумеется, с настоящей книгой так не поступишь. Но настоящие книги сегодня выходят не так часто. Очень мало отечественных авторов, достойных умного читателя, сегодня издается. Рыночное чтиво сегодня заменило литературу. Чтиво, рожденное не страданием, а жаждой получения удовольствий от жизни. Георгий Брониславович снова вздохнул, помолчал и продолжил более ровным голосом: - Очень сложно выучиться на писателя. Нужно много страдать, нужно уметь видеть страдание, тщету, бессмысленность, нужно, ощущая все это, устоять, не потеряв отчаяния. Но сегодня, накопив весь этот бесценный багаж, вы не будете писать книг. Их сегодня никто не читает – таких книг. Я вам скажу больше – вы не станете и парапсихологами, хотя в ваших дипломах, на ваш выбор, может быть прописана одна из двух специальностей – космофилолог или парапсихолог. Вы не станете тем, что нынче понимается под этими словами. На самом деле названя эти весьма условны, скажу по секрету, руководство Академии потому и предлагает вам выбор, что не определилось, как вообще называть То, чему вас будут учить! Но уже очень скоро все изменится… Не важно, как называть это сегодня. Завтра на вас возложат миссию, которую выполняли раньше Кафка и Гоголь… Броня хотел сказать что-то еще. Но он весь как-то сник, стал небрежно засовывать растрепавшиеся книжки в портфель. Наконец, он сухо бросил: - Остальное вам расскажут на сегодняшнем занятии основ государства и политики. А мое занятие прошу считать оконченным. Прошу вас, посидите до звонка тихо. Мне нужно идти. – И вышел, не оглядываясь, из кабинета. Название «Основы государства и права» не так уж устарело. Оно, как я знал, использовалось в других вузах. Я так понимаю, понятие права убрали по причине дискредитации его первоначального значения. Броня был прав. На сегодняшнем занятии мы узнали сенсационную новость, еще не озвученную и не напечатанную в СМИ. На саммите «большой дюжины» было принято решение, которое нельзя было обнародовать до момента полной изоляции всех организаторов антиглобалистических акций. Итак, страны отныне упраздняются. Ура! Когда еще великий поэт мечтал: «Чтобы в мире без Россий и Латвий жить единым человечьим общежитьем». Единое человечье общежитье именовалось Государством качественной жизни. Я никогда не вникал, кто такие антиглобалисты и с чем их едят. По моим невнятным представлениям, это какие-то старорежимные патриоты, желающие жить в России или Латвии, гордиться тем, что родился именно на данном кусочке планеты, презирать, ненавидеть или, по крайней мере, относится снисходительно к тем, кто родился южнее или восточнее. Но – Государство качественной жизни! Гуляя по интернету, я наткнулся на сайт знакомств, где люди заполняли краткие анкеты: увлечение, какая музыка нравится, какие фильмы. И вдруг такой глобальный вопрос: цель жизни. Поскольку я тоже стал заполнять эту анкету, чтобы – а чем черт не шутит? – найти где-то на просторах планеты родственную душу, то задумался над ответом. Отшучиваться или писать общие фразы? Я решил процитировать Китса: «Цель жизни – созидание души». А кто-то написал, что его цель – повышение качества жизни. Я тогда впервые столкнулся с этим словосочетанием. Качественной может быть и литература, и музыка. Качество – не обязательно материальное понятие. Но оно все-таки принижает, относясь к музыке, литературе, даже – живописи. Качественный материал, продукт – пожалуйста. Качественная обувь, аппаратура. Но жизнь! Понятие качественной жизни не принижает ли ее духовную составляющую, не указывает ли недвусмысленно на приоритетность ее материальных аспектов? Лично я так понял про того парня из интернета, что он стремится хорошо питаться, одеваться, ездить на дорогой, а значит качественной машине. Слушать качественную, то есть модную музыку. Смотреть хорошо пропиаренные фильмы по самому современному телевизору – непременно японскому, а не «желтой сборки» (как будто японцы черные или белые), непременно с жидкокристаллическим экраном. Как-то в соседней комнате моей коммуналки в Причеренске поселилась целая орда армян. Меня пригласили отметить новоселье, и потом частенько приглашали в гости. Жили они грязно и убого, но, выходя в город, тщательно утюжили свои лучшие рубашки – черные, с золотой отделкой, чистили узконосые ботинки. С первых же заработков – они отделывали коттеджи, - многие приобрели себе золотые цепи и перстни-печатки. «Золото носят, чтобы показать, что хорошо живешь», - наставительно сказал мне их старший, Спиридон. Я давно заметил, что покупка хорошей вещи, будь то модная рубашка, паркеровская ручка или другой не столь необходимый объективно предмет, вызывает к жизни – увы, непродолжительной, - довольно приятные ощущения. Может быть, вырабатывается какой-то гормон, вызывающий привыкание? Женщины не могут жить без шопинга – разве это не наркомания? Есть женщины, которые покупают золото, потому что как сороки ведутся на его блеск и красоту ювелирной работы. После исчезновения радости от обновки золото складывается в шкатулки, а счастливая обладательница вдруг переходит на серебро или деревянную бижутерию. Но есть женщины, которые ежедневно вывешивают на себя все свое золото, выходя в народ. Им важно показать, что они обеспечены, что они живут качественно. Один мой знакомый работал простым грузчиком. Его выгнали с филфака за пьянку. Он зарабатывал довольно неплохие деньги. Но они улетучивались в один вечер, в одно посещение казино. Он кутил как заправский нувориш, швырял деньги направо и налево, покупал дорогущие коктейли. А наутро для него начинались серые будни, он тяжким трудом целый месяц зарабатывал себе право на один вечер качественной, в его понимании, жизни. Что могло означать понятие «государство качественной жизни»? Что это, следующий этап за «страной равных возможностей»? Для кого-то качественная жизнь – золотое кольцо на каждом пальце, для кого-то – вечный пьяный кураж, а для кого… Нет, этот процесс грозит необратимостью! «Повышение качества жизни» - написал парень в сети. Все выше и выше! Растут этажи коттеджей, растут надгробия погибшим «в борьбе за это» на престижном городском кладбище. Качество не имеет пределов. Я понял, почему так расстроился Майдака и ушел, не дождавшись конца занятий… ***** «Они похожи на деревья… Они похожи на деревья…» Мне снилась Одесса. Никогда там не был, но совершенно был в этом уверен, торопливо проходя вдоль старинных домов, сторонясь платанов. Из их густых крон неслось мистическое карканье и лилось беловатое птичье дерьмо. Взволнованное бормотанье с соседней койки незаметно вклинилось в мой сон, но все же способствовало пробужденью. - У деревьев тоже есть душа, но они уцепились за землю… - Кто уцепился за землю? – этого очкарика ко мне подселили в прошлую пятницу, вечером, скорее всего. Когда я сорвался с последней пары, и прямо из академии отправился на трассу ловить попутку до станции, – вдруг невыносимо потянуло в Приреченск. А он, оказывается, разговаривает во сне. - Дело в том, что они похожи на деревья, - мой сожитель завелся с места в карьер. Привычно нащупав под кроватью очки с разболтанными дужками, он протер их краем простыни, и нацепил на аристократически тонкую переносицу. - Кто, мать твою?! – меня спросонья лучше не трогать. - Да люди же, люди, - изумляясь моему непониманию и совершенно игнорируя мой гнев, уточнил Паша. Имя соседа я узнал, конечно, из толстой тетради для конспектов, обнаруженной мною по приезде на унитазном бачке в туалете. В специальной графе значились не только имя, фамилия, отчество и год рождения, но и ГК, ИНН и КБЧ (то бишь группа крови, идентификационный номер и коэффициент бесчувственности). Редкая зануда, сделал я вывод. Лучше бы ко мне подселили Тимона. Но тот живет у тетушки и, несмотря на свой цинизм и разболтанность, не стремится в общагинский неуют. Паша, будто и не спал, начал излагать мне нечто уж очень заумное: - В процессе погони за материальными благами человек как-то упускает из виду, что его материальное существование далеко не вечно. Это западня! Он оскалил свои мелкие, заостренные, какие-то рыбьи зубы и уставился на меня, ожидая реакции. - Ну и что? – прореагировал я, снова вытягиваясь на кровати и закрывая глаза, чтобы вновь вызвать образ Одессы, но не тот, пугающий карканьем и жидким дерьмом невидимых ворон, а другой, нездешне солнечный, который мне грезился наяву. - А Георгий Брониславович на тебя большие надежды возлагает, - разочарованно протянул очкарик, - Говорит, такой печальный юноша, просто чудо какое-то. Говорит, жалко, нет в нашей группе девушки, схоронившей долгожданного ребенка – это самый лучший вариант. Но у этого парня за плечами какое-то настоящее горе, из него толк будет, без таких нам ГКЖ не вынести… - Что ты несешь? – мигом разлетелась в моем воображении летняя Одесса, с трудом слепленная из детских впечатлений от каникул в Ялте, - Что ты несешь?! Это тебе Броня все наплел или ты сам тут… бредишь спросонья? - Только Броней его не называй, - оскорбился Паша, обладатель до странности высокого – 2/VIIР – КБЧ. Как его взяли с таким, да еще спустя месяц после начала занятий? – Я не брежу, это ты бредишь. Писатель – неудачник, художник – недоучка. Как вы, даже такие продвинутые, не понимаете, – ну почему обязанностью творчества считается создание чего-то материального? Ведь та картина, та книга, которую мы пишем всю жизнь – это наша душа! Почему мы забываем все, когда рождаемся? Материальный мир стирает краски, наложенные нашими прежними воплощениями, и мы либо интуитивно угадываем стертые контуры, возрождая шедевр, либо начисто записываем новыми мазками свое неудачное творение. Это – в лучшем случае… Признаюсь, я заслушался. Внезапный стук в дверь заставил нас обоих вздрогнуть. Немедленно за стуком дверь распахнулась, – кто же закрывает на ночь двери в общаге? Это был Тимон, с утроенным пузом под черной курткой. - Оба! – он плохо прорепетиролванным жестом распахнул полы куртки, и два двухлитровых ваучера тяжко плюхнулись на пол. - С утра выпил – и целый день свободен! – ничуть не выказывая смущения, заявил наш ранний гость, подбирая с полу запенившуюся тару и усаживаясь прямо на ноги Паше. От него пахло дождем, - Выходной! Забыли что ли – сегодня день какой-то очередной солидарности или независимости – неучебный день-то! - Мы не забыли, просто поспать хотели, а тут ты… - нелюбезно забормотал Паша, чей полет вдохновенной мысли так грубо и банально был прерван. И воспарить вновь, будучи придавленным тяжелой джинсовой задницей, увы, не представлялось возможным. - Ага, если бы вы жили с моей тетушкой, не заспались бы до одиннадцати, - Тимон потряс своими командирскими часами, - в такую отвратительную погоду нет ничего лучше интеллигентной мужской беседы. Не желая терять времени, Тимон начал шарить по тумбочкам в поисках стаканов, при этом не закрывал тему своей тети, вообще-то странной, судя по его словам, особы. Непьющая бездетная сорокасемилетняя женщина имела в арсенале: - Рюмочки для ликера – раз, бокалы для коньяка – два, фужеры – для шампанского отдельно, для красного вина – отдельно, три! Потом – стаканы для виски, с содовой! То есть – для скотча. И еще… Там всякая чайная, кофейная посуда сервизами и порознь. И, разумеется, стопки для водки. Она ее сроду не пила, сроду! Маньячка какая-то: на блошином рынке графины покупает, три графина уже. Она в них держит святую воду…. Все это Тимон излагал для контраста, потрясая немытым граненым стаканом и чашкой с отбитой ручкой. Напоследок он извлек из кармана своей куртки помятый пластиковый стакан. К интеллигентной беседе мы были готовы. Паша заявил, что он даже в походе перед принятием спиртных напитков с утра привык умываться, и вышел из комнаты. - Это он называет спиртным напитком? – пробормотал Тимон, открывая ваучер, и, как водится, поспешил хоть вкратце обсудить временно отсутствующий персонаж. - Очкарик, как и я! Ты понял намек? Не вписываешься ты в компанию, поразмысли над этим. Между прочим, его на самолете к нам привезли – министерство оплатило перелет из Владика! Думай, с кем ты унитаз делишь. Особо одаренный. - Дитя индиго, - съязвил я. Насчет очкариков обидно стало. Но если эту историю начну рассказывать, Тимон не дослушает, он в каком-то особо возбужденном состоянии, явно после вчерашнего. Он тоже по-своему одарен. Его спиртное не расслабляет, как меня, а напитывает энергией. - Он во сне разговаривает? – даже не дожидаясь моего утвердительного ответа, Тимон быстро прошептал, оглядываясь на дверь, - Настоятельно советую: дожидайся, когда заснет, и включай диктофон. Втихаря. Это может очень- очень пригодиться…. Наша пьянка протекала по обычному сценарию. Не совсем обычным было только поведение Паши. Выпив стакан пива, он помахал над опустевшим сосудом своей аристократической рукой, чтобы больше пока не наливали. Потом он попытался выйти в дверь, но переносицей угодил в косяк. Тогда у них с Тимом открылась увлекательнейшая общая тема. Очки. Женщины столько не тратят на колготки, сколько очкарики на этот хрупкий предмет. - А, собственно, какие колготки, - с усмешкой лживого знатока рассуждал Паша. Голос его стал каким-то детским, с высокими и протяжными нотками, - Им проще. Забрали у мужиков штаны, чего на чулочки-то тратиться. - А я у них колготки забрал, - захохотал Тим, вытянув ногу и расстегивая джинсы, - во, под низ ношу, практично. Именно в этот момент, после двух символических стуков, дверь отворилась. На этот раз на пороге мы узрели Маргаритову. Эту однокурсницу я увидел в стенах общаги в первый раз, но о том, что она ее законная обитательница, можно было предположить по махровому голубому халату, в котором предстала нам юная студентка. - Я извиняюсь, конечно, - она бесстрастно скользнула взглядом по смущенному Тимону. Его угораздило надеть под джинсы красные колготки, и это яркое пятно дискредитировало его еще пару секунд, так как молнию заело. – У меня такая проблема. Кто-нибудь понимает, почему розетка может не работать? - Электрическая? – уточнил Паша, подслеповато щурясь на гостью, - Вероятно, отошел контакт… - Полная ерунда! – изрек быстро оправившийся от секундного смущения Тимон, - У тебя двести восемнадцатая, вторая от лестницы? Отвертка есть? Не дожидаясь ответа, Тимон решительно направился в известном ему направлении. А за ним сомнамбулически потянулся наш ребенок-индиго из Владика, сжимая в руках сломанные очки. Маргаритова с чуть изумленной и чуть восторженной улыбкой проследила за уходящими, прошептав с тихой страстью им вслед: «Там открыто…». Потом, не убирая с лица этой необычной улыбки, обратилась ко мне, не двинувшемуся с места: - Я собак и мужчин не люблю. Но они все-таки милые. - Собаки? – индиффирентно уточнил я. - Все, все милые! – девушка со вздохом счастливого облегчения уселась на мою кровать. Я подумал сразу о нескольких вещах. О том, что неприятен этот обычай поездов и общаг усаживаться на кровать, да еще и неубранную. И о том, что выглядит, будто мы специально сплавили двух придурков, чтобы остаться наедине и о чем-то поговорить. Так о чем? - Стадное чувство, - Маргаритова как-то смешно развела руками, и стиснула их в маленькие кулачки, трогательно торчащие из широких рукавов халата. – Меня так умиляет. В мужчинах и лошадях. - В собаках, - поправил я. Маргаритова посмотрела на меня с некоторым непониманием, потом пояснила: - Ну да, собаки сбиваются в стаи. Но это не умиляет. Это пугает, – она говорила короткими предложениями, с отчетливыми паузами, - В лошадях - умиляет. И в мужчинах, оказывается, тоже. Да, - спохватившись, она встала и запахнула ворот халата, надо пойти посмотреть. Их током не убьет? - Не должно, - успокоил я, - вообще-то двести двадцать вольт для человека не смертельно. Точнее, для большинства не смертельно. Тимона не убьет, а Паша без очков все равно не полезет. - То есть Пашу и двести двадцать может убить, - девушка сообразила быстро, а произнесла медленно, глядя на меня пристально и, как мне показалось, осуждающе, - А ты добрый! Сам-то понимаешь в электрике, вижу! Мог бы им сказать, чтобы хоть сеть отключили! Пошли быстрее! - Вовсе не обязательно отключать сеть, - пояснял я уже на ходу, - В принципе, можно касаться одного оголенного провода, главное – не касаться одновременно двух… Впрочем, моим товарищам ничего не угрожало. Провод был поврежден где-то в стене и Маргаритова пошла варить кофе на кухню. Электрики по праздникам не работают, а кофе хочется всегда: - Чашка кофе утром – и жизнь начинается, - объясняла она нам, стоя у плиты. На дамской кухне был балкон, стаканы и не было самих дам, – они куда-то все ушли по причине выходного. Мы перебрались сюда с пивом, от которого Маргаритова отказалась: «Не пью до обеда». Паша выпил еще пару стаканов и ушел спать. Он оправдался тем, что всю ночь читал Монтеня, к тому же расстроился из-за поврежденных очков. Когда он ушел, я почему-то разоткровенничался. Я рассказал, что у меня тоже есть очки, настоящие, с диоптриями. - О, наш человек! – закричал Тимон, - а чего не носишь? При этом он посмотрел на Маргаритову, а та пожала плечами: - Очки носят не потому, что умный, а потому что зрение плохое. Может без очков – ходит без очков. Я рассказал, что меня как-то забрали в армию. Там были двухэтажные кровати в казармах. «Как в тюрьме» – зачем-то добавил, а Маргаритова при этом странно посмотрела. Ну, и много там был неприятного… Сейчас не хочется рассказывать. - А Родину защищать? – ехидно спросил Тимон, - Я отслужил два года, от звонка до звонка. Настоящим дембелем пришел, весь в значках, пьяный в дымину, дрался в парке. Эх… - очки друга светились от восторженных воспоминаний. - Может, наследственное, - признался я, - мой дядя, самый старший из отцовых восьми братьев, наверное, был предателем. Говорят, перед войной, – а все знали, что будет война, как сейчас все знали, что будет ГКЖ, - перед войной он говорил, что перейдет на сторону Гитлера. Ушел на фронт и исчез бесследно. - Да ну? – заинтересовалась Маргаритова, - а тебя не искали германские нотариусы? Как твоя фамилия? Список этот – Ротшильд, Морган, Рокфеллер – он же не иначе как германскими фамилиями продолжен. Страна-то, богатейшая в Европе! - Бывшая страна в бывшей Европе, - подхватил Тимон, - А че, помните анекдот. Мол, Литва собирается на Россию войной, говорят, все равно она нас победит, как Германию, вот тогда заживем! - Однажды я зашла на почту, - голос девушки неожиданно стал серьезным, - это было накануне девятого мая. И зашел туда ветеран. Ну, нарядный, вроде дембеля – только не в значках, а в медалях, орденах, надо полагать. И лезет без очереди, так как положено. А он весь надутый как индюк, и с палочкой. «Я, - говорит, - врага победил, ради вашего счастья». Счастья! Я так спешила, что разозлилась и пробормотала: «Лучше бы они победили». Представьте: очередь человек двадцать и две служащие, молчат, как пришибленные, и только ветеран орет благим матом и машет на меня своей палкой! И никто меня не опроверг. Противно так стало, – значит, я права? - Ага… - Тимон задумчиво чесал задранную вверх бородку, - но мы отвлеклись. Ты, Андрюша, нам про очки хотел рассказать, а не про склонность к предательству. - Ну, я и рассказываю. Все очень просто. Мне в армии надоело. Пошел в медчасть и попросил глазных капель, а потом в библиотеке – Шопенгауэра. Закапал в глаза и читал всю ночь, что категорически запрещается аннотацией к каплям. Зрение у меня и так было не очень. А тут – комиссовали…. - Свинство, - констатировала Маргаритова, - а сейчас зрение восстановилось? - В основном. Я очки не ношу не потому, что не хочу умным казаться. Просто у меня один глаз на минус два, а другой на плюс два. Мне надо двое очков: для близорукости, и для дальнозоркости. Одни очки у меня есть, но я их только за компьютером надеваю. - Да, вообще-то неплохо, когда у мужчины зрение плохое, а он очки не носит, мечтательно произнесла Маргаритова, - тогда ему все женщины красавицы. - Ну… Тебе-то это не нужно, - Тимон сам смутился от давно назревшего комплимента. Собственно, наша однокурсница вряд ли могла являться для нас красавицей. Если объективно, можно придраться и к внешности. Лицо несколько вытянутое, причем девушка не носит челки, темные пряди висят по сторонам, еще более удлинняя анфас. Глаза темные и мрачные, кожа бледная. Худоба естественная, что мужчин, как я знаю, мало прельщает. У девушек, изморенных диетами, природная одаренность все-равно выпирает – из декольте, из пояса штанов сооблазнительными глазу формами. Но как их разносит если не после свадьбы, то после первых родов! Эту не разнесет. Эти лопают пирожные, почти не замечая их вкуса, но могут сутками не есть, вегетарианствовать, поститься. У них плоть еще до рождения прирученная, послушная, не смеющая даже заикнуться в присутствии железного разума и неосознаваемо твердой воли. Я таких знаю. Моя Райка из таких…. Но однокурсница не из-за внешних причин часто не может являться красавицей. К сожалению, при совместной учебе обнажаются не ноги, пупки и плечи – мозги. Что для потенциальной красавицы опасно. Вопреки расхожему мнению, мужчины дур не любят. Ну, во всяком случае, на нашем государственном факультете такое вряд ли возможно. Маргаритова пока умудрилась не зарекомендовать себя столь опрометчиво, как Нюра, рискнувшая отрецензировать принесенные Броней книжки. Она мудро отмалчивалась, либо произносила мутные по смыслу сентенции, или неожиданно задавала неуместные вопросы. Таким образом ей удавалось второй месяц носить флер загадочности. Но что заставило ее предстать перед нами в халате? Разглядывая ее задумчивый профиль со слегка утиным носом, я неожиданно понял, что в этой девушке нет никакого стремления к загадочности. Просто есть сама загадочность, есть какая-то тайна, благодаря которой суровый Броня не считает ее окончательно безнадежной и «не настаивает на отчислении». Вон ведь как он и меня раскусил – типа «юноша бледный со взором горящим» и какой-то тайной, весьма полезной для формирования сотрудника загадочной структуры, которая намерена противостоять ГКЖ. Что-то нас объединяет, но что? И кто первый раскроет козыри. Нет, я буду держаться… Прошла еще неделя. Погода стала еще более скверной. О ГКЖ ничего не говорилось, даже на занятиях ОГП. Впрочем, на определенных сайтах обсуждение новости шло вовсю и где-то в Европе бунтовали антиглобалисты. Взорвали даже какую-то машину в Пакистане, но уверенности в том, что это происки антиглобов, не было. Где-то стали проскальзывать сообщения, что решения такого еще не принято, что это один из вариантов развития мирового сообщества. Но мы то в Академии знали, что это процесс решенный. Непонятно лично мне и Тимону было только вот что. Когда открывали наш государственный факультет, уже знали о неизбежности ГКЖ? То есть, нас готовят явно? Или мы зашифрованы – типа парапсихологи с дипломами, дети индиго, а на самом деле… А на самом деле?! Опять у меня возник вопрос: зачем я сюда приперся из Приреченска? Для начала надо было выяснить, для чего сюда спецрейсом приперли Пашу, но он не кололся. Диктофон ничего не писал, а чаще всего в нем разряжались суперсвежие батарейки. Сам же я стал спать очень хорошо. Все это было весьма подозрительно. Я не думал, что от всех этих мрачноватых мыслей на фоне столь же мрачноватой погоды меня отвлечет Маргаритова. Впрочем, я давно называл ее по имени – Марина, или Мара, как она просила. - Мара Маргаритова, - бормотал я, - Марсель Марсо, Мерилин Монро. Неплохой псевдоним для «Приреченской правды», любят тамошние авторы, чтобы имя и фамилия начинались на одну букву. Ха, да они ведь и переименовали в том же стиле свою газетку. Теперь это «Гордый Город». ГэГэ, ГыГы. И тираж у них теперь аж девятьсот девяносто девять экземпляров. Несертифицированный, конечно… Непонятно, собственно, отчего я так злобствовал на издание, давшее мне когда-то путевку в жизнь. Стыдиться-то особо был нечего – полфакультета в свое время отпьянствовало в редакциях. Но у Мары была более темная история. Для начала скажу, что я нашел у нее давно просроченный загранпаспорт. Я долго смотрел на фотографию, размышляя, чем мне это лицо напоминает мою сокурсницу. Дело в том, что оно было как две капли воды на нее похоже, но… паспорт был выдан слишком давно и на имя Маргариты Рикардо. Впрочем, гражданки России. Документы у нее валялись совершенно открыто. Поэтому Мара застала меня с двумя паспортами в руках, сличающего идентичные фотографии. Она зашла в комнату неслышно, постояла в дверях, потом спокойно подошла и вынула документы из моих рук. - Я испанка! – лишь на момент она ослепительно улыбнулась и приняла позу танцовщицы фламенко. Потом ее лицо с поразительной быстротой обрело привычную мрачную надменность. – То есть, моя мама была тувинкой. А отец – да, он испанец. - Ту… Ту-винкой?! – час от часу не легче. Я стал спокойнее относиться к Маре, когда, наконец, наблюдал ее подвыпившей. Тогда она заявила в студенческой компании, что ее мама была китаянкой. Больше на китаянку или тувинку могла походить блондинка Рая: «твои рваные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной, зазнобой моей». Но впрочем, тувинка ли, китаянка ли – фотографии с разницей в восемь лет! Хотя это все ерунда. Во-первых, женщины не стареют, во-вторых, пластическая хирургия. Юная студентка, которой, по причине недостатка жизненного опыта Броня грозит отчислением!… Ну-ну. - Мой отец до сих пор живет в Приреченске, - Мара спрятала паспорта в ящик, Почему я не говорила? Да ведь это не мой родной город. Он живет там и совершенно спокоен за меня. Он сказал: «Лучше ты будешь сидеть в тюрьме, чем лежать в могиле, и я буду носить тебе цветы на могилку». Сейчас ему спокойно. Он не знает, что я уже на свободе. С чистой совестью. А мама? Мама давно умерла. Он живет там, в Приреченске, с какой-то… Я ее не знаю. А отца бы хотелось повидать. Перед психушкой. Она ему светит, я знаю. Как и мне, – но позже, в его годы. А знаешь, когда соберешься в следующий раз в Приреченск, возьми меня! Я, конечно, пообещал. Я же не знал, во что выльется наша поездка. Но об этом позже. Мара спросила меня, предварительно накормив оладьями, с таким банальным женским коварством: - Мы друзья, да ведь? - А то! Самые взаправдашние! Мара вздохнула так глубоко, что я испугался. Наверное, ей нужны очень большие деньги, которые она и не собирается отдавать. - Мне очень одиноко. Видишь ли, я не люблю собак и мужчин. Это хорошо – когда в общаге. Их тут нельзя держать. Я держу кошку. Тайно. Но ведь ты не расскажешь? Даже умные женщины не могут удержаться от соблазна прикинуться дурочками. Однако съеденные оладьи обязывали быть учтивым и слушать дальше. Но она себя вела со мной, как со всеми! Как с Броней. И это она называет – друзья? В общем, ее стиль тут проявился, – она меня огорошила совершенно пустяковой просьбой: - Я люблю лошадей. Я их обожаю! Я обожаю запах конюшни. Но это любовь неразделенная. Именно поэтому я люблю кошек и лошадей. Они же не любят в ответ. А собаки и мужчины – ну, ты сам понимаешь… А, в общем, дело такое – мне скучно одной ездить в конный клуб. Да и темнеет сейчас рано, а мне через парк идти одной страшно. От сердца у меня, как говорится, отлегло. Хотя я не знал, что мое согласие на невинный эскорт принудит меня выдать еще одну свою тайну. О которой я умолчал, признаваясь, почему я не очкарик. ************** Запах. Запах конюшни. Он повеял уже издали. И Мара, чтобы нарушить затянувшееся молчание – она, как и я, плохо умела болтать ни о чем, сказала: - Существует психологический тест. То есть, их много существует, ну, мы проходили...А вот такой не проходили. Тебе какое животное нравится домашнее, и какое – дикое? Я задумался. Птицы гадят. Причем сверху. Даже если попугай в клетке, надо постоянно эту клетку чистить. Был у меня попугай. И хомячок был. Тот тоже везде свои мелкие какашки оставлял. Наконец он застрял где-то под ванной. Две недели воняло, я даже зубы на кухне чистил. А потом прошло, наверное, его тараканы доели. - Кошек люблю, - ответил я после паузы, про себя подумав, что они чистюли, гадят где-то в саду, никто не видит, где. Не то, что собаки. - Ну, а дикое? - терпеливо уточнила Мара. Нужно было ей соврать, ведь это такая мелочь. И такая чушь эти психологические тесты. Майдака топрощил усы, по кроличьи выставляя зубы, и храбро заявлял, что классическая психология (следующая пара!) – лженаука! Согласен с ним. Процентов на семьдесят девять. Но Маре я не стал врать, особенно, когда следущий порыв ветра донес до меня обожаемый ею запах: - В детстве, Мара, меня привели в зоопарк. Там было много несчастных диких животных. Я даже, наверное, кого-то из них увидел. А может, не успел, просто помню, – мы недавно проходили, - ложной памятью. Видел потом по телевизору. Потому что меня уже от клетки с грифами вынесли в обмороке. И больше не водили. - Тебе их так стало жалко?! - Жалко. Несчастные животные томятся в тесных клетках. Но в обморок я упал от…вони. Я даже сказал не «запаха», а «вони». И от конюшни не пахло, – воняло. Почему я должен выбирать слова? - Да… - Мара была впечатлена, - Несчастный ребенок. Значит, тебя и в цирк не водили? - Водили. Ошибаешься, Мара. С парадного входа цирк не воняет. Это потом, когда я пришел брать интервью у укротителя львов… - Может, тебе нравятся львы? – оживилась моя собеседница, но я пресек ее надежды: - Ничего подобного. Я их видел, повторю, только по телевизору. Я же интервью брал не у них, а у укротителя, а на представлении и не был. А в детстве мне понравились лошади. Они были такие… Такие круглые, задастые… - Тяжеловозы, - с мечтательным вздохом перебила меня Мара, - на них в цирке вольтижеры скачут. - Ну да, - я спешил высказать, что меня поразило в детстве, - у них на задницах, на крупах были шашечки! Так здорово! Честно говоря, кроме шашечек на лошадиных задницах, мне в цирке ничего не понравилось… Львов нам тогда не показывали, и тигров тоже. Тигры мне немножко больше нравятся, я бы лучше их укрощал, если бы что. И тот дрессировщик мне говорил, что львы опаснее – они прайдом, толпой идут. А тигры – одиночки… «Как я», - чуть не сорвалось у меня, но тогда бы меня уличили в симпатии к этим зверюгам. Можно подумать, я люблю себя за то, что я одиночка! Но Мара выслушала мою тираду лишь для того, чтобы блеснуть собственной эрудицией. Она рассказала, как делаются шашечки на лошадиных крупах – с помощью трафарета и расчесывания против шерсти. Наконец, мы приблизились к обсуждаемому предмету, то есть, вошли на территорию конюшни. Впрочем, я не боялся обморока, ведь я уже взрослый мальчик. От казарм я сбежал, это да. Наверное, и Мара теперь поняла, зачем я рисковал зрением. Но сейчас я бежать не мог, и скромно уселся на скамеечке напротив манежа. Достаточно долго Мара находилась в деннике, и я успел слегка продрогнуть, – стоял сухой и безветренный октябрь, но осенняя свежесть все же не давала расслабиться под открытым небом. За изгородью манежа начинался сосновый лес, он окружал город с юга и востока, но город теснил вековой бор, врезался в него жилыми коттеджами, кемпингами и элитными спорт-клубами. Жаль. Старожилы рассказывали, что раньше по опушкам бродили лоси, в кустах мелькали зайцы и лисы. Моя подруга вышла с конем под уздцы. Это был высокий гнедой жеребец, на фоне этого здоровенного животного Мара казалась особенно хрупкой, а высокие сапоги почти военного фасона добавляли ей трогательности. Мне, художнику-недоучке, пришла в голову идея картины. Вот он – образ амазонки, не воннственной наездницы, заносящей дротик на скаку, а трогательной хрупкой девочки, ведущей под уздцы огромное покорное животное. Амазонок в манеже было пять. Трое, в том числе и Мара, чинно ездили вдоль изгороди то шагом, то рысью, переходя по команде тренера с аллюра на аллюр, меняя направления, выписывая вольты и всячески демонстрируя свою власть над конями. Еще две, более, наверное, профессиональные, галопировали по центру манежа, направляли коней на препятствия. Хрупкие, с прямыми спинами, они носились перед моими глазами, как странные воплощения никем доселе не описанной женской сущности. - А мужчины сюда приходят? – спросил я Мару на обратном пути. - Я видела только одного, - ответила она, - Приходит вместе с дочерью. Это, наверное, она его сюда и притащила… Седьмое ноября. Я помню, что это было седьмого. Это был будний день, и мы с Марой с утра отправились в библиотеку за какими-то аудиодисками. Вышли из теплого помещения на крыльцо, в стылый ветренный неуют и вдруг… Мы одноверенно оглянулись на звуки какой-то бравурной и одновременно угрожающей музыки. Потом в мегафон женский голос прокричал речевку: «Армия и флот, на вас надеется народ». Там, в начале улицы медленно двигалась машина с мигалкой, а за ней чернела стена человеческих силуэтов. Над стеной «реяли алые стяги». Надо же! Процентов восемьдесят народа уже не помнило эту дату, а они помнили. Когда-то, лет сто назад, произошла революция. И в память о ней каждый год в этот день находились, наверное, сотни людей на каждый приличный по численности город, которые в это самое мерзкое время года брали алые стяги и шли. Куда, зачем? Ведь общественный строй сменился уже не единожды. Никто не помнил смысла этой революции, но она была! Эти, с флагами, верили, что она была попыткой сделать их счастливыми. Наверное… Мы шли впереди этой толпы, метрах в пятидесяти, по тротуару, оглядываясь на них, уверенно шагающих по проезжей части. Движение было перекрыто, у дороги стояли постовые. Может быть, мы бы подождали их на площади, чтобы послушать, о чем они будут говорить. Наверное, будут клеймить ГКЖ или требовать досрочных выборов нового мэра, или жаловаться на низкие пособия. А красота революции – это черное и красное. Я вдруг понял, какой должна быть давно задуманная мной картина на тему бесцельности бытия и невозможности избавления от него. Сначала были стихи. Достаточно мутные, как и все творчество Кальпиди. Но меня они поразили еще лет двадцать назад: Смотрите, жизнь прошла, как тетка в магазин, А мы еще прикованы к застолью, Нам невдомек расплачиваться болью, Мы не умрем, пока не досидим. Трудно было придумать зрительный образ, который не глушил бы всю эту тонкую пронзительность слов грубой иллюстративностью. Нужен был белый, как ноябрьское небо, лист ватмана, на нем черной и красной тушью: опрокинутый бокал с разлившейся лужицей, неровные, как на сломанном ундервуде отпечатанные, слова. Текст там должен был быть. В общем, мне в тот холодный день ноября пригрезился классический плакат Окон РОСТа, до такого простого решения изобразительной задачи сам додуматься я не мог. Но Маяковский-то, наверняка, был вдохновлен такой же демонстрацией! Но не это было главным, конечно. В этот день Майдака очень просил нас не опаздывать. Он был назначен наставников нашего факультета. Собственно, весь факультет составляла одна группа. До прилета Паши Ивановского нас было двадцать один. Оказывается, эффективность нашего обучения на всех стадиях была просчитана и спрогнозирована целой группой специалистов, в том числе и нумерологом. Этот последний настаивал на числе двадцать один. До момента открытия факультета так и не был определен срок обучения. Разумеется, никакие прежние стандарты не работали. Решили, что война план покажет. Очевидно, впрочем, было, что до конца обучение пройдут семь человек. Нумеролог настаивал, что семерых нужно «вытащить». То есть, это было оптимальный максимум, при том, что все поступившие (кроме Ивановского!) прошли конкурс в тридцать три с половиной человека на место! В общем, ректорат настаивал на отчислении лишнего. Кто им станет? Майдака вступился за нас, программа была коренным образом реформирована. Собственно ценой этой реформы мог стать не один перспективный студент. Утром Майдака опять встал перед нами как пастор, блестя очками, под которыми прятал взгляд отечески грустный и не слишком уверенный. Но Георгий Брониславович всегда старался держаться с достоинством и не выдавать терзаний души. - Глубокоуважаемые студенты! Назрели необходимые изменения в программе, и я обязан сообщить вам о них. Вы занимаетесь уже более двух месяцев и достаточно поднаторели в теории. В частности, вами весьма доволен преподаватель истории религий. Впрочем, я и не сомневался, что этот серьезный предмет вызовет заинтересованность вашу, если не сказать больше. Но изучать религию нельзя! Майдака опустил голову и внимательно осмотрел нас поверх очков. Видимо он был доволен реакцией группы. Она отсутствовала. Два месяца не прошли даром. Мы готовы были к чему угодно. Майдака продолжал ровным голосом: - С завтрашнего дня меняется режим занятий. Вам следует завести календари, где отмечены праздники всех ведущих конфессий, чьи храмы имеются в нашем городе. Не будет проблем с православными и мусульманскими праздниками. Но я напомню вам, что у нас существуют молебные дома протестантов, в также всем известно, где находятся кирха и синагога. Значит, вы обязаны посещать службы в различных храмах, расписание будет изменено. Я думаю, программа не пострадает, тем более, что многие праздники выпадают на воскресенья. Посещение воскресных служб обязательно! Но это еще не все. Мы долго обсуждали этот вопрос в ректорате, но пришли к выводу, что без определенного риска существование нашего факультета не оправданно. Каждому из вас вменяется посещение как минимум одной так называемой тоталитарной секты. К этому вопросу следует подойти серьезно. Через месяц каждый из вас выберет секту для себя и подойдет ко мне для прохождения индивидуального инструктажа. Майдака перевел дыхание и снял очки. Тщательно протирая стекла, он добавил в тишине, которая, собственно, царила в аудитории с начала его речи, но теперь вдруг стала еще более беззвучной: - Два месяца. Я думаю, нахождение в секте должно продлиться примерно такой срок. Он воздрузил очки на переносицу, подвигал бровями и с улыбкой добавил: - Вы должны вернуться, все. Стать истинными приверженцами догматов секты, чтобы никто не догадался, откуда вы пришли. И вернуться через два месяца. Вы понимаете, что это незаконный эксперимент. Но тот, кто не вернется…. – он как-то жалобно пожал плечами и закончил, - тот – не вернется. Разумеется, мы достаточно хорошо были знакомы с догматами существующих религий, а также сект, учений и культов, включая, например, вуду и сайентологию. Коротко прошлись по молодежным, как их называл наш препод, субкультам. Интересно, как недолговечны были эти пародии на «взрослые» религии. Не то, чтобы недолговечны, а недолгопамятны. Были, например, когда-то панки. Забавные, лично мне симпатичные, с грязными волосами и небрежением к устоям, этакие ревизионисты духа. «Панк не умер, он просто так пахнет». Их дети, или, может, внуки, стали готами и эмо. Кстати, панков никто не запрещал, они все-таки умерли. То есть, вымылись и выросли. А эмо запретили на государственном уровне. И всего лишь после того, как пара девчонок в черно-розовом свалились с крыши. Во все времена подростки склонны к суициду, но ответил за них этот глупый субкульт. На смену этим демонстративно плачущим от сытости и безделья пришли другие. Не эмоциональные (ба, подростки вычитали где-то умное для них слово!), а на этот раз наоборот, похожие на роботов. Эти, наоборот, осветляли ресницы, брови и волосы, носили серое и бежевое, чтобы стать незаметными, «никакими» – они так себя называли, - ники. Это тоже была гордыня, преходящий грех юности. Тогда как, если повернуть зеркально, гордыня Денницы или Люцифера – всего лишь грех непреходящей юности. «Кто не был молод, тот не был глуп». Почему Бог не дал возможности своему падшему ангелу повзрослеть? О, было бы скучно без противоборства добра и зла, и столь опасный пример для назидания нам оставлен Всемогущим! Собственно, подобные размышления в стиле суперновых апокрифов, давно развлекали мое существование мизантропа и филофоба. Человечество с его глобальными проблемами интересовало меня на расстоянии. Но я стал замечать, что давно не стремился оказывать мелкие услуг конкретным людям, хотя это не составляло для меня труда. Взять хотя бы случай с розетками в комнате Мары. Я не ленился, впрочем, анализировать свою странную индифферентность к судьбам целых человеческих сообществ. Однажды прочитал интервью известного театрального режиссера, в котором он несколько черезчур бравировал своей скромностью, в частности, отсутствием автомобиля. Он рассказал, как получил большую театральную премию и отдал ее в фонд ветеранов сцены. Чего не сделал более никто, на что обратил внимание своего интервьюера режиссер. Это был укор совести читателя, коим на данный момент являлся я. Поставив себя на место гения, я прикинул, что, если бы мне когда и дали премию, то, вероятно, за мои сомнительные достижения в журналистике. Тут же представив себе несколько спившихся ликов ветеранов из пишущей братии, я твердо решил: они сами должны расплачиваться за то, что в погоне за дешевой славой влезли в столь грязное и неблагодарное дело. Собственно, если следовать постулатам буддизма, то и нищим подавать не следует. У них своя карма. Они расплачиваются за грехи прошлых жизней, а я чего полезу? В буддизме немало впечатляющих моментов, недаром даже Майдака с уважением относится к творчеству «великого буддийского поэта». Но этот великий не побрезговал принять звание народного артиста православной страны! Как все запущено в этом худшем из миров… Но если без излишней поэзии взглянуть на буддизм, то люди эти, в основном узкоглазые и скуластые, пекущиеся о букашках-таракашках, как о братьях наших меньших, тем не менее, в большом количестве употребляют мясо. Правда, наш препод по истории религии, кажется, в буддизме не очень силен. Много тут неясного, но, скорее всего, противоречия имеются не только в Евангелии. Майдака сказал: - В нашей многогрешной стране, где только каждый двухсотый истинно воцерковлен, тем не менее, не рекомендуется критично относиться к традиционным вероисповеданиям. Таковыми считаются, напомню, православие и магометанство. Имея беседу с представителями известной, но не упоминаемой всуе структуры, я сделал вывод, что наименее критичным следует быть к православию. Не имею права комментировать. Единственное, что хочу сказать в напутствие: плачут иконы, статуи мадонны и статуи Будды. Плачут – все… * * * * * * * Я не стал ждать, когда пройдет месяц. Подойдя после пары к Майдаке, я заявил: - Георгий Брониславович. Могу я претендовать на несколько исключительное положение в порядке проведения эксперимента? В положительном ответе я не сомневался. Глаза препода выразили его моментально. Я знал, что здесь на особом счету. Меня точно не отчислят. - Семь недель – это меньше двух месяцев. Но все же… Именно такой срок я находился в секте. Ушел из нее безнаказанно. И вобще не верю в тоталитарность чего бы то ни было. Объясните, что я должен сделать, набравшись необходимого опыта. Зачем время терять? - Ну-у, мальчик мой… - Броня потер пальцами кадык, - Руководство еще не придумало, что будет потом. Я предполагаю, что это способ избавиться от лишнего. Ну кто-то же должен дать слабину! Отправят его к психологам и все – до свидания! «Таких не берут в космонавты». А вам действительно незачем терять время. Попрошу вас подготовить реферат на тему «Почему я не повешусь завтра». Вы понимаете меня? Объем не ограничен. Работайте. Я мог бы вам дать на работу эти два месяца. Но… Вам, конечно, понадобится на нее не более двух дней. А знаете ли что? Вы отпишите, сдайте мне и поезжайте в свой родной город. Отдохните. Или можете сделать наоборот: поезжайте и отдохните. Вернетесь – и напишете… Глава третья, в которой герои отправляются в Приреченск, не преследуя никакой определенной цели, но оказываются втянуты в цепь ошеломительных событий. Здесь же приоткрывается завеса тайны структуры, и читатель смутно догадывается о значении библейской истины «…и последние станут первыми». В Приреченск мы отправились с Марой. Она же просила взять ее с собой, если я соберусь на малую родину вновь. Каникулы застали меня врасплох, и я не придумал ничего лучше, как составить компанию однокурснице, желавшей повидать отца «перед психушкой», как она выразилась. - Я не собираюсь, конечно, торчать в этой дыре все два месяца, - поделился я с ней планами, - но, если ты можешь слинять из Академии на неделю, поехали вместе. Мара согласилась со странной безучастностью, но уже назавтра стояла у моей двери с дорожной сумкой через плечо. Купить билет поздней осенью на северовосточное направление ничего не стоило, наоборот, в этот период железнодорожники делали скидку. Мы выбрали плацкартный вагон. Один мой приятель рассуждал о таком его преимуществе перед купе: «Все-таки общество - пиво, карты, дети, пьяные дембеля. К народу-то надо ближе быть!» Наш единственный сосед ушел к соседям играть в пресловутые карты с пивом. За боковым столиком тихо переговаривалась чем-то явно удрученная парочка. Мара забралась с ногами на диван и, не отрываясь, смотрела в окно. Поезд пробирался через железо и бетон индустриального пригорода. На заборах пестрели лозунги партий и футбольных клубов. Привычная картина всякого пригорода. Но один показался мне каким-то странным предупреждением, вроде глифа на гречишном поле, появившегося как-то июльской ночью на окраине Приреченска. «Иисус возвращается. Сопротивление бесполезно!» - Зачем они это придумали? – я прервал затянувшееся молчание. Мара вздрогнула, вероятно, она размышляла о той радостной угрозе, что таилась в промелькнувшем лозунге, - Если народ разбредется по сектам, кто останется в Академии? А если дойдет до соответствующих органов – полетят ведь все с должностей, и вообще, прикроют нашу альму-матер… к такой-то матери. Она улыбнулась. - Не закроют. Два месяца – очень удобный срок. Те же самые органы посодействуют, чтобы вовремя изъять слабаков, потом отправят к психологам и, - чао, крошка. Нас слишком много. - Куда как много! Привезли этого Пашу, и такой сыр-бор разгорелся, вместо двадцати одного - аж целых двадцать два! Проще кого-то одного отчислить. - Двадцать один – это допустимый максимум. Не дураки там наверху сидят. Думаешь, за три месяца они не определились, что он явно завышен? - Да, но почему тогда именно двадцать один?! Она стала рассматривать меня с каким-то особенным выражением. Это выражение не могло меня оскорбить: так полиглоты рассматривают книгу на пока не идентифицированном ими языке. - Ты – тот, кто им нужен. Но я не могу понять, откуда у тебя это стремление подражать? Ты, как Броня, готов половину наук заклеймить как лженауки. С нумерологией у тебя…какой-то пакт о невмешательстве. Ясно, что зачет тебе поставят, но ты же в ней – ни уха, ни рыла, причем принципиально! Это была правда. С астрологией я еще мог смириться, признавая, и то с оговорками, ее объективность. Все-таки звезды изначальны. Но как могут на судбы людей и человечества влиять числа, которые сами же люди и создали?! - Андрей, вот ты как думаешь, почему за допустимый минимум специалистов взято число семь? - Мистическое число, что тут думать… «Семеро по лавкам», «Один с сошкой, семеро с ложкой». Народная мудрость. - Не можешь забыть, что ты филолог? Тут дело в кратности. Если двадцать один поделить на три, получится семь. Это наиболее возможный остаток. Всегда или почти всегда отсев составляет две трети. Но у нас и другие варианты возможны. Любое количество оставшихся устроит руководство, если это число будет кратно трем. То есть, восемнадцать, пятнадцать, двенадцать, девять… Шесть исключается, хочешь, объясню, почему. Наконец – три. Сейчас склоняются к пессимистическому варианту. То есть, нас останется трое. - Нас? - Ну да. Ты, я и…кто-то третий. И это будет Клуб Изгоев. - Клуб? Почему клуб? - Потому что – ма-ло! Если мало останется, это будет – Клуб. Но это не значит, что у нас не будет штата. Там уже будут структуры с возрастающей численностью. Чем дальше удалены от центра, от Клуба, тем больше будет сотрудников. - Ага, и численность будет кратная трем! Например, первая по удаленности структура – двенадцать апостолов? - Не исключено. Вторая – семьдесят апостолов. - Но семьдесят не кратно трем! И семь – не кратно. Почему же они выбрали это число? - Я думала, что уже объяснила… Включим образность. Что будет, если убрать воскресение? - Не понял? Как это – уберем воскресение?! - Это хорошо, что ты опешил. Воскресение нельзя убрать, поэтому – семь… Мара вытянула затекшие ноги и размяла плечи. Я понял, что ей надоело мне объяснять и превращать тайное знание в жвачку. В принципе, мне этого было достаточно. Достаточно зыбких ассоциаций с семидневным сотворением мира и числом зверя. Особенностью обучения в нашей Академии было и то, что истины преподавались нам не в азбучном, а завуалированном виде. Наверное, Мара изложила мне лекцию, на котрой я ментально отсутствовал. Подобное отсутствие мне свойственно еще со школы: ты так внимательно и сосредоточенно взираешь на учителя, что он обращается только к тебе, как к саммому понимающему. При этом препод и не догадывается, что ты отсутствуешь и не воспринимаешь не единого слова. Я подумал, что наступил на старые грабли. Мара начинает мне заменять Райку. Опять женщина меня учит! Нет, я не мачо. Меня неосознанно влечет к женщине ее интеллект. Но разве это правильно? Мы уже давно покинули город. Поезд мчался по громадной равнине, на одном конце которой стояла наша Академия, а другим концом равнина примыкала к великой реке, срывалась с ее крутого берега. И там, на границе равнины и реки, у фронта двух столкнувшихся стихий стоял самый провинциальный, самый безмятежный в мире город моего детства. Город, который влек меня, когда я был далеко, который душил меня и гнал от себя, когда я был в нем. Как человек, которого как будто бы любишь. Думаешь, что любишь, потому что не знаешь: а как это – любить? Стемнело. Здесь, на равнине, подтаявшими сахарными островками лежал первый снег. Темнота за окном была особенно дикой, казалось, что в ней рыскают неведомые зоологам хищники. Страшно было от мысли, что кто-то может находиться не здесь, в бешено мчащемся составе, а в тишине и мраке степи. Заблудившийся охотник, усталый сумасшедший, сбежавший из дома скорби. Пребывающий в двойном мраке: мрак снаружи, мрак внутри. В вагоне погас свет. Лежа на верхней полке, я прислушался к ощущениям тела. Оно мирно покоилось на мягкой полке, которая плавно колебалась из стороны в сторону. И при этом оно мчалось со скоростью восемьдесят километров час в железной емкости, громыхающей на стыках рельс. Когда ночью я просыпался в вагоне, мне становилось жутко. С замиранием сердца я ждал катастрофы. Днем такого страха не было. Я заглянул вниз. Мара спала на животе, обняв подушку. В такие часы в поезде, где раздается храп и сонное бормотание, всегда случается с тоской и болью спрашивать себя: «Где это я? Куда я еду? Кто рядом со мной? Почему именно они стали моими попутчиками?» «Наша жизнь – это поезд», – предположил поэт. Понять, что жизнь движется, и мы движемся в ней, даже если спим на мягкой полке, можно только в поезде. Что есть эти приступы ночного вагонного страха? И почему некоторые не отправляются в поездку без пива? … Я не заметил, как провалился в лишенный сновидений дорожный сон и проснулся оттого, что не было движения, не было стука колес. Не слышно было и негромких разговоров на перроне, хотя в окно светил фонарь, это явно была станция. Я выглянул: это не была пассажирская станция, скорее полустанок к степи или изба обходчика - с изгородью и надворными постройками. В этой избе светились окна. Свет в ночном окне для меня какой-то раздражитель. Я много лет был бездомным, свет в окне был для меня несбыточной мечтой о теплом крове, о ком-то, кто ждет тебя, сидя в уютном кресле, украдкой поглядывая на часы. «Я люблю ходить один и смотреть в чужие окна». Что делать, все окна были для меня чужими, меня интересовали не скабрезные подробности чужой жизни. Да и окна на первых этажах всегда задернуты шторами. Вечером оживление за кухонными окнами. Раздается звон посуды, соблазнительно пахнет жареной картошкой, хозяйка негромко беседует с хозяином. Шторка задернута неплотно, я вижу полные руки, румяные от жара плиты, желтоватые кудряшки, цветастый халат. И мне хочется постичь тайну чужой души, скованной чужой плотью. Как это – быть женщиной, закончить поварской техникум, не замечать, как растут у мужа лысина и живот, потому, что он каждый день со своей газетой сидит на кухне, комментируя ошибки политиков, ругая губернатора и руководство завода. Говорить с ним о том, что пора менять смеситель на кухне, что на ярмарке картошка по семь рублей за кило. Это – жизнь? Тогда, в юности мне казалось, будь у меня окно, за которым ждут, твое светящееся окно, из голода и неуюта возникнет Счастье. Не нужно будет думать о ночлеге, и тогда Творчество и Свобода примут меня в свои объятия. … А когда, в силу неслыханного везения, – продажи некогда копеечных акций Газбанка, мне посчасливилось купить свой первый кров – комнатку в коммуналке… Тогда пришлось менять смесители и лампочку в туалете, договариваться с соседями о графике уборки коридора. Что есть Свобода, Творчество, Счастье? Не мечта ли? Не свет в конце нескончаемого тоннеля? Свет в чужом окне… О том, что ждет читателя дальше. Герои прибывают в Приреченск. Мара не успевает встретиться с отцом. Дон Рикардо погибает в день прибытия дочери. Поначалу его гибель всем кажется заурядной и нелепой. Именно благодаря этому трагическому событию Маргаритова знакомится с Кирой. От нее она узнает о Рае, но старается сделать так, чтобы она не встретилась с Адреем. Маргаритова рассказывает Андрею о своем пребывании на Евгении – «планете для элиты», чье таинственое воздействие сильные мира сего эксплуатируют с одной целью – омоложение. Мара рассказывает о своем преступлении, за которое она попала в тюрьму, и была высажена на Евгении в числе первых, в качестве «подопытного кролика». Кто попадет в Клуб Изгоев? Что значит: «И последние станут первыми». Что станет членским взносом этого клуба? Крах ГКЖ.