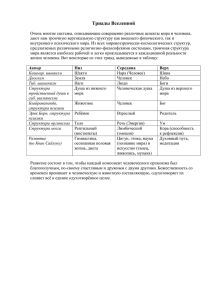Вы чувствовали когда-нибудь, что ваши руки обрели вдруг
advertisement
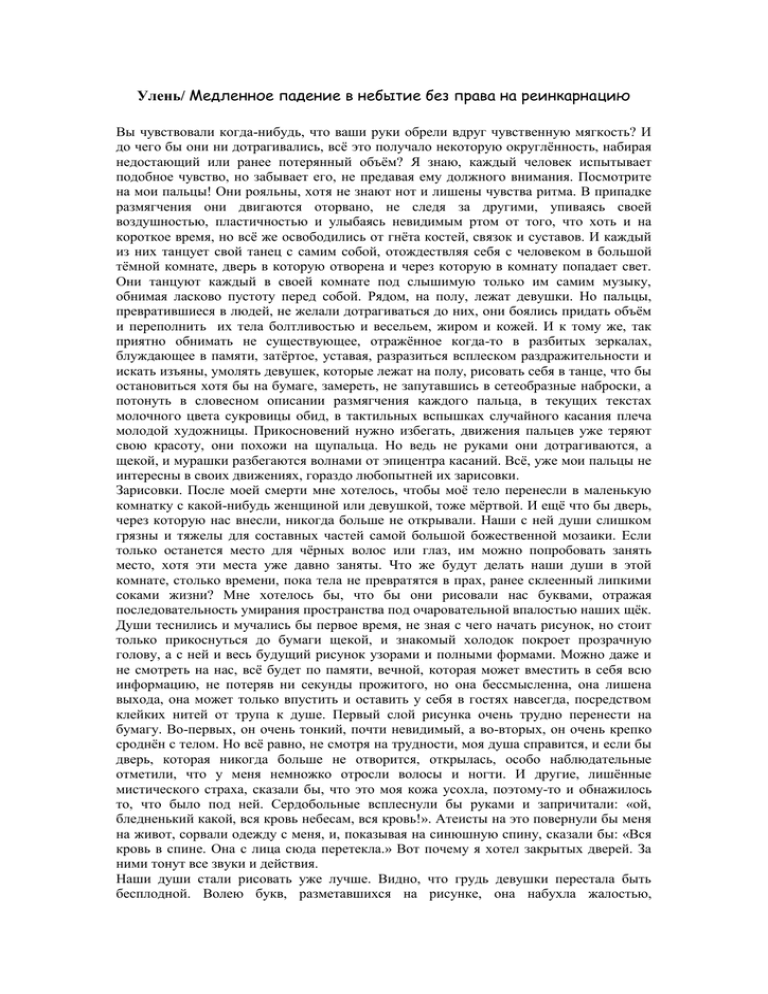
Улень/ Медленное падение в небытие без права на реинкарнацию Вы чувствовали когда-нибудь, что ваши руки обрели вдруг чувственную мягкость? И до чего бы они ни дотрагивались, всё это получало некоторую округлённость, набирая недостающий или ранее потерянный объём? Я знаю, каждый человек испытывает подобное чувство, но забывает его, не предавая ему должного внимания. Посмотрите на мои пальцы! Они рояльны, хотя не знают нот и лишены чувства ритма. В припадке размягчения они двигаются оторвано, не следя за другими, упиваясь своей воздушностью, пластичностью и улыбаясь невидимым ртом от того, что хоть и на короткое время, но всё же освободились от гнёта костей, связок и суставов. И каждый из них танцует свой танец с самим собой, отождествляя себя с человеком в большой тёмной комнате, дверь в которую отворена и через которую в комнату попадает свет. Они танцуют каждый в своей комнате под слышимую только им самим музыку, обнимая ласково пустоту перед собой. Рядом, на полу, лежат девушки. Но пальцы, превратившиеся в людей, не желали дотрагиваться до них, они боялись придать объём и переполнить их тела болтливостью и весельем, жиром и кожей. И к тому же, так приятно обнимать не существующее, отражённое когда-то в разбитых зеркалах, блуждающее в памяти, затёртое, уставая, разразиться всплеском раздражительности и искать изъяны, умолять девушек, которые лежат на полу, рисовать себя в танце, что бы остановиться хотя бы на бумаге, замереть, не запутавшись в сетеобразные наброски, а потонуть в словесном описании размягчения каждого пальца, в текущих текстах молочного цвета сукровицы обид, в тактильных вспышках случайного касания плеча молодой художницы. Прикосновений нужно избегать, движения пальцев уже теряют свою красоту, они похожи на щупальца. Но ведь не руками они дотрагиваются, а щекой, и мурашки разбегаются волнами от эпицентра касаний. Всё, уже мои пальцы не интересны в своих движениях, гораздо любопытней их зарисовки. Зарисовки. После моей смерти мне хотелось, чтобы моё тело перенесли в маленькую комнатку с какой-нибудь женщиной или девушкой, тоже мёртвой. И ещё что бы дверь, через которую нас внесли, никогда больше не открывали. Наши с ней души слишком грязны и тяжелы для составных частей самой большой божественной мозаики. Если только останется место для чёрных волос или глаз, им можно попробовать занять место, хотя эти места уже давно заняты. Что же будут делать наши души в этой комнате, столько времени, пока тела не превратятся в прах, ранее склеенный липкими соками жизни? Мне хотелось бы, что бы они рисовали нас буквами, отражая последовательность умирания пространства под очаровательной впалостью наших щёк. Души теснились и мучались бы первое время, не зная с чего начать рисунок, но стоит только прикоснуться до бумаги щекой, и знакомый холодок покроет прозрачную голову, а с ней и весь будущий рисунок узорами и полными формами. Можно даже и не смотреть на нас, всё будет по памяти, вечной, которая может вместить в себя всю информацию, не потеряв ни секунды прожитого, но она бессмысленна, она лишена выхода, она может только впустить и оставить у себя в гостях навсегда, посредством клейких нитей от трупа к душе. Первый слой рисунка очень трудно перенести на бумагу. Во-первых, он очень тонкий, почти невидимый, а во-вторых, он очень крепко сроднён с телом. Но всё равно, не смотря на трудности, моя душа справится, и если бы дверь, которая никогда больше не отворится, открылась, особо наблюдательные отметили, что у меня немножко отросли волосы и ногти. И другие, лишённые мистического страха, сказали бы, что это моя кожа усохла, поэтому-то и обнажилось то, что было под ней. Сердобольные всплеснули бы руками и запричитали: «ой, бледненький какой, вся кровь небесам, вся кровь!». Атеисты на это повернули бы меня на живот, сорвали одежду с меня, и, показывая на синюшную спину, сказали бы: «Вся кровь в спине. Она с лица сюда перетекла.» Вот почему я хотел закрытых дверей. За ними тонут все звуки и действия. Наши души стали рисовать уже лучше. Видно, что грудь девушки перестала быть бесплодной. Волею букв, разметавшихся на рисунке, она набухла жалостью, материнской заботой, густым, чуть забродившим молоком. От такого молока дети растут быстрее своих сверстников, но всегда одиноки, несмотря на большое количество друзей. Они мечтательны, задумчивы до странностей, а с момента совершеннолетия им начинает казаться, что неподвижные и довольно тяжелые предметы могут упасть и разбиться от дуновения ветра. Резкие движения юношей или девушек и озабоченные их лица приводят в недоумение окружающих. Именно в такие моменты этим подросткам кажется, что их посетило откровение, и миллионы слов проносятся у них в головах, составляя немыслимые словосочетания. Слух обострён, и пальцы погружены в щёлочь, от чего они становятся до невозможности гладкими и круглыми, подушечки превращаются в голыши на берегу ночного моря, а всё тело противоборствует розе ветров, предавшись перекатыванию песка и бегству отлива одновременно. И в этих мытарствах рождаются строки, фаршированные рифмой и метафорами, слова «как» и «будто» присутствуют единожды или не всплывают вообще, да и после каждой запятой чувствуется во рту солёный привкус моря, пропитавший засученный рукав Есенина. Слова подбираются как бы ненароком не то что бы старые, а состарившиеся, что бы обессмертить своё произведение, лишить его возраста, наделить его глазами, которые могли бы «видеть мир от края до края». И когда в буквах появляется определённая геометрия, душа выходит из тела совершеннолетнего, воззвав к небесам, тогда появляется ангел и ударяет составившего дивные строки по губам, что бы он забыл написанное. Душа девушки изобразила рисунок вен, которые в задумчивости потеряли стыд и открылись чужому глазу. Еле заметные при жизни, они не имели времени даже оглянуться, не имели также возможности подремать. Сейчас же они, задыхаясь от бездеятельности, ужасно располнели, получив вместе с несколькими лишними миллиметрами возможность мыслить. Вены осознали свою пустотелость и грезили освобождением от жидкого гнёта. Если бы рисующая душа смогла описать их желания, она если и не ужасаясь, то пребывая в состоянии пренебрежительного страха, рисовала бы высохшее русло реки с кусками не успевшего высохнуть ила на дне. И морщась от громких стонов этих кусков, которые ползали по сухой, растрескавшейся глине, подобно слепым детям, с которых срезали всю кожу, душа девушки постаралась бы быстрее закончить рисунок, пока жидкий ил не принял единения с мёртвой рекой. А потом, после многочасовых попыток оживить перемещение кусков на бумаге, наверное, искромсала бы лезвием законченную картину, наводняя каждый разрез криком из бездонного чана отчаяния. Но когда вопли сменятся истерическими прерывистыми вздохами, когда из изрезанных пальцев, по привычке потянутых ко рту, не вытечет ни капли, осознает свою бессмертную никчёмность девичья душа в первый раз, и окаменеет от отвращения к себе на семь дней. Поэтому не нужно душам заглядывать вглубь трупа, а рисовать только их оболочку. Правда, наши души, как и мы, имеют право выбора. Одна душа оторвала лоскут кожи с предплечья своего трупа и окаменела от увиденных вмиг обмелевших озёр и морей, оглохла от тысяч стонов и слепла семь дней от этих страшных видов. При жизни я не любил зелёный цвет. Сейчас моё тело было индифферентно к нему, но душа мучалась при виде того, как я становлюсь похожим на зелёный мячик, который лежит в грязной луже посреди размокшей от дождя грунтовой дороги, и пыталась исправить рисованием осенний пейзаж. Она малевала зелёную дорогу с глубокими колеями, и меня посреди неё, с ужасно распухшим животом и маленькими ручками, отчего я становился похожим на тот самый мяч, только неопределённо-грязного цвета. Это не помогало. Тогда душа стала покрывать моё тело татуировками. Я даже не знаю, когда и где она научилась их делать и где она раздобыла специальную машинку, но вскоре тихое жужжание заполнило пространство комнаты, ранее знавшей только звуки рвущейся бумаги и карандашных скрипов. Никогда не думал, что у моей души есть страсть именно к мелкому шрифту. Она рисовала на моей левой руке чёрной краской окно маленьким буквами «Ъ», а внутри его лица всех людей, которые когда-либо смотрели, стоя рядом со мной, в окно. Это были родственники, друзья, проститутки с неизменно вытянутыми указательным и средним пальцами, сжимающими сигарету, а также совершенно случайные люди. Когда лица полностью заполоняли собой окно, душа затушевала всё окно жёлтой филигранной мягкостью непроизносимой буквы, погребая под осенней листвой татуированные чувства или их отсутствие и накрывая все лица единой простынкой прелого прощания с прошлым. Меня нарисовали лежащим на большом красивом ковре, с непонятным несимметричным узором линий расходящихся от кипящего центра. На следующем рисунке линий не было, а там где ковёр кипел, теперь был большой полупузырь. Если бы глобусы были стеклянными, то его половинка полностью соответствовала изображению на бумаге. Внутри пузыря спала маленькая девочка с взрослым лицом. Она лежала на большой кровати среди множества подушек, в длинной ночной рубашке. Вокруг неё стояло много людей. Они окружали спящую двумя кольцами. Моя душа нарисовала это и вскрикнула. Это была опера, которую я смотрел незадолго до моей смерти. Опера. Я всегда подходил к двери раньше первого звонка. Она всегда была заперта и открывала её строго по времени маленькая девочка с взрослым лицом. Моё неизменное место было на балконе, рядом с выходом. Я садился, слушал, как музыканты настраивают свои инструменты, и смотрел вниз, на людей занимающих свои места, точнее на их манеры и одежды. Женщины старались быть немного прекраснее, а мужчины галантнее обычного. Во всех их движениях была неторопливость и плавность, прерываемые короткими моментами тишины в оркестровой яме. Зато когда дисгармоничные звуки доносились снизу вновь, вечерние платья начинали светиться ещё большим количеством блёсток, а в узлах тёмных галстуков, казалось, можно увидеть отражение не третьего подбородка, а третьего ряда белоснежных зубов. Моё внимание привлёк молодой человек, уже третий раз проходивший мимо меня. Он был сутулый, в «тройке» с бабочкой, постоянно засовывал то правую, то левую руку во внутренний карман пиджака, вытаскивал оттуда бумажки, и, сощурив глаза, разглядывал их, после запихивая туда, откуда их достал. Через пять минут такой прогулки, молодой человек вышел из зала, а вернулся уже с девочкой, что открывала мне дверь. Она держала в руке его билет и показывала рукой на его место. - У вас категория «Bondage», это вот здесь, и ряд «Free», номер пять. – Она говорила чуть с хрипотцой, вкрадчиво и монотонно. Парень торопливо пробрался к своему стулу, откинул сидение, сел на кресло, снял ботинки и носки, неторопливо вынул из кармана брюк бельевую верёвку, связал вместе оба больших пальца на ногах и облёгчённо откинулся назад, устраиваясь удобнее. В секторе «S&M» пожилая женщина в кожаных брюках учила свою внучку таблице умножения. Та отвечала на вопросы громко, при правильных ответах тыча себе в левое предплечье длинной тонкой спицей. Два парня в «Gay video» о чём-то спорили, а в ложах «Special» мне удалось мельком рассмотреть пожилого мужчину, который манерно держал в руке бинокль. Прозвенел второй звонок, такой тихий, что у меня сложилось впечатление, что он не хотел тревожить сидящих в зале, ещё пребывающих за пределами оперного театра душой. Музыканты играли каждый своё, до третьего звонка они были кусочками прошлого, шагами в которые идущий за кем-то, пытается попасть своими ступнями, шаг в шаг. Звенящие сахарные нити бизе, цвета стен амфитеатра, душноватая потливость в слабости покоящаяся, когда просыпающееся вдохновение не боится взмаха палочки дирижёра, незаконченное успокоение после, и взрыв негодования в том момент, когда некто грубо вторгся, и, перевернув страницу, заглянул мне в глаза и улыбнулся. И тошнота сидящих похожа на мою рвоту, мои принудительные сеансы мастурбации в грязной душевой, моё раздражение, достигшее апогея, мой безрассудный императив, толкнувший меня в двери бегства. Мне так трудно бежать, тем более что я бегу вокруг огромной воронки с гладкими краями, образованной вырванными страницами "божественной комедии". Мало кто читает "чистилище". Это мягкотело и флегматично, слюноистекаемо на наволочках по утрам, сонливо, но не больше! Дремота без сна. Кажется, что я помню все изъяны и помарки на стене моего шкафа, рассеивающийся его взгляд, а потом бежать, прыгать и слоняться по комнате. Я не говорил, но тот нечеловеческий спазм, заставляющий неотрывно запоминать большие куски информации, сменился на противоположный, в кольцах которого, невозможно прочесть ни слова, все буквы лишены духовных огласовок, однолики и читаются как "шва". Музыканты начали играть очень громко, что бы заглушить приближение третьего агнца, но гаснущий свет неподвластен музыке, и она обрывается, падает в яму как воздушный змей, лишённый порыва ветра. Перед нами появляется девочка с взрослым лицом. Она некоторое время смотрит на нас, затем поворачивается к нам спиной, выпирающие наружу рёбра и лопатки фокусируют на себе весь свет. Теперь музыка гармонична и вместе с тем пуста, безупречно целостна, но сложена подобно январскому сугробу из множества снежинок. Нестерпимая игра на одной ноте, задумчивое плато звука и спасительный удар по звуковому сугробу ногой начинает рвать неподвижную спину девочки. И полустон, полушепот рвущихся газет витает в воздухе, заменяя все слова, театральные жесты и пение. Катящиеся капли слагаются в нисходящие к ногам узоры, которые являются декорациями, ненужными, как и последующее пение других актёров. Медовая тональность исчезает, остаётся ощущение сытости, появляется ощущение, что все, что будет дальше, уже лишнее, уже виденное, скучное. (хороводы с вытянутыми руками, открытые рты и распростёртые руки, игра света, пыль, личиночное пение, жесткокрылое и местами царапающее пол пение, грязные манжеты, искусственные всхлипы, горящие свечи) Время проходит незаметно, пока ты отмечаешь лишние детали. Неожиданно дали свет, всё в зале повскакивали со своих мест, бешено аплодируя. Я остался сидеть, молодой человек сзади меня запутался в своей верёвке и тоже остался на месте. Мне нравилось смотреть на уходящих, покидающих театр, удаляющихся от меня всё дальше и дальше. Их походка приобретала лёгкую шаткость, головы были не так высоко подняты, на лицах отражалась приятная усталость и облегчение. Я не видел, но знал, что далее по программе будет неторопливая прогулка в туалет с обязательным кашлем и многократным плеванием в писсуар во время мочеиспускания, брезгливое раскладывание туалетной бумаги, которая пропиталась в сумочке духами «Burberry», на стульчак, вытирание вымытых пальцев носовым платком, подъём по лестнице в буфет. Коньячный антракт. Я чуял запах рюмочных глотков, отдалённо напоминающий дыхание директора пельменной, перемешанный с закисшим тестом и утренними поцелуями поварих в темноте зимнего утра. Если бы я мог сделать так, что бы все вышли, оставив меня вдвоём с неподвижно стоящей на сцене девочкой с взрослым лицом! Мечтая об этом две минуты, я убедился, что это совершенно невозможно. Люди выходили и входили вновь, садились и вставали. Мои робкие шаги к сцене, секунда колебаний, шесть ступенек протяжённостью в пять километров. Она стояла всё так же неподвижно. Я подошёл вплотную и дотронулся до её руки, от чего по её телу пробежала дрожь. Тишина, связанная с моим подъёмом на сцену, и висевшая в воздухе некоторое время, теперь сменилась неодобрительным шумом. Взрослые черты её лица, вблизи, стали пародией на более старший возраст. Девочка стала медленно поворачиваться, я обнял ёё за талию, посмотрел на её бесцветные глаза и стал умолять не оглядываться, не смотреть в зал, говорил о родстве наших душ, о молчаливом контракте между ними, неподвижном снеге на не успевших опасть листьях и сером небе. Говорил так быстро и горячо, что не давал ей время ответить, в какой-то спутанности всё держал кисти рук у неё на талии. Потом, поддавшись крикам из зала, опустился ниже. Она была мокрая. Какое мерзкое слово! Мне хватало прочитать его в контексте по отношению к женщине, чтобы навсегда захлопнуть книгу. Сейчас оно заполняло меня, никакого другого определения не было. Мокрая, мокрая, мокрая. Я в отвращении отшатнулся от девочки, поднося растопыренные пальцы ближе к глазам. Она же, под аплодисменты повернулась к залу лицом. На моих руках были звуки её разорванной кожи, её поющие знаки моих сумеречных прогулок! Я уже плохо слышал нарастающих шум оваций, когда попытался убрать с их глаз её застывшее тело, но не мог. Последнее, о чём я помню, было желание заглушить мою боль искусанных мною же губ. И последний поцелуй в её губы, превращённые взглядами в соляные кристаллы, окрасил их в алый цвет, а меня пронзил горьким разочарованием потерянного рая. Сколько времени нужно родственникам умершего, чтобы осознать, что его рядом уже нет и никогда не будет? Им понадобится потратить одну шестидесятую своей смерти – остаток своего сна, тысячи приготовлений, репетиций самого крепкого сна. Девушкина душа начала рисовать вместо засохших глаз своего тела его страхи. Они свисали из растянутых глазниц гроздями подгнившего, тёмного винограда. Слева, налезая на уголок рта, лежали руки скрещенные на груди, руки расцепленные, под животом и свисающие с кровати, чужие руки протянутые из темноты навстречу еле ощутимому рукопожатию, заставлявшему душу возвращаться из мира симметрии вниз, в ночные крики тела. Справа можно видеть все открытые двери спален, тёмные коридоры, пушистые вешалки. Душа рисовала это семь дней. На восьмой день глазницы стали светиться изнутри белым светом. На девятый руки втянулись внутрь, а двери захлопнулись, и свет, оказавшийся личинками мух, поглотил в себе все страхи, затянул углубления белесым студнем, разъедая бумагу, вытек на пол, разбрызгивая буквы. Во всех прошедших днях девушки не осталось тревоги. Теперь она могла бы репетировать прощание с миром суеты, не ошибаясь, не тратя впустую ни секунды, лежать не в зловонной жиже, а нагнуться и рассматривать дождевых червей в прозрачной луже, растягивающихся, красных. И по совету прохожего бросить их в землю, дабы отсрочить их премьеру, дать им ещё немного времени для подготовки. Незадолго до смерти девушка читала Борхеса и Иэна Бенгса, разочарованно удивляясь бескрайним библиотекам, закольцованным мостам, по которым люди бежали как белки в колесе, ни на шаг не приближаясь к берегу. В это время её душа смотрела со стороны на торопливое переворачивание страниц, на рвение найти строчки, которые могли бы быть написаны в стенах этой комнаты до прочтения книг, и снисходительно улыбалась. Сейчас она вспомнила то самое время. На листке появился мост. Плохо асфальтированная дорога с множеством рытвин и ухабов. Мелко моросящий дождик склоняет к меланхоличным воспоминаниям, извлекая из природной серости эликсир общей слабости. На рисунке не видно ни конца, ни начала моста. Посреди дороги лежит молодая женщина, одетая в серое пальто, с белым платком на голове. Её руки распластаны по дороге. Голова повёрнута в сторону. Возможно, она захотела выразить свои чувства к природе в такой необычной форме, а может быть она мертва. Рядом, опираясь на перила, стоит молодой человек с сигаретой в правой руке и смотрит вниз. Если долго рассматривать его, то можно предположить, что рисунок делался со стоящего мужчины на балконе высотного дома. Об этом свидетельствует непринуждённость, беспечность позы молодого человека. Внизу, под мостом, видны открытые книги под небольшим слоем воды. С первого взгляда их можно ошибочно принять за белые валуны, но при более детальном рассмотрении видно, что это книги с чистыми страницами. Художник хотел специально подчеркнуть эту деталь. Виден переплёт, переворачивающиеся от течения страницы с местами помятыми уголками, но нигде нет даже намёка на буквы. Мы ясно видим пугающую белизну содержимого книг, разрушающую смысл их существования. Хочется добавить, что все рассуждения о мотивах художника и о содержании картины, являются сугубо нашими гипотезами и не могут отражать истину, известную только лишь создателю. То ли неисчерпаемые силы моего эфирного тела стали всё же иссякать, то ли усталость, и миазмы распада человеческого тела наваливалась на мою душу всей своей тяжестью, но рисунки обрели абстрактные формы, уже не ясно было рука это или нога высовывается из-под грязной груды. Линии продолжались намного дальше, выходя за пределы дозволенного. Несуществующие узоры на стенах комнаты стали блёклые, размывчатые, будто карандаш превратился в истощившийся картридж и давит из себя последние капли чернил. Обилие свободного пространства превращалось теперь в огромные, молчаливые междустрочные пространства, часто повторяющие себя через раз, так как нет ничего проще - копировать пустые места. Очень странно, но как раз эти бесчисленные пробелы вызывали волнующий интерес и то навязчивое желание производить подсчёты, измерять в миллиметрах эти пробелы, которое сродни с вздрагиванием во время прочтения к книгах Достоевского от слов «непременно, болезненные, бледная». Со временем некоторые буквы убирались с рисунка, с ними уходил и первоначальный смысл, но каркас оставался. Опадающие листья освобождают пространство для мыслей и взгляда. Каким же всевидящим и всезнающим должен найти себя человек, который смотрит на совершенно белый лист, с которого облетели все буквы? И не потеряется ли он в бескрайних недрах необратимости? Сейчас моя душа двигалась по спирали к центру всех пустот, а параллельные стены на её пути расходились в стороны после того, как слышали её мягкие шаги, заворачиваясь в себя, образуя теперь свои спирали. Еле видимые строчки рисунка таяли, приобретая контуры человеческих тел. Вместо усыхающей плоти коричневого цвета можно было увидеть многочисленные призмы грудных клеток и кубы таза с намётками тазобедренных суставов, которые были лишены пропорций. Страшно подумать, что было бы, если эти образования вдруг ожили и заново превратились в комбинацию букв, уже изменённую от первоначального рисунка, перетасованную до неузнаваемости, неся в себе спутанную последовательность всех имён Бога, сокрытых от взглядов в шкафу, где вместо вешалок туши повешены были. Двери шкафа от пальцев остыли, там уже без блеска содранной кожи, матовость прорастала на шелк изумительных платьев, вечерних и утренних. Обпачкав перед и кружева о парное телячье мясо, ткань натянута барабаном, кое-где повисая разрывом. Представляла себя невестой, трогала шлейф, запиханный грубо, под рёбра и вглубь, в куклы играла тряпичные. Потянула, и он разложился как карточный домик, так необычно, бронзовым тальком умершей моли осыпал носки твоих туфель. Двумя пальцами на плечо забросив, покружилась на месте, улыбнулась ты грустно, или счастливо, как подобает невесте, вырвала в ведро со снегом, принесённое мной, охлаждая тянучесть ириса в таянии. «Я отмою, отмою» к испорченному шлейфу ты обращалась. У ведра со снегом сидел я, как бы локти раскрылив. Ты всё обиралась, потом обняла свои руки худые, зябко поводя плечами, и смотрела на место где должна быть молния у платья, а есть лишь разрыв. Всё же это бесчеловечно – обрекать бессмертное существо на рисование, творение плоского, создающего лишь иллюзию объёма, изображения. Время иссушило мягкие ткани, остались только кости. Тогда уставшие наши души отложили бумагу в нерешительности. Рисовать ли слои пыли, что покрывают день за днём эти ненавистные мощи, если да, как долго? Эта передышка разбудила в душах раздражение, то в свою очередь растолкало желание мыслить далеко вперёд, а оно вскипятило на открытом огне отчаяние, пролив экзистенциальный кипяток на нити, соединяющие души с небесным зазеркальем. Карандаши были сломаны, рисунки изорваны, а наказанием за это было забвение. Нити выпадают из мягких ладоней первым снегом, радостным, долгожданным, но быстро надоедающим, о котором все скоро забывают. Бывает, что первый снег тает мгновенно, только коснувшись земли, но скоро спускается второй, третий, потерявший нумерацию, не имеющий особенного значения снег. Парки пустеют, колеса обозрения в них останавливается, и только маленькая машинка на аккумуляторе с малолетним водителем, закутанным в два шарфа и зимнюю шапку, кружит вокруг этого колеса, оставляя после себя следы. Они потом тоже исчезают, забываются.