Был город золотой
advertisement
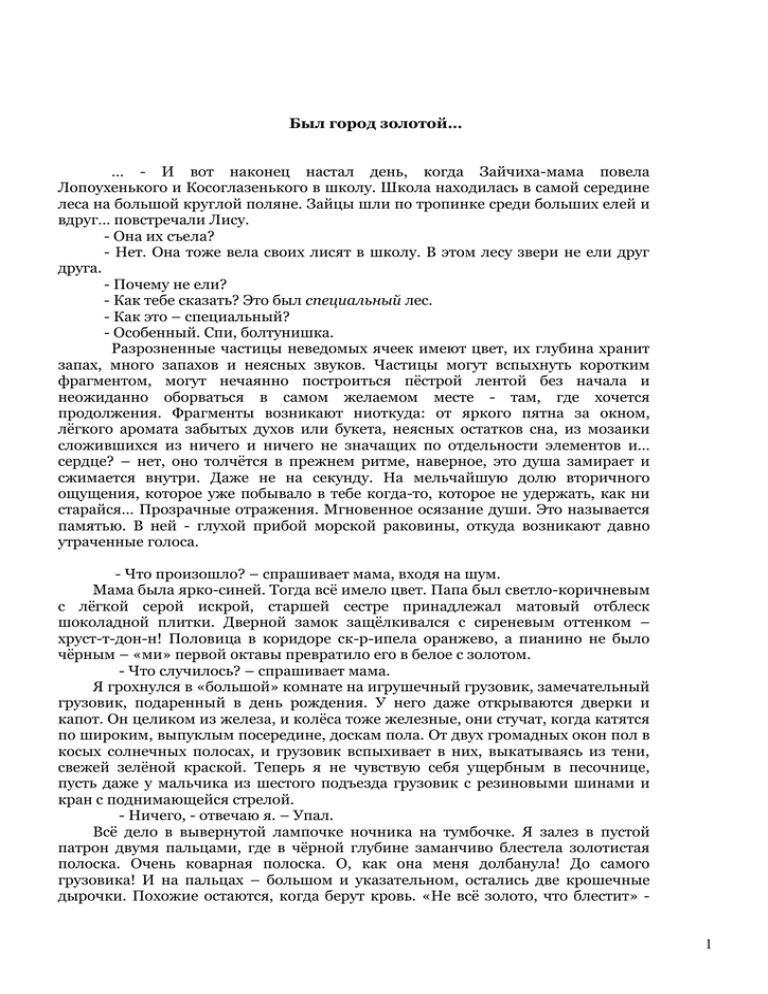
Был город золотой… … - И вот наконец настал день, когда Зайчиха-мама повела Лопоухенького и Косоглазенького в школу. Школа находилась в самой середине леса на большой круглой поляне. Зайцы шли по тропинке среди больших елей и вдруг… повстречали Лису. - Она их съела? - Нет. Она тоже вела своих лисят в школу. В этом лесу звери не ели друг друга. - Почему не ели? - Как тебе сказать? Это был специальный лес. - Как это – специальный? - Особенный. Спи, болтунишка. Разрозненные частицы неведомых ячеек имеют цвет, их глубина хранит запах, много запахов и неясных звуков. Частицы могут вспыхнуть коротким фрагментом, могут нечаянно построиться пёстрой лентой без начала и неожиданно оборваться в самом желаемом месте - там, где хочется продолжения. Фрагменты возникают ниоткуда: от яркого пятна за окном, лёгкого аромата забытых духов или букета, неясных остатков сна, из мозаики сложившихся из ничего и ничего не значащих по отдельности элементов и… сердце? – нет, оно толчётся в прежнем ритме, наверное, это душа замирает и сжимается внутри. Даже не на секунду. На мельчайшую долю вторичного ощущения, которое уже побывало в тебе когда-то, которое не удержать, как ни старайся… Прозрачные отражения. Мгновенное осязание души. Это называется памятью. В ней - глухой прибой морской раковины, откуда возникают давно утраченные голоса. - Что произошло? – спрашивает мама, входя на шум. Мама была ярко-синей. Тогда всё имело цвет. Папа был светло-коричневым с лёгкой серой искрой, старшей сестре принадлежал матовый отблеск шоколадной плитки. Дверной замок защёлкивался с сиреневым оттенком – хруст-т-дон-н! Половица в коридоре ск-р-ипела оранжево, а пианино не было чёрным – «ми» первой октавы превратило его в белое с золотом. - Что случилось? – спрашивает мама. Я грохнулся в «большой» комнате на игрушечный грузовик, замечательный грузовик, подаренный в день рождения. У него даже открываются дверки и капот. Он целиком из железа, и колёса тоже железные, они стучат, когда катятся по широким, выпуклым посередине, доскам пола. От двух громадных окон пол в косых солнечных полосах, и грузовик вспыхивает в них, выкатываясь из тени, свежей зелёной краской. Теперь я не чувствую себя ущербным в песочнице, пусть даже у мальчика из шестого подъезда грузовик с резиновыми шинами и кран с поднимающейся стрелой. - Ничего, - отвечаю я. – Упал. Всё дело в вывернутой лампочке ночника на тумбочке. Я залез в пустой патрон двумя пальцами, где в чёрной глубине заманчиво блестела золотистая полоска. Очень коварная полоска. О, как она меня долбанула! До самого грузовика! И на пальцах – большом и указательном, остались две крошечные дырочки. Похожие остаются, когда берут кровь. «Не всё золото, что блестит» 1 ясно, что пословица про злое электричество. Но даже в четыре года и даже маме нельзя признаться, что дурак. Родители хотят, чтобы у них росли умные дети. Откуда, отчего мелькнул кадр? От солнца на чужом дощатом полу с облезшей масляной краской на стыках шпунта. Случайного пола и случайного солнца, которое всё реже. Тогда… тогда солнце было всегда. - Не ври! – говорит мама. - Я не вру. Я только учился врать. Мне объясняли, что надо говорить правду, мыть руки, приходя домой, или перед едой. Не набивать рот, не разбрасывать игрушки, не чавкать, говорить – спасибо и пожалуйста. Извиняться, если неправ. - И ничего страшного, если прав, - сказала мама много позже – лет через десять. – Ты сильней! Извинись с позиции силы. Это вызывает уважение. Совет относился к ссоре с девочкой, я его выполнил, хотя казалось, в нём крылась ошибка. Для выяснения мне понадобилось ещё десять лет. Понять, что ошибки нет. К совету требовалась поправка, единственная сноска внизу страницы - человек, принимающий извинение, должен быть равным. В мировосприятии. В его голову должна быть вложена подобная истина. Иначе сила будет принята за неправоту. Или за слабость. Врал я залихватски. Понятно, кто был в детском саду самым сильным, кто бегал быстрее, кто лучше рисовал… Подробности! Враки обязаны быть подробными. Для достоверности. И расцвечивались детали победного финиша или похвалы за лучший рисунок. Враки - порождение книжек, они вылезли из сказок и занимательных историй, не похожих на правду. Я легко отправлялся в постель, не клянчил «ещё пять минуточек». В темноте я слушал сказки, этих сказок не было в книгах – их сочиняли родители. Папины - о парусах, штормах, чудесном синем камне на вершине горы и верных друзьях. Поздний анализ обнаружил стратегию: цель - тернистый путь - преодоление - победа. Мамины сказки несли повседневную практическую мораль устами говорящих зверей. Ну, говорящие звери – обычное дело, если живут в специальном лесу. Они хорошо учатся, из школы сразу! возвращаются домой, а не болтаются, где попало! По чужим дворам. И не лезут в грязную речку, переполненную стоками с металлургического комбината и прочей заразой. Воспитанные звери. Послушные. Поэтому они ходят по воскресеньям в кино и на представления с клоунами в цирк-шапито. Тактико-специальная подготовка будущего первоклассника. Читать меня не учили. Я знакомился с буквами по корешкам книг на стеллажах из морёной сосны в длинном коридоре и в прихожей, пока мама одевалась. Мне было жарко и противно в шапке и колючем шарфе, туго завязанном вокруг поднятого воротника. Я ждал маму, а за окном вязла темнота сибирского зимнего утра. Семь зелёных томов Анатоля Франса на третьей полке снизу. На уровне глаз. - Какая эта буква? – спрашивал я. - Мягкий знак. Он не читается. Мягкий знак – сложная буква для мальчика четырёх лет. Особенно в слове Копперфильд. И зачем ему одинаковые буквы подряд? - Кто это – Диккенс? Почему у Диккенс «кэ-кэ»? А у этого… Копперфилд «пэ-пэ»? Мама перестала застёгивать шубу. - Прочти. - АЧехов, - точки ещё не воспринимались. 2 - Теперь здесь. - Джек Лондон. МЮЛермонтов, - продолжил я, - Паустовский. Слово не дробилось на слоги, оно существовало целиком. - Он читает, - сказала мама. Папа выходил из ванной. - Что читает? - Всё. Родителям нравится, когда их дети умные. Подтверждение генетической принадлежности. Им не нравится, когда дети врут. Пришлось здорово изворачиваться, когда у меня обнаружили коробку с деньгами. Почти полную денег. Фиолетовая коробка из-под папирос «Любительские» заменяла кошелёк и время от времени менялась на новую. Возвращаясь домой, я ныкал её в подъезде за батареей площадки между этажами, куда не доставала тряпка уборщицы. Забыл! Забыл вытащить из кармана пальто, которое мама взялась чистить. Никелевой мелочи набралось больше трёх рублей. Она была посчитана на клетчатой клеёнке большого кухонного стола и разложена в ровные монетные столбики по ранжиру – десять копеек, пятнадцать, двадцать… - Откуда! у тебя! столько! денег?! Ученик четвёртого класса не мог обладать столь крупной бесконтрольной суммой. Воровство или подаяние? Ужас! Сумма была крупной без кавычек. На «десюнчик» можно сходить в кино. Или сделать пять выстрелов в тире из пневматической винтовки. Или съесть два пирожка с повидлом или с ливером. Можно прокатиться на карусели. Или выпить стакан томатного сока из стеклянного конуса в гастрономе на первом этаже. Ответ таился именно в гастрономе, где периодически что-нибудь «выбрасывали». Кто владеет информацией – тот владеет миром! Мы усвоили истину независимо от Черчилля. Весть о дефиците получали в собственном дворе, где разгружались продуктовые машины. Рис! В бакалею мигом строилась хвостатая очередь. - Один килограмм в руки! – кричала из-за пузатого стекла витрины прилавка мордатая тётка с шиньоном. Нас было трое-четверо, мы были под руками у очереди, и очередь брала нас за руку. Она временно усыновляла нас для получения лишнего килограмма и оплачивала услугу. Несколько подходов - и полтинник в кармане. Главное, не попасться на глаза соседям или знакомым. А грузчики уже тащили деревянные ящики, наполненные стружкой. - Яйца привезли! В режиме постоянной нехватки стабильный заработок гарантировался. Я перестал просить деньги, дома с ними было негусто. Обеспеченность – основа независимости. Но! Признаваться в происхождении капитала нельзя. Ни под каким видом! Наверное, поздние дети соображают лучше, получая больше мудрости во чреве – статус семьи не позволял заниматься сомнительным промыслом. Я не хотел огорчать маму и врал. Гладко. С подробностями. С красочным описанием места случайной находки десяти рублей, а это… Жалкие остатки, сдача. Мама поверила, и я убежал гулять. А ночью долго не мог заснуть - то ворочался, то слушал скрип трамвая на повороте перед мостом, то следил за ползущими пятнами поздних фар на задёрнутых гардинах. Мне не давало спать мамино лицо с доверчивым облегчением в жемчужно-серых глазах. Было стыдно. … Потом я врал ей в больнице. Гладил по высохшей руке и говорил, что она поправится, конечно, поправится. Обязательно выздоровеет. Так сказал доктор, 3 ему можно верить - это хороший доктор. Я врал, и стыдно не было. Врач говорил о двух месяцах, о двух месяцах максимум. И робкое увядание сентября уже глядело в её последнюю осень. - Какое короткое лето… - сказал я. - Какая короткая жизнь, - сказала мама. От злосчастной коробки с мелочью до безнадёжной палаты нас отделяло пятнадцать скорых лет. Неправдоподобно скорых. В больнице, когда я дежурил около неё, она торопилась пересказать себя, привязать к уходящей жизни мою память и душу. Действие укола таяло, боль возвращалась, и я пытался отвлечь её вопросом. - Почему вы не встретились в Берлине? Они не встретились с отцом в июле сорок пятого. Драматургия жизни скупа счастливыми эпизодами сюжета. Отцу дали виллис, автоматчика и четверо суток. Он знал, что мама будет в Берлине, что её командировали для вывоза оборудования немецких заводов. Он ехал из Праги по дороге в воронках от авиабомб, по которой шли бесконечные потоки людей, шарахаясь от танков, грузовиков и русского мата, он ехал два дня. Ещё день он мотался по комендатурам, он объехал все берлинские комендатуры и не нашёл жену. - Накануне, - сказала мама, - нас отправили в Магдебург. Она прикрыла глаза и сжала губы, её убивала боль. Я звал медсестру, после укола она приходила в себя и опять говорила. Она понимала, что я плохо её знал. У меня было слишком мало времени, чтобы её узнать, я недолго был рядом. Поздние дети не успевают стать взрослыми, чтобы понять родителей понастоящему. В детстве меня стеснял возраст родителей, родители моих друзей были на десяток лет моложе. Меня ещё не приняли в пионеры, а моя… Моя! мама! стала бабушкой! Конечно, она была молодой бабушкой. Но внуков любят иначе, чем детей, с ними не спешат. Внуков смакуют. И дочь всегда ближе к матери. По закону пола. - Налей вина. Немного, - попросила она. – Странно, что мне разрешают вино… Запреты при её болезни были бессмысленны. - И правильно разрешают, - сказал я. - Оно целебное. Крымское. Мы пили молдавское. Сухое. Совиньон, фетяска… потом, кажется, алиготэ, но неточно… Я вернулся домой в свинью. В лоскуты! В дрова! В день последнего школьного звонка мы вышли в настоящую взрослую жизнь - обожрались все. Истина - закусывать надо! - с нами не пересеклась в виду мизерного количества закуски. Начало было положено утром в час открытия винного отдела, и момент, когда я в синем гэдээровском костюмчике и белой рубашке рухнул на собственную тахту, пришёлся, на моё счастье, на разгар рабочего дня – возвращения никто не увидел. - Почему дверь открыта? – разбудил мамин голос. - Какая? – в голове плыло и кружилось, и я натурально не знал о какой двери идёт речь. - Входная. Удивляюсь, как тебя не вынесли с мебелью?! - Сколько времени? В семь у меня свидание. - Ты никуда не пойдёшь! – сказала мама. – В таком состоянии. - Я обещал. По крайней мере, одно положительное качество – никогда не опаздывать. - Прими душ, - сказала она. 4 А после душа напоила молоком и заставила съесть тарелку горячей манной каши. Она не возмущалась, не упрекнула, не рассказала отцу. Может, её успокоило, что сын упился не в одиночку? - Неужели все? А Игорь? Король выглядел наиболее крепким. - В ноль! – не без удовольствия отметил я. - Толя? - Францыч? В дребодан! Она знала всех моих друзей. - Медик? - И Медик, и Слон. Винни – Пух и все-все-все. В хлам. - Для интеллигентного мальчика у тебя излишек странных синонимов. Иди, не то опоздаешь. И не вздумай, целоваться! Со своим жутким перегаром. Но положила в мой карман несколько кофейных зёрен. … - Ты помнишь, как мы были в Ленинграде? – она искала общие воспоминания, ничто не соединяет крепче, чем прожитое вместе. Если бы не кровавая утопия большевиков, она бы родилась в Петрограде, в Царском селе. День её рождения пришёлся на первую годовщину новой власти. До тех мест, куда добралась семья, власть ещё не добралась. Там водили бесовский хоровод «белые», «зелёные», петлюровцы… В Ленинград семья вернулась уже без отца. - Тебе понравилось? – спрашивала мама, когда мы выходили из Эрмитажа. - Да, - мне хотелось сделать ей приятное. Это был её город. Город юности, института, друзей. Она улыбалась, вернувшись в эти улицы со своим сыном, пусть ненадолго, пусть проездом. Долго она вспоминала поездку и спрашивала: - Тебе понравился Ленинград? Правда, чудесный город? - Правда, - говорил я, хотя Ленинград мне не понравился. Мрачный и сырой. Чужой город. Тогда я был мал, чтобы сформулировать искусственность гиблого поселения среди чухонских болот, в хлябь которых ткнул император. Тогда я ещё не знал, что место для жизни люди выбирают без указки. По неизвестному наитию. И никогда не ошибаются. Да, дворцы, шпили, мосты… Прививка Европы, оспинный след на колоссальной туше страны. Фантасмагория «Медного всадника», мистика «Носа» и болезненная мерзость гения Фёдора Михайловича. Печать места. «…И над томиком излюбленных стихов чьи-то юные печалятся глаза…» У неё был свой томик, переписанный от руки - в толстой тетради жил Серебряный век ленинградской отличницы. Отдельно от беспосадочных перелётов, папанинцев и зловещих ночных машин у парадного. С отцом они любили стихи, в которых неизбывная грусть перемешивалась с экзальтированным надломом придуманных трагедий. Там пажи влюблялись в королев, королевы играли Шопена, умирал сероглазый король и бродил таинственный жираф… Инфантильные капитаны корветов в кружевных жабо и любовных соплях не убеждали. Убеждал Дюма. «Мы будем иметь честь атаковать вас, - произнёс Арамис, одной рукой приподнимая шляпу, другой обнажая шпагу». Безукоризненная фраза! В ней нечего отнять, к ней нечего прибавить. Мужество силы. Изящество храбрости. Они не спорили, а подарили настоящую рапиру. Позже - «Левой! Левой! Левой!» - молотком по рельсу. Они не спорили. Они давали овощу созреть. Овощ допёр - в зеркальных осколках декаданса таилось их 5 убежище от молотка, который лупил не по рельсу. По башке. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Они просто работали. Мама привозила серо-белые камешки с блестящими прожилками из командировок на таинственные рудники. Она проектировала эти рудники. Мне нравилось приходить к ней в большое здание с громадными светлыми комнатами в рядах чертёжных досок. Я получал карандаши, бумагу и рисовал. В ту пору я был баталистом. Квадратики танков со звёздами на бортах выпускали пунктиры снарядов, которые взрывались красно-жёлтыми вспышками на квадратиках с крестами. Или рота мушкетёров лезла на стены Ла Рошели. К маме подходили люди, показывали большие листы в непонятных и неинтересных линиях, спрашивали, она отвечала или поправляла и писала на больших листах. Левой рукой. Как можно писать левой? - В Японии, - говорила она, - некоторые предметы производят специально для левшей. Невероятно! В Японии не ведали про лозунг «Всё для блага человека!» Её слушали, нет - слушались. «Всех важней, - сказала Ната, - мамавагоновожатый». Ната - дура! Главнее моей мамы был только дядька в чёрных нарукавниках за стеклянной перегородкой. … - Если поедешь в Москву, привези мне булочек с маком, - попросила она. - Очень хочется булочек с маком. Таких… облитых шоколадом. - Конечно, привезу, - сказал я. - До Москвы теперь близко, - вздохнула мама. - Всего три часа. Три часа вместо трёх суток. Мимо окна летел паровозный дым в блеклых светлячках искр. На искры интересно смотреть в темноте, в темноте они чудятся ярко-красным шлейфом загадочного фейерверка. Мы ехали с мамой в Москву, я валялся на верхней полке и, когда надоедало читать, смотрел на нескончаемые пространства. Поезд покачивало, и дверь купе ездила в такт кивкам вагона и зеркально отражала закатный горизонт. На столике позвякивали неубранные проводницей пустые стаканы в мельхиоровых подстаканниках. Попутчики тоже смотрели в окно и говорили, что идти войной в эти пространства может только сумасшедший. Наши просторы пережуют и проглотят любые армии. Тогда много говорили о войне, она отступала нехотя, а впереди маячил призрак атомной бомбы. Население готовили. Гражданская оборона, убежища и противогазы. На крышах домов раздирающее стенание сирен. Страх. А вдруг? - Учебная тревога! – объявлял репродуктор, его надлежало держать включённым. Только б не было войны… - заклинание шестидесятых. Хрен с ним, с мясом, и с колбасой тоже хрен! Хлеб есть – с голода не помрём. Лишь бы не война. - При ядерном взрыве спасение одно, - весёлый дядька произнёс заезженную фразу. - Накрыться простынёй и ползти на кладбище! Дядька являлся начальником милиции города, шапочным знакомым родителей, и ехал в кавказский санаторий лечить язву, которую приобрёл на нервной работе. На вокзале милиционера провожала хохочущая и изрядно выпившая толпа родственников. Тогда длительные отъезды требовали длительных проводов за столом. Начальника привели в купе, обняли, похлопали по спине, принесли и аккуратно поставили чемодан. Жена пополам с поцелуями наказывала присматривать за вещами. Через часок, несколько протрезвев, начальник полез в чемодан, чтобы приобщить свои припасы к трапезе. - Ну-с, - потёр он руки, - посмотрим, что мне навертели. Моя как наложит - в три дня не поесть. 6 И он открыл чемодан, коричневый фибровый чемодан, тысячи которых находились в пользовании граждан страны. - Оху… - осёкся он, взглянув на маму. Вот! Этим глаголом должен венчаться «Ревизор»! В устах Городничего. Маху дал Николай Васильевич с немой сценой. В тринадцать лет мысль показалась мне забавной. Милиционер тупо разглядывал внутренности чемодана, а потом начал хохотать. Он хохотал громко, закатываясь до слёз, и всё показывал пальцем внутрь. Смеялся он настолько заразительно, что к нему присоединился четвёртый обитатель купе – столичный инженер-металлург, и мы. Содержимое вызвало гомерический прилив. Оно состояло из трёх предметов, два из которых были абсолютно одинаковыми - бутылками «Московской особой». Тщательно закутанными в голубого цвета поношенные кальсоны. И всё? Нет. Наш Городничий вынул сложенную пополам бумагу. Бумажка его добила. Я никогда не слышал, чтобы люди так смеялись. Даже на фильме «Приключения Питкина в больнице». Начальник тыкал в надпись на бумаге и валился навзничь от смеха. - Справка об освобождении! – хрюкал он. – Мне! Успокоившись, он пошёл к начальнику поезда связываться со станцией. Кальсоны со справкой отправились в обратный путь на встречном, водку милиционер распил с инженером. … - Чемодан перепутали на перроне, - сказала мама. – Он догнал его в Куйбышеве. Она даже не улыбнулась, мне не удалось её развеселить. Того запаха больше нет. Есть квартира в довоенном московском доме, но запах в ней изменился. Он не стал лучше или хуже, он стал другим. От того по спине бегали уютные мурашки, они собирались уже перед тяжёлой дверью лифта, который полз за металлической сеткой внутри трёх маршей лестницы. От газовой колонки с открытым пламенем в ванной, от её голубоватого огня становилось ещё уютней. Комнаты назывались: столовая, спальня, кабинет… Ещё там стоял «взрослый» велосипед около батареи в коридорчике «чёрного» балкона, потому что был и другой балкон, выходящий на улицу. В квартире жили люди, которые были нам рады. По-настоящему. Рады сердечно. Хотя приездом мы заметно уплотняли пространство. Центр мира был здесь, и столица не играла роли - в любом месте мира он остался бы таковым. Мы приезжали сюда за тысячи километров за запахом родного дома. Он остался в ячейке, запал в одну из начальных ячеек недельного орущего существа. Не будь этого места, не будь здесь старшей сестры - мама осталась бы в Ленинграде. С маленькой дочкой и старенькой мамой. Милостью Высшего Драматурга они приехали в Москву. Во вторую декаду июня сорок первого. … Я искал булочки с маком. В «Новоарбатском», у Филиппова, в Фуркасовском переулке, в гастрономе гостиницы «Москва»… Я отметил командировку и искал булочки, я не мог вернуться без них. Серый день в холодном дожде, в метро пахнет мокрой псиной... Я искал булочки с маком, мне стало казаться, что это – панацея, единственное лекарство, знак чуда. Я объехал и обошёл все известные места. Их не было. Нигде! Пекари сожрали мак и слизывали шоколадный облив друг с друга. И надо торопиться на электричку, и просьба оказалась невыполнимой… Они нашлись. В лотке на Комсомольской площади, в двух шагах от платформы, и я успел к маме поздним вечером. - С маком? – устало спросила она, её глаза были пепельными. – Мне никогда не нравился мак. 7 И маленькая придуманная надежда отлетела. Шприц, вата, запах спирта… И мелькнувшее уколом нерва размытое пятно. - Что это было? – спрашиваю я её. – Белёный барак, деревянные ворота – они раскачивались от ветра… Громадная серая собака на цепи. Там была конура? И ещё была её рука, мягкая рука, которая держала мою, и мама говорила… не бойся, говорила она о людях в белых халатах, это – зайцы, большие белые зайцы. - Боже! Ты помнишь?! Я вела тебя в больницу, в старую больницу. Её вскоре снесли. Тебе делали операцию на руке. - Сколько мне было? - Год и одиннадцать месяцев. Неужели ты помнишь? И эту палату помню. В неё входят два врача, по-мужски держа руки в карманах халатов, два наигранно бодрых врача… и я наклоняюсь к ней и говорю… шепчу на ухо. - Не бойся. Ничего не бойся! Это - большие белые зайцы. И она плачет… Сентябрь 2011. 8