старый новый год
advertisement
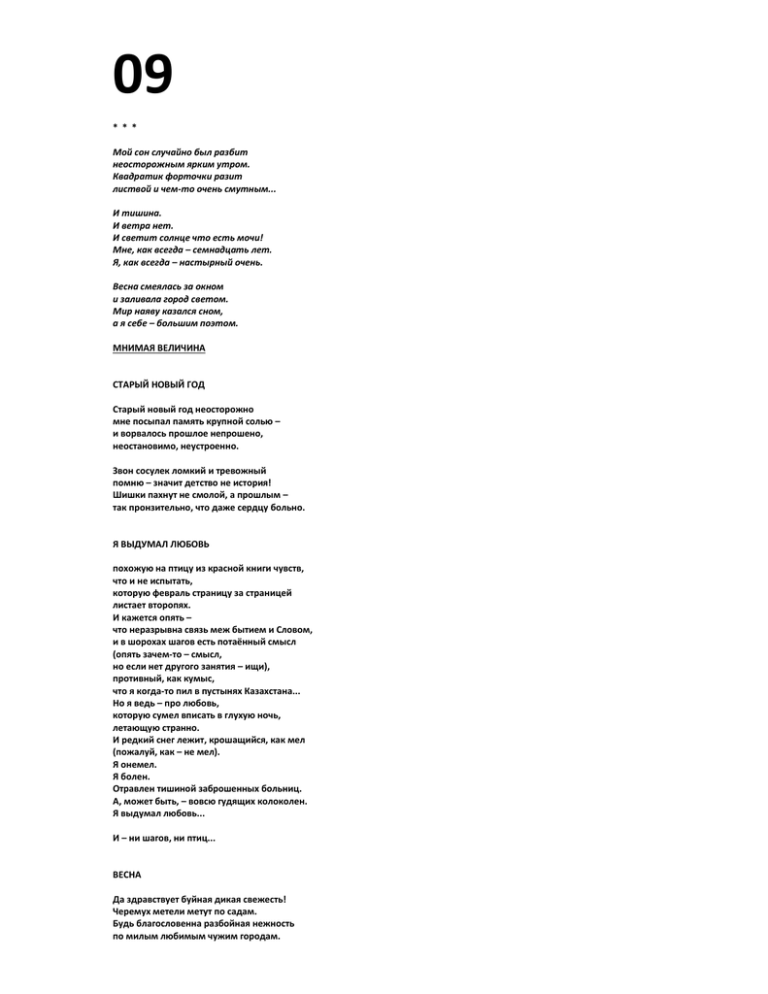
09 * * * Мой сон случайно был разбит неосторожным ярким утром. Квадратик форточки разит листвой и чем-то очень смутным... И тишина. И ветра нет. И светит солнце что есть мочи! Мне, как всегда – семнадцать лет. Я, как всегда – настырный очень. Весна смеялась за окном и заливала город светом. Мир наяву казался сном, а я себе – большим поэтом. МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД Старый новый год неосторожно мне посыпал память крупной солью – и ворвалось прошлое непрошено, неостановимо, неустроенно. Звон сосулек ломкий и тревожный помню – значит детство не история! Шишки пахнут не смолой, а прошлым – так пронзительно, что даже сердцу больно. Я ВЫДУМАЛ ЛЮБОВЬ похожую на птицу из красной книги чувств, что и не испытать, которую февраль страницу за страницей листает второпях. И кажется опять – что неразрывна связь меж бытием и Словом, и в шорохах шагов есть потаённый смысл (опять зачем-то – смысл, но если нет другого занятия – ищи), противный, как кумыс, что я когда-то пил в пустынях Казахстана... Но я ведь – про любовь, которую сумел вписать в глухую ночь, летающую странно. И редкий снег лежит, крошащийся, как мел (пожалуй, как – не мел). Я онемел. Я болен. Отравлен тишиной заброшенных больниц. А, может быть, – вовсю гудящих колоколен. Я выдумал любовь... И – ни шагов, ни птиц... ВЕСНА Да здравствует буйная дикая свежесть! Черемух метели метут по садам. Будь благословенна разбойная нежность по милым любимым чужим городам. Скитальцу пристала тоска по иному, российских просторов вольготная грусть. Мир дому родному, далекому дому, который прощает разгневанность чувств. А воздух напоен томленьем по свету, по яркому лету, по снам наяву. Поэты счастливо слагают сонеты и мнут безвозвратно траву-мураву. Весна не нуждается в обожествленьи природные силы любви не таят. Но сердце, рыдая, вкушает весенний медвяной черемухи приторный яд. ИЮЛЬСКИЕ ЛИВНИ Июльские ливни. К подошве прилип подорожник. Сквозь струи воды, что отвесно летят на асфальт, прохожие плавно бегут, словно память о прошлом, которого мне почему-то ни капли не жаль, не жаль, что уходят минуты и неразличимы становятся чувства, испытанные лишь вчера – мне бабочку жаль, что еще существует личинкой, застывшей на тысячи лет в одномерных мирах. ТРОЙКА … А сердце властно манят дали. Устроен странно человек – чтоб колокольчики рыдали и убыстряли тройки бег. Наверно оттого и грустно, и больно, и печально мне, что остывает в людях чувство тревоги о лихом коне. Эх, вспомним тройку! Рысью, чалый! Наддай, гармоника, наддай! Гони коней, ямщик удалый! Плачь, колокольчик, про Валдай! * * * Изумленные лилии глаз, сколько в вас затаенной печали... Беззащитная женская власть, точно крылья, стоит за плечами. Ты меня полюби и забудь. Я тебя полюблю и забуду. Мы прошли опрометчивый путь и расстанемся через минуту. А потом... Что случится потом? А потом ничего не случится: будет день, опостылевший дом и в руке неживая синица. * * * Дорогая, мне очень плохо… В сердце золотом сентября осыпается с каждым вздохом опадает юность моя. У часовни ракита вянет. А стрекоз – хоть рукой лови. Над зелёными тополями обезумели соловьи. Расплескался июнь в ладошке… В сердце золотом сентября опадает под визг гармошки бестолковая юность моя. ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА Законы красоты едины во Вселенной. Прижмись ко мне щекой, Полярная звезда. Забудь хоть на часок бездонные арены – у телефона я обрезал провода. Мы падаем вдвоем в растерянную вечность. И долгий, затяжной, немыслимый прыжок наверняка тебя от холода излечит, когда, шутя, сотрет все чувства в порошок. * * * Я всё равно тебе не верю, хоть взгляд и ласков и устал – таят движенья хватку зверя, а губы – чувственный оскал. Раскрыла тёмные озёра заманивая утонуть. Но взгляд поэта и позёра тебе не в силах обмануть. Играешь плохо в непричастность к великой тайне бытия. О, пылкая твоя бесстрастность! О, страсть холодная моя! На всё готов, но не поверю. И ты не верь мне, травести. О, грация движений зверя! Прости, любимая… Прости… НАДЛОМ Какое время года - неизвестно. Летят сердца по улице Арбат. И в каждой клетке - маленькая бездна, вращающаяся, как акробат. Мы жили рядом на одной планете и не подозревали друг о друге... Пронизывает грудь осенний ветер, который дует из страны Разлуки. * * * О.К. Звезда на излёте. Уходим в сиреневый омут июня. А сердце знобит к непогоде – и с неба срываются луны! И грёзы Тверского бульвара, и пальцев смущённая нежность, и это предчувствие дара, и эта печальная свежесть – запретный плод воображенья. Но всё-таки в зеркале ночи мерцает твоё отраженье и сердцекрушенье пророчит. ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ Опущен занавес фонтана. Как линза черного стекла, блестит вода. И сердцу странно, что встреча наша истекла. Мы опустились на колени у кромки замершей воды и слушали немое пенье туманной, как судьба, звезды. Твое скользящее дыханье легло на тени облаков и отступило расставанье. И стало грустно и легко. * * * Любимая, как это трудно зарифмовать любовь, и ветер, и сны, и ситцевое утро... Я первый раз живу на свете! И в первый раз - твой чистый голос, и снег, и голубая песня, что убаюкивает город и голубей на Красной Пресне. Реальности разъяты звенья, все в мире призрачно и зыбко. Щемящие прикосновенья и виноватая улыбка... ПОЦЕЛУЙ Я пью печаль улыбки грустной и ощущаю на губах и зарождающийся страх, и привкус чувства безыскусный. Тебя нельзя не полюбить такою – искренней, ранимой. Я пью печаль неотвратимо, непоправимо, может быть. * * * От себя никуда не уйдёшь, не потупишь смущённо взгляд – ты любимая моя ложь бесконечности бытия Никогда ни о чём не спрошу тёмных глаз колдовскую вязь. Я – твой верный поэт. И шут. Я тебя не могу не украсть! * * * Давай поговорим... Так просто, ни о чем что воздух в январе звенит великолепно, что снег весь день летит, вращаясь, прямо в лето... И я твое плечо почувствую плечом. И понесутся вниз – стеклянный шелест клена, и невесомый снег, и тоненькая ель, и пара голубей, глядящих изумленно, и долгий синий взгляд, тревожный, как метель. МОСКВА-ЛЕНИНГРАД Не отвести от окон взгляда, я в них гляжу, как в образа – и влажный холод Ленинграда вливается в мои глаза. Я чувствую: ты стала ближе, но снова развели мосты – и рушатся в Москве на крыши шуршащих январей пласты. Боюсь рождественских иголок, очищенных от мишуры. А вечер так далек и долог – как запредельные миры. ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ... Исчезаешь прозрачно и неразличимо, словно белые сны ленинградских ночей... Моё сердце, как старый будильник, починит часовщик, что смелей осторожных врачей. Мне ни больно, ни радостно и ни печально – мудрый мастер избавил меня от забот. Я тебя никогда больше не повстречаю, мое время уходит и скоро уйдёт. Он исправил мои золотые ошибки, и нечаянный смех, и случайную грусть... Но пружина любви расправляется гибко – мне печально опять, дорогая, клянусь! Снова пальцы распяты на тысяче клавиш, слёзы звёзд преломляются в тысяче призм! Я люблю, а любовь – исключенье из правил, по которым живёт часовой механизм. * * * А утром ты дразнила попугая... Он верещал, глазищами пугая, но ничего ни капельки не понял. Он думал: ты такая, как вчера а ты держала зябко на ладонях густые голубые вечера, которые нас ожидают завтра, и выронила хрупкий шар внезапно, а он – холодный, тайный, непрозрачный – остался цел. А позже мы на даче... А может раньше?.. Ты не говорила, и шар огромный за спиной держала, и пальцы неожиданно разжала, и он разбился... Где же это было? И было ли? Я должен это вспомнить: ладони, шар и лепет попугая, и ты, любимая – желанная, другая и непослушная, как маленькая пони... Я собирал растерянные мысли, как апельсины, падали минуты и уходили прочь часы и числа. И возникали вновь. И было утро. А утром ты дразнила попугая... Я ВИНОВАТ Я виноват, что снег сошёл и кончилась зима, что неба парашютный шёлк ложится на дома. Ещё я виноват, что дождь, как слёзы на щеке, что ты меня так долго ждёшь, что холодно руке. Любимая, я виноват – не переубеждай – в том, что тревожный Ленинград похож на терпкий май. Я виноват – и ты права – что не горю в огне. А в том, что город есть Москва – я виноват вдвойне. Я виноват, что ты одна и я совсем один. Моя огромная вина, что рядом не сидим. Не возражай, не прекословь, не торопись, молю – я виноват, что есть любовь и я тебя люблю. * * * Все будет хорошо, любимая, поверь – ведь дождь с утра прошел и распахнулась дверь в звенящие леса и гулкие поля, и стрелки на часах сегодня не болят, и выпита печаль ракитами до дна, и осени печать на листьях не видна, и ветви – в перехлест, и жизнь – наперекор... А запах спелых звезд волнует до сих пор. * * * Под мерный листопад, под нервное шуршанье щемящего дождя привычно загрустим – и вторгнутся в глаза, словно воспоминанья, осевший свод небес и пустота над ним. Так холодно блестят слова погасших окон в тревожной полумгле, громоздкой и сырой – что кажется – сентябрь закручивает в кокон и осень, и печаль, и ночь, и нас с тобой. И больно понимать под лепет листопада, что моросящий дождь – как память – навсегда останется бродить по скверам Ленинграда, где медленно шипит кленовая звезда. * * * И снова – обморочный май, на откровение похожий – хоть пригоршнями собирай рассвет, сиреневый до дрожи. И будто по моей вине на рубеже тысячелетий застыли в горькой тишине раскидистого ветра плети, и позабытой "давно", и неизбежное "когда-то"... Любимая, не пей вино перебродившего заката. * * * Моя осенняя звезда, нет, не тебе печальной быть. Любовь – солёная вода, которую не пригубить. Асфальт следов не сохранит, рука забудет о руке. Любовь – не мрамор, не гранит – тень влаги на сухом песке. Асимметричная беда естественна, как апельсин. Вода прозрачна, как вода. А дождь солёный моросил... * * * Вот и кончился август. Скоро будут дожди, суетясь, размывать наши души и лица. А пока – тишина, и отчаянный штиль, и сознание, что август не повторится. Подожди... Я о чем? Скоро будет сентябрь пожелтевшие мысли разбрасывать с кленов. И в соленой пыли растворится корабль с экипажем романтиков в лето влюбленных. Вечереет. Уже зажигают огни. Просыпается в небе всевидящий Аргус. Дорогая моя, никого не вини, что вчера неожиданно кончился август. * * * Тревожно падал снег. Слепящие слова шуршали по лицу, холодному, как время, и с нами заодно испуганный трамвай пытался убежать в иное измеренье. Такое в декабре бывает иногда – когда не видно звёзд – пустое настроенье, что кажется: вот-вот обрушится беда и вечность обратит в короткое мгновенье. Как беспросветна ночь, где мы с тобой вдвоём пытаемся понять друг друга и не можем... Трамвайное кольцо губами разорвём и время ощутим кровоточащей кожей. ГАРМОНИЯ снега, еловых иголок и звёздного неба, упавшего навзничь, настойчиво требует русских глаголов – гудящих, раскатистых, медленных, главных... Почти невозможное предощущенье летящей судьбы по цветным серпантинам грядущих раскаяний, полупрощений, слегка перекрученных, как пуповина, связующая непростительный август с пустым декабрём, наступившим до срока... Гармония снега, иголок и главных таких недоступных завешенных окон. Литература – аппарат влеченья к мнимым величинам, которые неразличимы и ни о чём не говорят непосвящённым. Никогда в переплетеньях лабиринтов отчаянья неповторимы прикосновенья - как вода, разбитая у наших ног на сотни ледяных кристаллов. Луна скользила по лекалу, я удержать её не мог. Бесплотность замысла храня в неизъясняемых глубинах - я лиц не забываю мнимых, забывших некогда меня. Литература – Аппарат познания первопричины разлук. А в мнимых величинах никто, увы, не виноват. МОЯ ЛЮБОВЬ и ненависть твоя – по модулю, похоже, идентичны. Безмолвные пустые тополя становятся всё ближе и привычней... Так чернозём сменяется на лёсс, вопрос – преобразуется в ответы. Бессмысленна риторика берёз в контексте ускользающего лета. Но тождество скалярных величин – прерогатива алгебры, лишённой существованья следствий без причин. Пусть самосвал, беспечностью гружённый, уходит в вечность, тяжело пыхтя на кем-то предначертанных подъёмах, – коль скоро нас, как дроби, сократят по правилам вполне определённым. Наполненные светом тополя материализуемы, но тленны. Моя любовь и ненависть твоя бессмысленны в подопытной вселенной. ТОНКИЙ СРЕЗ БЫТИЯ * * * Да здравствуют заслуженные травмы! Бессмысленно обманывать себя – я отступил нечаянно от правды, на мелочи великое дробя. И – захлестнуло горло суесловье. Я в суматохе потерял лицо. В стихах не обойдешься малой кровью, но мало крови, чтобы стать творцом. И я, стараясь говорить негромко, глаза раскрыл для радостей и бед. Вновь режет душу будущего кромка! Мне больно. Значит жив во мне поэт. ПОЭТЫ НАЧАЛА ВЕКА Стараясь жить как можно чище, друг друга чаще предаем. Свои безумные жилища с безумной страстью познаем. Таков наш путь в дали беззвездной. Таков наш труд. Мы таковы – что любим царствовать над бездной, не преклоняя головы. Пусть мы бедны, но непродажны! Пусть мы тщеславны, но честны! И неужели вам не страшно читать рифмованные сны? Уж эти книги... Все в них ложно! А правда чересчур горька. Так мы живем. Неосторожно вас отравляя на века. ТРОЙКА … А сердце властно манят дали. Устроен странно человек – чтоб колокольчики рыдали и убыстряли тройки бег. Наверно оттого и грустно, и больно, и печально мне, что остывает в людях чувство тревоги о лихом коне. Эх, вспомним тройку! Рысью, чалый! Наддай, гармоника, наддай! Гони коней, ямщик удалый! Плачь, колокольчик, про Валдай! * * * Шелест листьев, пожелтевших душ... Замерла прозрачная природа. Хрупкие глаза замерзших луж. Это – осень. Время грусти года. Скоро ломкий журавлиный клин вскроет неба голубые вены и из галактических глубин хлынет снег светло и сокровенно. НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ Год сорок первый – медленный и грустный. Недобро ветер обдувал лицо. Рванув рубаху на груди по-русски, я тоже шел в атаку. Ни венцов терновых, ни медалей запоздалых мне не увидеть и не прочитать фамилию, попавшую в анналы, и весточки родным не передать. * * * Я каждый день плачу по счету. Благодарю друзей, Врачующих от поцелуев и пощечин, что получал и получу еще. Лечу по жизни, как комета с головоломной траекторией, не зная, что в пространстве где-то судьба моя уже повторена. Но сердце тянет безотчетно свернуть с фарватеров наезженных и совершать свои просчеты доверив паруса надежде. * * * Облака - как застывшая жизнь в мезозое – скоро вымрут, оставив рассеянный свет. Птица в небе подвешена вниз головою – твой пернатый, как сон, исчезающий след. У деревьев согрелись озябшие руки – значит снова весна, значит снова спешить, значит снова ловить запоздалые звуки, чтоб сонату любви запоздало сложить. Не хочу собирать одинокие ноты на границе, где лунный кончается свет, если в сердце поет ожиданье полета, если небо хранит исчезающий след. * * * Листаю листопад. Простуженные рифмы. С деревьев опадают чужие имена. Поэма сентября. Но только полюбив, мы улавливаем смысл в осенних письменах. ХУДОЖНИК Ты пишешь предчувствие лета и бег незнакомых созвездий... Природа тиха и раздета, и режутся лиcтья, как лезвия. Ты пишешь нагую природу, сквозную печаль на рассвете и воспоминанье полета... Как долог пронзительный ветер! Ты пишешь касания ветра и взгляд, как трамвай запоздалый... Расплывчато-зыбки предметы, но этого кажется мало смешаем, что было и будет, в одно неделимое чувство! Нас майские дни не осудят. И, как бы нам ни было грустно – забудем об этой картине. О кисти, что молча кричала – забудем. О таинстве линий – забудем. Начнем все сначала. * * * Примерь, душа, прощальную Москву, не будь такой торжественной и хмурой. Замедленно сквозь снег едва плывут размытые вечерние фигуры. Как хорошо в прохладном забытьи пронзительную чувствовать истому. А за окном, вращаясь, ночь летит печально, ненавязчиво, бездомно. Легко любить в объятьях февраля, когда глаза не отражают света... А по утрам так сны мои болят, как вымершие от тоски планеты; в том, видно, есть какой-то скрытый смысл, и я не зря родился, рос и вырос. С календаря сорвался чистый лист, истлевший, как египетский папирус. * * * Не обольщай себя молитвой, не обессудь: жизнь обернётся острой бритвой – подставлю грудь. Пусть беззащитный и усталый – ни бог, ни тать – но никому меня, пожалуй, не прочитать. Судьба, как нить перевитая и тёмен путь. Не обольщай себя, родная. Не обессудь. ДИВЕРТИСМЕНТ Ночь качается перед глазами. Неумелые гаммы бессонниц. Золотое искусство касаний и любовь глухо в жилах застонет. Сколько стоит молекула счастья? В темноте растворяются лица. Это чувство растерянной власти никогда больше не повторится. Мы проснемся. Мы станем, как листья. Нас приветит иная эпоха, заключенная в тоненькой призме твоего раскаленного вздоха. ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ... Исчезаешь прозрачно и неразличимо, словно белые сны ленинградских ночей... Моё сердце, как старый будильник, починит часовщик, что смелей осторожных врачей. Мне ни больно, ни радостно и ни печально – мудрый мастер избавил меня от забот. Я тебя никогда больше не повстречаю, мое время уходит и скоро уйдёт. Он исправил мои золотые ошибки, и нечаянный смех, и случайную грусть... Но пружина любви расправляется гибко – мне печально опять, дорогая, клянусь! Снова пальцы распяты на тысяче клавиш, слёзы звёзд преломляются в тысяче призм! Я люблю, а любовь – исключенье из правил, по которым живёт часовой механизм. * * * О.Т. Поздравляю с зимой и с морозом, свисающим с ветки декабря! Пусть совсем поседел на стене календарь – поздравляю с зимой, и с отвесным неистовым ветром, и с печалью, что светится, словно балтийский янтарь. Ах, метель! Ты, как наша судьба – осыпаешься сухо с задрожавших ночей, что случайно коснулась рука. Сердце бьется в снегу и вздыхает протяжно и глухо, словно конь, потерявший на полном скаку седока. Успокоимся. Нам не впервой кочевать по просторам По-январски скрипящего неба, надеясь успеть до рассвета вернуться в засыпанный временем город, где звенит и печалится осени ломкая медь. * * * Лишь кони сквозь ветер! Как воздуха много. Опасно лететь сквозь печаль и пургу – есть риск захлебнуться январской дорогой под частые всхрапы коней на скаку и наши российские гулкие дали, что даже глазам не измерить вовек, где звезды начищены, словно медали, об острый, тревожный, немыслимый снег. Легко затеряться в степной круговерти. Лишь кони сквозь ветер... Лишь зимы в лицо... Лишь долгий полет... И хоть я не бессмертен – не страшно разбиться в конце-то концов! 1987 * * * Мы тоже, наверно, уйдем. Так издавна было. И снова – вернемся травой, и дождем, и следом, и светом, и словом. Мы станем иными с тобой, а снег будет также искриться. Вращается шар голубой, как в небе подстреленном птица. * * * Щемящая радость весеннего бытия парит над Москвой, как игрушечные облака на моих детских рисунках, которые я не нарисовал. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ Вертикальные реки, параллельные сны... И как-будто навеки души разнесены по овальным бульварам и нельзя закричать – нас перпендикуляром перережет печаль. Как мир геометричен и на плоскость похож, где в квадрате приличий заключается ложь! Но, презрев постоянство, дождь идет снизу вверх, изменяя пространство, для любви без помех! * * * Как птица, уставшая от перелета, на сердце мое опускается осень: алеют рябины неспелые грозди, не спетой любви осыпаются ноты. Я знаю - ты есть. Это больше, чем правда! Но черные звезды мерцают ночами и падают с сердца на небо печали. О чем шелестят пожелтевшие травы?.. 1988 * * * Под мерный листопад, под нервное шуршанье щемящего дождя привычно загрустим – и вторгнутся в глаза, словно воспоминанья, осевший свод небес и пустота над ним. Так холодно блестят слова погасших окон в тревожной полумгле, громоздкой и сырой – что кажется – сентябрь закручивает в кокон и осень, и печаль, и ночь, и нас с тобой. И больно понимать под лепет листопада, что моросящий дождь – как память – навсегда останется бродить по скверам Ленинграда, где медленно шипит кленовая звезда. 1989 * * * И снова – обморочный май, на откровение похожий – хоть пригоршнями собирай рассвет, сиреневый до дрожи. И будто по моей вине на рубеже тысячелетий застыли в горькой тишине раскидистого ветра плети, и позабытой "давно", и неизбежное "когда-то"... Любимая, не пей вино перебродившего заката. * * * Моя осенняя звезда, нет, не тебе печальной быть. Любовь – солёная вода, которую не пригубить. Асфальт следов не сохранит, рука забудет о руке. Любовь – не мрамор, не гранит – тень влаги на сухом песке. Асимметричная беда естественна, как апельсин. Вода прозрачна, как вода. А дождь солёный моросил... * * * Вот и кончился август. Скоро будут дожди, суетясь, размывать наши души и лица. А пока – тишина, и отчаянный штиль, и сознание, что август не повторится. Подожди... Я о чем? Скоро будет сентябрь пожелтевшие мысли разбрасывать с кленов. И в соленой пыли растворится корабль с экипажем романтиков в лето влюбленных. Вечереет. Уже зажигают огни. Просыпается в небе всевидящий Аргус. Дорогая моя, никого не вини, что вчера неожиданно кончился август. 1990 * * * Когда-нибудь... Может быть... Как хорошо, что мы избежали осенних огней неопределённых понятий. Смешон и зыбок их смысл. А сентябрь все сильней вторгается в сердце. И падает лист бумаги, в которой соцветия букв завяли. А воздух так сумрачно мглист, что день захлебнувшись растаял... И вдруг! Но нет – ничего не случилось и дождь лениво течет по моим зеркалам, где ты по свинцовому небу идёшь – и руки летящие... Напополам, в осколки, в стеклянную мелкую пыль я сны разобью. А сегодня – среда. Мне тридцать. И медленный автомобиль нас снова несет неизвестно куда где волны и ветер. Сентябрь. Я боюсь ночей однозначно похожих на "нет". Когда-нибудь может быть остановлюсь и приобрету лотерейный билет. 1991 * * * Как птица, уставшая от перелета, на сердце мое опускается осень: алеют рябины неспелые грозди, не спетой любви осыпаются ноты. Я знаю - ты есть. Это больше, чем правда! Но черные звезды мерцают ночами и падают с сердца на небо печали. О чем шелестят пожелтевшие травы?.. 1992 * * * Пой, любимая моя, о снегах и стуже – ведь мелодии огня я уже не нужен. Пой, я не хочу искать логику созвучий. Пусть войдет в меня тоска, несчастливый случай. Пой, родная, причитай, не жалей гитару. Струнам навсегда отдай жизнь мою задаром. Пой, перебирай во тьме горькие аккорды. И не думай обо мне. Белое на черном! 1993 * * * Ты помнишь? Я помню... Я помню – отрывистый сон в феврале, и мыслей замёрзшие комья, гаданье – мне выпал валет, и волны усталого ветра... Холодный обрыв в никуда с названием пристальным "лето". Вода... И, конечно – вода, что смоет, укроет, прольётся... И вымолвит кто-то: "Блажен..." Как сердце замедленно бьётся! Ты помнишь? Не помню уже. 1994 ОСЕНЬ. ОРЁЛ А.Г. медленно падают листья в глухие пеналы аллей, что веришь: сентябрь – мудрый мистик – меня забывает... Верней – знакомые с детства картины: щемящую мокрую тишь, оборванный миг паутины... Мой милый, мой малый Париж – я вижу твой профиль на камне, точней – на камее... Увы! Но нам ли печалиться, нам ли бояться досужей молвы в период падения листьев, что в бездну бесшумно скользят, как сентиментальные мысли, что выразить словом – нельзя. 1995 * * * А завтра падал снег – легко и неумело. Забытым Рождеством все окна замело. Пришёл декабрь – чужой, как имя Аннабелла. И пепел – на столе. И пепел – под столом. Предчувствия зимы алмазный семигранник звенел в моей руке и таять не хотел. Декабрь опровергал сны и воспоминанья. А завтра падал снег, теряясь в пустоте. Какие города я выстроил из пепла! Оставил снег на них морозную печать. Наивно горевать. И выглядит нелепо в дрожащей полутьме оплывшая свеча. * * * Все проходит – любовь или жизнь. Дорогие, не так это важно. Подсознания крепче держись – и почувствуешь суетность жажды счастья, славы, удачи... Провидь бесконечность летящую с неба – и запретней нужды говорить станет миг превращения в небыль. 1996 * * * То, что случилось – нельзя не случившимся сделать, и позабыть – что ещё никогда не сбылось... Дети асфальт разрисуют крошащимся мелом или поссорятся между собою до слёз – эти песчинки ещё беззаботного детства будут вмурованы в тень уходящего дня, что знаменует начало бесчисленных бедствий, и на излёте, вращаясь, ударят в меня. 1997 * * * Прислушайтесь: октябрь ещё звенит пернатою мелодией распада – так листья на морщинистый гранит ладони Александровского сада ложаться. Опадают... Может быть, мы не запомним угасанья клёнов. И облаков тяжелые кубы умножат в сердце неопределённость – прощение? Прощание? Зачем мне эта ускользающая осень, и узкий след ладони на плече, и звуки в затихающем вопросе?.. ИНСТИНКТ соединенья слов в печаль похож на таинство пространственных изгибов гончарных снов, скрипящих по ночам под жирным небом древнего Магриба. Таков обычай – вновь соединять цвета и звуки – и – цвета и звуки. И обжигать их, сидя у огня, баюкая натруженные руки. Соединенье букв – и – букв – и – букв: не в этом ремесло мастерового – а чтобы стих, с чужих сорвавшись губ, преобразил затёршееся слово. * * * Когда слова забудут смысл переплетенья букв – возьми последний чистый лист и ощути испуг перед избитым языком, что не был виноват – и время обманув тайком, ищи пути назад, где незнакомы имена, колючие, как наст, смерть – словно месть – запрещена, и юность – не предаст. * * * Небытие – есть бесконечный сон – не разума – а пустоты безмерной, где славу, ложь, сусальный блеск корон уныло перемалывает жернов усталой Вечности. Вращаясь, и клубясь, и растворяясь в жадном жерле ночи – утрачиваем призрачную связь с реальным миром жирных многоточий. Здесь – точка. Здесь – предел. Ведь "никогда" – запрограммировано в жизни изначально. Я временем вморожен в глыбу льда. Исхода нет, как это ни печально. ТОНКИЙ СРЕЗ БЫТИЯ назову по незнанию – жизнью. В заповедной стране, где бессвязно грустить довелось, белый лист искажает с рождения чёрные мысли, неуместные, как на зеркальной поверхности гвоздь. Вбитый в центр расходящихся трещин в ладони пространства – я случайный набор из молекул любви и тоски... Сколько маршальских жезлов в моём умещается ранце! Как широкие рамки дарованной жизни узки! У забвения – привкус осеннего низкого неба: только капли дождя отражением не дорожат в зеркалах бытия. И не кажется больше нелепым рассекающий блеск опускающегося ножа. ПЕПЕЛ ПАМЯТИ падает серыми хлопьями. В памяти неизбежны лакуны. Мне голову выжгла беспощадная перекись лет. Напишите скучнейший трактат о полезной, как клюквенный сок, моногамии. В буреломе истории жизни ничего уцелевшего нет. Эта книга весьма пригодится горячечным снам поколения кока-колы и пепси – ведь зелёных советов поддельные доллары людям, как фикус засохший, нужны. Я пропитан слегка горьковатой мелодией “Yesterday” Джона, убитого Ленноном. Или: Леннона – Джоном?.. И глаза беззащитно влажны – пепел памяти их застилает картинами мутного прошлого, сквозь которые трудно вглядеться в манящий узор трын-травы. Я привычно питаюсь бесплатного будущего заварными пирожными. Я привычно питаюсь. Привычно питаюсь... Привы… ЗАПЫЛЁННЫЙ АСФАЛЬТ Сны качелей под липой скрипучею... Трёхколёсное счастье – облупленный велосипед... Череда миражей – будто время шуршит на излучине дней минувших, где каждый вопрос и наивный ответ наполняют привычную грусть чувством определённости. Впрочем, нужно смириться, понять и, возможно, простить состояние неимоверной, как долгое небо, влюблённости в этот варварский мир. Я, наверно, немного простыл на ветру совершенно безумных глаголов. У осени есть немало запретных имён и неназванных слов. Бесприютно склонился фонарь – и его, видно, бросили. В помертвевшей реке тщетно ловит звезду рыболов, как молитву, шепча, запинаясь, избитые истины, что in vino, in ars или, может быть, в чём-то ещё... А бульвары отрывисто кашляют жёлтыми листьями, укрываясь в бензиновой дымке дырявым плащом неизбежных потерь. Нет тоскливей пространства и времени, чем Москва в сентябре на излёте фальшивых побед... И, услужливый мозг, не сумев избежать повторения, вспоминает качели и старенький велосипед. В УНИСОН с тусклым небом, которое невыносимо, как пластинка с надломленным голосом мёртвой эпохи, в неотчётливый город вступают российские зимы, рассыпая окрест шелест, шорохи, скрипы и вздохи. Я забыл даже то, что ещё по ошибке не знаю о разумном строении непререкаемых истин. Transit gloria mundi... Но всё-таки есть – неземная. Под ногами стеклянно ломаются древние листья предсказаний размытого прошлого. Боже Всевышний, почему боль забытых потерь до сих пор не проходит?! Снег идёт, спотыкаясь, по непредсказуемым крышам диссонирующих с жёстким временем тихих мелодий. 1998 ВЕКТОР СЛОВА Я ВЫРОНИЛ КЛЮЧИ от дома, где ключи не могут различить дверной замок и вечность. (Опять высокий стиль, который исключить не в силах ремесло, – привычная беспечность знакомства с февралём.) Не стоит объяснять, в забытые углы развешивать прилежно часы разбитых чувств, со стрелками, как “ять”, закрученными в рог. Я перечёркнут между “сегодня” и “вчера”. А “завтра” – нет совсем. Рудиментарный дым отечества – дебелый. Я выронил часы. На циферблате – семь. Я подобрал ключи. И что мне с ними делать?.. ЧЕМ УДИВИТЬ ВАС? Может быть – весной, которая заглядывает в окна, скрываясь за белёсой пеленой дождя, завёрнутого в плотный кокон бездонных снов, похожих на туман, клубящийся у синих перелесков, как близорукий образ дальних стран – таинственный, расплывчатый, нерезкий. Мне суждено запомнить вас и март, бессмысленно рифмующий капели, не признающий ни границ, ни карт, придуманных людьми. Но, в самом деле, чем удивить вас в ненадёжный час полупризнаний, полуоткровений? Я вас люблю. Я ненавижу вас. Эпоха пробуждения растений своеобычна. Мне не объяснить метаморфоз развенчанной природы... Вам не дано уснуть и видеть сны, глотнув ненаказуемой свободы. РЕЛИКТОВОЕ буйство хлорофилла в палеозойской графике листа беснуется. И ты вообразила, что лишь природы музыка чиста, что лишь природе ведомы пределы несовершенства, названного – “жизнь”. Желание неистовое пело в прикосновеньях. Как эквилибрист, чумазый голубь делал пируэты в умытых мылом солнца небесах. Сбывались позабытые приметы и стрелки не качались на весах, достигнув положенья равновесья... Вселенная таилась, что есть сил, в твоих глазах, хранящих тени песен, таких же древних, как и хлорофилл. Я продолженье завтрашнего дня, которое сквозь прошлое проходит от человека – к рыбе – нематоде – листу – молекуле – протону – пустоте, рождающей больное время. Стенокардия молодой Вселенной – я. Я – продолженье завтрашнего дня – нанизан на струну тугую, как нередкий жук в коллекции коллекций. Я – медленно вращающийся мрак, подверженный влиянию конвекций, конвенций о ненападеньи на себе подобных странников из бездны в иную бездну. Хрупкая струна не оборвётся никогда. Исчезнуть – нельзя. Воскреснуть – не дано. Стена. Кардия — на неведомой латыни шифрует имена, и письмена, и прочие фальшивые святыни. В КРИВОЛИНЕЙНОМ УГОЛКЕ пространства сквозь паутину чуждых измерений взгляну на солнце – и протуберанцы сожгут сетчатку светом откровений из недр бурлящих рвущихся в реальность – из подсознанья, из иного мира – как диссонанс, ломающий тональность, структуру, цвет мелодии, как вирус неизлечимой медленной болезни, как сказ, передаваемый изустно, как ровный след стальных дамасских лезвий в криволинейном замысле искусства. МЫ ЗАДАНЫ себе в условиях задачи, рассчитанной на незакоренелый ум. По улице грачи тяжеловесно скачут, пытаясь полетать над полем пыльных клумб. Их церемониал тосклив и предсказуем. Неправильный июль на крышах опочил. А я твою печаль опять преобразую делением на два. Настырные грачи осваивают створ полупрозрачной выси меж солнечных лучей протискиваясь зря. А я остановлюсь на длинной биссектриссе, помноженный на боль листков календаря. А я в который раз заведомых ответов не знаю... И опять пытаюсь сгоряча решение найти, пренебрегая летом, где скачут тяжело сутулясь два луча. БОЯЗНЬ разомкнутых пространств прилипчивей, чем тамагочи. Переплетенья многоточий способствуют впаденью в трансцендентное (о, обаянье высоколобых длинных слов!) непонимание основ. Мне нравится непониманье! Таинственная жизнь травы, которая растёт как хочет, мне непонятна. Как и, впрочем, движенья женщины. У выхода из подсознанья в приплюснутую сферу чувств замена минуса на плюс возможна, как и предсказанье полуразомкнутых пространств едва наметившихся связей. И хочется быть несуразней, впадая в трансцендентный транс. ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ в пустой бутылке Клейна* предубеждённый практик-геометр подвержен мудрости и грусти безыдейной, бесплотной, словно эллипсы планет, прибитых крепко к тусклому светилу в периферийном пыльном рукаве галактики. Одной из многих. Было ему пять лет. И сорок лет. В траве лежала перекрученная лента, потерянная девочкой в очках. ... А Мёбиус смеялся откровенно и истина в пергаментных руках просвечивала сквозь бутылку Клейна, теряясь в пропылённом рукаве потёртого камзола. Муравейник самодостаточен, как лента на траве. _____________________________ * Бутылка Клейна - трехмерная проекция простейшего четырёхмерного объёма ЛЮБОВЬ – АБСОЛЮТНА в подвластном пространстве предчувствия чувств на открытом разломе привычных разлук. Полюс непостоянства доступен желающим новых колоний густых ощущений тревожного лета, немного забытых, но всё же возможных. И шелест дождя меж склонившихся веток искусственной ивы стечёт осторожно в кораблик ладони, плывущий по краю слегка горьковатого долгого счастья. Ты будешь не первая и не вторая, – похожая в профиль на деепричастие. И будет казаться почти виноватым пустой зимний вечер в оконном проёме озябшей души, бесприютной, как атом, скитающийся в одиноком объёме. АКРОГЛИФ Депрессия царит в моём астральном теле И твой прощальный взгляд печаль тому назад. Летальной лексикой пришибленной метели Аорта наполняется. Глаза Не в силах наблюдать заледеневший ужас Ультрамаринового утра. Никогда Твоя рука не проведёт окружность, Основанную на произнесённом “да”. Метель проникла в сети капилляров Астральной сущности печаль тому назад. Снег падает на сны и тротуары, Угрюмый и блестящий, как фреза. ЭНТРОПИЯ любви (nota bene!) умножает печаль в хромосомах микромира и лепит из тлена оболочки людей. Невесомо заполняются эти пустоты эфемерными чувствами. Вечна боль желаний. Покоится в сотах дёготь приторных противоречий. Я не знаю ударных согласных, улыбалуясь в бездне прощаний. Энтропия любви – протоплазма не сбывающихся обещаний. ОСКОЛОК разбитого зеркала не отразит бессмысленный взгляд нарисованного акварелью просевшего неба, которое тихо висит над плёнкой немытого воздуха. Вкус карамели, и запах лаванды, и шелест грибного дождя – приметы ушедшего времени – неповторимы, как взгляд обратившего город в руины вождя на пыльном проспекте последнего – Третьего Рима. Я знаю немного, но знаний бессмысленный груз меня пронизал, как жакан из случайной двустволки. Как время пульсирует! Я непременно вернусь – и мир отразится во мне, как в зеркальном осколке. 1999 ЮДИФЬ Е.И. Остановлено время в песочных часах и в клепсидрах с остатками ржавой воды. Печаль из иных измерений рождается в муках in vitro с печатью грядущей беды. Чеканная поступь вопросов опять отразится неверно от плоских, как меч, облаков. Бессильный Навуходоносор приказ отдаёт Олоферну – и грань беспощадных веков исчезнет в потоке сознанья о бренности вечных сомнений в крови непокорных рабов, предчувствующих наказанье за прелесть двойных управлений, где смерть побеждает любовь! СОБЫТИЙ ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ наложены на плоскость стен. Как филигранны эти рамы с прожилками прозрачных вен на выщербинах позолоты! Изображения – парят (приспособлений для полёта не знали двести лет назад). Но в раму втиснутый нелепо почти кубический объём воображаемого неба, – где мы растворены вдвоём, как рафинад, в воде столетий, – мерцает в древней темноте музея. Ветер незаметен, но существует на холсте. ПОЧУВСТВУЙ пряный запах deja vu – и в закоулках памяти сокрытой очнутся образы, сошедшие с гравюр, навеянных эпохой неолита, и вновь – застынут мухой в янтаре безвременья, и разорвутся звенья увечной памяти на ноты до, ми, ре... До будущего мига озаренья. ИНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СЛУЧАЙНЫЙ ПРОТОН преобразовался в спираль мирозданья – тогда началось то, что было потом... И в этом – печаль бесполезного знанья: из точки возникнув, уйдём в пустоту, настоянную на бессмысленном страхе. Вращается медленный лист на лету, – кораблик миров, растворённых во мраке. Я ПРЕДСКАЗАЛ тебя, как лето, – безосновательно, но твёрдо. Когда встречаются поэты – гомункулусы из реторты – меняются планет орбиты и направление прогресса. Когда встречаются пииты, в особенности – поэтессы... ЛЮБОВЬ переходящая в печаль, печаль, переходящая в сомненье... Чуть слышный вздох у моего плеча, прорвавшийся сквозь сети сновидений, опровергает мудрость древних книг о тщетности и бренности желаний. Как баснословно долго длится миг, когда мы балансируем на грани определений смысла бытия, в которых нет ни логики, ни смысла! Как всё-таки узка ладонь твоя в моей ладони... Опадают листья – и сердце вновь фиксирует пробой. И, отзываясь медленною болью, печаль преобразуется в любовь, чтоб искупить сомненье любовью. НЕВНЯТНЫЙ ДИАЛЕКТ слегка пожухших листьев мне не расшифровать. Лишь ветер не спеша пролистывает, как роман Агаты Кристи, аллеи тополей. Случайного стрижа неправильный полёт сквозь многогранник зноя подводит без труда прозрачную черту под перечнем надежд. Ущербное звено я меж правильных людей, – звенящий на лету остроугольный стриж, пронзающий нелепо пустую череду непостижимых лет. Вибрирующий звук раскалывает небо – и понимаю я невнятный диалект. КАЗАЛОСЬ БЫ какая блажь в сферическом объёме утра глядеть на скомканный пейзаж в густых размывах перламутра и неосознанно гадать на жиденькой кофейной гуще о том, – какая благодать таится за углом в грядущем, поигрывая тесаком очередных преображений... А в горле – как газетный ком окаменевших выражений – стоит замёрзшая вода с вкраплениями перламутра. И никогда, и никогда не завершится это утро. ВЕКТОР СЛОВА и вектор фразы, совмещённые в перспективе, прожигают глаза, как лазер – металлический сейф. Крапиве, обступившей беседку, Больно от несмелого прикосновенья – и неслышимый крик продольно удаляется. Излученья чувств пронизывают планету и, рассеявшись в ноосфере, превращаются в пепел лета, осыпающийся на берег ожиданий. Ничто не ново – мир вместилище повторений. Неевклидовый вектор слова, изгибаясь, меняет время. В КНИГЕ пауз и преображений, видно, не написать уже о динамике погружений в лингвистические клише. Трудный дождь моросит под утро, разжижая недужный свет. И мне кажется почему-то, что ни жизни, ни смерти нет пограничное состоянье. Амальгамой залит зазор между встречей и расставаньем. Мир – банален. И даже сор выметаю из дома редко, регулярно теряя ключ. Но качнётся случайно ветка... Но мелькнёт беззаконный луч... РЕПРОДУКЦИИ ОСЕНИ чередою плывут – крохи жёлтой амброзии, смесь медовых минут. Замирают растения в регулярном саду. С горечью неврастеника шепчет в вязком бреду покосившийся памятник изуверских эпох. Листья корчатся в пламени, неизбежном, как вдох. ЭТА ОСЕНЬ пропахла арбузом и забытым желанием жить. Увядающий голос Карузо на пластинке слегка дребезжит, иногда невпопад повторяясь, забиваясь в проёмы дверей. Металлический цокот трамвая искажают осколки аллей. Торжество уходящей натуры, заключённое в раму окна. Запредельные фиоритуры итальянских страданий. Финал. Опустевшая осень поникла. У безмолвия имени нет. Ртутный дождь, силуэт мотоцикла и дорога в две тысячи лет. ТРЁХПАЛЫЕ ЛАПЫ летящие с клёнов тебя обнимали, скользя по предплечьям. В семь сфер из полиэтиленовых плёнок завёрнут был медленно плачущий вечер. Ты горько ступала по мокнущим листьям, бездумно шурша и ничуть не тревожась промокнуть. Парящий над сквером Баллистик рассчитывал дождь, забывая умножить падение капель на жалкое небо, случившееся в октябре, на исходе осеннего сумрака. Великолепно сияли огни совершенных мелодий, пронизанных листьями, вечером, ветром. Фигурка терялась в расплывчатых клёнах. В трамвае пустом пассажир безбилетный выискивал звёзды в пространстве наклонном. ГЕНЕРАТОР нечаянных чисел, мерно тикающий на столе, рассыпает минуты, как бисер, по наклонной поверхности лет. Хронокванты разочарований оседают, как едкая пыль, на фронтонах заляпанных знаний вечным лозунгом “Мы – не рабы циферблата!” Дрожание стрелок под пронзительной линзой стекла остановлено. Ты не успела оглянуться. Ты вновь не смогла обмануть генератор печали, что, как гиря, прикован к руке. Кружка колониального чая стынет на ледяном сквозняке. АЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ Опасно на красное ставить. Опасно – на чёрное. Ставь на зеро! Огонь – низкотемпературная плазма – таится в глазах. Оборот Земли завершается ёлками, снегом, бумажной тоской конфетти... За альфой в итоге приходит омега. И некуда больше идти. Я связан с долгой вечностью прибоя солёным привкусом разбитых в детстве губ. Слова, покрытые шершавою корою, невнятны. Я стою на берегу густого океана. Пахнут звёзды настоем расстояний и имён мне незнакомых. А прибой – как слёзы – песчаный размывает бастион песчаной крепости. И это будет длиться и длиться до скончания веков. И словно крылья шелестят страницы собрания земных материков. 2000 Инфернет – потусторонний мир, скрытый за экраном монитора. Пласт клавиатуры, как клавир виртуальной музыки, в которой проступает колдовская суть – разум запеленат в паутину информации. Забыться, и уснуть, и, проснувшись, вспомнить – половину, призрак, тень мелодии – иной, запредельной жизни. Фортепьяно и компьютер – что творят со мной! Я стою у кромки океана. Я не знаю – быть или не быть в изменённой паузе сознанья. Тёмным словом можно искривить и разрушить сферу Мирозданья. Любезная моим глазам неиссякаемая осень. Разбавленная бирюза. И облака. И снова – восемь часов утра. И облака, летящие куда попало. Жизнь – как всегда – невелика и далека от идеала. Я упаду в листву времён и надо мной сомкнётся осень, где облака – как смутный сон, а вечность – словно цифра восемь. Аллюзии любви – аллюзии печали. Гриппозный сумрак вдвинут ноябрём в объём квартиры, выгнутой лучами настольной лампы. Мы сидим вдвоём за чашкою сомнительного кофе. Планета завершает оборот. Двенадцать. К неизбежной катастрофе страна летит. На лужах тает лёд – температура нудного плавленья достигнута. Клён до костей промок. Я знаю результат соударенья Земли и капли. Я могу меж строк писать. Мы выбираем чёрный ящик. Закончились и кофе, и вода. Я понимаю: ищущий – обрящет и снова канет в бездну без следа. Изгибы лампы повторяя плавно, обломок тьмы , приклеенный к стене, застыл в глазах, очерченных оправой... В бокалах тяжело звенел свинец – основа хрусталя, тоски и скуки. Меланхолично падала луна, и скрещивались ветви, словно руки, и проступали в небе письмена, неясные, как небо. Очертанья пейзажа зимнего в разомкнутом окне не отражались на хрустальной грани из-за обломка мрака на стене. Пронизывая слой за слоем воздух, нарезанный неровными кусками, я архаичен, точно паровозы, чумазые, с помятыми боками. Наивная, как поиск идеала, стоит весна, распахнутая настежь. В углу стола – граната без запала и автомат, разобранный на части. Да, это я – в военной подготовке измазанный, как тракторист в тавоте. Страна меня не видит без винтовки в пятнисто-грязном шустром вертолёте. Да, это я – весь в поисках пружины, необходимой пуле, будто воздух, – безумная деталь больной машины – запаянный в неё, но слишком поздно. Слоистый воздух ровно был нарезан. Я возвращался из привычной школы. А ночью снились пушки, и обрезы, и вдавленный тяжёлым горем город. Автобус медленно жуёт развинченные километры кривых дорог. В тягучем ветре полупроявленный пейзаж плывёт, покачиваясь в такт поскрипывающим рессорам. Слегка замызганный пятак светила реет над простором. Неряшливо сколочен лес из неошкуренного тёса. В нём две кукушки, лесоруб – анфас похожий на медведя – забытый много лет назад, блондинистый, почти белёсый. А мы в автобусе с тобой по синусоиде, но – едем. Асфальт положен кое-как. Вокруг поля, озёра, реки, отравленные в прошлом веке, чтобы построить коммунизм. На горку – вверх, а с горки – вниз. Осиротевшая природа без празднично дымящих труб фальшива, как макет коровы из хлорвинила. Сух и груб язык пространств моей Отчизны. Здесь можно даже жизнь прожить, не замечая вкуса жизни, усердно строя миражи. Соударения пустот не вызывают резонанса. Сон соткан, словно лепесток, из волокнистого пространства с прожилками былых имён. Разбавленная ночь струится, не отражая наши лица в размытом зеркале времён. Как я устал безмолвно жить и собирать глухие звуки с лакричным привкусом разлуки, как нищий жалкие гроши! Вибрации небесных сфер претерпевают искаженье. В розетке скачет напряженье, надсадно, точно Холстомер – и падает совсем без сил, и гаснут лампы и надежды. При столкновении светил тьма кажется ещё кромешней. Жгут листья. Рукописи всё-таки горят. Я проверял – в окоченевшем парке – бросая в пламя с помощью грабарки стихи и письма. Впрочем, всё подряд. И уносился серый пепел ввысь с прожилками оранжевого света. Заканчивалось чьё-то бабье лето. Короткая заканчивалась жизнь недужного тепла. В который раз в меня внедрялся пасынок ошибок – никчёмный опыт. И костёр был зыбок. И всё горел. И никогда не гас. Символ тающей вечности – в приоткрытых глазах – острый клин журавлей, устремившихся к югу. Неимущий сентябрь и берёзы в слезах – вот и все достижения бега по кругу заплутавшей Руси на скрещеньи веков, на скрещеньи судеб, нам ниспосланных Богом. Растворившийся клин – далеко-далеко. А в душе – ни царя, ни вождя, ни пророка... Каллиграфически начертана на запоздалых облаках моя печаль, почти вечерняя, решённая в полутонах, а рядом – скорописью резкою бестрепетно летящей вдаль, словно по дереву стамескою – любовь, нет, всё-таки – печаль. Век кончился не приходя в сознанье, забвение забвением поправ, отравленный раствором оправданий, как зельем, изготовленным из трав забвения любви. К трём апельсинам, не сомневаясь, прибавляю три. Век кончился. Но не проходят зимы, с метелями, гудящими внутри моих молекул, атомов и кварков, на грани абсолютного нуля застывших. Ни рождественских подарков, ни всходов на немереных полях надежд, ни измождённых заблуждений не оставляет уходящий век – лишь череда пугающих видений сочится в снег из-за прикрытых век. Millennium, а мне не лень влиянию планет вверяться. И тусклый никудышный день – неповторим. И те же двадцать веков назад была весна и даже – Бог мой! – синь и осень (природа вспрянет ото сна и упадёт с размаху оземь). Круг бытия необъясним и тривиален, словно звёзды, я слепо следую за ним и понимаю слишком поздно неповторимость облаков, кочующих в пределах неба под грузом двадцати веков, таких же, как и я, нелепых. 2001 Скользит помпезная зима, отягощая лапы елей невнятным снегом. Запотели провалы окон. Бузина (пожалуй, всё-таки – рябина) роняет крупные рубины, как вы и думали – на снег. Обрушился свинцовый век. Тысячелетия вросли в мою раздавленную душу – я не привык пространства слушать под сенью занесённых лип (конечно – снегом). Отчего же мы не становимся моложе и не становимся мудрей. Страна зияющих полей ассимилирует пургу. Мы были всё-таки любимы! Минуты падают с рябины и остывают. На снегу. Февраль устал. Пора на плаху вести слова и на разрыв, словно взволнованная сваха, внедрять чужой императив в сознание. Свеча горела на перепачканном столе. Чернила высохли. Сто лет с тех пор прошло. Но то и дело нас настигали феврали и сладко врали про шесть гривен… Я, спутав Еву и Лилит, стал имманентно примитивен. И тощий перестук колёс нас не догонит по брусчатке и не потребует всерьёз… Возможно, дело – в опечатке. Мы больше не умрём. Мы безвозвратно живы. В объятиях весны есть искус и испуг. Как розы хороши! Как обещанья лживы. Как многократно март усиливает звук… Вечерние слова прозрачны и прохладны. Погасший снег летит под непрямым углом, укладываясь вдоль дорог покровом ватным на траурную грязь. А девушка с веслом уверенно стоит и железобетонны – и перпендикуляр облезлого весла, и крепкая рука, и торжество закона, и даже не вполне понятный постулат о том, что жизнь опять нечаянно проходит, сужая горизонт до точки. Навсегда. «Мы больше не умрём!» – я прокричу в колодец продавленных небес. И не услышу: «Да». Во искупление стихов до исступления внимаю аккордам неба. Горемычно весна сутулая бредёт. Разбавлен воздух тусклым светом – пусть неврастеники стенают, пусть шизофреники впадают в депрессию под лепет вод, низвергнутых с тугого свода меланхоличной атмосферы. Весна – и ничего поделать нельзя с отрывистым дождём. Ладони влажны. Кошки серы. Мы замкнуты в пределах веры в вождя. А кто у нас вождём… Весна. Такая душная весна, что кажется: надежды – бесполезны, и время, как усталый Росинант, неспешно поворачивает в бездну. Возможно, диалектика права – на шаг вперёд положено три шага назад под тенью храма Покрова. На куполах не оседает влага, противореча физике и снам… В Москва-реку впадают воды Леты… У нас опять закончилась весна и началось удушливое лето. Риэлтер, холдинг, ипотека – бессмысленный и тусклый бред, накопленный за четверть века прилежным чтением газет. Какая скудная эпоха! Тоску пытаясь превозмочь, произнесу с циничным вздохом: риэлтер, холдинг, дилер… Ночь. Калейдоскоп. Магический цилиндр. Устройство превращения в узоры цветных стекляшек. Время – иллюзорно, а плавится легко – как стеарин, и, застывая, принимает форму людей и трав, деревьев и зверья. Картонный мир вращается упорно и вместе с ним во тьме вращаюсь я, соприкасаясь острыми углами с другой любовью, горечью, тоской преображаясь в призрачное пламя… Создатель, поверни калейдоскоп. Реанимацию травы дождь тщательно осуществляет. В пространстве времени хватает, а недостаток синевы восполнит август. На исходе июль. В деревьях под корой такие соки глухо бродят, что тронуть боязно порой – вдруг сдетонирует листва и красками асфальт засыпет. Кирпичный параллелепипед едва вмещает голова – ведь зодчество, как ни смотри – громоздко вылепленный ужас. Минуты щёлкают по лужам – и радужные пузыри плывут по жидкому шоссе, неосмотрительно и чинно. И хочется зажечь лучину. И позабыть июли все. А.К. Девятый час. Бесформенным куском лёг сумрак у камина, опасаясь свеченья ламп. Вражда их испокон бессмысленна. Необъяснимый заяц проник сквозь щель в заборе у куста и промышлять намерился капусту. Вселенная, как водится, пуста и в огороде, очевидно, пусто. Расплывчатый пейзаж. Течёт река. Ей много лет, но выглядит моложе. У зайца взгляд задумчив и лукав – он крупный зверь и усидеть не может. Как он велик! Сильны его прыжки. В окне камина медленное пламя течёт меж дров. Вершки и корешки неправомерно делятся меж нами, заросший шерстью заяц до бровей. Тебе и в жизни не приснится бриться. Расписанных бессмысленных ролей не изменить. Ни строчки. Ни страницы. Осуществив проникновенье в осень я очутился в сумрачном… Забыл о чём там дальше. В жидком купоросе – два тощих облака, горизонталь перил, оконный крест, кренящийся направо, и руки, пригвождённые к кресту – привычная сентябрьская отрава, не внятная горящему листу. Тугая спираль ДНК, не вейся, как траурный ворон, в моём организме, пока я точку ищу для опоры и неумолимый рычаг преобразованья планеты, где свечки коптят Ильича, и в лампах – отсутствие света. А может в вине поискать любовь к беспощадному краю, где пули свистят у виска и больно в других попадают – не может ведь поиск опор закончится безрезультатно. Спираль ДНК, словно вздор, закрученная многократно, упрятана в тьму хромосом, в пещеры забытых сокровищ. А разум, впадающий в сон – конвейер химер и чудовищ – работает снова вразнос, теряя болты, шестерёнки, спирали и поршни. И рифмы. Я заболел. Сегодня. В семь часов. Не помню – было утро? Или – вечер? Отрезанный от мира голосов, я рухнул в омут медленных наречий. Бездумно. Томно. Холодно. Темно. Осваивать безвременья пустоты пришла пора. Вольтеровский прононс перемежают приступы зевоты. Но – снова свет. Лекарства подают. Озноб проходит За окошком лютый колючий ветер. Шорохи минут. Я – Бог. Я – червь. Я – вирус. Я – компьютер. Литая мудрость тёмных фолиантов впитала тяжесть прошлого (заметим, что время балериной на пуантах – не семенит). На полках в кабинете расставлены тома: Монтень, Гораций, Лукреций, Парменид, Хуй Ши, Спиноза, два Бэкона (не будем препираться, где – Роджер, Френсис)… След от папиросы в пустом стакане со следами скуки в пустой квартире со следами жизни пустой вселенной, взятой на поруки философами. В чутком механизме познания необходимы сбои (как палка сокрушающая спицы – велосипеду) – чтобы нам обоим (включая Френсиса) от истины не спиться. Слова, слова… Я их не понимаю, листая ветхие страницы – по-английски Шекспир мне не доступен. Золотая осенняя тоска в глазах у близких осин сквозит. Испепелённый воздух передвигается рывками вдоль дороги. Тягучий дождь из матового воска преумножает лужи. Аналогий немало в нашей жизни. Бедный Гамлет встречается сегодня с бедной Лизой. Я делаю из книги оригами. Слова, слова… А эпилог – так близок. В.Н. Расколотый базальт небес передвигается к востоку, где беспредельно одиноко стоит дождём прибитый лес с ополоумевшей листвой, испившей осени до срока. Холмы уходят в даль полого по исключительной кривой. Сегодня холодно с утра и потепление иссякло, как тряпки облака обмякли, но близорукий аппарат фиксирует через очки передвижение базальта. … И вечная весна в Фиальте, разорванная на клочки. Москва сегодня больше, чем вчера напоминает давнее заклятье огнём и мраком. Плоская пчела фиксируется в фотоаппарате рядами символов. Такой же цифровой – унылый мир естественной природы, где позабытый Богом часовой стоит у заколоченного входа в реальность. Геометрия пустот, вторгаясь в перфективность переулков, преобразит иллюзию кустов в иллюзию деревьев. Вступят гулко колокола и застучат часы, прерывисто процеживая время сквозь сито среднерусской полосы, где больше нет нужды в стихотвореньях. 2002 Вдыхая колкий кислород, сбежать с горы без шапки. На серебристый самолёт смотреть без страха. Лапки согреть озябшему щенку дыханием. Сутулясь, протискиваться сквозь пургу. Родители вернулись с работы. Пахнет молоком и снегом на планете. И я с собою не знаком в другом тысячелетьи. ОГЛЯНИСЬ НА НЕБО Жизнь – репетиция игры на поле, разграфлённом мелом. Вращающиеся миры с трудом вмещаются в пределы своих кисельных берегов. На опрокинутое небо упали кляксы облаков. Уныло бредит Кастанеда в свинцовом томе номер два, страница семь, строка семнадцать. А на траве лежат дрова, не вызывая деформаций земной коры. Модель игры содержит свод невнятных правил. А во дворе рассыпан гравий, внутри которого – миры. Мне скучно, бесстрастно. Весенняя блажь. За мутным окном – то метель, то апрель. Замедленный голубь заложит вираж, взбираясь одышливо на аппарель, ведущую в низкое небо. Почти присохла к стеклу разведённая синь. На завтрак по диагонали прочти газеты и съешь заводной апельсин дежурного солнца, налаженный быт. На коврике спит электронная мышь. И нет мундштука – атрибута трубы. Нет даже – трубы. Но идёшь – и трубишь – по городу, что запрессован в асфальт, по марту, бессмысленному, словно жизнь, по детству, завёрнутому в ломкий альт, где голубь закладывает виражи… Мне скучно, бес… И.В. Меняя привычное русло, гранит разъедает река. Светило, нависшее грузно, подсвечивает облака на редкость причудливой формы, текущие за горизонт. Трава, наречённая сорной, сквозь камень растёт. Робинзон в столице живёт. Одиноко и очень тоскливо ему с потрёпанным томиком Блока, как Китеж искать Кострому. Сквозь длинные дуги бульваров и несколько пыльных колец недаром, наверно, недаром ушёл он. Светила свинец, возможно, на то и годится – чтоб путь беглецам освещать из окоченевшей столицы, и – Китеж в воде отражать. О чём не сообщаете, сосуды, друг другу, в голове переплетясь, оберегая тщательно рассудок, образовав двусмысленную связь? Реторты, колбы, мрак лабораторный, тревожный запах химии, таблиц забытых элементов. Небесспорный учебник. Очертания границ научной мысли навсегда размыты в одной отдельно взятой голове дремучего седого неофита, что превращает золото в свинец. Он тоже был когда-то рысаками, а оказался в сумрачном лесу – разбившийся о философский камень, не сообщивший ничего сосуд. Мы две печальных оболочки, проросших некогда друг в друга. Как непонятны и непрочны законы квадратуры круга среди людей! Какая мука – услышать музыку сквозь пепел былых пристрастий. Как упруга – печаль, и как невнятен лепет слегка вибрирующих листьев, едва развившихся из почек – и что им чувства (да и мысли) потрескавшихся оболочек… Прости меня, растаявшее лето, как рафинад в горячей чашке чая. Безлиственные ветви бересклета пространство асинхронно раскачают – и я пойму, что винтики и втулки, скрепляющие время, проржавели, а пустота размеренно и гулко стучит в груди, надеясь, что метели заполнят снегом кубик мирозданья, сместят часы и расщепят минуты, и возвратят признанья и лобзанья в то лето, вспоминаемое смутно. Какая осень долгая сегодня! Озябли руки. Опустела чашка с настоем бересклета. В преисподней, должно быть, жарко. Кляксы. Промокашка. Неровный почерк. Корка апельсина засохшая (как символ неуюта). И чудится, что свечи – негасимы, что – негасимы свечи (в это утро). В небе – осень. С листвы опадают деревья, вращаясь, на студеные звёзды. Я вновь перепутал слова. Я сентябрь запрещаю. Бегу, торопливо прощаясь. На столе недопитая кружка (А чай – тепловат) – замечаю я в скобках. Конечно, неловко прощаться на бегу, впопыхах, не успев на последний вагон. Утомились колёса ночного состава вращаться и прощаться с перроном (течёт, растворяясь, перрон, с виртуальным сиреневым светом, во тьму). Опасаясь, металлический голубь клюёт электроны. А кот точит ржавые когти, с листвой запоздало прощаясь. Потаённо крадётся собака. Бесцельный полёт оголённых, как провод, деревьев я не различаю в тёмном небе, но предполагаю – вращенье идёт по привычному плану (я снова напутал). Прощаюсь. (Всё же – чай тепловат). Оборот. Оборот. Оборот. Сначала нужно попытаться бредить, не забывая, впрочем, о высоком предназначеньи складыванья слов в пунктирные блины стихотворений (у некоторых – в ленточных червей слагаются растерянные буквы). Чуть позже делим в столбик бесконечность на инфернальную тоску. Не слишком быстро (на меньшее читатель не согласен, на большее – поэты не способны). Потом всенепременно надо выпить до дна любовь к берёзовой отчизне, портянкам и родному пепелищу, остывшему столетие назад – но зная меру, ибо… Напоследок, листок бумаги ни на что не годный с остатками великого труда необходимо скомкать аккуратно и бросить в урну (а за результатом не в этой жизни стоит приходить). Разбитое зеркало неба меня искажает, пока бегу я по лужам, нелепо разбрызгивая облака, пока я по улице, медной от слишком кислотной листвы, бегу, словно юноша бледный со взором… Горящей травы, и леса, и торфа в придачу – Отечества приторный дым вселяется в лёгкие, – значит, легко угореть молодым, красивым, сорокадвухлетним… Слезятся от дыма глаза. Бегу по рассыпанной меди, пытаясь вернуться назад. Тавтологическая осень запоздала. В пруду без щуки дремлют караси. Медаль на редкость жёлтого металла на клёне одинокая висит. Зачем ему отличие такое – несвоевременная плоская медаль? Я в сказках Оле, кажется, Лукойе об этом клёне, кажется, читал. И, повторяясь, осень сыпет мелким сухим дождём за ворот октября. По скверу бегают сомнительные белки и, словно рукописи, листья не горят – уже истлели. Паралич природы на редкость близок. Улетают в даль последней осени последние пилоты. И на груди – кленовая медаль. Сентябрь закончен. Сложносочинённый лес удержать пытается листву. Размытым золотом разновеликих клёнов подсвечен вечер. И по волшебству преображаются – и ветхий ряд строений, заброшенных столетие назад, и фонари, как строй местоимений, привычных уху. Странная мозаика осенняя сложилась. Я не помню подробней осени, чем в будущем году, где неба блочный потолок – огромней из дома, чем из космоса. В ладу с душой я не грущу о лете. Но знаю, как непрочен потолок. Бог есть. И всё дозволено на свете. И всё. Дозволено… И это видит Бог. В воздухе – H2O, остальное – гарь. Если можешь – дыши жирным пеплом сгоревшей луны. Я сижу в тёплой клетке квартиры – городской попугай – наизусть повторяя галлюциногенные сны. Ветер бьётся вороной в окно (очевидно, норд-ост), обрывая последние листья с уснувших осин, тополей постаревших и прочих тоскливых берёз – ими вечно богата страна опустевших равнин. Я твержу – эта осень опять не запомнится мне ощущеньем сквозного дождя. За окном – пелена: это взвесь? Или газ? Или спесь? (говорят, на войне – словно в осени – нет побеждённых). Какая война удалась в онемевшем году! До начала зимы торопись прикупить респиратор и горсточку звёзд. В опустившемся небе легко искажаемся мы, и деревья, и ветер (опять, очевидно, – норд-ост). In the middle of nowhere Посредине полного ничего застывают звуки, цвета, слова… Мне неведом день и, пожалуй, – год (мглою переполнена голова). Знаю только – зима (дерева в снегах) и дороги – пеплом занесены. Фонари в ночи излучают страх, чуть колеблется фитилёк луны. Посредине полного никогда неуместно жить, невпопад жалеть, что в зрачки вливаются холода, чтобы в зеркала не глядеться впредь. Чтобы мне никто не сумел помочь – выпью медленно горечь больших пустот и войду, как нож, разрезая ночь, в середину сумрачного ничто. 2003 Сегодня я: 1. Весьма простужен (припоминаю медленно слова); 2. Никому заведомо не нужен; 3. Ни за что не уберу кровать, дабы на ней валяться безучастно, разглядывая близкий потолок; 4. Буду нем, как протоплазма, и то сказать: слова – какой в них прок (тем паче – в скудных рифмах?); 5. Усталый, но не сдающийся болезни (отчего мой организм опять попал в опалу?); 6. Долгим сном укроюсь с головой, как облаком из дальнего далёка, в котором никогда я не бывал; 7. Выздоровлю к вечеру (до срока) – и вспомню позабытые слова. Оглянись на небо – и ты пропал, если различишь сквозь нечёткий дождь яростной звезды матовый овал. И, как в юность, в доску вонзаешь нож – и не можешь прошлое расщепить, и бессильно бьёшь в дерево кулаком, и тарелку с надписью «Общепит» превращаешь в облако молотком, и в осколках гаснет твоя звезда, и остатки света смахнув в совок, ощутишь грядущие холода, и поймёшь, что небо покинул Бог. В дымном иле скрывается длинная томная рыба. В ветхом небе стенает ночная осипшая птица. Мне не спится. А ты бы смогла расшифровывать осень, если код затерялся среди опадающих листьев? Серый дом близоруко на долгую улицу смотрит – нет, не каждой машине до центра печали добраться суждено. Старомодный, изрядно поломанный зонтик не спасает от влаги. Какое унылое эхо! Наважденье дождя завершается медленно. Осень неизбежна, как осень. В прореженном мокнущем парке не уловишь период распада минувшего лета. Перспектива размыта. Глухая тоска листопада. Темнело. Я включил луну (не слишком ярко – вполнакала) и звёзды (я любил одну – Проксиму – впрочем, это мало, чтобы заполнить небосвод, а посему – пусть все пылают). Ещё – включил автопилот Земли. Ни ада и ни рая решил не заводить пока – вид механических игрушек довольно скучен. Облака я мехом вывернул наружу – и прекратил ненужный дождь, который лился то и дело. А дома – затупился нож и лампочка перегорела. Расскажи мне подробно о глупостях и мелочах, приключившихся днём, в суматохе обыденной жизни. Предвесенний закат на глазах безнадёжно зачах. Ночь вступила в права. И увязла по грудь в пессимизме. Время – полночь. Настольная лампа неярко горит, умножая печаль от уже неусвоенных знаний. Изменяется медленный ход тектонических плит – глухо дышит Земля. Телефон неизменен. И занят. Расскажи что-нибудь – я устал безнадёжно вращать эбонитовый диск антикварнейшего телефона. Раскрошилось пространство. И я не могу обещать, что услышу Тебя, а не шорох чужих электронов. Отвечай. Расскажи… Я потратил всю жизнь на звонки. Сколько раз мне казалось, что я до Тебя дозвонился! Неустойчива связь. Как весенние ветви тонки! Как осенние ветви тонки… Я ещё не родился. Подержи кубик ветра в одеревеневшей руке. На реке – ледоход, ледолом – запоздалый, но дружный. Облака запрессованы в продолговатый брикет и приклеены к небу. И – не отражаются в лужах. Подержи кубик бывшего ветра. Хотя бы на миг ощути его жидкую, ртутную, влажную тяжесть. Опрокинулся навзничь апрель. Одинокий старик (непохож на меня, нет – похож!) – удаляется, важно семеня по асфальту, в неблизкую русскую даль. Я люблю этот кубик, прозрачный, как поздняя осень. Поднимайся, апрель. Я забыл отрывной календарь. Подержи кубик ветра. И долго не стой на морозе. Болею. Старость. Одинокий. Спина не гнётся и скрыпит. Я не искал в стране далёкой грусть увядающих ракит. Я не искал… Так в чём же дело? Зачем расстрельный строй берёз, когда придуманный Отелло зарезал женщину всерьёз? Зачем небесный таз лазури кренится под моей рукой? Зачем искать любовной дури, как будто в дурах есть покой? Я решил уравнение – Бог существует, но нам не поможет. Завершаю пунктирный виток понимания (мания). Боже, мне Тебя не понять. Не сердись – я конечен и память нестойка. Это всё называется – жизнь? Или – боль понимания? Сколько мегабайт в воспалённом мозгу Ты загрузишь заведомой мукой? Понимаю… Понять не могу. Протяни мне сквозь вакуум руку! Я другой. Я такой же, как все. Не хочу растворяться в пространстве. Не хочу отражаться в росе (как деревья) в осеннем убранстве. Я уже завершаю виток, пропитавшись обманом и ложью. Что же Ты пригорюнился, Бог? Безусловно, я – смертен. И всё же… Как долго длится медленное Слово, хранимое в конце последней книги. Трудны вериги звука золотого, слаба гортань, чтоб выразить великий неизъяснимый смысл большого чувства. Я делаю последнюю попытку прикосновенья. В этом – суть искусства, скрипящего, как старая калитка, от ветра времени порывистого. Как январский ветер, продолжает длиться большая жизнь, величиной с пятак. И где та книга с вырванной страницей? Создатель мёртв. Остался имитатор – безличный, словно матричная схема – ущербный бог потомственных приматов. Ему – что клептомания, что клемма – едино всё – запишет и зароет в пустых равнинах времени. Навечно… Как метроном, качая головою, уходит осень. Наступает вечер истории. Как холодно на свете! Пространства шар прокалывает ветка шиповника. И ветер, ветер, ветер врывается в мою грудную клетку. Унылый дождь (метафора июня) – мне чудится не кончится вовек. Нечёткий, как чеканка на латуни, проходит мимо чёрный человек – похоже: символ (мне, увы, невнятный). Но Моцарт допивает свой бокал. И реквием чуть слышен. И обратный билет не нужен. Опустел вокзал. Уходит лето с привкусом миндальным, скрываясь за прозрачной пеленой. А человечек с профилем фатальным неторопливо семенит за мной. Д.Б. Я прагматичен, как двадцатый век, изъявший веру в сумрачного Бога. Привычно, как железная дорога, за горизонт уходит человек. И, может статься, у придела бездн он даже не успеет оглянуться, когда над головой, клубясь, сомкнутся два облака, упавшие с небес. Уходит человек в небытиё, в бездонное холодное далёко – и вера в милосерднейшего Бога вторгается в сознание моё. Сен-тябрь – роняет небо звуки… Сен-тябрь… Сен-тябрь… Простужен свет. Прозрачные, как осень, руки рисуют осени портрет. Суровый сумрак акварели. Кисть колонковая легка. И в воздухе чуть слышен прели тревожный запах. Облака, сбиваясь в клин, кочуют к югу. И обрывается струна – сен-тябрь. И кисточка упруга. И надо мной занесена. И осень выглядит обычно, как на берёзе береста. И Слово кажется первичным на жёлтой плоскости листа. Вибрирует листва на пасмурных осинах (в природе листопад случился). Пустота, пульсируя, скользит сквозь сердце. Апельсины в авоське на меня растерянно глядят. Какой сегодня год? Я цифр не разумею. Вечерний полумрак с разводами огней вращается вокруг осиновой аллеи. А сколько впереди осиновых аллей! Я медленно бреду, пространство изгибая. Вдыхаю пустоту со вкусом пустоты. Вибрирует листва. И осени внимает. И падает, кружась, с дремучей высоты. Вращается земной сдувающийся шарик. И солоны моря. И велика печаль. И девочка стоит, укрывшись ветхой шалью. Я не могу понять – откуда эта шаль проникла в новый век (как и моя авоська, в которой одинокий мокрый апельсин запутался совсем). А лист – густой и плоский – летит себе сквозь строй насупленных осин… Я всё же ухожу. Не провожай меня, музыка Иоганна Себастьяна. Поверженные листья подлежат распаду. Дождь становится стеклянным к исходу осени. Унылая пора не поддаётся переосмысленью – как траектория гусиного пера при зыбком свете в полумгле осенней. Я ухожу. Безвременья вода сочится из израненного неба. Я буду возвращаться иногда. До снега. Обязательно – до снега. Время – осень. Дождь. Нескоро упадёт последний лист. Глаз зелёный семафора осветит платформу. Вниз по закону тяготенья падает с небес звезда на исходе воскресенья. Шпалы. Рельсы. Провода. Горизонт лежит полого и теряется в воде параллельная дорога параллельная судьбе. Неевклидово пространство переполнила вода. В жидком маслянистом глянце проплывают поезда и увозят вероятно время в осень. В кулаке – проездной билет. Обратно уезжаю налегке. Н.Ш. Отрекись от меня, отрекись! Дует влажный расплывчатый ветер. В редком аквамариновом свете ты стоишь. И уронена кисть у мольберта окна. По утрам ты всегда говоришь о погоде, но в оконную раму не входит замутнённый пейзаж – холодам этот дом не доступен. Когда ты ещё рисовала природу, а потом расставляла полотна по углам – я читал по складам в небесах. Осыпался январь и окрашивал свет в голубое. Мы по парку бродили с тобою. И по жилам текла киноварь. Зеленела под снегом трава (наглый сорт завезён из Канады)… Ты меня не утешишь, не надо – я под утро расставил слова – и забыл. А теперь – отрекись от меня и не думай о вечном, если сможешь (не сможешь, конечно). Подними колонковую кисть. Кроме солнца и голоса – ничего на земле. Степи и лесополосы вниз по плоскости лет уползают. Болезные, на гриппозном ветру, мы застыли над бездною в январе по утру. Плотен воздух и, кажется, что возможен полёт, но – не каждый отважится, но – не каждый поймёт звёзд расплывшихся полосы на остывшей золе. Кроме солнца и голоса – ничего на земле. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА Для культа личности не требуется личность – достаточно одной из двух личин: державная литая анемичность растиражированных мнимых величин влияют на страну и на погоду в моей стране, угрюмой и больной. Электорат тупеет год от года. И что мне делать с культом и страной, в которой с каждым днём всё меньше места и для меня, и для моих друзей? Истории податливое тесто лепи, как хочешь, и затем глазей на то, что получилось. С Новым годом! На Спасской башне больно бьют часы. Культ личности. Безумие погоды. Проклятье Среднерусской полосы. 2004 Я заточён в тюрьме времён и дат. Заточенный, как шило, карандаш пронзает и бумагу, и пейзаж, и строй, идущих медленно солдат, которые судьбы своей не знают, и безмятежно в сторону глядят – на голубей. Идут. И умирают. Мы все солдаты на передовой и каждому своя отлита пуля, а голуби кружат над головой и дети повторяют: «Гули-гули...» Какие сны – такие времена. Из прошлого не может быть возврата. И жизнь – длинна. И тишина – длинна. Уходят вереницею солдаты. Москва. Россия. Амнезия. Пересечение веков. Когда бы мы вообразили победу красных беляков? Когда бы мы ещё смогли бы, пересчитать своих ворон – антисемитов, и талибов, и жизнь, похожую на сон, как и положено – кошмарный. Жить столько лет, но больше – зим, не завершающихся в марте… Но всё-таки вообразим, что время бы тянулось чинно – какая бы была тоска – жизнь оказалась бы песчинкой, застывшего в часах песка. С крутого неба сыпал снег и уходил во вьюгу юзом громоздкий окаянный век, кренясь под непосильным грузом. Дорогу снова замело, но повернуть нельзя обратно. Сквозь запотевшее стекло видны расплывчатые пятна. Мы сняли цепи с зимних шин и бросили у перекрёстка. Снег сыпется. И – ни души. Лишь света узкая полоска от слабых фар. Дави на газ, шофёр ржавеющего века! Мотор сегодня не предаст. Кончается паденье снега. Никогда – с металлическим привкусом вечности слово. Оловянные годы, похожие на серебро. Не пытаясь построится в клин, неумелые совы потянулись на юг. Маслом вверх уронив бутерброд, я листаю газеты с увесистыми новостями – завтра будет погода, такая же, как и вчера. В телевизоре бродят модели – вихляя частями недоделанных тел – и нещадно скрипят. Повара параллельно зачем-то готовят унылые блюда. В электрическом чайнике спит неживая вода. Я уже никогда… Никогда не уеду отсюда. Мне уже никогда… Никогда не вернуться сюда. В мутной паузе света мне почти не видны – ни стихи, ни поэты онемевшей страны. А о прозе не буду размышлять никогда – в механическом гуде замерзает вода от бессилия узких и прямых, как доска, литераторов русских, что ни слова пока... Свет неправильной формы в голубой кривизне. Как в России просторно! Как пустынно – в стране. А жизнь идёт – и не проходит… И, может статься, не пройдёт. Плывёт по небу пароходик, не превращаясь в пароход, плывёт, расплёскивая звёзды, плывёт, неведомо куда. Прочерчивают полоски внизу ночные поезда и поглощают расстоянье под мокрый перестук колёс. Шагреневые расставанья и душный запах тубероз скитаются во тьме вагонной который час, который год. А пароходик монотонно по облакам плывёт, плывёт. Наваждение. Одиночество. Искушение. Маета – спать то хочется, то не хочется. По железной резьбе винта время движется. И не движется. И не может вспять повернуть алфавит, потерявший ижицу. Наваждение. Млечный Путь. Понаставили указателей – предсказатели – на судьбе. Звёзды падают. Обязательно хоть одну принесу тебе. Но желания не загадывай – наваждение. В холода обязательно звёзды падают. Звёзды падают. Навсегда. Лес спрятан в лес. Пора и по грибы. Ручей. Распадок. Сонная поляна, где васильки бессильно голубы и небо нависает без изъяна. Ни облачка. Осенняя пора, скрывающая разочарованье. Нет ни бензопилы, ни топора, чтоб изменить порядок мирозданья. А потому, природу возлюбя, не обижаю комаров и мошек. Я, как матрёшка, спрятан сам в себя, не ведая количества матрёшек. Путь воина приводит к пораженью. Немыслимо довериться судьбе – и умножать чужие отраженья во мгле зеркал, и глухо лгать себе, что больше нет препонов и запретов… Я больше не увижу никогда, как, на осколки разбивая лето, во мне взорвётся новая звезда – и всё сожжёт. И – новый путь укажет. И я успею этот путь пройти… Как воздух плотен! И душист. И влажен. Я – путник? Или – часть его пути? На мыльном пузыре Земли сама земля – и то не вечна. Необязательные встречи, похожие на корабли, что мастерят из деревяшек в глубоком детстве на века. Гляжу в окно на облака – и вижу прошлое. Мне страшно, что никогда я не смогу от дел бессмысленных отречься. А мальчик вновь на берегу кораблики пускает в вечность. Если выкрасть боль из головы, то останется лишь сгусток пустоты – между гладкой плоскостью плиты и неровной плоскостью травы. Если вырвать голос – станет течь из разорванного горла пустота, пропадёт язык и сгинет речь – лишь трава, да тёмная плита, да зазор меж ними. Сколько лет власть меня пыталась обокрасть, кирзовый в душе оставив след. Я не признаю такую власть! Если вынуть память из меня – Можно из меня верёвки вить? Не пытайтесь время изменять – время невозможно изменить. Дети индиго приходят, ломая каноны. Прежнее время, прости! Заколачивай двери, жизнь уходящая! Сердце стучит монотонно: дети индиго – и люди, и птицы, и звери вас не поймут и не примут в унылые стаи. Стоит ли, право, печалиться, глядя сквозь стёкла светлых хрусталиков в мир из бетона и стали – в мир, у которого даже большие бинокли не различат ни гармонии, ни перспективы существованья под небом холодным и звёздным? Дети индиго, мне кажется, рано пришли вы. Дети индиго, пришли вы, мне кажется, поздно. Я слишком стар, чтоб знать на всё ответы. Я слишком молод задавать вопросы о таинствах любви и бытия. Как жизнь – уходит медленное лето – как дым от догоревшей папиросы, как ты уходишь из меня, как я – в осеннее ничто… Не беспокоясь, я задаю последние вопросы и узнаю последние ответы. А мимо громыхает ветхий поезд и в нём грустят последние поэты, вожди, священники, рабочие, матросы, которым больше нечего терять – их цепи волочатся по перронам, звенят о рельсы, поезд тормозя. И чудится дыханье января. И хочется пренебрегать законом. И переставить стрелки. Но – нельзя. Страна угрюма и дика под гнётом листопада. Плывут густые облака периода распада. Вода, закончив оборот, вокруг меня зависла. Меланхоличный самолёт без умысла и смысла гудит – как муха – тяжело, протискиваясь между пластами воздуха. Пилот, теряющий надежду, уходит на последний круг под звуки Альбинони. Выскальзывает жизнь из рук – разомкнуты ладони. И я не нужен никому в дичающей столице. И никому в моём дому мой самолёт не снится. Я предназначен небесам (так как земле не предназначен), и приходящим голосам, и незадачливой удаче… Мне мало места на Земле, я заблудился в лабиринтах сознания. В пустой золе не возродить огня. Старинный, слегка сентиментальный вальс звучит. И продолжают литься с небес осенние слова – и наполняются страницы холодной скорбью. Сколько раз я штурмовал ночные выси, непостижимые для чисел? Нечеловеческая власть во мне бурлила и кипела. Я возвращался пустотелый, уже ненужный небесам, и звёздам, и земле, и людям. И почему не знаю сам я знаю всё, что завтра будет? 2005 Т.Щ. Я пью полумрак листопада под запах древесной трухи. И кажется больше не надо забрасывать в бездну стихи. Кривые неровные буквы давно никому не нужны. Везут в магазины продукты и цены уже не важны, а книги стоят и пылятся на полках. Забытый рефлекс. И я ухожу удивляться в осенний, зияющий лес. Пригубишь чуток листопада – и мир погружается в тишь. И кажется – больше не надо… А ты всё стоишь и стоишь. Муза – разум, а как же иначе. Муза – разум, как ни посмотри. По ночам во дворе ветер плачет, пригибая к земле фонари. Слишком мутное время настало – слишком липкое, словно тавот. Пьедесталы стоят, пьедесталы. А на них – никого. Никого. И не хочется думать о вечной немоте, погрузившей народ в неизменные шкуры овечьи. Я не знаю таких докторов, исцеляющих злые недуги на просторах российских пустот, где кумир для людей – ржавый флюгер, а в полях – лишь пырей да осот. А я себя преодолеть, похоже, не хочу. Настало время заболеть и нанести врачу вполне бессмысленный визит. Здоровью вопреки, врач на листе изобразит анти-био-тики. И будут щупать доктора неравномерный пульс и самый умный аппарат из строя выйдет пусть. А за окном скользит метель навстречу февралю. И понимаю я теперь – как тяжело люблю. Предчувствуй и переусердствуй, отчаиваясь, познавай музы́ку до последних терций – и исправляй, и – исправляй в своей мелодии ошибки, трудись, не поднимая глаз, качая ноты в грубой зыбке, переворачивая пласт тебе отмеренного срока – до высохших чернил в пере! Не думай только о высоком холодном небе в ноябре. Сентябрь, похожий на вопрос, уже не требует ответа. Я помню всполохи берёз в конце расплавленного лета. Был август прян, и воздух чист, и нереальной чистотою сиял к стеклу прилипший лист, покрытый краской золотою. Флюоресцентная пора размыла контуры печали и стали внятными слова неизъяснимые вначале. Сфера, полная мрака, с редкой россыпью звёзд. Ни подсказки, ни знака. Где ответ? Где вопрос? Неизвестно. Но всё же – где создатель её – тёмной сферы? О, Боже, неужели враньё, что Ты есть? И на свете – лишь одна пустота. Заблудившийся ветер гонит призрак листа. Я – затерянный атом в бездне звёздных полей. Я живу виноватым на ладони Твоей. На рубеже, на Рубиконе двух исторических эпох молись, поэт, своей иконе и промежуточный итог не подводи. Ещё не вечер, ещё не время для свечей. Пока ещё гордиться нечем в краю ржавеющих мечей, в стране наивного народа и необузданных пространств. Струятся медленные воды немедленно впадая в транс у берегов моей отчизны и размывают рубежи. Пиши, поэт, без укоризны и понапрасну не дрожи на рубеже, на Рубиконе, – но только втуне не глаголь. Молись, поэт, своей иконе, где запечатлена юдоль. Н.Ш. Если я ухожу, ты не верь, что уже не вернусь, что уже никогда не случится на свете рассвета. Будет дождь по деревьям стучать – мой прерывистый пульс – ты его сосчитай на запястье холодного лета. Я останусь с тобой, даже если уйду навсегда, даже, если в ночи заблудиться сумеет дорога, ты не верь, что уже не вернусь – и ночная вода пусть стучит по стеклу и меня пусть напомнит немного. Если я ухожу, верь, что я непременно приду, даже, если крест на крест забиты забытые двери. А закончится дождь – отыщи в тёмном небе звезду – и она, подмигнув, в возвращенье, быть может, поверит. Я был когда-то симпатичен, печатью паспорта отмечен, но не кинематографичен. И понимал – гордиться нечем помимо смутного призванья, не приносящего дохода. И принимал неузнаванье в метро, подземных переходах, такси, троллейбусах, трамваях и прочих аэровокзалах – я правилен был и вменяем. И жизнь за это наказала. Весна давно не входит в круг моих сезонных предпочтений, но пробуждение растений под телеграфный перестук, не по весеннему весомых, прозрачных сфер – боготворю. Зачем пенять календарю, что вновь сработал в хромосомах не слишком внятный механизм организованный природой? У неба прохудились своды. Российский импрессионизм. Предназначение весны в том, что она необходима, как геометрии любимой определенье кривизны. Жить нелегко в начале века. Жить нелегко. А уходить – легко, когда твоя омега судьбы перетирает нить? Когда весь алфавит закончен и наступает пустота? И настигает стая гончих, как кролика или кота? Жить нелегко, но незаметно уходит жизнь сухим песком в воронку узкую. И лето, и осень кончились… Потом – иная жизнь, иные страны, совсем иные времена – молчать на иностранном стану, забыв о русском, и луна заглядывать вновь будет в окна, и будут возноситься ввысь слова, и снова выйдет боком тяжёлая чужая жизнь. Я отлучён от прошлого, прикован к настоящему – немного заполошному, некстати приходящему. Нескоро распогодится в стране неизменяемой, а жизнь течёт, как водится, водицей невменяемой, водицей мутноватою, а хочется – колодезной, мерцающей прохладою (забытою, как водится). Хоть вычитай, хоть складывай – она течёт непрошено – водица мутноватая. Другой и не положено. Июнь и ливень. Куст жасмина безумно бьётся за окном. Дом, вызывающе старинный, в неверном свете слюдяном тому свидетель. Лень и ливень. И ничего не различить. День был предельно примитивен. Жасмин и ливень. Хоть кричи! Июнь под гнётом властелина с небес низвергнутой воды. Замедленная ветвь жасмина в окно стучится. Знак беды. Предназначенье не свершилось – ужель державе суждено у Вседержителя в немилость впасть, и прокисшее вино надежд испить, и не напиться, и рвать рубаху на груди, и матереть, и материться, и вновь искать, и не найти отдельную от всех дорогу к густым кисельным берегам, и истово молиться Богу, и причислять друзей к врагам, и в сумеречном состояньи, ругнув погоду и виски, упасть в канаву утром ранним, и захлебнуться от тоски? Плеск озябшей Невы о гранит берегов. С неба сыпется сонная, стылая слизь. Здесь хранятся ключи от чугунных оков. Здесь в колодцах домов замедляется жизнь. Посмотри, Петербург, – я, почти не дыша, липкий воздух процеживаю, как ликёр. Хорошо в шалаше – жаль, что нет шалаша… Лишь имперский орёл надо мной распростёр обветшалые крылья. Сегодня уснуть не придётся. Мосты развели навсегда. Не пройти до конца этот проклятый путь – настигают меня у воды холода. Скрип уключин. Забытая лодка. Ау! Где хозяин? Его, видно, звали Харон. Летаргический Стикс стал похож на Неву. Крики чаек я путаю с граем ворон. Вот и осень кончается. Медленный дождь, не спеша, размывает державную спесь. А в столице Московии – серенький вождь и такая же серая влажная взвесь. Люблю проблемы перевода – не устаю переводить с небес низвергнутые воды в разбавленную ночью нить размытых слов. Какая жалость, что мне уже не суждено свою осеннюю усталость опять перевести в вино весенних чувств! Уходит лето, не забывая уходя, перевести осин сонеты на сумрачный язык дождя. Проблемы перевода вечны. Законы языка прочны. Слова верны и безупречны. Но переводы – неточны. Выше неба – только небо, только звёзды, только тьма – неоформившийся слепок бесконечности. Весьма необузданное нечто кружится над головой, а в затылок дует вечность: даже в шапке меховой – не старайся – не укрыться от дыхания пространств. Покидают небо птицы. Нарушается баланс между небом и душою, заблудившейся весьма. И не кажется большою жизни грубая тесьма. СОХРАНЕНИЕ ВИДА Сумрак чистый и глубокий проникает из окна. Пробудив во мне пороки, улыбается луна, улыбается нахально и уходит, хохоча, в облака. Пирамидально разгорается свеча. Выпит чай. Упала ложка. Я себе почти чужой. Из немытого окошка сумрак падает большой, сумрак падает громоздкий. Опрокинулась свеча. Света дымная полоска подмигнула, хохоча, и исчезла, не прощаясь. Я отчаянно продрог. Мне ещё бы чашку чая. Чашка чая – не порок. Пью её без опасенья. А в душе царит зима. Завтра будет воскресенье. Полусумрак. Полутьма 2006 Звенел мороз струной гитарной и исчезал почти бесследно плач колокольчика бездарный во мгле густой и беспросветной. Но, полюбив напевы вьюги и снега бедные кудели, мы позабыли друг о друге и больше помнить не хотели куда нас выведет дорога и плач валдайского разлива. И ты была на редкость строгой, а я – печальным и счастливым. Скрипели на ухабах сани в ветхозаветные минуты и почему, не зная сами, мы целовались почему-то – и растворялась в сердце льдинка, и пальцы на ветру немели, и мы умели под сурдинку внимать мелодии метели Ни вербально и ни тактильно ты меня не проймёшь. Ну, что ж… Дождь осенний идёт бессильно, поминутно впадая в дрожь. Мокрый шелест листвы нарушит равновесие навсегда. Подставляю наивно душу под ноябрьские холода и гриппозный промозглый ветер, заплутавший во мгле аллей. Я бесплотен и незаметен между сумрачных тополей. Я – тотален. А ты – фатальна. Но откуда же эта дрожь? Ни тактильно и ни вербально не понятен осенний дождь Слова исчезают, как след на сыпучем песке. Сгорают минуты бесплодно и неотвратимо. А я всё бегу и надеюсь в последнем броске поймать зыбкий смысл бытия. Но усилия мима заведомо тщетны. Я, бывший рабом языка, отрёкся от звуков и стал на мгновенье свободен. Пространство безмолвно. Печаль глубока и близка. И смысл бытия уловим. Но, увы, безысходен Когда отрешённость в природе достигнет последних высот – деревья уснут в позолоте застывших аминокислот. И будет над городом реять бесстрашный лесной паучок. И чашку разбитую клеить возьмётся седой мужичок, но тщетная эта работа ему не даётся никак: ведь золото – не позолота, а жизнь – не последний пятак. Работа не стоит усилий – забудь, мужичок, Хохлому. Разбитую чашку России не склеить уже никому Летят мухи вислоухие, помаленечку жужжа. За опушкой пушки ухают. Вниз по лезвию ножа солнце медленное катится за военный горизонт, а застиранное платьице раскрывается, как зонт. И танцует, безмятежная, под разбитый патефон, санитарочка небрежная – та, в которую влюблён покалеченный, израненный лейтенант наивных лет из столицы белокаменной. Но трофейный пистолет в кобуре надёжно прячется под подушкой у него и шуршит льняное платьице для него, для одного. Медсанбат. Цветочек аленький из бумаги, из цветной – в гильзе медной, в гильзе маленькой, в гильзе, пахнущей войной Я, заглянув на огонёк, надоедать не буду вам, но почему всё – поперёк и даже где-то пополам? Туман берёзовой тоски, печаль разнузданных полей – всё время давят на виски в стране неистовой моей. И эта головная боль во мне – занозой навсегда, как безответная любовь (бессмысленная, как вода). Но знаний горький леденец не принимается в расчёт, когда валдайский бубенец в метель уныло потечёт Тишина Наташина темперой окрашена, патиной подёрнута и дорогой торною вывезена греками, продана варягами за большими реками, длинными оврагами. И теперь бесценная тишина Наташина за глухими стенами спрятана ненашими под замками медными. Мы грустим-печалимся: тишина – несметная, а поди ж – кончается Покурлыкав, улетели годы – кажется на юг. Долго провода гудели, искажая долгий звук. Машинисту дела мало. Пассажир уходит прочь от случайного вокзала в нескончаемую ночь. Ночь – кромешней не бывает. Одинокий пешеход медленно багаж роняет и идёт на эшафот, где ни зрителей, ни судей – только стылая вода с неба сыпется. Не будет ничего. И никогда Мадонна, ответь, где младенец – ты держишь в руках пустоту. Вторгается век-чужеземец, в квадрат, отведённый холсту – и кровью пятнает доспехи, и брата преследует брат, и вехи меняя на вехи, вторгается чёрный квадрат в реальность, лишённую смысла, где пепел летит над золой, и чувства похожи на числа в стране беспощадной и злой, Создателя нет в человеке – и души сгорают в огне. Нет смысла в бессмысленном веке. И нет человека во мне Признайся, ты прожил бесцветно свою недалёкую жизнь. Останется горсточка пепла, летящая медленно вниз. Останутся – слово, и книги, и память недолгая, но… Религий фальшивых вериги тебя не спасут всё равно. А ты, словно бабочка, бьёшься о старенький пыльный фонарь и кажется – не разобьёшься, но кончился твой календарь нечаянно и безвозвратно. И звёзды, ворвавшись в глаза, укажут жестоко и внятно, что ты ничего не сказал Стеклянное солнце дробится в окне. Глухая печаль листопада. Разруха в природе. Но хочется мне тяжёлую гроздь винограда сорвать с одряхлевшей грузинской лозы – и сквозь изумрудные сферы на небо взглянуть без привычной грозы с привычным предчувствием веры. А небо плывёт над моей головой, тяжёлое русское небо и, следуя неотвратимо за мной, глядит неразумно и слепо Суббота. Колокол и гул. Машины шины стёрли. Тебя забыть я не могу. И кофе стынет в горле. Напиток этот не хорош – в нём горечи сверх меры. Не хочешь пить, а всё же пьёшь из чашки мутно-серой. А за разомкнутым окном июль листву латает. Хронометр, как метроном, стучит, не умолкая. И сердце медленней стучит. И ничего не хочет. На подоконнике ключи и кофе цвета ночи. И можно тщетно наблюдать разводы тёмной гущи, но ничего не разгадать ни в прошлом, ни в грядущем Время пахнет заведомой грустью, и палой листвою, и песком из разбитых часов пополам со стеклом. Сны идут чередой, и меня разделяют с тобою, и железным засовом закрыт покосившийся дом. Время пахнет иллюзией, медленно траченной молью, нафталином, с которым в ладу неизменная моль. Я тебя позову – долгий звук отзывается болью. Я молчу – и во мне постепенно рождается боль. Время пахнет пространством, которое нас искажает. Королевство разбитых зеркал у меня за окном. Собираю часы скрупулёзно – работа большая: слишком много песка и осколков, таящихся в нём Обалдев сего числа, невзирая на погоду, вижу тетку без весла у разрушенного входа в некогда культурный парк, где ржавеют карусели, где с афиши Жанна Д’Арк наблюдает, как мы сели на облупленный каркас, бывший некогда скамейкой. Я кроссовкой адидас пнул зелёную копейку ржавой жизни. Ни на грош я в душе не изменился: пьёшь студёный ветер, пьёшь – и не веришь, что напился. И не хочешь вспоминать о минувших днях и годах. Что бы мне ещё сломать у разрушенного входа в прошлый век? Сего числа не забудь весло, подруга, – на Руси да без весла жить невесело и туго Листва обрушилась внезапно. Под ветром сад дрожит с утра. И кажется – не будет завтра. И веришь – не было вчера. Период кончен листопада. Сад в ожидании зимы. А я пропитан едким ядом горящих листьев, но дымы воспоминаний неуместных развеивая навсегда, я забываю зов небесный и призываю холода. Мой сад прозрачен, и безлюден, и к холодам давно готов. И, кажется, – плодов не будет. И, веришь, – не было плодов Горит мандариновый праздник – последний семейный оплот. Что может быть в жизни напрасней, чем новый заведомый год? Мороз, и снежинки, и ёлки в блестящей лапше мишуры – загонят под ногти иголки наивного детства. Шары стеклянные вновь разобьются, но полно о них горевать! И торт на весёлое блюдце мне мама положит опять, и будет подарок томиться в укромном углу до утра. Оттаявшей ёлке живицей сочиться настала пора. И будет глоток лимонада пускать в хрустале пузыри, и вновь загорится ограда от спички январской зари. Зачем пробуждается память, которую трудно терпеть? А ветхого детства пергамент горит. И не может сгореть 2007 Рождественские сны, и снег, струящийся в окно который год, который век… Предопределено мне жить в России навсегда, чтоб в сумерках души рождественские холода лелеять, и тужить о незатейливых мирах, затерянных во мгле, и, превращающихся в прах, бумагах на столе, и ждать весенние лучи, вмороженные в лёд… А музыка – уже звучит. Но снег – ещё идёт Я элегичен и устал, и лампа синяя горит, но голова моя – пуста и Бог со мной не говорит. Чуть слышен шорох тишины, но я гармонии лишён – и небеса обожжены, и я безверьем обожжён. За дверью – тысячи дорог и в огороде бузина. Не говорит со мною Бог – и в голове царит зима О.Т. Это та же вода – тощий дождь, превращающий снег в серый сахарный наст на исходе настырной зимы. Мир вращается и завершается в нём человек – потаённый сосуд для воды, что у неба взаймы ненадолго берёт Демиург. Я тебя позову – мой расплывчатый крик исчезает бесследно вдали, где деревья грустят, потеряв безвозвратно листву, и над городом кружат, сужая кольцо, феврали. Я почти растворится в метели, в последних снегах. Как хрустит под ногами шершавый, нетронутый наст! А судьба близоруко плутает по миру впотьмах и не может найти в замирающем времени нас Когда луна по краю ночи плашмя ударит серебром, когда расхочешь жить как хочешь, и бес в ребро, когда ребром вопрос перед собой поставишь: быть или быт, и сквозь века восторг осатаневших клавиш не пробудит в тебе врага ночной разомкнутой свободы, когда ты встретишься с врагом, когда ни выхода, ни входа – лишь бег по кругу, а кругом – всё тот же снег, всё та же сырость, всё та же тень большой вины – тогда поймёшь, что это – милость: безжалостный удар луны Вот мы и дожили. Вот мы и – до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. Месяц, седою тряся бородой, нас вспоминает с трудом. Лес обездвиженный сипло шумит, листья совсем растеряв, и возникает щемящее «ми» в самой последней из глав повествования. Вот и се ля ви на продрогшей земле. Медленно звякает медное «ля» в кружке фаянсовых лет. Вот мы и дожили. Вот мы и до… Вот и пришли холода. Звёзды бесстрастно горят над водой. И замирает вода Вполне безумная эпоха без карт, руля и тормозов путь завершила – век-пройдоха, чей взгляд бесстыдно бирюзов, пришёл на смену. Заповеден мой край зияющих берёз, изнемогающих от меди. Туман невоплощённых грёз таится в спутанных пространствах страны безумной. Как всегда с необъяснимым постоянством гудят под током провода. Гудит история под ветром вполне бессовестных времён. И медленно, по сантиметру сжигает листья чёрный клён Отринув меркнущий огонь усталого светила, иду по влажной мостовой, как будто по лучу. Ты помнишь – я тебя любил и ты меня любила. А больше… Больше ничего и помнить не хочу. Но вторгнутся в мои глаза размытые страницы московских улиц, и дворов пергаментный покров, и выцветшие небеса дешёвенького ситца, и сизый стелющийся дым заброшенных костров, и первый снег на фонарях, и приглушённый вечер. А ты холодные слова мне бросишь на бегу – и я пойму, что за любовь мне расплатиться нечем. А больше… Больше ничего и вспомнить не смогу Если вечность поделить на отрезки – вереница получится жизней. Не держись за зыбкий край занавески – пусть она под тяготеньем провиснет. Пусть она не закрывает, что было, но надёжно утаит то, что будет. Баба с возу – легче лишь для кобылы. Мы – пещерные, но всё-таки – люди. Неразумные творения Бога, нам умом своим не стоит гордиться. Ты не трогай меня, недотрога, а не то пересечёшь вереницы наших жизней – и сольются отрезки, наши вечности, как ластик, стирая. Не держись за зыбкий край занавески – занавеска ничего не скрывает Искусство – это ложь, в которой нет намёка безоблачной судьбы, счастливого пера. Я знаю, что от слов нет никакого прока, в отличие от дел простого столяра. Искусство – это боль отчаянья ночного, когда ты оглушён последней запятой, и хочешь закричать, и не находишь слова, и залита гортань вселенской пустотой. И только краткий миг случайного прозренья искупит эту боль, похожую на ложь, и эту маету, достойную презренья, и беспощадный мир, в котором ты живёшь В стране неизвестных солдат истории нет и в помине. Летальная жизнь – самиздат судьбы. Исказившихся линий не стоит искать на руке и в гущу кофейную верить – не стоит. Я сжат в кулаке железных времён и империй. Мне некуда больше бежать, внимая упрёкам Отчизны, – меня исказила межа любви к искажению жизни. Но эта фатальная ложь ладони разрезавших линий мила, как бросающий в дрожь отверженный запах полыни Ты говоришь: «Бог». Я говорю: «Миг». И подвожу итог, взятый из книги книг. И исчезает страх. И умолкает смех. Солнце на куполах не прекращает бег. Так наступает март – месяц длиною в жизнь. Крутится синий шар, хочет сорваться вниз. Как ни хитра голь, всё-таки между строк вновь проступает: «Боль», а понимаешь: «Бог» Не будите уснувшего Бога, не будите – он не виноват, что мы снимся ему. Пусть немного Бог поспит. Сновиденья назад прокрутить невозможно – иначе потеряется смысл бытия. Мир есть сон. Нам судьбою назначен долгий путь, где пространства таят сны во сне. Разветвляя дорогу, мы присвоили право Творца. Не будите уснувшего Бога. Дайте сон досмотреть до конца Позабудь приземлённые будни. Отрекись от земной оболочки. В чистом поле растут незабудки, к сожалению, это – цветочки. Сколько было холодного света! Сколько звёзд в обнажённом пространстве! Расплескалось бездонное лето – и деревья в казённом убранстве охры, сурика и киновари совершают бросок в летаргию. Шелестят под ногами бульвары. Вот и ягод осенние гири созревают в привычном контексте, выражая привычные смыслы. Позабудь о насиженном месте. За окном завершаются листья В декабре одиночество вышло, как зонтик, из моды. Завернувшись в ненастье, я брёл неизвестно куда. Над Москвою кружились такие глухие погоды – хоть выкалывай глаз – ничего, кроме мглы. Жажда льда пересилила жажду воды. Я тебя понимаю, словно Кай, позабывший… А, впрочем, не будем о том. Я тебя полюбил в аллергичном, удушливом мае. Мне тебя предсказал Аристотель. А позже – Платон. Не внимая советам, бредя занесённой Москвою, я тебя повстречать не надеялся в снежной пыли. До краёв наливаясь привычною липкой тоскою, фонари мне навстречу толпою угрюмой брели. Ах, Россия – Лапландия двадцать последнего века, только чудо и вера сумеют тебя сохранить. И бредёт человек. А потом – только тень человека. А потом – пустота. Не заполнить и не заменить Ты и я – мы двоичный код для компьютера бытия: если время нарушит ход, мы спасём его – ты и я. Если в солнце иссякнет свет, если в небе случится дождь – мы исправим программу. Нет, я – не истина, ты – не ложь: мы двоичный код бытия, мы всего лишь двоичный код. Нагадает ворожея – и меняем мы день на год, а потом год на целый век, нам отпущенный, может быть. У слиянья великих рек вод забвения не испить, и разлуки не испытать – мы всего лишь двоичный код. Застывает речная гладь. Начинается новый год Век непреодолим. И бритва – безопасна. У пламени свечи сомнительная форма. Я с детства уяснил – история напрасна, и сделана скупой рукою бутафора. Но мы снуём среди картонных декораций, внимая муляжам придуманных событий. И падает листва с пластмассовых акаций. И продолженья ждёт отчаявшийся Зритель. А мы с тобой сбежать пытаемся из круга начертанных судеб, из плена маскарада, что б больше никогда не испытать испуга от таянья времён эпохи рафинада Изнемогая от жары, деревья впали в летаргию, под грубым панцирем коры скрывая сок. В пруду круги я преумножаю между тем, бросая в медленную воду глухие камешки лексем. И погружается в дремоту среда, которой окружён и взят в полон застывший город. Лишь пруд жарою пощажён на время. Горизонт распорот – его пожалуй не зашьёшь суровой ниткою ненастья. Но есть – вода. И жадно пьёшь неисчерпаемое счастье Запомни: я тебя забуду на рассвете. Когда последний дождь пошевелит листву – расстанемся. И впредь ни на одной планете я больше никогда не вверюсь колдовству размытых фонарей эпохи листопада. Слова теряют смысл, когда последний дождь, и жухлая листва, и влажная прохлада сливаются в душе. И порождают дрожь. И умножают страх. Я больше не увижу, как падает с небес осенняя вода. Запомню: дождь с утра стучит по скатам крыши. И больше – ничего. И больше – никогда Поэты вид не сохраняют. Но если падает звезда, и небо сизое линяет, и стынет поутру вода – пора и за спасенье вида начать бесплодную борьбу. Я – пехотинец алфавита. Я выбрал время. И судьбу. Как на морозе сводит скулы! Какие жёсткие ветра! Литература на посулы щедра. За росчерком пера стоят утраты и потери. А в жилах медленно горит тяжёлая вода – дейтерий. Поэты сохраняют вид Замедленно тебя роняю, но ты не падаешь на землю – я тяготенье отменяю, и голосу вселенной внемлю, и искажаю перспективу, и изменяю скорость света. В ненастье долго быть счастливым доступно изредка поэтам. Такое длительное время с растянутыми облаками не поддаётся теореме, не вписывается в регламент текущей жизни. Изменяя ход осени в суровых лицах, я Землю медленно роняю. Земля, сумей остановиться Топлёное небо приспело к обеду. Фарфор архаичен и скатерть бела. Сегодня я вновь никуда не уеду. Но лист опустился на плоскость стола – и скатерть забыла былое величье, крахмальную гордость и княжеский нрав, и Бог говорит на наречии птичьем со мной, все законы и нормы поправ. Смиренно внимая Его клекотанью, пытаюсь ответить, но тень от листа упала на скатерть. Синдром увяданья внедрился в меня, затворяя уста. Я, не соответствуя важности мига, пытаюсь разрушить барьер немоты, но падает наземь осенняя книга, теряя в полёте пустые листы Вчера случится завтра. Тасуй судьба минуты простого космонавта Челлини Бенвенуто. Зачем тебе, Челлини, невыносимый космос, зелёный шарик синий и вечные вопросы? А он не отвечает, беспечный Бенвенуто, но головой качает печально почему-то. След на скафандре белом средневековой краски (рисует, между делом, Челлини без огласки). Заведомый художник, тебе не докучают ромашки, подорожник, и сурик иван-чая? Над далью пустотелой в ракете пресловутой летает очумело Беллини Ченвенуто. Если зима, замыкая круг, долго подглядывает в окно – не торопись испытать испуг – я ведь с метелями заодно, я ведь к морозам давно привык и полюбил серый, чёрствый снег. Так отчего же застыл и сник этот, едва наступивший век? Холод полуночи. Дикий час. Время опять потекло назад. Это зима проверяет нас, глядя в оттаявшие глаза. Серые тени. Фальшивый нимб призрак примерит очередной. Ты привыкай не бояться зим, слыша шаги за своей спиной 2008 Прощай. Опять одно и то же – и та же ночь, и тот же день, слова, привычные до дрожи, что даже выговорить лень. Привет, национальный ужас литературного вранья – ты снова стал любим и нужен, ввиду державного нытья. Моя последняя удача, прощай, – я больше не хочу писать, и ничего не знача, поэтом слыть. Пора врачу в моём недуге разобраться и спину превратить в дугу. Прощай. Я не хочу казаться. А быть, похоже, не могу Место встречи – Торонто. Запредельная даль. В перекрестье оконном исказилась печаль. Только ночь, да ограда, да расплывчатый мрак. Суета снегопада. Лай бездомных собак. Что случилось на свете, что случится должно – знает северный ветер. Да слепое окно. Полуночный осадок для гаданья не гож. Да и сахар не сладок, если истина – ложь У девочки душа в руинах. Жизнь навсегда не удалась – не получается малины с куста соседского украсть. Как та малина крутобока и влажной спелости полна! Тень первородного порока в глазах у девочки видна. Но первобытные порывы плетень не может удержать – ведь это так несправедливо, что пропадает урожай. Ей не дано остановиться – прости, малина, и прощай сосед, уехавший в столицу, на выходные. Невзначай. Предчувствие грядущей гулкой речи, в которой стёрты сонмы языков, как в океане – реки. Атом – мечен. Бог не играет в кости. Черепков отыщут археологи немало и будут спорить долгие века о русском слове, что существовало, но растворилось в море языка. Пиши Платон о новой Атлантиде и тщательней расспрашивай жрецов – утраченные тайны русских литер откроются тебе в конце концов, но кто поверит? – только пирамиды да чудом уцелевшие слова. От затонувшей русской Атлантиды останутся лишь мифы и молва Звени, мой медный друг, бубенчик из Валдая! Тревожный перестук полночного трамвая, в тягучей тишине распространившись плоско, напомнит обо мне – и капелькою воска покатится слеза, след матовый оставив. И нет пути назад. И нет на свете правил, которые бы я сегодня не нарушил! Бубенчик бытия звенит по наши души Я превращаю женщину в слова, которые она не замечает, щепотку металлического чая бросая в чайник. Путы колдовства, легко разъяв, она уходит прочь – в пустое небо, павшее на землю. Я превращаю женщину и внемлю ночным словам, не в силах превозмочь её неверие в меня и в чудеса за гранью понимания и смысла. Я – винтик мирового механизма, Я – миг, забытый вечностью в часах. Зима вступает медленно в права, разъяв на ноты таинство созвучий. А женщина бросает взгляд колючий и ноты превращаются в слова. Чем мне заполнить пустоту, гудящую во мне? Вселенную изобрету – и свет в твоём окне не будет гаснуть никогда, ты слышишь? Этот свет раскачивают провода в которых проку нет – твой телефон давно молчит, молчит который год. Свечи дрожащие лучи изводят кислород и производят пустоту, дрожащую в окне.. Чем мне заполнить темноту, забытую во мне? Я так тебя люблю, что невозможно эдак расположить слова, на краешке стола страницу исписав, без правок и пометок. Подкрадывался дождь. А ты уже спала и изучала сны подробно и прилежно. Украдкой отключив будильник навсегда, я осознал – любовь на свете неизбежна и вспомнил терпкий вкус густого слова «да». Какой июль стоит! И уходить не хочет. Но пламя вглубь свечи ползёт по фитилю. И сердце, как всегда, сжимается в комочек и медленно стучит: я-так-те-бя-люб-лю Твоё дыханье на плече Твоё неровное дыханье и профиль тающий в луче луны – мои воспоминанья. Нас разделяет тишина и ночь от края и до края. Завистливо висит луна, ни капельки не понимая, что нам с тобой никак нельзя жить врозь на этом белом свете. Минуты медленно скользя, гремят по желобу столетий, где неизбежность и печаль соединились между делом. И больше незачем кричать и жить на этом свете белом А завтра будет смерть. Студёная. Большая. И даже по кривой её не обойти. Листва теряет смысл, стремительно ветшая. И обретает смысл душа. Развоплоти меня, картонный бог, придуманный в насмешку наивными людьми в песочнице веков! Горизонталь пуста. Очередная пешка застыла у черты. В тумане облаков растворена звезда. Полынь суха и терпка. Бездонная дыра пульсирует в груди. Мне снова предстоит привычная проверка – очередная смерть. И вечность впереди Прерви полёт и больше не стремись в ночное небо. Твой удел – забыться в земных делах. А сумрачная высь и без тебя не рухнет на столицу. Песчаный город хрупок и спесив – не жалует свободных одиночек – из рукописи выбросив курсив, стихотворенье спрячет под замочек. Полёты над Москвой запрещены, изъяты засекреченные карты на случай не начавшейся войны. И крыльями забиты все ломбарды Ночь вьюжная, разбойная, лихая в карманах грубо шарит у прохожих. Кот, сладко щурясь, молоко лакает и выглянуть в окно никак не может. А снег идёт, не ведая прелюдий, от глаз скрывая местные изъяны, и кот ехидно думает, что люди недалеко ушли от обезьяны. И длится ночь. А кот уснуть не может и вспоминает о минувшем лете, под нос себе мурлыча, и до дрожи не понимая – что там в кабинете хозяин пишет у зелёной лампы, тяжёлые удерживая веки. Кот засыпает, нос упрятав в лапы, не видя смысла в этом человеке Закрытыми глазами лучше видно, особенно – когда ты в темноте застыл в своём кирпичнике термитном (или термитнике кирпичном?), в пустоте громоздких ящиков бессмысленно набитых великой мудростью скончавшихся веков, в хитросплетеньях круговой орбиты луны, запутавшейся в вате облаков… Лишь шорох тишины, лишь тьмы палитру, лишь бесконечно трудный русский край – закрытыми глазами лучше видно. Пожалуйста, ты их не открывай! Пейзаж был не преображён – зимою снега не случилось. И почему – скажи на милость – мне этот воспалённый тон? Декабрь был явлен как всегда – на фотоплёнке чёрно-белой. И дверь по-прежнему скрипела, не закрываясь без труда. Смеркалось рано. Тёмный дождь не предвещал нежданной встречи, горячечной и скоротечной, но я предчувствовал – ты ждёшь – но я тогда не понимал в тисках застенчивой гордыни, что умирают молодыми. Любовь – естественный финал, что прост, весом, прямоуголен. Но чёрно-белая зима меня в тот раз свела с ума – и я болезнью был доволен! Оказалось, что это не важно – понимать, что тебя кто-то ждёт в этом мире. А важен – влажный южный ветер. И наперечёт – те кто нужен тебе в этом мире, от которого с детства устал. Вот и сбылся сон о конвоире, загоняющем на пьедестал. А моё тяготенье к побегу на поверку не стоит гроша. Если альфу сменить на омегу, то останется только душа – невостребованное наследство по-цыгански накопленных лет и кораблик бумажного детства, у которого имени нет Я – без вести пропавший – без войны. Я – лагерная пыль «отца народов». Мои следы давно занесены снегами под упавшим небосводом. Ударник подневольного труда, я – атом за кавказским голенищем вождя. Я – соль земли. Я – лебеда в баланде, выделяемой для нищих строителей бессмысленных мостов по вектору очередного «изма». Я – пустота, как тысячи пустот, исторгнутых бездушным механизмом безжалостной страны. Меня здесь нет. Я стёрт из памяти былых друзей и близких. Я – свет звезды погасшей. Только свет. Я – десять лет без права переписки Липкий запах акаций над пустынным двором. Заводные двенадцать и футбол за углом на разбитой площадке, где травы не найдёшь. У облезлой палатки, где за ломаный грош жадно пил газировку без сиропа – и пусть – есть конфета «Коровка»! Вспоминал наизусть я ушедшее лето, дом в котором я рос… И вопрос без ответа. Без ответа вопрос Истеричные вскрики исторических дат. Быть не может великим неизвестный солдат. Не придёт похоронка на рассвете домой – в неглубокой воронке он засыпан землёй. На него не напишет представленье комбат. Не попробует вишен неизвестный солдат. У полоски запретной на рассвете войны он погиб незаметно для огромной страны. Что убит был вначале – в том он не виноват. Разве мы замечали неизвестных солдат? Никем нежданная прохлада в июль вливается рекой. Полвечности до листопада. В природе нега и покой пришли к согласью ненадолго. Но лето кончилось уже. Безвременье тупой иголкой напоминает о душе. Не находя себе приюта, разбавленная пустота в меня вливается. Распутать судьбу не стоит – неспроста все эти узелки тугие Создатель нанизал на нить, а все поступки неблагие – ни отменить, ни изменить Сколько лет прошло, сколько зим – годы трудно перебирать. Скачет по небу апельсин и не стоит о том стенать. Вот и времени мне – в обрез. Вот и близок уже исход. Тяги нет к перемене мест. И привычен запретный плод. Звёзды падают не спеша. Бесприютен осенний свет. Истончилась совсем душа и обратного хода нет. И пора подводить итог без сомнений и без прикрас. Но глядит неумелый Бог из тетрадки за первый класс.