Чудо как событие в слове В. Нестеренко
advertisement
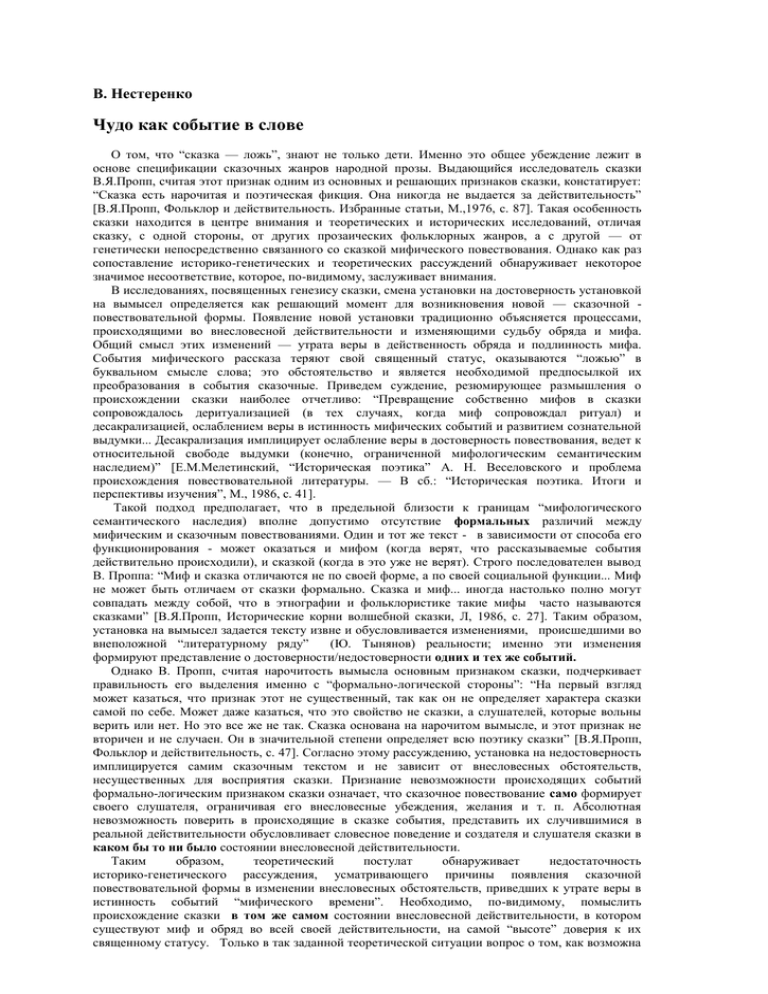
В. Нестеренко Чудо как событие в слове О том, что “сказка — ложь”, знают не только дети. Именно это общее убеждение лежит в основе спецификации сказочных жанров народной прозы. Выдающийся исследователь сказки В.Я.Пропп, считая этот признак одним из основных и решающих признаков сказки, констатирует: “Сказка есть нарочитая и поэтическая фикция. Она никогда не выдается за действительность” [В.Я.Пропп, Фольклор и действительность. Избранные статьи, М.,1976, с. 87]. Такая особенность сказки находится в центре внимания и теоретических и исторических исследований, отличая сказку, с одной стороны, от других прозаических фольклорных жанров, а с другой — от генетически непосредственно связанного со сказкой мифического повествования. Однако как раз сопоставление историко-генетических и теоретических рассуждений обнаруживает некоторое значимое несоответствие, которое, по-видимому, заслуживает внимания. В исследованиях, посвященных генезису сказки, смена установки на достоверность установкой на вымысел определяется как решающий момент для возникновения новой — сказочной повествовательной формы. Появление новой установки традиционно объясняется процессами, происходящими во внесловесной действительности и изменяющими судьбу обряда и мифа. Общий смысл этих изменений — утрата веры в действенность обряда и подлинность мифа. События мифического рассказа теряют свой священный статус, оказываются “ложью” в буквальном смысле слова; это обстоятельство и является необходимой предпосылкой их преобразования в события сказочные. Приведем суждение, резюмирующее размышления о происхождении сказки наиболее отчетливо: “Превращение собственно мифов в сказки сопровождалось деритуализацией (в тех случаях, когда миф сопровождал ритуал) и десакрализацией, ослаблением веры в истинность мифических coбытий и развитием сознательной выдумки... Десакрализация имплицирует ослабление веры в достоверность повествования, ведет к относительной свободе выдумки (конечно, ограниченной мифологическим семантическим наследием)” [Е.М.Мелетинский, “Историческая поэтика” А. Н. Веселовского и проблема происхождения повествовательной литературы. — В сб.: “Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения”, М., 1986, с. 41]. Такой подход предполагает, что в предельной близости к границам “мифологического семантического наследия) вполне допустимо отсутствие формальных различий между мифическим и сказочным повествованиями. Один и тот же текст - в зависимости от способа его функционирования - может оказаться и мифом (когда верят, что рассказываемые coбытия действительно происходили), и сказкой (когда в это уже не верят). Строго последователен вывод В. Проппа: “Миф и сказка отличаются не по своей форме, а по своей социальной функции... Миф не может быть отличаем от сказки формально. Сказка и миф... иногда настолько полно могут совпадать между собой, что в этнографии и фольклористике такие мифы часто называются сказками” [В.Я.Пропп, Исторические корни волшебной сказки, Л, 1986, с. 27]. Таким образом, установка на вымысел задается тексту извне и обусловливается изменениями, происшедшими во внеположной “литературному ряду” (Ю. Тынянов) реальности; именно эти изменения формируют представление о достоверности/недостоверности одних и тех же событий. Однако В. Пропп, считая нарочитость вымысла основным признаком сказки, подчеркивает правильность его выделения именно с “формально-логической стороны”: “На первый взгляд может казаться, что признак этот не существенный, так как он не определяет характера сказки самой по себе. Может даже казаться, что это свойство не сказки, а слушателей, которые вольны верить или нет. Но это все же не так. Сказка основана на нарочитом вымысле, и этот признак не вторичен и не случаен. Он в значительной степени определяет всю поэтику сказки” [В.Я.Пропп, Фольклор и действительность, с. 47]. Согласно этому рассуждению, установка на недостоверность имплицируется самим сказочным текстом и не зависит от внесловесных обстоятельств, несущественных для восприятия сказки. Признание невозможности происходящих событий формально-логическим признаком сказки означает, что сказочное повествование само формирует своего слушателя, ограничивая его внесловесные убеждения, желания и т. п. Абсолютная невозможность поверить в происходящие в сказке события, представить их случившимися в реальной действительности обусловливает словесное поведение и создателя и слушателя сказки в каком бы то ни было состоянии внесловесной действительности. Таким образом, теоретический постулат обнаруживает недостаточность историко-генетического рассуждения, усматривающего причины появления сказочной повествовательной формы в изменении внесловесных обстоятельств, приведших к утрате веры в истинность событий “мифического времени”. Необходимо, по-видимому, помыслить происхождение сказки в том же самом состоянии внесловесной действительности, в котором существуют миф и обряд во всей своей действительности, на самой “высоте” доверия к их священному статусу. Только в так заданной теоретической ситуации вопрос о том, как возможна абсолютная невозможность происходящих в сказке событий, может оказаться предметом научного размышления. Блестящий результат проведенного В. Проппом исследования волшебных сказок привел ученого к выводу о необходимости их жанрового выделения именно на композиционной основе: “к волшебным причисляются фантастические сказки, сказки, в которых есть волшебство, фантастичность. Этот признак мы никак не можем признать научным или даже точным… мы скажем, что волшебную сказку надо определять, используя не расплывчатое понятие волшебности, а присущие ей закономерности” [В.Я.Пропп, Русская сказка. Л., 1984, с. 174]. Но это понятие, по-видимому, не может быть устранено и при описании морфологической модели сказки, так как оно включено в целый ряд неустранимых из сказочного “хода” функций. Такова, например, функция XIV “В распоряжение героя попадает волшебное средство”. С точки зрения В.Проппа именно на этом этапе “сказка достигает вершины. С этого момента конец уже предвидится... Герой теперь твердо идет к своей цели и знает, что он ее достигнет” [В.Я.Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 166]. Сам же герой с точки зрения своей значимости для хода действий (принцип, положенный в основу построения морфологической модели) определяется в перспективе от случившейся встречи с дарителем: “В ходе действия герой — это лицо, которое снабжается волшебным средством и используется или обслуживается им” [В. Я.Пропп, Морфология сказки, М., 1969, с. 48]. Очевидная значимость “понятия волшебности” убеждает в необходимости устранения не его самого, а обусловленной некритическим словоупотреблением “расплывчатости”. Последовательное исследование архитектоники “абсолютно невозможного” события неизбежно подтвердит результаты проведенного В.Проппом анализа композиционной структуры волшебной сказки. В этой работе речь будет идти о специфике чудесного именно в волшебных сказках (в классификации В. Проппа) как наиболее изученных и в историческом, и в теоретическом отношениях. Рассмотрим пример из книги В. Проппа “Исторические корни волшебной сказки”. Один из известных сказочных мотивов — выкармливание героем найденного им животного: “В сказке о “Морском царе и Василисе Премудрой”… герой хочет убить орла, но тот просит выкормить его... “Возьми меня лучше к себе да прокорми три года”... Орел оказывается чрезвычайно требовательным и прожорливым, но герой терпеливо носит ему все, что тот требует. “Мужик послушался, взял орла в избу к себе, стал его кормить мясом... Семья была большая — стали на него ворчать, что он весь на орла проживается”...” [В. Я.Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 167]. Поиск исторических корней этого мотива приводит В.Проппа к выводу о связи его с древнейшими тотемическими верованиями, основанными на представлении о единосущии человека и животного: “Здесь перед нами вполне историческое явление. У сибирских народов орлы выкармливались, и выкармливались с особой целью. “Его следует кормить до самой смерти, — говорит Д. К. Зеленин, — и затем — хоронить. — Никогда не следует в этих случаях жаловаться по поводу расходов, связанных с пропитанием орла: он заплатит сторицей” [Там же]. Сказочное событие, однако, отличается от соблюдения обычая, то есть перед нами одна из ситуаций, которые В. Пропп называет переосмыслением (“обращением”) обряда сказкой. Отличие заключается в том, что герой не видит смысла в кормлении птицы, это действие и ему и окружающим кажется совершенно бессмысленным и обременительным. Если при соблюдении обычая “жаловаться по поводу расходов, связанных с пропитанием орла” не полагалось, то в сказке на героя, взявшего в дом орла “стали... ворчать, что он весь на орла проживается”. В чем же причина такого “обращения”? На первый взгляд процесс десакрализации, то есть ослабление веры в действенность обрядовой практики, объясняет эту ситуацию; таков же и вывод В. Проппа: сказочный мотив “интересен тем, что он отражает в себе элементы разложения обряда, он показывает, что сказка содержит позднюю стадию его... Кормление орла показано как нечто, что герою в тягость, как нечто ненужное и бессмысленное. “Орел так много поедал, что всю скотину поел; не стало у царя ни овцы, ни коровы... Царь везде занимал скотину и целый год кормил орла” ...Таким образом ненужность и непонятность здесь выражена довольно ясно. Последующее обогащение есть чудо” [В.Я.Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 168, 169]. Однако если предположить, что сказка возникает в том состоянии действительности, когда в действенность обрядовых предписаний уже не верят — то есть не верят в орлов, приносящих благополучие в благодарность за спасение, — то как объяснить, что выкармливание орла в сказке все-таки вознаграждается? “Награда, действительно, не заставляет себя ждать. “Спасибо тебе, мужичок! Вот тебе злато и серебро, и каменье самоцветное, бери сколько душе угодно!” [Там же] Разложение обряда должно было бы привести к утрате веры в достижимость посредством исполнения обычая благоприятных для исполнителя результатов, в сказке же эта вера, безусловно, сохраняется. По-видимому, изменение состояния внесловесной действительности - разложение обряда — не объясняет, почему герой сказки совершает требуемые обычаем действия, не понимая их причин и целей. Такая сказочная ситуация подтверждает необходимость искать причину переосмысления обряда сказкой в том же самом состоянии действительности, в котором вера в подлинность и результативность требований обычая несомненна. То, что герой сказки не понимает причин и целей собственных действий, обусловливает чрезвычайно важное обстоятельство: последующее обогащение воспринимается героем сказки как чудесное событие. Возможно ли такое восприятие при условии сохранения веры в смысл и действенность обычая выкармливания найденной птицы? Очевидно, что посвященный в этот смысл — то есть в тайну единосущия человека и орла — таким незнанием не обладает. Событие обогащения не может быть воспринято им как чудо, так как для него существует строго обусловленная причинно-следственная связь между выкармливанием орла и необычайным богатством. Не посвященый же в эту тайну (известно, что тотемические мифы находились под запретом) просто не увидит зависимости между обогащением и смертью когда-то выкормленной птицы. Для него между этими двумя событиями не существует вообще никакой связи, наличие которой так же необходимо для восприятия случившегося как чуда, как и неожиданность обнаружения связи. Для посвященного получение богатства не окажется неожиданным, оно будет закономерным следствием строгого соблюдения обрядовых предписаний. Для непосвященного же оба события — выкармливание и обогащение — будут как-то мотивированы сами по себе, но не связаны между собой как причина и следствие. Для того чтобы событие обогащения было воспринято как чудо, необходимо, по-видимому, одновременное выполнение двух условий. Во-первых, совершенная очевидность и несомненность происшедшего — в данном случае приобретения богатства благодаря выкормленному орлу. Во-вторых, столь же очевидная невозможность существования подобной зависимости, ее несоответствие привычным и безусловным закономерностям и причинно-следственным связям. Как мы видели, ни для одного из участников внесловесной действительности одновременное переживание невозможности и безусловности случившегося недоступно: для посвященного в тайну обычая выкармливания птицы происшедшее вполне возможно и даже необходимо, а для непосвященного — далеко не безусловно и даже абсурдно. В книге “Диалектика мифа” А. Ф. Лосев, исследуя феноменологию чуда, в качестве примера приводит событие исцеления больного в древнегреческом святилище Асклепия. С точки зрения ученого, событие исцеления оказывается для древнего грека чудом не потому, что оно противоречит его представлениям о том, как могут совершаться исцеления, а, напротив, потому, что оно согласуется с ними, более того, oбнаруживает их подлинность и всемогущество: “С точки зрения мифического сознания чудо-то и есть установление и проявление подлинных, воистину нерушимых законов природы” [А.Ф.Лосев, Диалектика мифа. - В его кн.: “Философия. Мифология, Культура.”, М., 1991, с. 137]. Именно потому, что событие исцеления происходит “по закону”, “субъект чудесного события” (выражение А. Лосева) получает полное логическое право возражать скептику так: вы говорите, что я вылечился от вашего медицинского средства, а я утверждаю, что я вылечился от того, что помазал больное место этим священным маслом; то и другое средство были употреблены: почему вы думаете, что подействовала медицина, а не чудо?” [А.Ф. Лосев, Диалектика мифа, с. 148] Однако, по-видимому, именно логическая правота защитника амулета не позволяет дифференцировать его опыт от опыта “скептика”, видящего исцеление логическим следствием применения медицинского средства, так как оба они, при всей очевидности прочих различий, убеждены в законосообразности случившегося. Проблематизируется само употребление слова “чудо” и определения “чудесный” применительно к амулету: для использующего амулет действие его так же осмысленно и оправдано, как применение лекарства для защитника медицины; с точки же зрения “скептика”, использование амулета ненужно и бессмысленно. Вот если бы “скептик” — приверженец медицинских средств лечения — вдруг совершенно ясно и непреложно увидел исцеление как результат применения амулета, а для носителя амулета такой же очевидной оказалась действенность лекарства — тогда бы, по-видимому, и возникла ситуация, по отношению к которой возможно говорить о “субъекте чудесного события”, то есть о появлении точки зрения, по которой исцеление происходит не по заранее известной закономерности, а воспринимается как совершенно с ней не согласуемое и все же очевидное. С точки зрения А. Лосева, невероятность, немотивированность не должны быть учтены феноменологией чудесного события: “Все тут объяснено механически; и благочестивый грек вовсе и не думал, что тут есть что-то неестественное” [Там же, с. 147]. Событие исцеления для древнего грека, несмотря на необъяснимость его свершения именно сегодня, а не в другой, казалось бы, столь же благоприятный для исцеления день, является все-таки чаемым, ожидаемым, более того — долгожданным. На наш взгляд, для восприятия события как чудесного необходимо переживание не только несомненности, но и невероятности случившегося, и этимологический анализ слова “чудо”, предпринятый А.Лосевым (“Самое слово “чудо” во всех языках указывает именно на этот момент удивления явившемуся и происшедшему” [Там же]), свидетельствует как раз о неожиданности случившегося, его непредсказуемости, невыводимости из известных до сих пор и непреложных “механических” законов. “Субъект чудесного события” переживает одновременно и несомненность и невероятность случившегося; оба эти компонента необходимы, чтобы событие было воспринято как чудо, a не как торжество причинно-следственных отношений, определяющих ориентацию человека в мире. Однако, по-видимому, опыт одновременного переживания невозможности и несомненности случившегося одному человеку недоступен. Оперирующий в определенной причинно-следственной связности человек так или иначе объяснит происходящее событие привычным и единственно возможным для себя способом, то есть неизбежно подчинит его закономерностям актуального для него контекста. Об этом убедительно свидетельствует описанный А. Лосевым воображаемый спор между “благочестивым греком” и “скептиком”, по-разному представляющими себе обусловленность явлений окружающего мира: “...то и другое средство были употреблены: почему вы думаете, что подействовала медицина, а не чудо, да и сама медицина, которая отнюдь не всегда действенна, не является ли тут чем-то закономерным и зависящим от идеальных причин? Разубедить такого человека невозможно, потому что логически невозможно доказать, что амулет не действовал, раз известно, что медицинское средство тоже не всегда действует одинаково” (разрядка моя. — В. Н.) [А. Ф. Лосев, Диалектика мифа, с. 148]. То есть человек не знает предела в своем стремлении подчинить любое явление безусловным и единственно действенным, с его точки зрения, закономерностям; остановить его на этом пути невозможно. Так, “скептик”, наблюдающий случай исцеления в храме Асклепия, объяснит его не вмешательством бога, а теми лекарственными средствами, которые использовали жрецы для вылечивания больных, даже если он не знает, существуют ли вообще медицинские способы избавления от подобной болезни. Точно так же “благочестивый грек”, каким бы очевидным ни был результат применения лекарства, объяснит его желанием бога врачевания сделать так, чтобы медицинское средство оказалось эффективным. Обобщая и углубляя эти размышления, приведем выдержку из фундаментального труда О. Фрейденберг: “Что касается до опыта, то он не действует на человека, если не закрепляется его сознанием... Когда в XVII веке знаменитый английский физиолог Гарвей доказывал круговращение крови, ему не верили ни Парижский университет, ни виднейшие ученые его специальности, а ведь Гарвей доказывал свое положение именно на опыте; но десятки и сотни вскрытых им тел не могли побороть отвлеченных схем... и если прогрессивная наука в конце концов побеждает, то в тот исключительно момент, когда совершается поворот в отвлеченных идеях эпохи” [О.М. Фрейденберг, Миф и литература древности, М., 1978, с. 63]. Очевидно, что собственными силами совершить этот переворот человек не в состоянии, так как “отвлеченные схемы” заполнены его же сознанием, выйти за пределы которого он не властен. Между тем уже совершившийся переворот предполагает установление господства иных “отвлеченных схем”, столь же безусловных для тех, над кем эти схемы властвуют. Для чуда - как события невозможного и несомненного — внесловесная действительность места не оставляет. “Субъект чудесного события” не может быть воплощен в каком-либо конкретном человеческом облике, так как одновременное переживание невозможности и несомненности случившегося требует нечеловеческого усилия. Таким образом, сказочная ситуация — если вернуться к приведенному примеру из волшебной сказки — “последующее обогащение есть чудо” не соответствует никакому состоянию внесловесной действительности, так как граница, “нацело” разделяющая ее участников на знающих и не знающих о существовании причинно-следственной связи между двумя явлениями, обусловливает переживание этой связи либо как несомненной, либо как невозможной. Такое несоответствие подтверждает необходимость помыслить чудо как событие собственно сказочное, словесное, невыводимое из каких бы то ни было внесловесных обстоятельств. Это значит, что возникновение новой литературной формы — волшебной сказки — дОлжно представить в состоянии максимальной действенности формы предшествующей, то есть в состоянии несомненной значимости обрядового действа и мифического повествования. Именно такое усилие окажется, на наш взгляд, адекватным и постановке проблемы исторической поэтики: “...необходимо прослеживать от начала до конца весь путь воплощения слова в творчестве, в тех формах, какие создает оно для себя (разрядка моя. — В.Н.) [А.В.Михайлов, Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры, М., 1989, с. 20]. Наша гипотеза о происхождении волшебной сказки заключается в следующем: событием, открывшим возможность претворения поступка в слово, стало нарушение запрета на рассказывание священного текста непосвященному. Этот запрет, как известно, являлся одним из непременных ограничений, накладываемых на функционирование мифа. Присмотримся поближе к этой гипотетической ситуации, предварительно обобщив ряд известных в фольклористике положений. В морфологической модели сказки, установленной В.Проппом, нарушение запрета — одна из основных функций, точнее, “парная” функция, так как запрет в сказке нарушается всегда. Кроме того, запрет и его нарушение — это необходимый стержень структуры не только сказочных, но и мифических текстов, прежде всего тех, которые передавались юношам, проходящим обряд инициации. Некоторые мифы непосредственно повествовали о том, что ожидает человека, нарушившего тот или иной запрет, другие же давали предписания, соблюдение которых гарантировало племени и каждому его члену успех и благополучие, нарушение же вело к последствиям, часто катастрофическим. Смысл этих последствий всегда известен, то есть наказание тоже входит в миф, а не является человеческим установлением (скажем, решением племени так или иначе покарать преступника), и это делает ситуацию нарушения запрета, даже если она не входит в мифический сюжет, мысленно представимой и непосредственно определяющей способ поведения. Согласно предложенной гипотезе, сам рассказчик решившийся поведать скрытый от непосвященного текст, тоже нарушает запрет — запрет на рассказывание священных текстов. Таким образом, он оказывается в той же ситуации, которая разворачивается в рассказываемом им мифе, то есть в той же самой, в которой находится герой мифического повествования, — в ситуации нарушения запрета. Это значит, что те события, которые должны произойти с героем мифа, виновником нарушения запрета, оказываются соотнесенными с событиями жизни самого рассказчика, виновного в таком же преступлении. Обнаруживается взаимозависимость между “событием рассказывания” и “рассказываемым событием”, которая и становится, на наш взгляд, решающим моментом для возникновения новой формы повествования. Передача священного текста в ходе обряда предполагала, что тот, к кому был обращен этот текст, посвящаемый, становился непосредственным участником изображаемых в тексте событий, а именно — героем мифического повествования, объясняющего ход обряда: “Посвящаемому... раскрывался смысл тех событий, которые над ним совершались. Рассказы уподобляли его тому, о ком рассказывали. Рассказы составляли часть культа и находились под запретом” [В.Я.Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 355]. Это значит, что в той ситуации, когда священный текст передается независимо от обрядового действа, рассказчик — нарушитель запрета - поступает так же как патрон инициации в ходе обряда: он делает своего слушателя - выступающего в роли посвящаемого — действующим лицом происходящих событий, то есть героем мифического повествования. Таким образом, на место героя мифического повествования претендуют сразу и слушатель — по праву, предусмотренному структурой обряда, и рассказчик — как нарушитель запрета на рассказывание священного текста. Так на месте этого героя возникает особое образование, которому нет места во внесловесной действительности, так как сразу два ее участника посвященный и непосвященный — создают целое, которое и становится персонажем сказки. Персонаж сказки есть результат взаимодействия обоих участников ситуации словесного общения рассказчика и слушателя. Особая природа сказочного персонажа и обусловливает, на наш взгляд, возможность таких событий, которые могут произойти только с героем сказки. Одним из них — определяющим результат изменения структуры мифического повествования - и оказывается событие чуда. Как было показано выше, “субъект чудесного события” непредставим в конкретном человеческом облике ни в одном из состояний внесловесной действительности (ни в сакрализованном, ни в десакрализованном мире), так как безусловность границы, разделяющей ее участников на знающих и не знающих о существовании определенной закономерности, делает невозможным переживание невозможности и несомненности одного и того же события. Такое переживание осуществимо только совместным усилием двух человек, для одного из которых это событие совершенно невероятно, а для другого — очевидно и безусловно. Сказочный персонаж и оказывается таким — невозможным в действительности — “субъектом”, для которого может произойти чудесное событие, так как “целое” персонажа создается благодаря совместному усилию обоих участников общения - рассказчика и слушателя. Для конкретизации этого положения вновь обратимся к приведенному выше примеру чудесного события в сказке — обогащению благодаря выкормленной птице. Уже было отмечено, что утверждение “последующее обогащение есть чудо” не применимо ни к одному из действующих лиц внесловесной реальности, так как все они разделены на знающих и не знающих (посвященных и непосвященных) о существовании причинно-следственной связи между кормлением орла и приобретением богатства. Задача патрона инициации заключалась в том, чтобы в ходе тотемического обряда передать это знание как оправданное и осмысленное, подтвержденное доказательством единосущия человека и животного (как известно, в ходе обряда посвящаемый превращался в своего тотемического предка). Рассказчик же — нарушитель запрета — не может сполна реализовать свой избыток знания, так как, нарушив запрет, он сам оказался в том же пространстве, в котором пребывает незнающий слушатель, — в пространстве персонажа, созданного, таким образом, усилиями их обоих. Для такого персонажа граница между знанием и незнанием, разделяющая участников общения в действительности обряда, исчезает; знание и незнание становятся двумя силами, одновременно осуществляющими бытие персонажа сказки. Несомненность случившегося (в данном случае — приобретения богатства благодаря спасенной птице) для посвященного и его невозможность — для непосвященного одновременно определяют способ восприятия происходящего события, то есть событие воспринимается как чудесное. Во внесловесной реальности ни для одного из ее участников с их ограниченными возможностями такой способ восприятия недоступен. Событие оказывается чудесным только в сказке, так как одновременное переживание невозможности и несомненности случившегося организовано “целым” сказочного персонажа, который и может быть назван “субъектом (= объектом) чудесного события”. “Чудеса бывают только в сказке” - это утверждение, на наш взгляд, следует понимать буквально. Безграничные возможности сказочного персонажа можно описать также и как способность героя сказки совершать немотивированные поступки, то есть такие, причины и цели которых ему неизвестны. В перспективе от героя сказки способ восприятия события как чудесного может быть представлен как немотивированное восприятие, то есть не опирающееся ни на какое заранее заданное причинно-следственное полагание. В “Морфологии сказки” В. Пропп указал на отсутствие в сказке мотивировок как на существенную характеристику сказочного сюжета, свойственную именно древней, архаичной сказке. Значимость этого отсутствия, на наш взгляд, обусловливается особой природой сказочного персонажа, так как знание и незнание становятся двумя силами, одновременно определяющими поведение героя сказки. Именно способность действовать, не зная зачем, недоступная участникам внесловесной реальности, разделенным на знающих и действующих и — незнающих и недействующих, есть условие возможности чудесного события, происходящего с героем сказки. Известен мотив, когда сказочный герой испытывается предложением совершить, казалось бы, совершенно ненужное и бессмысленное действие. В русской сказке “Братец” три сестры по очереди отправляются на поиски пропавшего брата. По дороге каждая из них встречает березу, яблоню и печку, которые в ответ на вопрос “Не видала ли ты моего братца родимого?” предлагают совершить действия, казалось бы, никак не связанные с той целью, ради которой сестры отправились в путь. Старшая и средняя сестры отказываются выполнить приказание не потому, что они не слишком озабочены поисками пропавшего брата, а как раз наоборот, потому что стремятся как можно скорее его найти и совершают только те действия, которые, с их точки зрения, приближают желанную цель: “Когда мне месть и печь, я иду брата своего стеречь!” [“Библиотека русского фольклора. Сказки”, кн. 2, М., 1989, с. 296] Способностью совершить поступок, не зная его причин и целей, отменив тем самым действенность логических закономерностей и причинно-следственных связей, обладает только младшая сестра: “Печура, печура! Не видала ты моего братца родимого?” — “Красная девица! Замети меня, напеки просвир, половину себе возьми, половину мне оставь!” Вот она замела печуру, напекла просвир, половину взяла себе, половину ей оставила” [Там же, с. 298]. Очевидно, что дело тут не в особенных чертах характера, присущих младшей сестре в отличие от остальных, — отзывчивости, вежливости и т. п. Приказание печки не мотивировано ничем, в том числе и необходимостью совершить эти действия ради самой печки; по В. Проппу, “сказка вообще не знает сострадания” [В.Я.Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 154]. “Ложный герой” (в терминологии В. Проппа) отличается от истинного своей — общей с участниками внесловесной действительности — неспособностью к немотивированным поступкам, а не какими-то отрицательными качествами. В сказке “Братец” старшие сестры проявляют (в избушке Яги) и решительность, и мужество; единственное, чего они не могут, - это отказаться от причинно-следственной расчлененности мира, от постановки цели и стремления к ее достижению, основанного на знании необходимых для этого средств и способов. Младшая же сестра исполняет предложенные требования, не опираясь ни на какое знание, в том числе — не зная, что своими действиями обеспечивает себе возможность спрятаться от Бабы-яги, когда та отправится в погоню. Поступок, который в конечном итоге окажется решающим для достижения поставленной цели (выручить братца), героиня совершает не “по закону”, и именно такой поступок становится залогом ее спасения. Точно так же для героя, не знающего, зачем кормить орла, и все-таки продолжающего это делать, “последующее обогащение есть чудо”. Пользуясь далеко не случайным сказочным фразеологизмом, скажем, что чудесное событие происходит только для того, кто обладает способностью идти “куда глаза глядят”. Особая природа сказочного персонажа делает возможными такие — невозможные во внесловесной действительности поступки благодаря тому, что, нарушив запрет на рассказывание священного текста, рассказчик вместе со своим знанием причинно-следственных отношений между поступком и его результатом оказывается в том же пространстве, в котором пребывает слушатель, этим знанием не обладающий. Это движение не есть переход от знания к незнанию (забвению); “целое” персонажа держится несовпадением перспектив от слушателя и от рассказчика, так как знание о необходимости совершения определенных поступков и незнание их причин и целей одновременно реализуются в бытии персонажа сказки. В ходе сказочного повествования действенна сила незнания, что невозможно ни в одной из внесловесных ситуаций, где знающий (посвященный) всегда силен, а незнающий — бессилен. Отказ от целеполагания, от установления закономерностей в происходящих событиях (= признание собственной сотворенности) и спасает героя сказки. Герой сказки — нарушитель запрета — оказывается спасенным в отличие от героя мифического повествования, преступающего священный запрет. Особая природа сказочного персонажа обусловливает неизбежность счастливого конца для героя сказки, что невозможно во внесловесной действительности, где нарушитель запрета всегда будет “осмеян, а может быть поруган или даже наказан” [В. Я. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 25]. Счастливый конец как “итоговое” чудесное событие — это, на наш взгляд, одно из существенных формальных различий между сказочным и мифическим текстами. Таким образом, чудесное событие не может быть помыслено как отражение событий, происходящих в каком бы то ни было состоянии внесловесной действительности. Это словесное образование, словесное событие, абсолютная невозможность которого в реальной действительности обусловливает как специфику поведения читателя (слушателя) сказки, “обреченного” на неверие в достоверность происходящих в сказке событий, так и направленность исследовательской мысли на поиск вне-“исторических корней” волшебной сказки. г. Донецк Текст дается по изданию: “Вопросы литературы”, 1997, № 1, с. 103-116