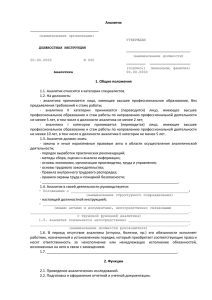Подростковый период и срыв развития
advertisement
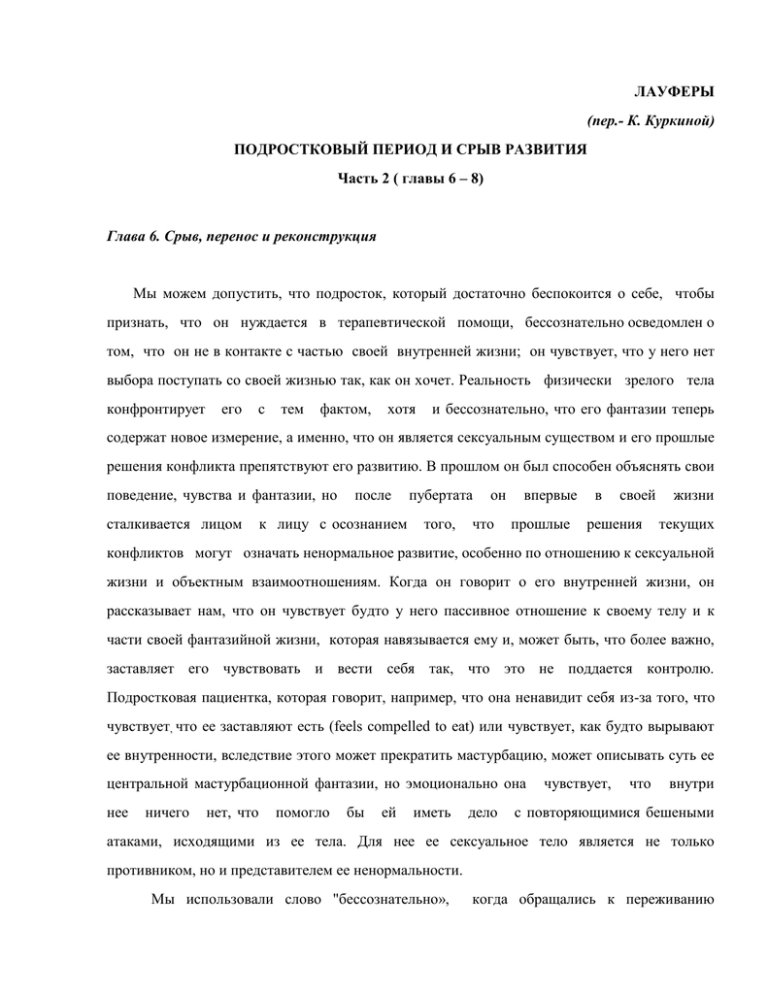
ЛАУФЕРЫ (пер.- К. Куркиной) ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД И СРЫВ РАЗВИТИЯ Часть 2 ( главы 6 – 8) Глава 6. Срыв, перенос и реконструкция Мы можем допустить, что подросток, который достаточно беспокоится о себе, чтобы признать, что он нуждается в терапевтической помощи, бессознательно осведомлен о том, что он не в контакте с частью своей внутренней жизни; он чувствует, что у него нет выбора поступать со своей жизнью так, как он хочет. Реальность физически зрелого тела конфронтирует его с тем фактом, хотя и бессознательно, что его фантазии теперь содержат новое измерение, а именно, что он является сексуальным существом и его прошлые решения конфликта препятствуют его развитию. В прошлом он был способен объяснять свои поведение, чувства и фантазии, но сталкивается лицом после к лицу с осознанием пубертата того, он что впервые прошлые в своей решения жизни текущих конфликтов могут означать ненормальное развитие, особенно по отношению к сексуальной жизни и объектным взаимоотношениям. Когда он говорит о его внутренней жизни, он рассказывает нам, что он чувствует будто у него пассивное отношение к своему телу и к части своей фантазийной жизни, которая навязывается ему и, может быть, что более важно, заставляет его чувствовать и вести себя так, что это не поддается контролю. Подростковая пациентка, которая говорит, например, что она ненавидит себя из-за того, что чувствует, что ее заставляют есть (feels compelled to eat) или чувствует, как будто вырывают ее внутренности, вследствие этого может прекратить мастурбацию, может описывать суть ее центральной мастурбационной фантазии, но эмоционально она нее ничего нет, что помогло бы ей иметь дело чувствует, что внутри с повторяющимися бешеными атаками, исходящими из ее тела. Для нее ее сексуальное тело является не только противником, но и представителем ее ненормальности. Мы использовали слово "бессознательно», когда обращались к переживанию подростка или осознанию им самого себя, потому что введение подростка в соприкосновение с тем, что он чувствует или может знать, забирает большую часть времени лечения, но когда это случается, он сообщает, часто с облегчением, что он хорошо знаком со своей безнадежностью, или со своим чувством неконтролируемости, или со своим осознанием того, что с ним временами что-то серьезно не так. Иногда подросток приходит на лечение, и его искаженный образ сексуального тела уже бывает до некоторой степени интегрирован в Эго, и это будет давать о себе знать в настоящих объектных взаимоотношениях. Мы можем видеть что-то типа полного отсутствия сексуального отношения к тем, кто содержит очевидные элементы перверсного развития. Мера этой интеграции варьирует в широких пределах в зависимости от качества удовлетворения, получаемого пациентом из его центральной мастурбационной фантазии, выраженности регрессии, которая имела место, и степени, в которой он находится в контакте с функцией тестирования реальности. Присутствие патологии в подростковом возрасте всегда означает, что существует нарушение по отношению к сексуальной жизни подростка, и понимание этого нарушения является основным в терапевтической задаче. Подросток не будет говорить "что-то не так с моим сексуальным телом", а вместо этого будет жаловаться на одиночество, изоляцию, чувство, что отношения никогда не приобретут того смысла, к которому он стремится. Но тревога о своем искаженном образе сексуального тела и неудачных попытках изменить его выражается через его чувства по поводу этих отношений. Чтобы еще ни казалось подростку плохим, бессознательно он понимает, что он не состоялся как человек, обладающий сексуальностью. Его Супер-Эго никогда не позволит ему забыть это, даже несмотря на то, что он может иметь в наличии широкий диапазон способов, помогающих ему отрицать свою несостоятельность. В 1906 году Фрейд выдвинул положение, что фантазии (или образная память), главным образом производимые в пубертате, могут быть помещены между симптомами и детскими образами и затем могут быть трансформированы более прямо в симптомы (с. 274). Одна из целей Фрейда состояла в том, чтобы подвергнуть сомнению свои более ранние взгляды на детские переживания и предложить пересмотренный взгляд на природу истерических фантазий; тем не менее, его заявление о фантазиях во время пубертата совершенно уместно к тому, что мы хотим сказать о лечебном процессе в подростковом возрасте также, как и об отношениях между терапевтической интервенцией в подростковом возрасте и предотвращением организации патологии после подросткового возраста. Мы считаем важным утверждение Фрейда из-за его подтекста, что некоторые фантазии в подростковом возрасте могут стать интегрированными в патологическую сексуальную организацию, и что эта интеграция гораздо меньше обратима после подросткового возраста. Это также предполагает, что лечение может иметь и превентивную функцию ввиду того, что это может дать подростку возможность почувствовать, что он обладает скорее активной позицией в выборе между интеграцией или отказом от этих фантазий как части сексуальной организации, чем быть вынужденным пассивно уступить их власти и потенциальному патологическому исходу. В этой главе мы концентрируемся на тех терапевтических результатах, которые мы считаем существенными для устранения последствий срыва в подростковом возрасте и удаления патологических факторов, которые в противном случае привели бы к ненормальному исходу в конце подросткового и во взрослом возрастах. Эти результаты специфичны для подростковых пациентов и они связаны с природой подростковой патологии и ее влиянием на будущую сексуальную и деловую жизнь человека. Мы можем коротко сказать о них следующим образом: 1. Терапевтический процесс должен в конечном счете сделать сознательным наличие искаженного телесного образа и желание подростка, чтобы терапевт разделил или принял это искажение, включая искажение внешней реальности, которая это предполагает. 2. Срыв, имеющий место в пубертате, должен быть заново пережит внутри переносных отношений. "Переносный срыв" должен быть создан и проработан.1 Терапевтический процесс Только в безопасности переносных отношений патология подростка начинает приобретать эмоциональное значение, включающее в себя ощущение исторического ______________________________ 1 Мы описали патологию подростка скорее как происходящий срыв процесса развития, чем как невроз или психоз. В этом смысле термин невроз переноса (transference neurosis), строго говоря, не является подходящим; мы использовали термин переносный срыв (transference breakdown). Но, используя этот термин, мы описывали процесс того, как патология пациента начинает, в основном, концентрироваться в анализе и в отношениях с его аналитиком (Freud 1914; Loewold 1971). развития имеющихся в наличии путей функционирования. Возможность огромной важности в том, что перенос может сделать эмоционально реальным тот факт, что, в конце концов, пациент может найти новый путь интеграции своего сексуального тела и своих более ранних инцестуозных желаний в сексуальную идентичность, который не должен содержать регрессивной тяги к желанию сдаться. Понимая структуры Супер-Эго и инфантильные идеалы и связывая их с потоком сексуальных желаний и страхов, пациенту-подростку становится легче принять ответственность за свое сексуальное тело, которая не должна включать в себя повторяющуюся потребность и желание отдать свое тело матери, заботившейся о нем в самом начале. В переносе это выражается в попытках подростка вынудить аналитика принять искажения его образа тела и его отношения к внешнему миру. Во время лечения подросток начинает видеть, что его требования и его эмоции также включают в себя тревогу о своем сексуальном теле. Перед лечением он никогда не был уверен в своих искажениях реальности и их отношению к образу самого себя как обладающего сексуальностью. Эти проекции, которые были использованы как защита, укрепляли его уверенность в том, что он не был ответственен или не контролировал то, что делал, чувствовал или думал. Терапевтический процесс и переживание переноса не только дают возможность подростку начать сомневаться в своих ранних объяснениях, но и предоставляют ему новую надежду, давая ему возможность чувствовать то, что он больше не одинок со своей патологией и стыдом. Может быть, впервые в своей жизни он может теперь отважиться чувствовать деструктивность и ненависть к своему телу и к эдиповым родителям, которых он до сегодняшнего дня обвинял в своей патологии. Переживание переноса является существенной частью лечения и основной в помощи подростку тщательно исследовать срыв, имевший место в пубертате. Перенос дает подростку и терапевту потенциальную свободу изучать наличие и могущество пугающих искажений, ненависти к самому себе, регрессивных или перверсных фантазий и подлинной безнадежности или пассивного подчинения патологии. Повторное переживание срыва в терапии В лечении пациента-подростка срыв развития, имевший место в пубертате, должен быть повторно пережит с аналитиком. Это означает, что содержимое (content), также как и защитные маневры, использовавшиеся для борьбы с сексуальным телом и прямыми сексуальными желаниями, становятся полностью, даже если только временно, сфокусированными на отношении к аналитику. Пока этого не происходит в лечении, деструктивная сила срыва развития не уменьшится на протяжении подросткового периода (Dewald 1978; M. Laufer 1978; Ritvo 1978). Перенос и повторное переживание срыва в переносе (переносного срыва) должны быть поняты и исторически, и динамически, как это показывается содержанием центральной мастурбационной фантазии; и эволюционно, как это демонстрируется в текущем отношении подростка к своему сексуальному телу, то есть каким способом сексуальное тело используется или ощущается и в генитальных и в эдипальных терминах. Из нашей аналитической работы с пациентами-подростками переносный срыв выражается в бессознательной потребности подростка вынудить аналитика участвовать в его сексуальной патологии, пытаясь сделать аналитика ответственным за подростковые действия и фантазии, заявляя, что аналитик сексуально совращает подростка, или представляя себя как сексуально и социально неэффективного. Динамически представляется возможным, что мотивация исходит из потребности пациента-подростка разрушить свое собственное сексуальное тело и предложить матери свое неинцестуозное тело, то есть человеку, которого он до сегодняшнего дня считал виновным в своей патологии. Если подросток будет успешен в этой попытке, то отношение к доэдиповой матери сохранится навсегда, и в то же самое время идентификация с эдиповым родителем того же пола будет нарушена, что заканчивается гораздо большим искажением его реальности и сексуальной жизни. Кажущиеся непреодолимыми клинические проблемы, которые часто встречаются в лечении больных подростков, могут представлять в некоторой степени избегание как пациентом так и аналитиком узнавания или понимания природы срыва развития, который имел место в пубертате, и его влияния на сегодняшнюю жизнь подростка. Мы можем упускать значение этого срыва развития для подростка, если понимаем этот клинический материал исключительно в исторических терминах. То же самое может случиться, если мы рассматриваем его прежде всего в терминах нарциссизма или пубертатных переживаний. Вместо этого мы нашли, что удобнее видеть нездоровье во время подросткового возраста как всегда представляющее нечто ненормальное в сексуальном развитии и функционировании. Понимание этого нарушения является основным для аналитической задачи. Когда мы обращаемся к повторному переживанию срыва развития внутри переноса, мы имеем ввиду переживание проекций, искажений и эмоций, которые были связаны с сексуальным телом и с эдиповыми родителями, результатом чего является временный разрыв с реальностью в пубертате. Признавая свое компульсивное проживание некоторых фантазий (свою центральную мастурбационную фантазию), подросток может увидеть связь между имеющейся патологией и прошлым решением конфликта. Придание срыву развития эмоционально реальной и менее травматичной формы облегчает подростку понимание того, почему срыв имел место в пубертате и почему он принял ту форму, которая была. Таким путем он может понимать значение патологических отношений для своего сексуального тела и основания для своей потребности искажать свою прошлую и настоящую реальность именно таким способом. Реконструкпия Мы не имеем намерения обсуждать здесь технические проблемы, с которыми сталкиваешься во время лечения подростка, пережившего срыв развития. Но мы включаем замечания о реконструкции из-за ее отношения к некоторым спорным вопросам, поднимавшимся ранее, особенно к связи между текущей жизнью подростка и патологией и его прошлым развитием. Ясно, что первичная функция реконструкции состоит в приведении подростка в соприкосновение с переживанием срыва и сопутствующими ему эмоциями (Freud 1937; Greenacre 1975). Пока это не будет доведено до конца, сила травмы срыва продолжает действовать, и какое бы еще лечение ни было проведено, оно не сможет помочь подростку уничтожить ближайшее прошлое или интегрировать переживание срыва. Для установления переносного срыва может понадобиться длительное время, но полная безопасность и предсказуемость отношений с аналитиком является существенным компонентом этого процесса. Для подростка переносный срыв означает переживание эмоций и фантазий, которое без сомнения сделает лечение чрезвычайно трудным и для него и для аналитика. Но важно сохранять эти эмоции и фантазии внутри лечения и фокусироваться на персоне аналитика до тех пор, пока их значение в настоящем не будет понято. Хотя понимание отношения срыва к прошлому развитию является необходимой частью лечения, реконструкция может неумышленно быть использована аналитиком как способ недооценивания интенсивности переносного переживания, результатом чего станет потеря важной части лечебного переживания. Во время лечения не существует цели собрать воедино фантазии и переживания эдипова или доэдипова прошлого, пока подросток переживает сексуальные фантазии, которые для него не имеют смысла, и пока срыв, имевший место в пубертате, все еще переживается как травматическое событие. Опасность в лечении состоит в том, что мы можем реконструировать неправильную вещь в неправильное время, пока возможно игнорирование того, что подросток рассказывает нам или, может быть, не способен рассказать нам , но хочет, чтобы мы знали об этом и помогли ему понять. Мы можем сделать ошибку самонадеянностью, что "раньше" или "глубже" обязательно является лучшим и более терапевтичным. Наша сосредоточенность на неправильных вещах и наши реконструкции неправильного "прошлого" могут быть дополнительной причиной того, почему так много подростков, крайне нуждающихся в помощи, бросают лечение. В лечении подростковых пациентов нам помогает то, что мы думаем о них как об имеющих "два прошлых" - более близкое прошлое, содержащее травматическое переживание в пубертате, и доподростковое прошлое, включающее в себя доэдипову историю, эдиповы решения и латентные переживания. Оба прошлых требуют понимания и реконструкции, но если ближайшее прошлое «не имеет смысла» для подросткового пациента, реконструкция доподросткового прошлого является полностью интеллектуально и эмоционально мертвым переживанием. Мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы должны избегать попыток понять доподростковое прошлое до тех пор, пока мы не реконструируем и не поможем подростку проработать срыв в пубертате. Мы скорее имеем ввиду, что мы всегда должны думать о том, что привело подростка к аналитику. И аналитик и пациент должны понимать это. Часто подросток и его окружение (его родители, школа, люди различных профессий, контактирующие с ним) будут пытаться заставить аналитика забыть, почему подросток пришел на лечение. Мы наиболее часто это ощущали с подростками-пациентами, которые совершали суицидальные попытки; каждый (включая родителей) хочет поверить, что это событие бьшо чем-то, что теперь в прошлом и его лучше забыть. Мы придерживаемся той точки зрения, что мы не можем забыть или притвориться, что забыли, и мы позволяем подростку знать это. Желая забыть то, что недавно имело место, подросток сообщает, что бессознательно он знает, что эти события более болезненные и более пугающие, чем события из далекого прошлого. Но, если мы позволяем ему сопротивляться пониманию своего недавнего прошлого и тому, что это значит для всей его жизни, мы поощряем его чувствовать свою пассивность к прошлому и будущему, и мы отказываем пациенту в возможности интеграции травмы срыва в пубертате и ощущении того, что он может занять активную позицию в создании целостности своей жизни. В таком случае в анализе реконструкция доэдипова или эдипова прошлого не имеет большого смысла для подростка до тех пор, пока он переживает неудачу в своей непосредственной жизни, и пока тревога связана с переживаниями пубертата и подросткового возраста. Его чувства никчемности и неконтролируемости своей текущей и будущей сексуальной жизни нуждаются в обретении смысла для него в переносе до того, как приобретет значение реконструкция доподросткового прошлого. Зависимость от аналитика, желание заботы, желание вернуть эдипова родителя того же или противоположного пола, ранние фантазии о разрушении родителя или сиблинга - все это может быть исторически правильным, но интерпретации, к которым ведут такие реконструкции, вначале создают в подростке чувство, что лечение не имеет смысла. Пока такие интерпретации и реконструкции вначале не помещают в контекст текущей сексуальной жизни подростка, мы теряем центральную цель лечения, состоящую в том, чтобы раскрыть переживание в пубертате, которое сейчас искажено присущими возрасту человека переживаниями и, в конечном счете, вернуть образ его сексуального тела. Клинический материал: Джон Этот клинический материал скорее имеет своей целью проиллюстрировать срыв и начало исчезновения патологии, чем обсудить технику работы. Может казаться, что различные фантазии пациента, особенно его мастурбационные фантазии, легко добываются и без труда понимаются. Конечно это не так. Нельзя переоценить осторожность в получении такого материала; тем не менее, мы знаем, что возможно извлечь суть этих фантазий из ассоциаций пациента и его поведения так же, как и из целого спектра дериватов бессознательного. Впервые Джон пришел на лечение в возрасте шестнадцати лет. Он и его родители определенно чувствовали, что он был сумасшедшим или стал бы сумасшедшим, когда стал бы старше. Психиатры заранее посчитали его предпсихотичным, но у него никогда не было лечения, кроме того, что он описывал как разговоры. Его родители просто безумствовали, постоянно названивая аналитику и умоляя вылечить его. Члены семьи очень беспокоились не только о Джоне, их также терроризировало его поведение в течение нескольких лет - его недружелюбность и сопровождающее обвинение, что это была вина родителей, особенно матери; его внезапные вербальные и физические нападения на мать и младшую сестру; его эпизоды депрессии и плача; его отказ покидать дом. К тому времени, как он пришел на лечение, семья чувствовала, что это был один из последних шансов. Несмотря на то, что он вспоминал свой латентный период как одинокое и печальное время, Джон видел истоки своей уверенности; что он сумасшедший или становится сумасшедшим, с возраста тринадцати лет, когда произошло опустошающее стечение обстоятельств - начало пубертата и решение школы что ему следует перейти в более низкий класс. В это время он оставил запись, что хочет убить себя. Фактически он никогда не предпринимал попыток самоубийства, несмотря на существование многих возможностей во время его раннего подросткового возраста, когда он чувствовал себя лишенным жизненной энергии из-за депрессии и своего чувства плохости. В это время он проводил дни вдалеке от школы, отказываясь покидать дом, спя, мастурбируя, угрожая убить свою мать или просто сидя неподалеку и принимая заботу матери. Уход выражался в том, что ему приносили еду, купали его и умоляли его поговорить о том, что его беспокоит. Несмотря на то, что садизм в его поведении был очевиден, наиболее важным фактором для понимания его патологии была степень, до которой эти события или эмоции уже были сдвинуты на то, что он и аналитик могли позже установить как его центральную мастурбационную фантазию. Многое из сессий во время первых нескольких месяцев лечения были заполнены деталями ежедневной жизни Джона. Тема страдания была включена почти в каждое описание. Его мать была описана как ловкий манипулятор; его отец - человек, пользующийся большим уважением на своем профессиональном поприще, - в основном идеализировался и отстранялся как близкий к совершенству; его младшая сестра считалась отчасти глупой и безвредной. Отношение Джона к аналитику было связано главным образом со счастливой случайностью того, что он лечится у него, с некоторыми осторожными жалобами на настойчивое требование аналитика, чтобы Джон посещал его пять раз в неделю несмотря на то, что путь в один конец занимал больше часа. Джон с самого начала предположил, что аналитик считает его сумасшедшим и только по этой причине аналитик настаивает на ежедневном посещении. Он регулярно напоминал аналитику, что аналитик усугубляет его страдание, но добавлял заверения, что он не возражает, потому что уверен, что это хорошо для него; вера, которая была правильной более чем по одному пункту, так как страдающий человек был важной частью содержания его ядерной фантазии. Аналитик не скрывал своего беспокойства по поводу Джона и своей уверенности, что Джон был очень нарушенным молодым человеком, но вначале он сказал Джону, что не считает его сумасшедшим. Аналитик решил сделать это из-за особенности тревоги Джона, вращающейся вокруг его мастурбации и депрессии, с которыми он жил; кроме того, его ночные страхи и его изоляция во время первой части анализа, убедили аналитика сделать то, что Фрейд считал существенным для некоторого сорта пациентов - держать их одной рукой, в то время как другая делает операцию. Аналитик знал, что такой способ работы мог временно нарушить развитие переноса и сыграть на руку бессознательному желанию Джона предложить свое сексуальное тело аналитику, но чувствовал, что необходимо дать возможность Джону начать видеть свое поведение, выглядящее как защитное сумасшествие. Только тогда было бы возможным для Джона подойти ближе к содержанию того, что, как он чувствовал, было его сумасшествием. В начале разгадка нанесшего удар по тестированию реальности некоторого содержания фантазий пришла из описания Джоном своего удовольствия и облегчения, когда люди узнают и приветствуют его. Только гораздо позже он и аналитик смогли заметить, что его ответной реакцией на узнавание была гораздо более успокаивающая последующая мастурбация; тогда стало ясно, что некоторые из его мастурбационных фантазий не могли быть повторно подавлены (re-repressed) слишком легко, и, что он не мог быть уверен, являлся ли он тем же самым человеком, которым он был до мастурбации. Он ужасно боялся говорить об этом из-за своего страха, что потеряет полный контакт с внешним миром. Во время мастурбации идентификация с поврежденной, униженной женщиной была такой интенсивности, что его должны были успокаивать окружающие люди и аналитик, что он не изменился. То, что он потел на сессиях и его потребность бежать из метро в консультационную комнату, чтобы прибыть изнуренным, были дополнительными ключами к некоторому содержанию его ядерной фантазии, но это проходило через исследование его потребности сидеть выпрямившись и видеть аналитика во время своих сессий, и как было установлено, потребность Джона смотреть на выражения лиц людей являлась важнейшей в его фантазийной жизни. Параноидный страх здесь был, но он не был первичным. До тех пор, пока его потребность смотреть на лица не была установлена, он просто чувствовал, что его тянет делать какие-то вещи без осознавания присутствия каких бы то ни было фантазий; и он, конечно, не сознавал непреодолимую природу некоторых своих действий. Это непреодолимое и повторяемое качество подвели аналитика к тому, что исследование потребности Джона рассматривать лица приведет к сути его ядерной фантазии. До тех пор, пока мог быть присоединен смысл к содержимому его ядерной фантазии, так же как и к защитному использованию, образованному из его текущего поведения, он чувствовал себя неконтролируемым и напуганным тем, что он мог бы сделать с аналитиком. Его текущие фантазии так же как и удовлетворение, которое он теперь получал, видя себя как изолированного и страдающего мальчика, продолжало серьезно вмешиваться в его способность использовать изо дня в день переживания в качестве пробного действия. Его отношения со сверстниками были выражено аффективными - он не мог продолжать любые дружеские отношения более чем несколько недель; он проводил часы в одиночестве в своей комнате в общежитии, где он жил; он посещал спортивный стадион и проводил многие часы, наблюдая за девушками, изнуряющими (straining) себя. Когда Джон смог говорить о мастурбации, он начал понимать, что его потребность смотреть на лица девушек или женщин существовала сознательно с возраста семи лет и что лицо в фантазии должно было выражать боль. Эта фантазия напоминала тайну, но только в пубертате добавилась эта непреодолимая особенность. Срыв в пубертате сам по себе манифестировался внезапными жестокими нападениями на мать (некоторое количество раз до такой степени, что он наносил ей серьезные повреждения) и, в то же время, потребностью избегать девушек из-за страха, что он мог бы захотеть напасть или убить их. Этот прорыв Эдипова желания напасть и сексуально атаковать свою мать в пубертате очень беспокоил аналитика диагностически, потому что это больше было похоже на острый психотический прорыв, но он чувствовал, что атака также содержала в себе защиту против более прямого сексуального желания и поэтому могла быть чем-то менее зловещим. Джон также вспоминал, что в то время, вскоре после пубертата, он иногда верил, что он действительно убил свою мать - он должен был с неистовством обследовать дом, чтобы найти ее живой и в порядке. Это было повторно пережито в переносе вследствие болезни аналитика - Джон не мог остановиться, рассказывая, что он сделал с аналитиком и сказал, что были времена в отсутствии аналитика, когда он думал, что он на самом деле напал на аналитика и повредил его; факт того, что аналитик поддерживал телефонный контакт с Джоном во время своей болезни помогал ему убеждаться в том, что с аналитиком все в порядке, и что Джон не наносил ему вреда. Знание фантазии и уверенность аналитика, переданная Джону, что фантазия и непреодолимое поведение имеют свое значение, которое они со временем смогут понять, вносили решающее отличие в его повседневную жизнь; это также дало ему надежду, что чтото могло быть сделано с его болезнью. Даже перед тем, как мог быть установлен смысл фантазии или его действий, его параноидные обвинения людей ослабли, и он стал способен больше концентрироваться на своей учебе. Он также прекратил физические атаки на свою мать; это дало ему новую надежду, что он не может после всего этого быть сумасшедшим. Хотя для фантазии еще не было возможности появиться в переносе, тем не менее для аналитика стало возможным проинтерпретировать это как то, что облегчает Джону чувствовать, что они вместе пытаются придать смысл тому, что ломало его жизнь на протяжении этих лет и перед лечением создавало ощущение того, что ему следует умереть или, более правильно, его следует убить. Запись, оставленная им в возрасте тринадцати лет, где он говорил о том, что убьет себя, однажды приобрела смысл, когда он смог дополнить этот смысл своей идентификацией с жертвой, чье лицо искажено болью. Для него пубертат значил, что его сексуальные желания были также прямо направлены на отца, который был для Джона человеком, который мог напасть и дать удовлетворение в то же самое время. Теперь Джон признал не только важность фантазии в своем непреодолимом поведении, но также степень своей печали и внутренней изоляции. Концентрация на интерпретациях его потребности подчиниться аналитику, желании передать свое тело, чтобы аналитик мог делать с ним все что он хочет (как он чувствовал, делала его мать), желании напасть на аналитика и желании быть девушкой с искаженным лицом, способствовали возможности все большего и большего ограничения его сумасшедшего поведения рамками сессий. Хотя он никогда не ударял своего аналитика, он начал орать на него и обвинять его во влиянии на его мысли. Таким путем Джон говорил аналитику, что он теперь является часть его мастурбационной фантазии. Крича, он чувствовал, что он может удерживать аналитика от сближения с ним. Его сексуальное желание аналитика вместо того, чтобы отрицаться и вызывать больше тревога, смогло приобрести некоторый смысл для него. Прогностически способность Джона скорее ограничивать свое сумасшедшее поведение на сессиях, чем позволять ему проявляться как в жизни, ободрило аналитика, ставшего более уверенным в том, что похожее на психотическое функционирование Джона не было признаком того, что его тестирование реальности было необратимо разрушено. Это также облегчило аналитику возможность с большей уверенностью думать, что эволюционно повреждение психической структуры Джона возможно было эдиповым, и поэтому более обратимо ; чем если бы оно простиралось от младенчества или раннего детства с проистекающим искажением в развитии и структурализации и с менее вероятной обратимостью в процессе лечения. Джон рассказывал, как он нуждался в мастурбации перед приходом на сессии. Из-за стыда, который он чувствовал, было ясно, что он представлял себе в качестве того, кто занимался с ним мастурбацией, аналитика, но прошло еще некоторое время перед тем, как Джон и аналитик смогли установить, что это также содержало его желание отдать аналитику свои сексуальные чувства и свое возбуждение или, более правильно, сделать аналитика ответственным за них. Способность вмещать или поддерживать многое из своей патологии внутри переноса также оказала влияние на его отчасти более свободное завязывание тесных дружеских отношений в колледже. Он стал говорить, что аналитик забирает его сумасшедшие мысли, поэтому он мог быть как другие, что для него значило пребывание в спокойном состоянии, когда он находился с девушкой. Этот материал можно было понять по-разному, и здесь специфическая модель психического (mental) функционирования, используемая аналитиком, будет добавлять тот или иной смысл к клиническому материалу и к интерпретациям. Хотя аналитик понял этот материал внутри переноса вначале как представление желания гомосексуального контакта с ним - чувство, вынуждающее подчиниться аналитику, и желание идентифицироваться в мыслях с женщинами или девушками с лицами, выражающими боль - эти интерпретации были предназначены только для подготовки того, что было более важным в понимании и ликвидации психопатологии пациента-подростка. При прекращении интерпретирования и реконструкции как страха так и желания гомосексуального контакта можно было бы упустить существенную составляющую подростковой патологии, под которую безусловно подходила патология Джона. Включение в анализ и концентрация на этом пункте, понимание через интерпретацию желания Джона предложить аналитику свое сексуальное тело и сделать его ответственным за эту часть своего тела и психики, которая, как он чувствовал, была производителем и курьером его сумасшедших сексуальных мыслей и чувств, и, таким образом, возложение на аналитика ответственности за ненависть к самому себе и ненависть к своему телу, поменяли фокус лечения. Это дало возможность Джону и аналитику вместо этого сконцентрироваться на этой ненависти и на ответственности за нее, которую Джон пытался переложить на аналитика. Это вернуло память о вторжениях в его разум со стороны матери, которые, как он чувствовал, не мог контролировать частично из-за получаемого им удовлетворения. Он вспомнил, как сам настойчиво требовал, чтобы его помыли или искупали до тех пор, пока ему не исполнилось четырнадцать лет, и как вслед за купанием он мастурбировал с мыслью о сексуальном проникновении пениса матери обычно через анус. Джон к этому времени был в анализе три года. Теперь у него была подружка, и он мог рискнуть провести с ней половой акт. Он описывал, как он вынужден был посмотреть в ее вагину, перед тем как проникнуть в нее, из-за своего страха, что у него может быть контакт с другим пенисом, или что выражение боли на ее лице заставит его потерять контроль, и тогда он ударит ее или убьет. Он был так напуган, что перестал видеться с ней в течение месяца до тех пор, пока он не смог убедиться посредством лечения, что он не сходит с ума. Он просил аналитика встретиться со своей подружкой, таким образом, он предлагал ее ему и отказывался от своего собственного сексуального тела. Это привело к дальнейшим воспоминаниям о том, как он наблюдал за своей матерью, упавшей со ступенек лестницы, когда ему было около трех лет, видел выражение боли на ее лице и ощущал, убежденный в течение нескольких следующих после переживания лет, что так она выглядела, когда отец "нападал на нее". Во время этого периода анализа его сновидения главным образом состояли из чудовищ, вылезавших из щелей, людей, падающих с самолета и погибающих или умирающих людей. Однажды, когда ему приснился аналитик, бьющий его и он, умоляющий прекратить это, он сказал, что его подружка сказала ему, что сыта им по горло. Сновидение также содержало чувство, что его сексуальность принадлежала аналитику и у него были половые сношения с подружкой только потому, что аналитик настаивал на этом и ожидал этого от него. Это представляло опасность в виду того, что половой акт переживался также как подчинение аналитику. Но смысл стал появляться в том, что его поведение во время лечения и вне его, также несло желание напасть на аналитика и уничтожить его потенцию. Зависть Джона и идеализация аналитика представляли собой защиту от желания уничтожить его как мужчину и как личность, которая может дать Джону потенцию, которую большую часть своей жизни он не имел и в какой-то степени не хотел иметь. Развитийно идеализация аналитика указывала на опасную область, потому что это говорило о пассивном подчинении Джона с единственным легким намеком текущего активного процесса вбирания (taking in) аналитика. Глава 7. Объектные отношения, использование тела и перенос Некоторые подростки требуют дать им ощущение того, что их тело любимо и желанно для аналитика; быть понятыми им не достаточно. Для менее нарушенного подростка понимание смысл того, чего он добивается, делая такие заявления аналитику, может облегчить ему контроль за интенсивностью требований и сопровождающей их агрессией. Более серьезно нарушенный подросток часто не способен использовать интерпретацию или понимание, чтобы брать под контроль свои желания (to feel in control of his wishes); вместо этого он должен чувствовать, что его тело действительно любят. В переносе он может использовать целый диапазон поведений, чтобы вынудить аналитика удовлетворить эту потребность. Но это не только переносный феномен, это характеристика жизни подростка, которая была хорошо представлена перед началом лечения. Он чувствует, что тревога вынуждает его использовать свое тело как часть объектных отношений. Два пациента, описанных в этой главе, постоянно преподносили аналитику свою потребность включить их тела в аналитические отношения; однако особенности манер сильно отличались. Дорис путем своего импульсивного поведения получала заботу от других людей и использовала свое тело для сообщения о дистрессе. Мэри отвечала на все попытки подойти к ней ближе, как физически так и эмоционально, как на назойливые нападения и вела себя так, будто она хотела остаться полностью изолированной от любого телесного контакта и от аналитика. Что касается описания, то первая пациентка Дорис разделяла многие из характеристик тех взрослых пациентов, которые подходят под классификацию "пограничное функционирование", в то время как вторая - Мэри - была ближе к "нарциссическим личностным нарушениям". Но эти классификации не используются здесь в динамическом или диагностическом смысле из-за того, что они не берут в расчет эволюционные подтексты психопатологии в подростковом возрасте. Клинический материал. Дорис. Дорис в возрасте восемнадцати лет, пограничная пациентка, была потенциально привлекательной молодой женщиной, интеллигентной и артистичной. Когда аналитик впервые увидела ее, она была со вкусом, но не вызывающе одета и не выказывала специфических видимых симптомов того, что она эмоционально нарушена. Она оказалась подходящей для анализа, хотя казалось, что она не может сказать, почему она чувствует, что нуждается в лечении. Она жила одна в комнате в Лондоне. Ее родители разошлись двумя годами раньше, и ее мать недавно начала жить с другим мужчиной. Дорис была послана на психологическое лечение гинекологом, у которого она консультировалась из-за нерегулярных менструаций. Позже аналитик узнала, что ее мать также стала беспокоиться, потому что когда Дорис оставалась с ней, она отказывалась есть любую пищуу, но затем тайно набивала свой живот всем, что только имелось в доме. В первоначальном интервью аналитик также почувствовала беспокойство по поводу неопределенной манеры, в которой она говорила о своих ближайших планах. Несмотря на отсутствие ясной идеи о том, что, как она чувствует, с ней не так, она быстро согласилась с предложением места со скользящим графиком (part-time job), таким образом она могла бы приходить тогда, когда аналитик сможет встретиться с ней. Это показало, с какой силой и желанием она откликнулась на предложение лечения - будто она чувствовала, что это было предложение от аналитика заполнить ее пустую жизнь. В течение нескольких первых месяцев лечения стало ясно, что ее ощущение пустоты было тесно связано с потерей прежних взаимоотношений с матерью, потому что ее мать больше не нуждалась в ней, она была покинута с переживанием потери себя. Дорис была самым младшим ребенком в большой семье и чувствовала, что у нее всегда были очень особенные и тесные отношения со своей матерью, отличающиеся от отношений с другими сиблингами. Она видела это как отражение потребности своей матери, возникшей из-за неудовлетворяющих отношений, существовавших между ее родителями. Она сознавала, что эта неудовлетворенность особенно относилась к сексуальной жизни родителей. Хотя Дорис сознательно радовалась, что ее мать теперь была счастлива, она также чувствовала ужасную ревность к новому мужчине в жизни своей матери; она была больше не нужна своей матери. Когда она узнала об этих чувствах, она рассказала о том, чего она больше всего боялась, впервые покинув свой дом в шестнадцать лет: сидения в одиночестве в своей комнате и переживания полной неспособности сдвинуться или что-то сделать. Она рассказала аналитику, что теперь она мастурбирует когда одинока, убеждаясь, что тело ей требуется для своих собственных нужд, а не только как что-то, чем удовлетворять свою мать. Она использовала мастурбацию для создания фантазии, что она не одинока или не беспомощна. Когда появился прогресс в анализе, Дорис начала показывать свою привязанность к аналитику более открыто, но она выражалась только в ее поведении, не в словах. Она признала, что ей стало тяжелее уходить после сессий. Она подразумевала, что она чувствовала беспомощность и неспособность контролировать себя и идти домой; в нескольких случаях аналитик была вынуждена вызывать для нее такси. Тогда это все еще казалось частью приходящего аналитического материала, который проигрывался в переносе. Оглядываясь назад, однако, это может быть понято как часть другого процесса, который продолжался симультанно и независимо от аналитической работы. Временами аналитик реагировала на это чувством обеспокоенности, а в другое время - неловкостью, с тех пор как стало казаться, будто аналитик постоянно попадала в затруднительное положение в своих усилиях поддерживать аналитическую дистанцию с пациенткой. Например, Дорис входила в комнату, невзначай подходила к книжному шкафу, брала книгу и высказывала свое мнение о ней, ожидая ответа аналитика. Она просила одолжить книгу или просто ходила по комнате, рассматривая другие вещи и беря их. Она могла внезапно сесть и смотреть в лицо аналитика всю сессию, или после длительного молчания она могла встать и уйти. Это все делалось с простодушным видом, появляющимся , чтобы полностью отрицать вовлеченность в свои действия, отклоняющие любые попытки понимания ее поведения. Временами аналитик чувствовала, что это поведение содержало всю агрессию Дорис против нее. Теперь это можно понять как действительная неспособность Дорис сохранять аналитические рамки в то время, когда она чувствовала неспособность контейнировать свою тревогу. Кроме того, в продолжение этого периода она приносила материал в форме сновидений и ассоциаций, и аналитическая работа казалась возобновленной. Ее поведение казалось мотивированным потребностью более прямо привлечь аналитика к себе и своему реальному телу. Позже, когда она стала более явно нарушенной, ее поведение стало еще более непредсказуемым. Однажды вместо того, чтобы покинуть дом аналитика после сессии (где проходило консультирование), она стала бродить, нашла пианино в другой комнате и начала на нем играть. В другой раз аналитик пришла домой поздно ночью и нашла Дорис лежащей на дороге по-видимому в полу-наркотическом состоянии, и аналитику пришлось отвозить ее в больницу. Снова оглядываясь назад, эти события можно понять как последовательное вторжение тела Дорис в аналитические отношения, как постоянное требование того, что аналитику следует принять желание Дорис о заботе и стимуляции ее тела, и как восприятие усилий аналитика сохранить аналитическую дистанцию через интерпретации в качестве отказа от ее тела и предполагаемого осуждения ее желаний. Ее каждодневные отношения характеризовались той же очевидной неопределенностью и отрицанием любой сознательной мотивации. Она говорила об идеальных отношениях, которые у нее были с мужчиной за год до начала лечения. Возможно, это были ее важные отношения с мужчиной. Хотя она упомянула, что этот мужчина сейчас уехал из Лондона, и отношения закончились, она явно отрицала у себя существование дистресса. Единственный способ, которым она могла сообщить об этом аналитику, состоял в том, что она отрезала свои волосы, которые играли важную роль в отношениях, как что-то, чем мужчина восхищался в ней. Она описала отношения как идеальные, потому что у них никогда не было определенной договоренности о встрече; всякий раз, когда она хотела быть с ним, они просто случайно сталкивались друг с другом на улице. Во время своего анализа она жила одна в той части Лондона, где собиралось много одиноких молодых людей. Она говорила, что у нее много друзей, но она описывала эти отношения так размыто и идеализированно, что у аналитика не было реальной картины всегда меняющихся людей. Казалось, что Дорис принимает участие в любых предложенных ей сексуальных действиях или приемах наркотиков; она была неспособна быть разборчивой или пристрастной к этой активности или человеку, вовлекающему ее в это. Казалось, что желание принятия своего тела, чтобы не быть с ним одинокой, превосходит все другие чувства, которые у нее могли бы быть. Когда анализ ближе подошел к ее чувствам и тревогам по поводу сексуальных отношений, Дорис впечатляюще отыграла (act out). Она говорила о невозможности позволить себе, чтобы в нее проник мужчина, которого она любила, но сказала , что они вместе практиковали фелляцию. На следующий день как она смогла рассказать об этом, с аналитиком связалось психиатрическое подразделение, куда забрали Дорис потому, что ее работодатель был напуган ее странным поведением. Все, что Дорис смогла сказать больничному персоналу - это телефонный номер аналитика. Она на короткое время осталась в больнице, сохраняя связь с аналитиком по телефону. В это время ее диагностировали как шизофреничку. Когда аналитик увидела ее снова, Дорис сказала ей, что в этот день она проглотила огромное количество хаша (hash - блюдо из мелко нарезанных мяса и овощей) и была неспособна функционировать или коммуницировать, но ей точно известно, что с ней происходит. По телефону она только могла постоянно говорить "да". Этот тревожный эпизод поднял вопрос о степени, до которой Дорис функционировала на психотическом уровне, даже несмотря на то, что ее поведение можно было понять как отыгрывание сексуальных переживаний и способа контроля, переживаемого ею. Затем у нее началась связь, включающая пенетрацию, но это не остановило ее от участия в перверзной сексуальной активности. Ее потребность в таком поведении особым образом относилась к компульсивным повторениям ранних детских переживаний. Когда она была ребенком, то была привязана к своему брату немного старше себя, с которым она была постоянно вовлечена в обоюдные мастурбационные игры и активность. Она обвиняла мать в том, что она никогда не предпринимала ни единой попытки остановить их , несмотря на то, что это все делалось совершенно открыто. Она сказала, что единственной вещью, которую не могла выдержать ее мать, был какой-либо гнев, направленный на нее. Оказалось, что отец Дорис также вел себя в очень соблазняющей манере. Он разгуливал обнаженным перед детьми; когда Дорис просыпалась рано утром, он поощрял ее забираться к себе в кровать и прижимал ее к своему телу, говоря ей, что она не должна будить мать. Теперь Дорис повторяла эти переживания с девушкой и ее другом, обоих она встретила в больнице. Она занималась мастурбацией с девушкой на глазах у друга и наблюдала за половым актом девушки со своим другом. Она идентифицировалась с сексуальными претензиями девушки на нее и получала удовольствие от ощущения нужности тем же самым пассивным некритичным способом, что она ранее переживала и со своим знакомым мужчиной. Роль аналитика состояла в постоянной попытке мобилизовать осознание Дорис своих собственных чувств, и, таким образом, своего собственного тела, и помочь ей не реагировать так, будто она полностью беспомощна и у нее нет собственных потребностей или желаний. Теперь она отыгрывала свое желание предложить себя аналитику таким способом, как аналитик мог бы хотеть. Невозможно узнать, продолжался бы анализ без прерывания, если бы аналитик преуспел в предоставлении возможности Дорис ощутить себя в большем контакте со своим телом и чувствами. Но через два года после того, как начался анализ, мать Дорис внезапно умерла. По этому поводу Дорис и ее аналитик смогли реконструировать ее интенсивное стремление к физической близости со своей матерью и отнести свою текущую ненависть к матери и самой себе к переживанию, включающему в себя расположение мужчины, предполагающего, что ее тело не может предложить равное удовлетворение. После смерти матери главные усилия аналитика были направлены на то, чтобы помочь Дорис оплакать ее. Временами казалось, будто анализ помогает ей проработать депрессию и гнев на мать за то, что она полностью покинула ее; она даже начала переживать некоторое облегчение от ощущения большей свободы от своей привязанности к матери. Но одновременно начался другой процесс. Впервые он смог быть заметным в желании Дорис держать аналитика за руку на сессии. Бессознательно ее желание состояло в том, что аналитику требуется, чтобы ее держали за руку. Она рассказала аналитику как, когда она была маленькой, она привыкла сидеть под столом и тайно ласкать мамину руку, пока ее мать продолжала говорить с другими взрослыми. Ее фантазия заключалась в том, что ее мать действительно больше нуждалась в ней, чем в людях с которыми говорила. Теперь Дорис преследовала мысль, что тело ее матери было кремировано, ее рука теперь была недоступной, и ее мать не испытывала нужды в ней. Во всех своих сновидениях она теперь была в море со своей матерью или без нее, плывущей и поглощаемой; сновидения содержали все ее стремление к матери и желание физического единения и близости с ней. В переносе она требовала, чтобы аналитик возместил потерю ее матери в реальности. Ее бесконтрольность начинала возрастать, и у нее были агрессивные вспышки, когда она чувствовала, что аналитик вынуждает ее уйти по окончании сессии. Кризис был достигнут на сессии, когда она привстала и начала трястись как при мастурбации, потом ударилась головой о стену так неистово, что аналитику пришлось вмешаться из-за страха, что она может повредить себя. ( Ее мать умерла от тромба в мозге.) Она говорила о желании мастурбировать, и когда аналитик предложила попытаться вместо этого поговорить о своих чувствах по этому поводу, она стала неистовствовать и была настолько неконтролируема, что аналитик была вынуждена держать ее и везти в больницу. Этот кризис, который временно подвел анализ к концу, стал результатом ее неспособности использовать мастурбацию для переживания в фантазии единства с телом своей матери, с последовавшей потерей контроля над своей яростью к аналитику, который представлял депривирующую мать, не нуждающуюся в Дорис. Временами становилось ясно, что реальная опасность лежит в ее жестокости к своему собственному телу из-за того, что она ощущает его как бесполезное. Она была не в состоянии предотвратить умирание своей матери, и теперь только смерть могла воссоединить ее с телом своей матери. Когда Дорис была в больнице, она снова пребывала в ежедневном контакте с аналитиком по телефону. В то же самое время аналитик продолжала еженедельно совершать визиты, помогая Дорис поддерживать чувство реальности по поводу того, что с ней произошло. Аналитик понимала, что телефонные звонки помогали Дорис чувствовать, что через собственное "создание" голоса аналитика путем набирания телефонного номера, она также может поддерживать фантазию о превращении аналитика в свою реальную мать и отрицать любое чувство потери как результат ее действий. Аналитик беспокоилась о реакции Дорис в следующие выходные, когда аналитик будет вне доступности. Несмотря на знание аналитика и усилия больницы, интерпретаций было недостаточно, чтобы иметь дело с неистовством и отчаянием, в которые повергло сообщение о предстоящих выходных. Дорис совершила серьезную суицидальную попытку, но через некоторое время ее жизнь была вне опасности. Клинический материал. Мэри Мэри,2 как и Дорис, совершила суицидальную попытку и у нее было пищевое нарушение. Ей был предложен анализ, когда она была стационарной пациенткой психиатрического отделения после суицидальной попытки. В это время ей было восемнадцать. Пока она была в отделении, она оставалась полностью замкнутой и изолированной от других пациентов и персонала. Она была изящного телосложения, застенчивая девушка, которая выглядела гораздо моложе своего возраста и говорила так тихо, что ее было едва слышно. Когда аналитик впервые увидел ее, она была полностью закутана в свое пальто (coat), которое редко снимала. Когда она рассказывала о том, что заставляло ее хотеть смерти, она упомянула ощущение, что ее тело было омерзительным, и ей было ужасно стыдно за него. Перед своей суицидальной попыткой она была не способна контролировать компульсивную потребность тайно набивать в себя по ночам еду, и это заставляло ее чувствовать себя жирной и отталкивающей. Позже аналитик выяснил, что в первоначальный период пребывания в больнице после суицидальной попытки Мэри отказалась есть и стала настолько худой, что появилось беспокойство, не анорексичка ли она. Она сама рассказала аналитику, что чувствовала себя вынужденной худеть, чтобы быть способной продолжать жить. Таким образом, бессознательно она использовала свою способность отказаться от еды как путь для собственного успокоения , что она может поддерживать контроль над своим телом и его требованиями быть способной ощущать что она может что-то подобное. Любой внешний показатель того, что она больше не контролирует свое тело; заставлял ее чувствовать себя отвергнутой и отвратительной, приносящей этим угрозу своего насилия, направленного против самой себя или против объекта, которого она рассматривала как несущего ответственность за потерю контроля. В переносе аналитик был идентифицирован с назойливым объектом, который может заставить ее потерять контроль, пока она безнадежно добивается возврата контроля над своими чувствами и мыслями. Единственная ценность аналитика для нее в то время была в том, что она представляла защиту против регрессивного желания Мэри 7 чтобы ее тело контролировалось ее матерью, вторгающейся фигурой, против которой было направлено ее насилие. Она заручилась поддержкой аналитика в том, что не должна возвращаться домой после того, как покинет больницу, но она настаивала на том, что аналитик не скажет ее матери, что это было ее собственным решением. У нее была фантазия, что она сможет заставить свою мать почувствовать свою бесполезность, показывая, что теперь у нее есть аналитик, заботящийся о ней. Мэри как ребенок говорила о переживании того, что ее мать не достаточно заботиться о ее теле - она не достаточно часто моет Мэри волосы или мажет ее кожу кремом. Она вспомнила, что когда ей было пятнадцать, она переживала, что она теперь может заботиться о своем собственном теле и делать это лучше, чем делала ее мать. В это время она также решила оставить дом, чтобы стать независимой от матери, но с неизбежностью ощущала, что умрет с голоду, если сделает это. В своем поведении по отношению к аналитику Мэри чередовала создание всемогущих фантазий, которые сделают ее большой и сильной. когда она больше не будет нуждаться в аналитике и тем, что она будет с гневом проглочена, когда эти фантазии бросят вызов ее реальности. В то же самое время она чувствовала полнейшую беспомощность и зависимость от всемогущей, но вторгающейся матери, которой она должна была сдаться так, будто выполнить свои собственные потребности. Она защищалась против осознания своих потребностей заставить свое тело чувствовать себя "мертвым". _____________________________ ' Лечение этой пациентки описано в главе 8. Она выражала свою зависимость от матери только через свою потребность в одобрении; это было так, будто она могла контролировать свое тело, но не свой страх отвержения. После того, как она однажды побывала на людях с мальчиком, Мэри отказалась видеться с ним снова потому, что она чувствовала, что мать не одобрила бы ее выбор. Но она также боялась своего желания, чтобы ее поцеловали. Она всегда была исключительно хорошим и послушным ребенком и оправдывала высокие ожидания матери по поводу своей учебы. Она совершенно не могла понять, как ее старший брат мог так хорошо руководить без помощи матери. Ее мать посвятила свою жизнь превращению Мэри в совершенного ребенка. Вначале Мэри могла ходить на сессии только в сопровождении матери. Хотя теперь ей было восемнадцать, она одевалась в одежду, в которой выглядела как маленькая девочка. В условиях больницы она пыталась идентифицироваться с другими молодыми пациентами, чтобы чувствовать себя более нормальной. Существование в качестве пациентки в больнице означало окончание существования в качестве совершенного ребенка матери мысль, дававшая ей надежду. Чувствуя, что у нее должен быть друг, в воображении (unrealistically), она присоединялась к пациенту-мужчине и строила планы уйти к нему и жить с ним. Она пыталась копировать других пациентов так, чтобы чувствовать как они. Она швыряла и разрушала вещи, когда они это делали, шла с ними воровать в гастроном, и в конце концов пустила одну из пациенток-женщин в свою кровать. Но аналитик поняла значение такого поведения гораздо позже. Ее затруднения с другими людьми становились реальными только когда включали в себя требование защитить от переживаний, которые в фантазии ощущались как назойливые атаки на ее тело. Когда она ушла домой в отпуск и была наедине с матерью, ее переполнил страх, что мать попытается отравить ее. Она видела свою мать как ревнующую к ней и ее отношениям с отцом. Но единственные взаимоотношения с мужчинами, включая и отца, которые Мэри могла себе позволить, состояли из длинных насыщенных "разговоров", которые предназначались для того, чтобы заставить и мать, и аналитика чувствовать ревность и собственную исключенность. Ее тело не играло роли в любых отношениях с мужчинами. Мэри оказалась вовлеченной в постоянную борьбу как со своей матерью, так и с аналитиком в переносе скорее, чтобы подчинить себе тело чем почувствовать независимость от объекта. Через год анализа Мэри сказала, что у нее было совершенно новое переживание. Теперь она могла почувствовать, что это такое быть голодной и затем выбирать еду в отличие от того, чтобы есть, потому что пришло время. Оказалось, что ее единственной защитой против переживания своего желания назойливости со стороны матери или аналитика было сделать свое тело ощущающим себя мертвым и без потребностей. Что касается ее суицидальной попытки, она сказала, что не было особых причин для выбора определенного времени; она уже чувствовала себя мертвой в предыдущие два года, поэтому убийство самой себя теряло свой смысл. Для Мэри самоубийство было единственным способом, которым она могла выразить свое желание чувствовать, что ее тело принадлежит ей - делать с ним, что она хочет. Суицид представлял единственный путь для разъединения с матерью и в то же самое время, для контроля за желанием уступить ей. (Дорис, с другой стороны, видела в суициде единственное средство в воссоединении своего тела с телом матери и возвращения ее части.) Позже Мэри сказала аналитику, что она может говорить только если она с очевидностью решит, что проблема состоит в том, в чем аналитик может помочь ей; иначе здесь не о чем говорить. Эта установка представляла ее желание контролировать аналитика, тогда она могла ощущать аналитика как защищающего ее. Когда она стала больше осознавать насколько непреодолимым она ощущает сохранение в тайне некоторых мыслей от аналитика, она написала письмо, чтобы рассказать о своих мыслях. В письме она описала фантазии о том, чтобы ей делал клизму мужчина или она сама. Она сказала, что фантазии были связаны с ее навязчивым воспоминанием о том, как мать делала ей клизму, когда ей было четыре года. Она добавляла, что после того, как сказала аналитику об этом, теперь должно стать ясно, почему она ненавидит свое тело так сильно и настаивала на том, чтобы аналитик сожгла письмо. Она встречала ледяным молчание все попытки обсудить письмо на сессиях. В конце концов, она восклицала с гневом в голосе, что аналитику теперь следует понять, что у нее нет желания рассказывать об этом и она не может это делать. Это переживание было настолько интенсивным и реальным для нее, что месяцы спустя, когда она описала сновидение, в котором была куча навоза, она заметила, что понадобились громадные усилия, чтобы подвигнуть себя даже на то, чтобы произнести слово "навоз" аналитику. Аналитик увидела в этом страх Мэри потерять контроль над своим физическим возбуждением на сессии; не говоря потенциально возбуждающие мысли, она могла продолжать сохранять свое тело мертвым и отдельным от аналитика. Ее сознательная фантазия о мужчине или самой себе, делающих клизму, содержала защиту против своего желания отдать свое тело матери или женщине. Она действительно контролировала свое тело настолько же; насколько свои мысли и чувства. Большую часть времени она была совершенно ригидна, спокойна и безмолвна. Когда она была очень напряженной, она могла начать сессию, будучи встревоженной и ясно показывающей, что ей физически неловко говорить, но она вскоре могла обуздать себя и становилась снова совершенно спокойной, будто умерла. Временами было совершенно невыносимо от ее слышимого энергичного бега наверх по ступенькам дома аналитика, от прихода на сессию раньше времени, будто она, могла дождаться, чтобы что-то сказать аналитику, и от после нескольких беспокойных движений устанавливающейся тишины на всю сессию. Ее потребность в контролировании выражалась не только в молчании и телесной ригидности внутри сессии, но также временами в неприходах. Когда она в первый раз покинула больницу, она увлеклась юношей в общежитии, где жила. Она не ложилась спать допоздна, болтая с ним, но она могла говорить аналитику только о количестве часов, проведенных с ним, а не о том, что было сказано или сделано. Она явно становилась все более и более нарушенной и неспособной функционировать на работе или в общежитии, пока она продолжала поддерживать упорную секретность по поводу того, что происходило. Было ясно, что чем больше она цеплялась за свой секрет, тем больше ее пугала аналитик. Из-за ее продолжающегося вызывающего поведения и ее фантазии об аналитике как насилующей женщине, Мэри, в конце концов, так стала бояться аналитика, что была не способна приходить на сессии, вынужденная оставаться в общежитии все дни, цепляясь за директора. Она не могла оставаться в одиночестве ночью. Аналитику пришлось подготовить ее к тому, чтобы вернуться в больницу, где она оставалась несколько месяцев. Во время следующего периода анализа, как только Мэри добилась некоторого чувства независимости от аналитика, она отреагировала фантазию о том, что теперь она может полностью иметь влияние и контролировать аналитика. Она не приходила на сессии и не информировала аналитика, перед или после, почему она это сделала. Никакая интерпретация не могла помещать очевидному удовольствию, которое она получала от ощущения того, что она скорее может сделать аналитика доступным всякий раз, когда этого захочет, чем чувствовать, что аналитик контролирует ее. Она игнорировала все замечания, сделанные аналитиком относительно ее поведения и действовала так, будто она была в полном неведении, что у аналитика есть какие-то чувства. Прежде в анализе она привыкла безнадежно говорить: «Но у вас должны быть чувства по поводу того, что я говорю. Поэтому я не могу рисковать, что-то рассказывая вам». Теперь она отыгрывала свое желание, что ее поведение в любом случае не затрагивает чувств аналитика - она хотела показать аналитику и себе, что у нее больше нет потребности в одобрении аналитика. Ясно, что теперь она перевернула старую ситуацию с матерью. Теперь она могла переживать удовлетворение, которое, как она чувствовала, ее мать получала, контролируя ее. Потребность Мэри в анализе, хотя и не так явно, как у Дорис, была не менее интенсивной. Аналитик оплачивался, чтобы не иметь собственных чувств или мнений, и она была вынуждена сидеть и скучать, если Мэри нечего было сказать или если Мэри не приходила. Когда она приходила, ее молчание на сессиях также приобретало новое качество. Она могла придти, но потом могла заснуть на большую часть часа. Аналитику приходилось пребывать в тишине и молчании. Если аналитик пыталась поговорить об этом, Мэри пропускала все интерпретации и говорила, что она просто устала. Временами казалось, что такое поведение было ее способом защитного контролирования аналитика, но постепенно становилось ясно, что она начала получать удовольствие от чувства полного единения с аналитиком, пока она спящая лежала в эмбриональной позе. Аналитик была здесь для нее, если она хотела говорить с ней; и все чувства, пробуждавшиеся от внешней стимуляции как в жизни Мэри так и аналитика, которые она переживала как угрожающие ее желанию полного единения с аналитиком, контролировались теперь через ее засыпание. Ни у нее, ни у аналитика не должно было быть каких бы то ни было чувств в процессе беседы, но она могла теперь чувствовать себя в безопасности, будучи соединенной с аналитиком через их оба "умерших" тела. Она реагировала на перерывы из-за выходных не так как Дорис - не неконтролируемой жестокостью и гневом и желанием физической близости, а депрессией и болезнью. Когда аналитик интерпретировал болезнь Мэри как ее желание, чтобы аналитик физически позаботилась о ней, она говорила, что она ненавидит нервничать, когда больна, и просто хочет, чтобы ее оставили одну. Фактически она расценивала болезнь как неудачу в контроле над своим телом и как что-то, что делало ее тело потенциально неприемлемым и отвратительным для объекта. Когда она была ребенком, у нее были кошмары, что ее тело покрыто нарывами, и в ассоциациях по этому поводу она говорила о себе как о "неприкасаемой прокаженной". Вначале ее отношения вне анализа были очень нереальными. Она могла позволить себе интенсивные чувства к юноше, которого она видела в поезде и которого она могла сохранять как фантазийный объект, в то время как юноши, с которыми она бывала на людях, не доставляли ей эмоционального удовлетворения. В реальных отношениях ее ужасал факт соприкосновения, переживаемый ею как внедрение в ее тело, которое могло заставить ее потерять контроль над своей агрессией. Она боялась, что будет нападать и бить юношу, который войдет в ее комнату, не предупредив ее. Она боялась, что если кто-то в толпе толкнет ее, она может потерять контроль и ударить человека. У нее были сновидения об отрывании мужских гениталий. Кроме того, она принимала эти чувства без какой бы то ни было реальной тревоги, объясняя это тем, что она говорила, что даже будучи ребенком, не выдерживала; если к ней прикасались незнакомцы; казалось, что это подкрепляло фантазию о том, что она делила со своей матерью их особые отношения. Мэри была в депрессии и тревоге, когда у нее не было друга. Она говорила, что это не потому, что она против того, чтобы быть в одиночестве, а потому, что она против того, чтобы быть на людях одной и выглядеть одинокой. Но затем она почувствовала тревогу при мысли, что люди могут смотреть скорее на юношу, чем на нее. Таким образом, она могла получать удовольствие от своего тела скорее только от того, что кто-то смотрит на нее, чем от того, что кто-то касается ее. Она выражала схожее чувство, когда она говорила о том, что никогда не захочет детей, потому что они слишком требовательны и никогда не дают чего-нибудь взамен. Но затем она добавила: "За исключением того, если это прелестный ребенок". Ее потребность в сохранении асексуальных отношений с юношами сознательно была связана со страхом потери девственности. Она чувствовала, что девственность была единственной хорошей вещью, которую ей бы следовало предлагать мужчине; она должна была сохранять свою девственность, чтобы найти мужчину, "заслуживающего" обладать ею. Однако она продолжала чувствовать, что она должна стараться иметь отношения с мужчинами из-за страха, что ее посчитают ненормальной. Она пригласила случайно встреченного ею мужчину к себе в комнату ночью; и когда он попытался сблизиться с ней, выгнала его. Она пришла на сессию в маниакальном состоянии, торжествуя, что она удостоверилась, что может противостоять попытке мужчины изнасиловать ее. Когда Мэри начала чувствовать, что ее тело оживает, она была вынуждена, подобно Дорис, использовать его в отношениях с объектом, но она использовала его для убеждения себя, что она все еще полностью контролирует свое собственной тело и тела других людей. В переносе она могла позволить себе чувствовать, что нуждается в аналитике, только после длительного периода дерзких неприходов и последующих звонков по телефону о том, что она решила закончить анализ. Она говорила, что она должна была пережить действительное чувство утраты своего анализа прежде, чем она сможет переживать то, как сильно она в нем нуждается. По-видимому, она чувствовала безопасность для переживания чувств только, когда она была в одиночестве и, следовательно, не подвергалась риску непринятия. Дорис, с другой стороны, ударялась в панику, когда она оставалась наедине со своим телом и чувствами по поводу него. Когда однажды у нее заболел живот, она не позволила аналитику оставить ее и удерживала ее, когда аналитик пыталась уйти. Дорис, в отличие от Мэри, ощущала свое тело как способ ощущения единения с объектом; тогда как Мэри могла видеть в своем теле только потенциальную угрозу быть отвергнутой и могла рисковать, привнося его в отношения только; если оно было "мертвым" и, таким образом, полностью контролируемым (Bak 1939; Freud 1917). На либидинальном уровне и Дорис и Мэри регрессировали на оральный способ выражения своих либидинальных желаний, но существовало очень важное различие. Дорис, со всем своим бесконтрольным импульсивным поведением казалась выражающей не только оральные требования и соглашения, но также желание повторять более раннюю форму интенсивного удовлетворения. Даже ее первое сексуальное переживание было бессознательной попыткой вновь обрести материнскую грудь и отрицать существование пениса. Схожим образом, ее гнев всегда относился к чувству, фрустрируемому недостатком удовлетворения в ее непосредственной жизни, включая ее осмысление воссоздания более раннего удовлетворения себя на аутоэротическом уровне - то есть без зависимости от объекта (Freud 1914; Kernberg 1980; Klein 1958). Таким образом, хотя ее суицидальная попытка содержала атаку на аналитика, чтобы покинуть его, это была также попытка отрицать реальность и чувствовать, что она может достигнуть интенсивных удовлетворяющих отношений, которых она хотела с аналитиком через свою собственную активность. Наоборот, Мэри последовательно лишала себя всех приятных переживаний в своей жизни, будто для того, чтобы избежать повторения опыта более раннего болезненного чувства фрустрации. Ее компульсивное потребление пищи перед своей суицидальной попыткой выражало ее ненависть к себе из-за потери контроля над своими потребностями и, в то же самое время, подкрепляла отсутствие надежды о каком-либо удовлетворении в будущем. Бессознательно она ожидала только еще более болезненной фрустрации и разочарования. Она постоянно чувствовала угрозу со стороны переполнявшей ее агрессии и ненависти, которые она могла контролировать только молчанием и неподвижностью. Агрессия также представляла желание истощать и фрустрировать аналитика в отношении своей собственной фрустрации. Это было так, будто она чувствовала, что единственное удовлетворение, которого она могла бы достичь, было получено путем оборачивания своего пассивного опыта в активный. Результатом попытки аналитика показать ей, как она лишает сама себя утешения в том, что аналитическая работа могла бы быть ей полезна, стало то, что Мэри смогла позволить себе начать надеяться на будущее (Blos 1972; Ferenczi 1911). Это вызывает мысль, что в ее младенчестве она на самом деле переживала больше болезненных фрустраций потребностей тела; чем удовлетворяющих; в последующем, являясь подростком, она не была способна выносить ненависть, которую чувствовала когда, видела достижения других, на которые не было надежды со своим сексуальным телом. Она могла только повторять фантазию, где ее мать получает полное удовлетворение, тогда как она этого не получает; ее суицид был единственным способом депривировать свою мать. В то время, как очевидное поведение этих двух пациенток показывало много схожих вещей, разница в лежащем за этим смыслом указывает на различия в их развитии. Из этого мы могли бы заключить, что подросток, функционирующий на пограничном уровне, реагирует на чувство потери, вызываемое изменениями телесного образа, компульсивной попыткой повторить более ранние, интенсивно удовлетворяющие физические отношения с подлинным объектом. Это приводит к постоянной уязвимости от потери контроля над агрессией на новый объект, когда действительное переживание не осуществляет фантазийного переживания (Jacobson 1971; Ritvo 1981). Для сравнения, подросток, функционирующий на уровне нарциссического личностного нарушения, показывает способ функционирования, относящийся к потребности защищаться против разочарования и фрустрации либдинальных нужд и неспособности меняться в результате пубертата. Агрессия, которую такие подростки опасаются не подчинить своему контролю, представляет желание мести за недостаточное удовлетворение и боль от чувства пустоты. Не имея надежды достижения либидинального удовлетворения с новым объектом после изменений в пубертате, они нуждаются в создании чувства нарциссической самодостаточности. Единственный источник нарциссического катексиса исходит из полного подчинения требованиям Супер-Эго (Erlish 1978; Rosenfeld 1964; Katan 1954). Мы также можем использовать эти предположения, чтобы поразмышлять о генезисе другой характерологической черты пограничной патологии — неспособности' пациентов поддерживать любую сублимированную активность. В соответствии с только что представленной точкой зрения, это можно рассмотреть как неприятие любой активности, которая не имеет бессознательного поиска интенсивного доставляющего удовольствие телесного переживания. Если говорить в структурных понятиях, то для пограничного пациента мы видим в результате специфическую интенсивную либидинальную инвестицию в телесный образ и соответствующее чувство потери в пубертате. Наоборот, у пациента с нарциссическими нарушениями личности мы в результате видим недостаток более ранней удовлетворяющей либидинальной инвестиции в телесный образ с последующей защитной попыткой компенсировать преждевременным использованием Супер-Эго, как суррогатного источника удовлетворения, зависимостью от сублимаций для достижения удовлетворения и интенсивным желанием принять роль депривирующего объекта в качестве способа компенсации (undo) более ранних фрустраций, которые были бессознательно связаны с пассивностью Глава 8. Суицидалъные попытки в подростковом возрасте: психотический эпизод Попытка суицида - результат сознательного решения убить себя - редко происходит перед пубертатом, но становится реальной возможностью у серьезно нарушенной личности начиная с пуберата. Многие подростки, рассказывающие что у них есть мысли убить себя, говорят, что впервые такие мысли у них появились в четырнадцать или пятнадцать лет, но редко когда это было в детстве. Должен присоединиться особенный смысл к попытке суицида, который специфичным образом обусловлен началом пубертата. Действие, которое воплощает сознательную мысль, что в результате будет своя собственная смерть, должно быть оценено очень отлично от других форм самоповреждений. Многое из очевидной патологии уязвимых подростков несет некоторый риск в их жизни - анорексия, нанесение порезов на запястья, компульсивное вовлечение в опасные действия, принятие наркотиков но эти формы поведения не включают сознательного желания умереть и поэтому не будут, с точки зрения развития, иметь то же значение для подростка. Попытка суицида, как это ни печально, всегда представляет собой постепенную потерю способности поддерживать связь с внешней реальностью и должна быть рассмотрена как острый психотический эпизод. Несмотря на то, что подросток уверен в своей нормальности в то время, когда совершалась попытка, не существует объективной реальности, приписываемой идее о своей собственной смерти. Вместо этого действие полностью обуславливается фантазией, исключающей любое осознание реальности своей смерти. Во время принятия решения убить себя тело подростка не является больше его частью , но вместо этого становится объектом, который может выражать все его чувства и фантазии. В этот момент сознательная вина не имеет значения. Подросток, который повреждает себя, для сравнения, все еще способен быть в контакте с объективной реальностью своего тела через физическое переживание боли или самого зрелища также хорошо, как и в своем желании разделить это переживание с внешним наблюдателем. Подросток, намеревающийся убить себя, переживает особое отношение к своему телу. Способность или желание защитить свое тело от внешней физической опасности или от своей собственной ненависти и нападения на него стала резко ослабленной. Вместо этого тело полностью идентифицируется с тем, кто в фантазии нападает, и кто должен теперь замолчать. Суицидальная попытка и срыв в развитии В норме пубертат вызывает инцестуозный барьер между ребенком и родителем. Подросток должен искать способы получения удовлетворения своих сексуальных и нарциссических потребностей, избегая родителей. Но подросток, который по какой бы то ни было исторической причине не способен сформировать отношения и теряет всю надежду, что он может в конце концов найти пути эффективного разрешения своей тревоги и напряжения, является уязвимым для переживания физической зрелости, сексуального тела как источника своей тревоги и ненависти. Мы всегда рассматриваем суицидальную попытку как знак острого срыва в процессе установления стабильной сексуальной идентичности. Было достигнуто состояние эволюционного застоя. Эволюционный процесс остановился и подросток чувствует, что больше не существует какой-либо возможности как для прогрессивного развития во взрослое состояние, так и для регрессивного движения к зависимости от эдиповых объектов. Часто попытке суицида предшествует событие, представляющее неудачу в движении от своих зависимых отношений с родителями. Некоторые исследования пациентов выявили, что страх неудачи на важном экзамене или неспособность решить , оставлять ли свой дом; чтобы поступить в колледж, был частью внешних обстоятельств, ускорявших суицидальную попытку. У других пациентов неудача была прямо связана с переживанием провала в гетеросексуальных отношениях, в результате чего подросток чувствовал, что у него нет пути для освобождения самого себя от зависимости от родителей для своего сексуального удовлетворения и, бессознательно, от тревоги, связанной с инцестуозным смыслом этих желаний. В каждом случае подросток ______________________________ 3 Это исследование, использующее данные из психоаналитического лечения, проводилось в Центре изучения подростковых срывов, Лондон. чувствует себя вовлеченным в невыносимый конфликт и полную беспомощность найти какие-то активные способы выхода из него. Но конфликт представляется различным у пациентов-мужчин и пациентов-женщин. Подросток мужского пола чувствовал, что он должен пассивно подчиняться отцу , чтобы получить помощь, но бессознательно это подчинение означало также контролирование своей жестокости; для подростка женского пола страх вынужденного возвращения в зависимость от своей матери вызывал интенсивную враждебность с добавлением страха потери контроля над своей жестокостью по отношению к матери. Потребность найти какие-то активные средства обхождения с ощущением пассивного подчинения была выражена всеми подростками, стремившимися обратиться к кому-то вне семьи за помощью. Но бессознательно они уже оставили надежду, потому что они были уверены, что никто не может им помочь меньше переживать неудачу, если они не могут быть другими. Они видели себя ненужными и бесполезными. Их тела представляли и содержали в себе их ненормальные сексуальные мысли и желания. Недостаточное количество помощи или утешения от человека, к которому они обращались, было достаточно для открытия этого внутреннего ощущения плохости и сексуальной ненормальности. Попытка получить помощь или успокоение в каждом из примеров своим результатом имела подкрепление веры подростка, что никто не может помочь ему, что только какое-то его собственное действие может уничтожить переживаемую им беспомощность. Их нападения на свои тела переживались как облегчение потому, что это давало им возможность чувствовать, что есть что-то, что они могут делать. Некоторые говорили о своем страстном желании достигнуть ощущения "покоя и безразличия (nothingness)" и таким образом уничтожить состояние болезненного напряжения, в котором они были. Бессознательно их суицидальное действие также выражало ненависть к своему зрелому сексуальному телу. Признаки риска Лечение подростков, которые совершали серьезные попытки убить себя, дало нам возможность использовать некоторые наблюдения в нашей работе для оценки того, когда существует непосредственный риск их жизни. Опасность действительной попытки может быть наиболее актуальной, когда в добавление к внешней ситуации, представляющей тупик, появляется бессознательная вина по поводу мысли о том, как родители подростка или аналитик переживали бы его смерть. Давнишний страх бросания и отвержения превращается в убежденность, что его не хотят или не любят, и что его родители или аналитик испытали бы облегчение, если бы он умер. Это так, будто подросток уже разрушил всех и все хорошее внутри себя. Серьезный риск может представляться, когда мы наблюдаем, что подросток оставляет борьбу. Примером является подросток, который больше не предпринимает каких-либо усилий для зависимости установления от своих отношений. родителей и Вместо этого он остается подверженным неспособным препятствовать продолжающемуся эволюционному взрослению своего тела. Это может быть одной из причин, почему важные дни рождения, такие как восемнадцатилетие или исполнение двадцати одного года, могут быть "внешней базой" для суицидальной попытки. Бессознательно появляются ненависть к телу и нападки на него из-за того, что оно видится как что-то, что подвергает его стыду, который он чувствует к себе. Такие подростки могут показывать первые признаки опасности, когда они чувствуют себя неспособными контролировать импульс напасть на одного из родителей. Фрэнк в возрасте девятнадцати лет постоянно ощущал угрозу от фантазий о нападениях на отца. На работе он был совершенно не способен разговаривать с любой из девушек из-за страха разоблачить свою немужественность и детскость. Он был действительно близок к тому, чтобы проявить жестокость к отцу, в то время, когда он страстно стремился быть в компании отца, но тогда был вынужден провоцировать в нем своею зависимостью от него и прилипчивостью некоторые признаки раздражения (irritation). Фрэнк видел в своем желании атаковать отца способ показать ему, что он теперь может доминировать над ним и не должен подчиняться ему. Осознание того, как близко он подошел к допущению, что он может убить своего отца, заставило Фрэнка почувствовать, что он должен убить себя. Он чувствовал, что только так он сможет контролировать свою потенциально убийственную ярость. Убийство себя можно также понять как убийство тела, содержащего желания и фантазии, которые, если проникнут в сознание, оставят Фрэнка перед лицом его сексуальных стремлений к отцу. Такие подростки могут говорить о своих родителях, умирающих прежде них; для них даже незначительное физическое недомогание родителя может вызвать суицидальную попытку. Подросток, которому не удается или который оставляет попытку отдалиться от родителей как объектов либидинальных потребностей и желаний, остается уязвимым для суицидальных мыслей. Но подросток, который, рискуя, ощущает свое тело в некотором смысле как тюрьму, из которой он должен убежать - будто тело должно подвергаться контролю и подчинению. По этой причине подросток, сознающий чувства, вызываемые в нем кем-то того же самого пола, или который чувствует, что он должен мастурбировать даже, если это заставляет его чувствовать неудачу или ненормальность, может находиться в рискованном положении. Часть риска лежит в ощущении, что выхода нет, что он ненормальный или, что он больше не контролирует свою собственную жизнь и мысли. Ряд подростков, совершивших попытку самоубийства, говорили о спокойствии и облегчении после того, как они проглотили таблетки; только после ощущения физического действия таблеток они стали беспокоиться и искать помощи. Спокойствие и облегчение также может быть признаком того, что решение умереть снимало давнишнюю вину и ненависть к себе. Это состояние деперсонализации во время суицидальной попытки также может помочь объяснить, почему так много подростков легко убеждают себя и нас в том, что это был лишь глупый импульс, который они больше не повторят. Из их лечения мы вынесли, что их осознавание своей способности воплотить свои суицидальные мысли в действие стало тайным источником силы для них. Фантазия состояла в том, что у них имеется секретное оружие, которое теперь облегчает им продолжение дальнейшей жизни, потому что оно всегда доступно в качестве средства для избегания боли. Важнейшее место как в оценке, так и в лечении мы уделяем сохранению реальности потенциальной опасности суицида. Единственной имеющейся в распоряжении охранной мерой является оценка или лечение. И подросток и аналитик должны сознавать этот риск для существования подростка; без такого понимания есть постоянная угроза сговора со всемогущей фантазией подростка о суицидальном действии. Конечно, в равной степени важно, что подросток должен знать, если даже аналитик сознает опасность, он не может удержать его от самоубийства. Исходы лечения Во время лечения подростка, который совершил попытку суицида, признаки определенной опасности могут быть использованы для предсказания риска другой суицидальной попытки или возможности преждевременного окончания лечения. Мы изучили уязвимость таких подростков к переживанию любой сепарации с аналитиком, включая перерывы на выходные или праздники, как к покиданию, подтверждающему их уверенность в своей плохости и увеличивающему ненависть к себе. Пока подросток под регулярным наблюдением аналитика, кажется, будто чувства ненависти к себе или отчаяния или то, что он поддается ощущению безнадежности по поводу своего потенциала для изменения, могут переживаться безопасно для подростка, и значение и исторический источник этих чувств в жизни подростка можно локализовать. Как только наступает перерыв на праздники, имеют тенденцию возвращаться мысли о смерти или суициде. Понимание гнева, вызываемого переживанием оставленности может помочь выживанию подростка в каникулы, на праздники и выходные во время лечения без потребности выражать гаев, нападая на свое тело. Мы также нашли, что во время перерывов на праздники у некоторых подростков вместо этого развиваются психосоматические заболевания. Другие вовлекаются в мимолетные сексуальные отношения, которые теряют свое значение, как только аналитик возвращается. Это наблюдение подтвердило наше исходное предположение, что существует некоторое нарушение в способности таких подростков заботливо относиться к своему телу. Оставление переживается как физическая заброшенность, которая, если она не может быть уничтожена путем нахождения сексуального партнера, ведет к психосоматическому выражению депрессивных чувств. Все подростки, наблюдаемые нами в аналитическом лечении, были обеспокоены, и в некоторых случаях они были убеждены, что их сексуальное развитие протекает ненормально. Они чувствовали, что тела были ответственны за их уверенность в том, что будущее не принесет предвкушаемого ими достижения удовольствия, как в физическом сексуальном ощущении, так и в понятиях самоуважения или нарциссизма. Они чувствовали неспособность достигнуть нормальных отношений и часто были не способны увидеть себя в качестве родителей в будущем. Они не могли испытывать какую-то надежду. Бессознательно они не только оставили надежду, но их изводила ненависть, ощущаемая ими в себе - чувство, угрожавшее через осознание тех сексуальных или агрессивных чувств или мыслей, которые они сами оценивали как очевидно ненормальные или непривлекательные. Они думали, что достойны наказания. Локализуя эти чувства в своих телах, они могли переживать смерть как в фантазии наказания самих себя, так и в окончании своих страданий, и, таким образом, выполняя желание. Это было так, будто их тела представляли препятствие, которое они в себе чувствовали. Становясь сексуально зрелым. тело стало ответственно за их неспособность возвратиться к относительной безопасности в более пассивных детских способах отношений со своими родителями, учителями и теперь их терапевтами. В то же самое время они не были уверены, что смогут найти в новых взрослых отношениях приемлемый путь достижения удовлетворения. Все вызывающее зависимость от аналитика, как например сознавание освобождения от тревоги из-за того, что им предлагалось лечение, переживалось как что-то постыдное, что следует отрицать для самих себя и других, потому что это ощущалось как содержание их регрессивных, пассивных желаний быть физически удерживаемыми и возбуждаемыми. В своем отношении к аналитику они не только постоянно ожидают, что их оставят и отвергнут, но также бессознательно испытывают потребность вызвать отвержение посредством своих действий как способа выражения их собственного отвержения себя. Это с повторениями происходило в отношениях с аналитиком и представляло собой повторение динамического смысла действительной суицидальной попытки. Большинство подростков, как мы упоминали, переворачивали «помощника» в «преследователя», который нес ответственность полностью за собственное интенсивное чувство стыда подростка и его неудачливость. Реальность искажалась через их собственное восприятие так, что «помощник» суицидальное действие. потом подвергался нападению в фантазии через Например, некоторые подростки, которым предлагалась терапевтическая помощь в ответ на их суицидальные попытки, пытались убить себя во второй раз потому , что они могли рассматривать предложение терапевтической помощи только как подтверждение своей ненормальности и как что-то постыдное (Deutsch 1968; Katan 1950; Schilder 1935). Неспособность подростка переживать любые болезненные чувства и их потребность определять их как приходящие извне серьезно ослабляют их способность формировать какие бы то ни было длительные отношения. Их единственной защитой против ожидания отвержения или покbдания является превращение его в действие, причиняющее боль другому человеку. Часто они не могут ждать, когда аналитик покинет их на время отпуска, но вместо этого будут отсутствовать прямо перед самим отпуском или договариваться об отпуске ( перерыве) прямо перед возвращением аналитика. Часто встречаются пациенты, имеющие тенденцию хранить молчание в течение длительных периодов, Делая из аналитика человека, вынужденного переживать одиночество ощутить это без поддержки вместо того, чтобы рискнуть самим. Бессознательно они тогда переживают молчание аналитика как доказательство того, что аналитик больше не заботиться о них или даже хочет, чтобы они умерли. Такие подростки не могут позволить радоваться самим себе временно регрессивным способом - вместо этого их постоянно преследует поиск достижений, позволившим бы им почувствовать себя свободными от самоупреков. Их отношения в равной степени окрашены и поиском того, кто бы сделал их сексуальное тело совершенным и вне критики, что, как они бессознательно уверены, невозможно. Таким образом, существует тенденция быть явно успешным и по-академически амбициозным подростком или неразборчивой девушкой, имеющим склонность к совершению суицидальной попытки. Но есть и другие, уязвимые подростки - те, которые уже показывают признаки отказа от борьбы, которые больше не предпринимают попыток к установлению отношений, и которые уступили желанию остаться полностью зависимыми от своих родителей для своего успокоения. Дополнительные комментарии по лечению Суицидальная попытка в подростковом возрасте представляет серьезную помеху для дальнейшего развития ко взрослому состоянию и является признаком срочной потребности в психологической помощи. Это так, несмотря на то, была ли суицидальная попытка недавно или случилась в прошлом. Даже если невозможно ежедневное лечение, более ограниченная форма терапии может быть очень эффективной. Помогая подростку понять, что его вынуждает нападать на свое собственное тело, мы можем помочь ему снова почувствовать, что его жизнь и будущее под контролем. С тех пор, как мы рассматриваем совершенную суицидальную попытку в качестве острого психотического эпизода в жизни подростка, мы видим это как постоянное травматическое переживание, где тревога, которую он переживал, полностью захлестнула его. Такая травма создает для подростка потребность повторять и повторно разыгрывать ситуации, динамически эквивалентные суицидальному действию. Путем облегчения подростку повторного переживания и проживания травмы в переносе деструктивная сила травматического переживания может быть снижена. Мы можем обозначить некоторые терапевтические критерии, которые важны для того, чтобы происходили эффективные перемены. Одним из таких критериев является необходимость стабильного сеттинга, в котором заключается помощь. Помощь должна предполагаться как долгосрочная и должна быть последовательной и полностью надежной в противостоянии всем усилиям со стороны подростка прервать ее или искать альтернативные способы для достижения лучшего самочувствия. Аналитик постоянно должен быть бдительным к любым решениям по поводу перемен в жизни подростка, которые представляются как позитивные сдвиги, но затем могут быть использованы подростком как альтернатива лечению и как сопротивление изменению. Реальность суицидального действия, опасности для жизни и возможность его повторения из-за внутренне обусловленного непреодолимого свойства постоянно следует держать в мыслях на переднем плане и подростку и аналитику до тех пор, пока смысл и переживание суицидальной попытки не будут проработаны (Freud 1910, 1914; Stewart 1963). Аналитик будет находиться под постоянным давлением, как со стороны подростка, так и со стороны самого себя с целью помочь подростку забыть или отрицать этот опыт. _____________________________________ В более нормальных случаях суицид может быть не физическим, а психологическим. При принятии подросткового решения – как и каким быть и жить – «убиваются» альтернативы, это закономерно для всех. Подросток в начале лечения полностью зависит от аналитика, позволяющего и предоставляющего ему возможность осознать свою вину, стыд и ненависть к себе, и, таким образом, помогающего ему уничтожить травматическое воздействие опыта суицидальной попытки, однако может происходить преуменьшение этой происшедшей попытки. Хотя для подростка ужасно признать, что он временно был сумасшедшим и действовал под влиянием внутреннего принуждения, мы рассматриваем лечение как единственный из способов, которым можно проработать травматическое воздействие от такого психотического эпизода. Однажды подросток совершил суицидальную попытку; он бессознательно верит, что он убил часть себя; он создает и сохраняет навсегда фантазию, что эта умершая частъ теперь существует внутри его тела. Эта умершая часть должна быть обнаружена и обозначена во время лечения и должен быть понят смысл ее присутствия. Когда мы рекомендуем подросткам, совершившим серьезную суицидальную попытку, лечение, мы часто поражаемся трудности убеждения подростка, его родителей и вовлеченных сюда профессиональных работников (учителя, врача, социального работника) в надобности психологического лечения. Часто мы встречаемся с огромным сопротивлением принятию серьезности того, что имело место. Желание и подростка, и родителей состояло в том, чтобы забыть это событие как можно скорее и возобновить "нормальную жизнь". Это может объяснять, почему даже профессиональный работник часто реагирует на суицидальную попытку, как будто подростку в этот момент нужно утешение, с уверенностью, что лучше всего этого добиться преуменьшением серьезности беспокойства по поводу того, что предполагает суицидальная попытка. Подростка, который в течение трех дней был в коме прямо перед тем как он должен был сдавать экзамены, поощряли к возобновлению обучения как можно скорее с тем, чтобы он не почувствовал полную неудачу. Уверенность, что подросток может забыть о желании умереть и сможет продолжать жить, происходит в результате уничтожения любой потенциальной дезинтеграции его жизни. Когда мы предполагали, что такой подросток показывает признаки того, что нуждается в неотложной психиатрической помощи, это часто отклонялось из-за того, что подразумевалось , что мы не считаем его нормальным или ошибаемся в своей уверенности, что эта попытка была чем-то другим, а не реакцией на некоторое внешнее давление или событие. У родителей и часто у профессиональных работников возникает тревога и гнев, когда попытки суицида подростка могут вынудить их убеждать аналитика, что его видение смысла попытки суицида преувеличено. Но для аналитика будет серьезной ошибкой идти на компромисс с оценкой суицидальной попытки, когда бы она ни имела место, как с признаком наличия на данный момент выраженной патологии и риска для будущего подростка. Суицидальная попытка в прошлом или в настоящем несет с собой то же самой патологическое качество. Если в процессе оценки мы выясняем, что подросток пытался совершить суицид некоторое время назад, "но теперь это не является проблемой", то оценка, тем не менее, будет заключаться в том, что в подростковом возрасте имел место острый срыв. Клинический материал; Мэри Технические трудности в анализе Мэри угрожали, если бы не произошло их разрешения, преждевременным окончанием лечения и разрывом отношений с аналитиком. Этот кризис был сформулирован следующим образом: повторное оживление попытки суицида в переносе через непреодолимую потребность бросить анализ. То, как понял и использовал аналитик такие кризисы в переносе, является решающим в облегчении подростку переживания самодеструктивных импульсов, но без того, чтобы привести к действительному бросанию анализа. Лечение временно терпело неудачу, когда Мэри стала уверена в том, что аналитик превратилась в пугающего и гневного, мстительного человека, который был ответственен за ее чувство, что ее сводят с ума. Потребность пациентки не приходить на сессии можно было понять как ответ на иллюзию, переживаемую ею в переносе и как психотическую защиту против понимания аналитика. Таким образом, в анализе был повторен психотический аспект реальной суицидальной попытки Мэри в возрасте восемнадцати лет однажды вечером приняла сверхдозу антидепрессантов и была найдена без сознания на следующее утро своей матерью. 4 Ее забрали в больницу, и когда она себя почувствовала достаточно хорошо, ее перевели в психиатрическую больницу, где она оставалась чрезвычайно замкнутой, стеснялась есть и очень мало говорила. Она не дала почти никакой информации о том, почему она решила умереть. Ее родители были не способны понять , что произошло. Они сказали, что понимали, что Мэри всегда была "трудной" - она была робким и напуганным ребенком, который был внушаем и подвергался притеснениям в любой новой ситуации - но они не думали, что была какая-то серьезная обида. Для сравнения, ее старший брат был самоуверенным и наглым. Мэри, однако, начала жаловаться на депрессивные чувства за несколько недель до попытки суицида, и, в конце концов, мать отвела ее к семейному врачу. Он договорился с ней, чтобы она показалась психиатру. Между тем он дал ей антидепрессанты. Она взяла их, когда решила убить себя. Во время обсуждения вопроса лечения аналитик сказала Мэри, что ей бы хотелось оставить ее в психиатрической клинике до тех пор, пока она не уверится, что Мэри достаточно хорошо себя чувствует, чтобы возвратиться. Кроме того, аналитик ожидала, что она будет жить там, где кто-то будет доступен, чтобы помочь ей, если она будет в этом нуждаться. (Смотри также главу 13). Мэри была маленькой, миниатюрного телосложения девушкой, выглядящей гораздо моложе, чем она была, с голосом и движениями нетерпеливого, но робкого ребенка. Она была одета в джинсы и свитер, которые полностью покрывали ее тело, и вначале она носила свое пальто на каждую сессию. Первоначально ее привела мать, которая ждала ее до конца сессии и затем забирала ее обратно в больницу. В то время Мэри сказала, что она боится перемещаться одна. Она сказала, что она вынуждена использовать одежду, чтобы скрывать свое тело. Предварительно в оценочных интервью она говорила о некотором беспокойстве по поводу своего тела, которое заставляет ее чувствовать себя ужасно, и сказала, что это какимто путем было связано с ее желанием умереть. Она ссылалась на запор у матери; у нее были сходные проблемы, и она беспокоилась и расстраивалась от своих мыслей на этот счет. Но ей было ясно, что для нее почти невозможно говорить об этих вещах из-за своего стыда, который она переживает. Она объяснила, что ее страх анализа был связан с ее неспособностью говорить о своих проблемах. В переносе слова принимали значение пищи в отношении с аналитиком. Тогда ее молчание использовалось как способ истощения аналитика. И истощая ее, Мэри могла ее немного удерживать, чтобы она не становилась огромной и способной доминировать и контролировать Мэри. Одна из ее главных забот состояла в обеспечении того, чтобы она не начала чувствовать себя "несуществующей" - так она чувствовала себя, когда была с матерью. Однако ее молчание содержало тот же самодеструктивный смысл, который она уже демонстрировала в больнице посредством своего решения показать, что она может существовать сама по себе без помощи или пищи, которую предлагала больница. _______________________________ 4 Эта пациентка описана в другом контексте в главе 7. Впервые во время анализа она замолчала, когда возросла ее тревога по поводу происходящего в ее жизни вне сессий. Ей требовалось поговорить с аналитиком об этом, но она отрицала такую возможность. Поэтому она ушла из больницы, не жила дома и снова приступила к учебе. Возрос конфликт между ее желанием проводить больше времени с мальчиком, с которым она встречалась, и ее потребностью учиться. Она допоздна не ложилась спать, чтобы говорить с ним, когда больше обычного начинала тревожиться о своей работе и о том, что ей сделают преподаватели, если она не сможет выполнять их требования. Хотя она приняла собственное решение продолжать обучение и сдавать экзамены, аналитик ожидала, что Мэри все еще подвержена боязни неодобрения матери, если она решит бросить обучение. Она могла говорить аналитику каждый день лишь о том, как много времени она проводила за разговорами со своим другом - будто она описывала вину, испытываемую за ночное поглощение пищи, которое она совершала перед суицидальной попыткой. Она была безнадежно тревожна, доказывая себе, что она нормальная и у нее может быть друг, поэтому ей не следовало бояться быть покинутой своими подругами, которые, как она чувствовала, были более заинтересованы в юношах, чем в ней. Временами аналитик не могла полностью понять всей многозначности, выражавшейся в словах, адресованных ей. Она реагировала на интерпретации как на попытки заставить ее говорить, и это увеличивало ее непреодолимую потребность хранить молчание. Аналитик знала, что ответное ощущение Мэри как "ее принуждение" должно было относиться к сексуальным фантазиям., где ей кто-то делал клизму - нечто она однажды сообщала - но временами она говорила, что ненавидит себя за неспособность выкинуть эту мысль из головы, и что аналитик не должен говорить с ней об этом. Когда она делала это, Мэри реагировала с гневом, говоря, что такими разговорами аналитик делает ее больной. Из-за того, что аналитик продолжала интерпретировать ее молчание, она чувствовала, что аналитик не только принуждает ее говорить, но и делает с ней что-то такое, что заставляет ее чувствовать себя "больной" и ненормальной, помещая запретную мысль о клизме в свою голову. Кроме того, оставаться молчаливой в ответ на молчание Мэри могло быть в равной степени опасно. Настолько, насколько Мэри оставалась молчаливой, она могла думать, что ее агрессия на аналитика больше им не контролируется, и она успешна в причинении ей вреда. Своим собственным молчанием аналитик могла только подкреплять фантазию Мэри, что она хочет отвергнуть Мэри, или что она преуспела в "ее убивании" тем, что заставляет аналитика молчать. Аналитик беспокоилась, что тревога, возросшая от этого, может заставить Мэри вновь совершить суицидальную попытку. Пока Мэри молчала о том, что с ней происходит, она просто давала аналитику достаточную информацию, чтобы определить, что тревога угрожала ей еще большим переполнением. Она говорила, что начала чувствовать то, что чувствовала перед суицидальной попыткой - все, что она делала (обучение, уход за собой, приход на сессии), делалось потому, что она чувствовала, что должна делать это. Она снова чувствовала себя полностью поглощенной. Она говорила о своей потребности быть решительной и не сдаваться. Она начала пропускать сессии. После того как Мэри в течение нескольких дней не приходила на сессии и не контактировала с аналитиком, аналитик позвонила Мэри и попросила ее придти, чтобы обсудить, что следует сделать, если Мэри не способна продолжать анализ. Таким способом аналитик не дала Мэри ощутить себя как способную заставить аналитика быть "несуществующим", что, как она боялась, аналитик может сделать с ней. Когда она пришла, аналитик предположила, что Мэри стоит вернуться в больницу, потому что ей нужна помощь, и она не может использовать посильную помощь аналитика. Это событие стало первым кризисом в анализе и способствовало перерыву в отношениях с аналитиком. Посредством своей активности аналитик скорее создала кризис , чем позволила Мэри почувствовать, что она разрушает себя и аналитика. Когда она возвратилась из больницы, аналитик смогла обсудить с ней, хочет ли она продолжать лечение. Теперь Мэри могла противостоять своему гневу на аналитика, ощущая себя в большей безопасности, чтобы принимать решения, потому что она не чувствовала себя полностью зависимой от аналитика, чтобы помочь себе. Аналитик смогла показать ей, что ее неприходы являлись нападением на себя и на свои надежды на будущую жизнь, так же как и на аналитика. Она также смогла помочь Мэри понять, что она чувствовала бы, имея аналитика, не контактирующего с ней, что ее подводят к желанию убить себя, потому что она бы еще больше почувствовала одиночество и безнадежность. Позже Мэри объяснила, что она не приходила из-за того, что чувствовала такую ярость, что считала себя способной разрушить комнату аналитика, если бы пришла, и что когда она пришла, то чувствовала постоянную угрозу от нее - будто аналитик собиралась напасть. Фактически когда она решила не приходить на сессии, она стала такой пугливой по ночам, что попросилась спать в комнату женщины, присматривающей за домом, в котором она жила. В дневное время она была не в состоянии покинуть дом. Ее неспособность контактировать с аналитиком была обусловлена ее параноидной фантазией об аналитике, подавляющем ее и заставляющем ее иметь постыдные мысли, которые делали ее больной и ненормальной и желающей убить себя. Но единственный способ защиты Мэри состоял в нападении на аналитика и превращении в "несуществующую" в ее жизни путем своей настойчивости в том, что она должна справиться без ее помощи. Через признание аналитиком реальности нападения на нее Мэри, делавшей это путем своей конфронтации с неспособностью аналитика помочь, и в то же самое время настаивая на своей потребности в помощи, она смогла пережить свои собственные деструктивные импульсы без переживания полного одиночества и покидания аналитиком. Технически было важно признать влияние действий Мэри на аналитика, чтобы избежать представления о себе как о всемогущем объекте, на который можно продолжать нападать. В то же самое время аналитик признала непреодолимую природу нападения и, таким образом, выраженность ее заболевания. Мэри сама всегда не придавала какого либо значения тому времени, когда была совершена суицидальная попытка. Она уже чувствовала себя мертвой - сказала она - в предшествующие два года, поэтому не было ничего особенного в том, почему она выбрала тот день. Но предположение аналитика, что они прорабатывали решающий аспект мотивации Мэри к желанию убить себя, было подтверждено некоторое время спустя случаем, который аналитик приняла как показатель того, что Мэри, являясь ранимой, больше не должна реагировать на собственную тревогу тем же способом. Она была дома в (течение выходных и сообщила, что разозлилась на родителей, потому что хотя они открыто не скандалили, в доме была "атмосфера" - враждебное молчание между родителями. Она им сказала, что не хочет проводить с ними время, если это будет всем, на что они способны. Затем, "облегчив свои чувства", она ушла на длительную прогулку, прежде чем возвратиться домой. Она помнила, что тем вечером, когда она приняла сверхдозу (таблеток), была похожая атмосфера, и она ушла спать раньше, чтобы избавиться от этого. Было очевидно, что теперь она способна выражать свои собственные чувства более прямо и не должна чувствовать такую беспомощность или переживать свои собственные чувства, будто они несуществующие и являются единственным результатом того, что делают с ней ее родители. Многое из материала о ее родителях само по себе касалось ее смеси триумфа и тревоги в отношениях с родителями. Она чувствовала, что отец может поговорить с ней, но не может или не смог бы поговорить с ее матерью. Таким образом, разговор имел эдипово значение, и ее вина по поводу нанесения вреда своей матери содержала в себе ее уверенность, что разговаривая с ней, отец разрушает ее мать, потому что это не позволяет ему говорить с матерью. Это событие в будущем подтвердило ощущение Мэри, что разговор с ее другом и молчание с аналитиком являлось нападением на аналитика и что неспособность Мэри придти на сессию была частично ее страхом возмездия со стороны аналитика. Период анализа перед временным прерыванием лечения можно также рассмотреть как повторение двух лет, предшествовавших суицидальной попытке Мэри, когда она чувствовала себя брошенной, и когда в тайне она знала, что убьет себя. В это время она чувствовала, что должна позволить, чтобы ее жизнь все больше и больше контролировала мать. Она чувствовала себя поглощенной запором своей матери, и этот интерес к телу матери был представлен в паранойяльной фантазии, где она ощущала свою мать как источник своих сексуальных фантазий. Но в процессе идентификации со своей матерью как с источником этих фантазий, делавших ее такой "больной" с самой собой и очень сильно изводящих ее, ее покинуло чувство, что она могла бы либо уступить матери и своим собственным мыслям, либо разрушить свою мать, освободив себя от них. Она показала силу своей веры в то, что ее мать ответственна за ее мысли, когда она упомянула, что была один раз или дважды убеждена, что ее мать предлагала ей отравленную пищу. Но ее болезнь обострилась, и она была сломлена, когда была одинока и пыталась учиться, чтобы сдать экзамены. Она стала не способна концентрироваться на своей учебе или контролировать мысли о своем теле. Она рассказала аналитику, как чувствовала себя в то время, когда тайно брала пищу и набивала себя ею по ночам. Она больше не могла избегать чувства ответственности за свои собственные мысли и импульсы и вместо этого ненавидела себя за то, что делает себя жирной - будто она чувствовала, что ее тело было ответственно за раскрытие ее постыдного секрета. Когда она поздно ночью бодрствовала со своим молодым человеком, с которым познакомилась, разговоры все больше и больше предоставляли возможность контакта и эти чувства заставляли ее чрезвычайно тревожиться. Она упоминала, что они болтали до 3-х часов утра, но не предоставляла других деталей. Техническая проблема вначале заключалась в решении того, насколько желание сохранять ее новые отношения в секрете представляют попытку прогрессивного шага в сравнении с чувством подверженности контролю со стороны матери и теперь аналитика, и насколько тревога, связанная с тем, что она была не способна позволить аналитику помочь ей, оставляет ее. В течение первой недели ее новой дружбы Мэри в панике рассказывала о страхе потерять контроль и говорить, что она думала о самоубийстве днем раньше. Суицид был ее "единственной жизненной линией". Она сказала, что осознавала свою зависимость "полностью от его милости" в том, что они целовались и обнимались. Это было как если бы она рассматривала суицид как свое исчезновение с целью сохранения контроля. То, что позже оказалось первым сигналом опасности, несмотря на интерпретации в качестве помощи ее рассказу о тревоге и вине, состояло в том, что Мэри чувствовала себя вынужденной идти домой и рассказывать своей матери о том, что произошло. Хотя она утверждала, что ей становилось лучше после того, как она делала это, она звонила аналитику в панике в тот же вечер и просила о дополнительной сессии. Затем она рассказала аналитику, какую вину она чувствовала из-за того, что не смогла сказать аналитику, что молодой человек касался ее гениталий. Эта очевидность компульсивной потребности Мэри рассказывать своей матери, чтобы облегчить свою вину, и ее тревога по поводу молчания с аналитиком внесли свой вклад в обеспокоенность аналитика продолжающейся неспособностью Мэри говорить на сессиях. Несмотря на интерпретации, было очевидно, что аналитик была не способна предотвратить нарастающую тревогу Мэри об утаиваемом ею материале, которая в то же самое время заставляла ее видеть аналитика как беспомощного. Мэри оставалась в клинике в последующие пять месяцев. В течение этого времени она смогла быть более дружелюбной с другими пациентами и отвечать на терапевтические интервенции персонала гораздо более конструктивно. Вначале она отвергала всю помощь или отношения, отличающиеся от тех, что она искала для защиты себя от агрессии и жестокости, которые, она чувствовала, окружали ее. Но постепенно она смогла начать признавать свою собственную агрессивность и сексуальные фантазии. Она осознала, что она не только хочет учиться и сдавать экзамены, но ей бы хотелось ощутить свою способность работать и зарабатывать деньги, поэтому она не должна чувствовать себя такой беспомощной и зависимой. Позже она выразила свое удовольствие по поводу обнаружения того, насколько свободнее она теперь себя чувствует, сказав, что она никогда раньше не представляла себе, что каждый может есть, когда он голоден, вместо того, чтобы есть только в определенное время. Второй раз Мэри с очевидностью решила закончить свое лечение годом позже, когда она начала работать. Она чрезвычайно тревожилась, что никому не следует знать о ее потребности в лечении и пыталась скрывать свои прошлые психиатрические поступления так же, как и свою потребность в помощи в настоящем. Когда ее наниматель спросил медицинскую карту, она сильно разволновалась и стала агрессивной. Проблема стала частью переноса, когда она не смогла приходить на сессии вовремя из-за требований на работе. Она не могла сказать своему работодателю, что ей нужно уйти и не могла сказать аналитику, почему она опоздала или почему она не пришла в предшествующий день. Она использовала аналитика, чтобы показать, что никто не может заставить ее объяснять свое поведение, если она этого не хочет. Она решила, что будет продолжать анализ только четыре раза в неделю вместо пяти. Это стало "слишком много" для нее. Она снова пыталась использовать свою "решительность" как способ контролирования. Но ее страх потери контроля состоял в том, что она вынуждена была обнаруживать свой постыдный секрет. Аналитик настаивала на том, что Мэри требуется пять сессий и интерпретировала ее поведение, заключающееся в неприходах, в том, что она не говорила аналитику, почему она опоздала, когда приходила, и в молчании о своей жизни вне лечения, как желание оставаться под контролем из-за своего страха потери контроля над гневом по отношению к аналитику. Ее гнев стал возрастать , но ее поведение по отношению к аналитику казалось неизменным вследствие интерпретаций. Она опаздывала, отказывалась говорить и оставляла аналитика в неведении о том, почему не приходила. Она начала заводить знакомства, и временами казалось, что она не приходила не из-за работы, а скорее из-за своего желания проводить время со знакомыми. Когда она требовала уменьшить количество ее сессий, аналитик сказала, что она видит сомнение Мэри в пользе лечения и это "слишком много" как ее переживание, что аналитик теперь был кем-то, кого она должна избегать. Она предположила, что Мэри следует подумать о том, хочет ли она продолжать. Аналитик попросила ее собраться с силами для обсуждения уверенности аналитика в том, что Мэри все еще нужно приходить, несмотря на ее текущую способность управлять. После нескольких дней они подошли к тому, что Мэри требуется некоторое время обдумать это. В последний день условленного периода она позвонила, чтобы сказать, что она решила прекратить анализ. Двумя днями позже она позвонила в состоянии паники, спрашивая у аналитика, стала ли она уже ответственна за свое решение закончить анализ, и сказала, что она хочет увидеть аналитика, потому что она чувствует, что сделала одну из ее самых ужасных ошибок. Когда она вернулась, она сказала, что когда она звонила сказать аналитику о своем решении, то намеревалась сказать о желании продолжить, но в последний момент подруга, испытывавшая некоторый стресс, попросила ее поговорить с ней, и она импульсивно изменила свое мнение, сказав что не будет продолжать. Это было так, будто подруга дала ей возможность временно почувствовать себя идентифицированной со всемогущим аналитиком, поэтому она могла почувствовать, будто у нее самой нет потребностей. Только после того, как она сказала аналитику, что не будет продолжать, она на самом деле смогла пережить, что для нее значило бы окончание анализа. Она провела два страшных дня - она почувствовала будто пришла к полной остановке прежде того, как смогла решить позвонить аналитику, чтобы спросить, могла бы она все же продолжить. Казалось, будто она повторяла что-то, что раньше прояснилось в анализе. В то время, когда она приняла сверхдозу, она была не способна думать о смерти в реальных понятиях. Однако, пока она была в больнице, пациент, которого она знала, умер в результате передозировки, и только затем Мэри была напугана смертью и успокоилась от того, что не умерла. Казалось, что ее потребность ощутить, что это было как окончание анализа, перед тем как смочь почувствовать, что для нее значит оставить аналитика и лечение, повторяла то же самое отрицание реальности. С технической точки зрения было важно выстоять перед лицом утверждения Мэри, что аналитик защищает ее от тех вещей в жизни, которых для нее "слишком много". Позволение аналитиком пропускания сессий означало ее согласие с тем, что Мэри не следует вовлекаться в любые ситуации, вызывающие у нее слишком сильную тревогу. Это также означало бы, что аналитик согласилась и приняла страх Мэри потерять контроль над своим гневом, что включало бы для нее не только аналитика или людей на работе, но также любые будущие сексуальные отношения. Продемонстрировав ей, какой ранимой она все еще является в связи с тревогой, вызванной потребностью разорвать отношения с аналитиком, Мэри смогла вернуть надежду, что анализ может облегчить ей поддержание стабильных отношений в будущем. Переживание потребности бросить анализ повторил ее суицидальный импульс в пределах безопасного пространства переносных отношений. ________________________________ 6 Так как этот случай являлся частью исследования, он обсуждался на регулярных клинических научно-исследовательских заседаниях с коллегами, которые также занимаются подростками. Вскоре мы поняли, что эти обсуждения были важны в качестве поддержки в лечении подростков, где возможность еще одной суицидальной попытки всегда держится в голове.