Лукреций
advertisement
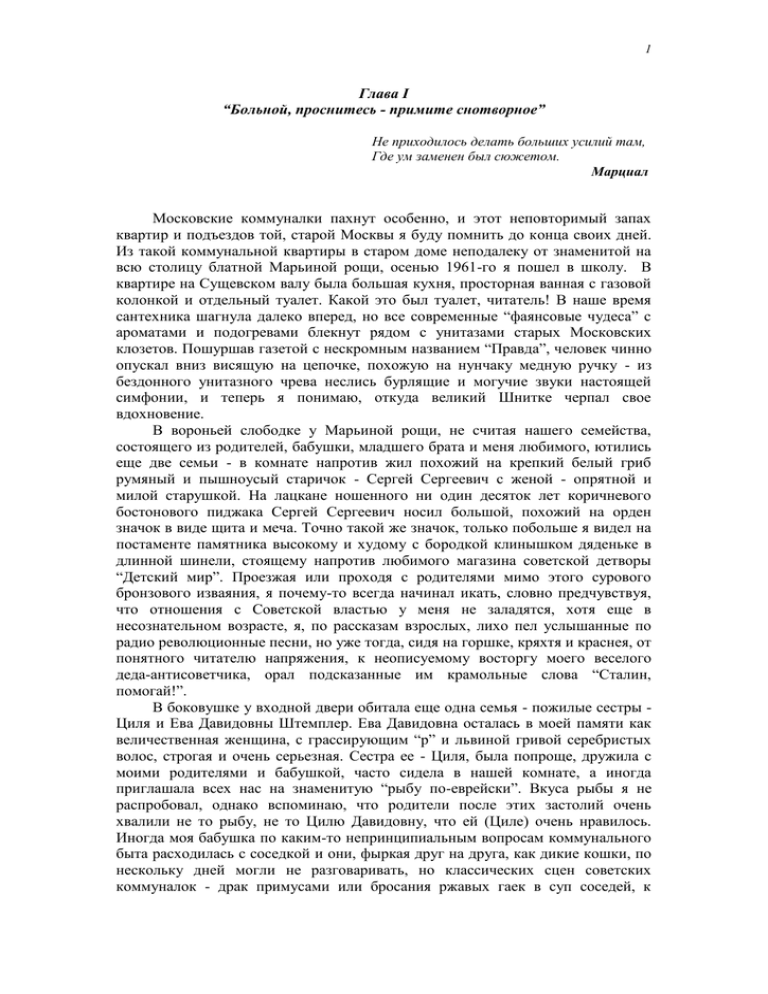
1 Глава I “Больной, проснитесь - примите снотворное” Не приходилось делать больших усилий там, Где ум заменен был сюжетом. Марциал Московские коммуналки пахнут особенно, и этот неповторимый запах квартир и подъездов той, старой Москвы я буду помнить до конца своих дней. Из такой коммунальной квартиры в старом доме неподалеку от знаменитой на всю столицу блатной Марьиной рощи, осенью 1961-го я пошел в школу. В квартире на Сущевском валу была большая кухня, просторная ванная с газовой колонкой и отдельный туалет. Какой это был туалет, читатель! В наше время сантехника шагнула далеко вперед, но все современные “фаянсовые чудеса” с ароматами и подогревами блекнут рядом с унитазами старых Московских клозетов. Пошуршав газетой с нескромным названием “Правда”, человек чинно опускал вниз висящую на цепочке, похожую на нунчаку медную ручку - из бездонного унитазного чрева неслись бурлящие и могучие звуки настоящей симфонии, и теперь я понимаю, откуда великий Шнитке черпал свое вдохновение. В вороньей слободке у Марьиной рощи, не считая нашего семейства, состоящего из родителей, бабушки, младшего брата и меня любимого, ютились еще две семьи - в комнате напротив жил похожий на крепкий белый гриб румяный и пышноусый старичок - Сергей Сергеевич с женой - опрятной и милой старушкой. На лацкане ношенного ни один десяток лет коричневого бостонового пиджака Сергей Сергеевич носил большой, похожий на орден значок в виде щита и меча. Точно такой же значок, только побольше я видел на постаменте памятника высокому и худому с бородкой клинышком дяденьке в длинной шинели, стоящему напротив любимого магазина советской детворы “Детский мир”. Проезжая или проходя с родителями мимо этого сурового бронзового изваяния, я почему-то всегда начинал икать, словно предчувствуя, что отношения с Советской властью у меня не заладятся, хотя еще в несознательном возрасте, я, по рассказам взрослых, лихо пел услышанные по радио революционные песни, но уже тогда, сидя на горшке, кряхтя и краснея, от понятного читателю напряжения, к неописуемому восторгу моего веселого деда-антисоветчика, орал подсказанные им крамольные слова “Сталин, помогай!”. В боковушке у входной двери обитала еще одна семья - пожилые сестры Циля и Ева Давидовны Штемплер. Ева Давидовна осталась в моей памяти как величественная женщина, с грассирующим “р” и львиной гривой серебристых волос, строгая и очень серьезная. Сестра ее - Циля, была попроще, дружила с моими родителями и бабушкой, часто сидела в нашей комнате, а иногда приглашала всех нас на знаменитую “рыбу по-еврейски”. Вкуса рыбы я не распробовал, однако вспоминаю, что родители после этих застолий очень хвалили не то рыбу, не то Цилю Давидовну, что ей (Циле) очень нравилось. Иногда моя бабушка по каким-то непринципиальным вопросам коммунального быта расходилась с соседкой и они, фыркая друг на друга, как дикие кошки, по нескольку дней могли не разговаривать, но классических сцен советских коммуналок - драк примусами или бросания ржавых гаек в суп соседей, к 2 счастью, не наблюдалось. Помню, однажды, гневаясь на одну из своих приятельниц, Циля Давидовна, гремя на кухне кастрюлями, ругала ее жидовкой(!). Озадаченная таким оборотом дела бабушка Пахомова - борец за правду и чистая душа, искренне удивилась и не в силах долго носить в себе распиравшее ее любопытство, попросила соседку разъяснить ей данный парадокс. На что Циля Давидовна, ни мало не смутясь, заявила, что к великому счастью рода людского, в этом прекрасном мире есть евреи, но к его же несчастью есть и жиды... В школе на Сущевском я проучился недолго, еще стояло теплое “бабье лето”, из приемников, уставленных мраморными слониками на кисее, и почемуто всегда стоящих у окон, неслись модные “Эгегей, Хали Гали” Джорджа Марьяновича, “Девонькамала” Родмилы Караклавич и звенел нежный альт мальчика Робертино. А наша семья, получив в подарок от тоталитарного государства отдельную двухкомнатную квартиру на Таганке, готовилась к переезду. Упаковав коробки и собрав вещи, родители, трогательно распрощались с соседями, уронили слезинку на полную грудь Цили Давидовны и, прихватив под мышку бабушку Пахомову, за которой, впрочем, так и осталась ее комнатушка, навсегда покинули дом на Сущевском. По переезду на новое место, скучалось мне недолго. Выйдя гулять на незнакомый двор, я тут же познакомился с четырьмя своими одногодками, хором распевавших одну из самых популярных в то время дворовых песен о недавних героях унесенной в открытое море, но чудом спасенной судьбой в образе американского крейсера советской баржи - “Жиганшин буря, Жиганшин рок, Жиганшин жрет второй сапог...” Красивый черноглазый мальчуган Саша, два брата-близнеца с необычной фамилией Шкрум, желтоглазый, с медно рыжими волосами и с лицом как небо звездами усыпанном конопушками Владик Гернет - стали моими новыми друзьями, заполнившими собой целых семь лет моей сознательной жизни. Заводилой во всех наших играх был рыжий Владик Гернет, не боявшийся прыгать с самых высоких крыш и своим нахальным и неуживчивым характером, окрысивший на себя всю без исключения местную шпану, которой просто кишел район Таганки, Обельмановской заставы и Рогожского вала. Шпана сладострастно мечтала его отловить, но Владик имел быстрые длинные ноги и, отбежав на безопасное расстояние, бесстрашно орал хулигану по кличке “Качан” - “Качан, Качан, свою жопу накачал!” Драться мы не умели, и выяснение отношений между мальчиками нашего двора сводилось примерно к следующему - противники, выставив перед собой руки с растопыренными пальцами, полу зажмурив глаза и подбадривая себя боевым кличем: “ну ты чо, ну чо ты” толкали друг друга все сильнее, пока, устав и наградив друг друга презрительным эпитетом “рахит” не расходились удовлетворенными. Высшей брутальностью такого поединка считалось, набравшись духа, глубоко вдохнуть воздух и ударить соперника в нос. На этот подвиг решался далеко не каждый, но если такое случалось, обескураженный потерпевший только что бойцовым петухом расхаживающий вокруг противника, недоуменно смотрел на крупные темно-красные капли, падавшие из собственного носа на сатиновые шаровары и китайские кеды, потом глаза его сами собой наполнялись неведомо откуда взявшейся предательской слезой, а затем, отвернувшись от соперника, он начинал громко и истово реветь, своим безысходным горем настолько обескураживая победителя, что тот начинал обнимать и успокаивать недавнего врага, боясь и сам разрыдаться за компанию. 3 Владик Гернет был очень непокладистым и задиристым мальчуганом. Нахохлившись как воробей, он наскакивал на противника, толкал его руками, но ударить человека в нос, видимо по причине врожденного человеколюбия, все-таки опасался. Этот конопатый “вождь краснокожих” мог до припадка, граничащего с гипертоническим кризом, довести Анну Спиридоновну - нашу первую учительницу, приземистую квадратную женщину с широким красным лицом и уложенной по-деревенски вокруг головы косой. Слово “наглый” в приступе гнева было ее излюбленным определением. Наглый Маликов, наглый Шкрум, и т.д. “Наглый Гернет!” - орала она и лицо ее и так красное становилось кумачовым. Мальчика это, однако, не смущало. Владька стоял, упрямо набычив голову, и зло, с недобрым прищуром, косил сквозь конопушки на учительницу своим желтым глазом дьяволенка. Отец его был капитаном дальнего плавания. Капитан Гернет, прямо как в книжке, которой зачитывались в детстве наши родители, и данный факт, бесспорно, придавал Владьке лишнего авторитета. А какая у моего друга была коллекция марок! И это тоже восхищало, потому что мои собственные марки, по сравнению с этим немыслимым и поражающим всякое воображение сокровищем, представляли жалкое зрелище. Тридцать с лишним лет спустя признаюсь, что совершил гадкий поступок. Неким волшебным образом, и сам не знаю как, марка из его кляйсера очутилась у меня в кармане. Замечательная марка республики Габон с африканским носорогом. И, да простит меня носорог и Владик, если случайно читает эти строки. Впрочем, две недели спустя, у меня куда-то пропал и мой собственный альбом - справедливая расплата за грех, ибо сказано в заповедях “не воруй”. Страна тем временем стремительно сажала кукурузу, строила заводы, встречала Гагарина, уткнувшись в телевизоры с линзами, смотрела первые КВНы, и, потрясая кубинскими флажками, хором пела: “слышишь чеканный шаг, это идут барбудос!”, хотя кто такие «барбудос» и куда они идут, по-моему, не знал никто. Каждый уважающий себя советский мужчина обзаводился плащом-болонией, а московские красавицы поголовно переходили на белые туфли-лодочки, и делали прическу с какашкой на голове - бабетта. В моду входил энергичный танец твист, а школьники, кинув в угол портфель или ранец, очертя голову, бежали во двор играть в футбол или хоккей, и, по ночам обняв хоккейную клюшку или мяч, засыпали с именами Яшина и Стрельцова, Нетто и Гусарова, Майорова и Старшинова на устах, в страшных снах видя ненавистного водилу Рейнгольда. По улицам, вытесняя вымирающих как вид узко-дудочных стиляг, уже начинали блатной походкой переваливаться прыщавые юнцы в странных пиджаках без воротников с начесанными на лоб челками и в красиво оттеняющих кривизну мужских ног брюках клеш, а второгодник Вова-Косой первый раз принес в школу смазанные и сто раз переснятые с самих себя фотографии четырех странных молодых людей с прическами “под горшок”, которых называли непонятным словом “Битлы”. Что делали эти «Битлы» еще никто не знал, но каким-то шестым чувством мы – мальчишки - понимали, что Битлы - это здорово. Фотография стоила 10 копеек, по тем временам - целых две ватрушки, но не иметь эту замечательную карточку для ученика 2-го “А” класса было просто не солидно. Классу к третьему, не смотря на тотальный футбол и хоккей, игры в войну - после каждого нового фильма новая война, прыганье с крыш и собирание Кляйсер - альбом для марок (филат.) 4 марок, наша дружная пятерка стала задумываться о будущем. А в том, что жизнь нам уготована долгая и прекрасная, никто, конечно же, не сомневался. Тихий и спокойный Саша Иодчин высказал желание стать инженером, и, вероятнее всего, на беду себе, стал им. Братья Шкрумы решили завоевывать высоты спорта. А я, почему-то, решил стать ... китобоем! Вспоминая этот трогательный случай, до сих пор не могу понять, что плохого мне сделали киты. Но самый смертельный кульбит отмочил, конечно же, Владик Гернет. О, великий ребенок! Он заявил, что будет ... путешественником! Мы даже рты раскрыли, слишком поздно поняв, какую приятную во всех отношениях должность проворонили. Ни ломать голову над технологией производства, ни тренироваться до одурения, ни клацать зубами от холода среди торосов и айсбергов, одурело паля из гарпунной пушки по несчастным китам, ничего этого, а только путешествовать себе в удовольствие. Еще больше убил нас наш приятель, когда, начитавшись Дюма, мы стали примерять на себя камзолы мушкетеров. Владик Гернет тут же забил место гасконца, а так как мушкетеров было всего четыре, а не пять, ясное дело - на всех не хватило. Оказалось, что пока я хлопал ушами, из-под самого моего носа, как жеребцов из стойла, увели и Атоса, и Портоса, и Арамиса. Было мнение сделать меня Планше, но такая беспардонная наглость, до крайности возмутила, и мною было предложено тянуть жребий. Обиделся я жестоко, и в тот момент наша дружба висела на волоске. Справедливость была восстановлена, когда я, к своей радости вытянул бумажку, на которой черным по белому было написано Д’Артаньян. Владик, отреагировал неожиданно равнодушно и, как-то сразу утратив интерес к интригам французского двора, как бы, между прочим, заявил, что идет на свидание с Верой Ростовцевой - первой красавицей начальных классов и, конечно же, всего мира. Оставив за спиной, обалдевших от зависти мушкетеров, Влад с кардинальским достоинством удалился. Ах, Вера. Ты была девочкой нашей мечты. И если и могли мы дать комунибудь в нос, так только защищая тебя, Вера! О, если бы ты знала, как мечтал я взять тебя за руку и проехаться перед тобой на велосипеде “Школьник” в модных штанах “техасах” с блестящими заклепками, все своим мужественным видом напоминая ковбоя, из потрясшего воображения всех советских мальчишек, неизвестно как попавшего на советский экран американского боевика “Великолепная семерка”, который я так и не посмотрел. Если бы ты знала, как мечтал я в своих сексуальных фантазиях спасти тебя от единственного в Москве бандита по кличке «Мосгаз», ты никогда, слышишь, Вера, никогда бы, не предпочла мне этого рыжего и конопатого Владьку, который, если честно, и мизинчика-то твоего не стоил. Но, увы, Вера, увы. Из всех нас ты предпочла именно его. У любого мальчишки - два дома. Один - родительский, где строгий отец и ласковая наседка мама проверяют уроки, кормят, одевают, учат жизни, одаривают конфетами, велосипедом, хоккейными клюшками или орут и наказывают ремнем, с последующей трехдневной отсидкой - словом, тот самый мир, который хочет сделать из тебя “Человека” с большой буквы, причем “Человека” по своему образу и подобию. Второй - двор. Там можно (и нужно) делать именно то, что запрещается в первом - плеваться, курить, обижать младших, писать на заборах неприличные слова, и на эти же заборы писать, бить из рогатки по голубям и кошкам, и ругаться матом, показывая окружающим, что ты в свои одиннадцать уже видавший виды матерый человечище. 5 У двора свои законы, свой уголовный и гражданский свод, свой кодекс чести и свой суд, порою скорый, жестокий, но всегда справедливый. Школа и дом - надоевшие классные дамы, улица - суровый, строгий, и очень уважаемый учитель-сенсей, каждое слово которого ловится на лету и запоминается мальчишкой на всю жизнь. Огороженный с одной стороной автобазой № 4, а с другой Рогожским колхозным рынком, наш двор ничем не отличался от других московских дворов - те же серые, неприветливого вида дома, та же спортивная с ржавой сеткой площадка, тополя, клены, и лавочки с “сучьим комитетом” у подъезда. Чуть оживляла эту стандартную картину желтая кирпичная труба котельной, на которой гордо красовалось, от полноты чувств написанное кем-то краской короткое как меч гладиатора и до боли знакомое нецензурное слово. На этот двор после нудных и неинтересных школьных уроков, и таких же длительных родительских наставлений, бурным, прорвавшим дамбу потоком из тесных московских квартир валила детвора играть в расшибалочку, чижа, войнушку или футбол, кататься на велосипедах, жевать смолу-вар, шлепать по лужам, словом, жить полноценной жизнью советских мальчишек середины 60-х. По вечерам из открытого окна на третьем этаже дома напротив, из приемника, выставленного динамиками на улицу, чей-то голос, захлебываясь в хрипе, замечательно орал - “Камонзетвистэгейн лайктуби лайксама”, в небе кружили ласточки, а самый отпетый хулиган района по кличке “Шоля”, нахмурив и без того страшную морду, стоял у подворотни соседнего дома, готовясь, как и положено ему по статусу, отнимать у трясущихся от страха мальчишек водяные поливалки, металлические кружочки от праздничного салюта и серебряные гривенники, припасенные на мороженое. Когда «Шоли» не было, во двор выходил гулять всегда безукоризненно одетый в заграничное мальчик в очках, по кличке “Шеф”. Папа «Шефа» был важным советским бонзой, и мы знали - будет пожива, потому что сынок часто угощал нас настоящей американской жевательной резинкой. Резинку эту он вынимал изо рта и, по-братски щедро, отдавал нам, не забывая, с хрустом развернув блестящую обертку, которую мы тут же подбирали, сунуть себе в рот новую пластинку. А мы, мы, делили этот ароматно пахнущий белый комочек на десять, а то и больше человек, и чувство, что у тебя на языке целый миллиграмм настоящей американской жвачки, привносило в жизнь ощущение безусловного счастья. Мальчики-близнецы со смешной фамилией Таратуты, выносили во двор уже дефицитную в то время воблу, и моментально очищенная и расхватанная десятками рук рыба, сверкнув спинкой, ребрышками, икрой и хвостиком, тут же разлагалась на атомы. Примерно в это же самое время стало известно, что «Битлы» с фотографии Вовы Косого, это гитаристы и ударник, что английские парни из Ливерпуля по имени Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар, не смотря на то, что и так замечательно смотрятся на фотографии, к тому же еще и поют. Некоторое время спустя, у нас в руках появилась и первая, купленная вскладчину за целый рубль - огромное по тому времени состояние, пластинка с их песней. На неровно обрезанной пленке отчетливо просматривались ключицы, ребра и большое человеческое сердце. Пластинка ставилась на 78 оборотов и шипела как гюрза, но то, что я там услышал навсегда перевернуло Сучий комитет - сидящие у подъезда, сплетницы (нар.) 6 мое представление о музыке, которую я почему-то всеми фибрами души с детства ненавидел. Божественными, хриплыми, ни на кого непохожими голосами, Битлы пели: “Well, she was just 17, You know what I mean, And the way she looked, Was way beyond compare, Well I couldn’t dance with another Oh, when I saw her standing there” “When I saw her standing there” - “Когда я увидел ее” - была первая песня Битлз, которую я услышал и которая, не знаю, на счастье или на беду, изменила мою жизнь, а может быть и жизнь всего моего поколения. У бронзового памятника суровому дяденьке в длинной шинели и бородой клинышком мне икалось недаром. В эти безоблачные годы у ушастого октябренка Вадика, т.е. у меня, начались первые недоразумения с могучей Советской властью. В актовом зале, куда нас водили марширующим строем, кто-то случайно толкнул меня сзади, чтобы не упасть, я вытянул вперед руки и, о ужас, - опрокинул гипсовый бюст Владимира Ильича Ленина, стоявший на кумачовом постаменте рядом со сценой. Трахнувшись лобастой головой об пол с тупым звуком, Вождь развалился на мелкие кусочки. Все произошло так быстро, что на мгновение, и суровая учительница пения, и само время застыли в трансе, а когда мир актового зала вновь обрел реальные очертания, музыкантша, с ужасом взирая на лежащие на полу осколки “простого как правда”, больно сжав мне запястье, потащила к директору, заявив, что дело это политическое. Директор, удивительно - тоже Ильич по батюшке - вызвал родителей. В тот трагический вечер по моей попе долго гулял жесткий отцовский ремень, а на маленькой пятиметровой кухне ласковым голосом Майечки Кристалинской пело дешевенькое радио – «Спасибо, аист. Спасибо, птица, пусть наша песня повторится…». И действительно, бес-антисоветчик, поселившийся в моей душе с тех пор, уже не давал мне покоя, и провоцировал на новые подвиги. Выполнив миссию Фанни Каплан, я две недели спустя в этом же актовом зале, снова впал в грех. В песне “Орленок, орленок, взлети выше солнца”, вместо фразы “у власти орлиной орлят миллионы” язык как-то сам по себе заменил “орел” на “козел”. От смелого утверждения, что “у власти козлиной козлят миллионы”, учительница пения позеленела как купорос и, с гробовым звуком захлопнув крышку рояля, вновь потащила меня на расправу. Опять вызвали родителей и моя, еще не совсем зажившая со времени предыдущей экзекуции задница, вновь подверглась насилию. Коммунист, орденоносец и фронтовик папа сосредоточенно выписывал по моему седалищу руны победы и, гневно сопя, приговаривал: “Вот тебе - у власти козлиной! Вот тебе, козлят миллионы!” Я проучился в школе № 455 почти семь лет, когда непоседы-родители решили съехаться с бабушкой Пахомовой, которая все равно обреталась у нас, и поменяли квартиру на Таганке на большую в районе Северного речного порта. На этот раз, расставаясь с друзьями, родным двором, школой и даже с хулиганом «Шолей», мне хотелось расплакаться. До сих пор не понимаю, почему зал назывался «актовым» и какие такие «акты» имелись в виду 7 Глава II “Кое-что задаром” Казни меня, иль большего ты хочешь? Чего ж ты медлишь? - мне твои слова Не по душе, и по душе не будут Тебе ж противны действия мои Софокл “Антигона” В школе № 158 г. Москвы, где мне повезло проучиться до десятого класса, в том юбилейном ноябре 1967 г. царил полный бардак. Переступив порог 7 “В” я с удивлением обнаружил, что попал на ранее неведомую мне планету. В отличие от старой гимназии на Рогожке, где блюлись традиции времен дедушки Мичурина и царил самый настоящий довоенный советский дух, где до пятого класса ученики носили ранцы и фуражки с медной кокардой - здесь мелькали куцые стандартно-серые школьные костюмчики, а некоторые ученики щеголяли даже в своей одежде - парни в так милых моему сердцу клешах, а девочки в юбках столь коротких, что как ни заставлял я свой глаз не зыркать на эротично выглядывающие из-под этих юбок кромочки чулок - ничего из этого безнадежного дела не получалось. У окна стояла полная красивая женщина учительница математики и, пребывая с головой в отвлеченном мире безукоризненных логических построений, упоительно чертила на классной доске какие-то формулы, сама себе их и объясняя. На Азу Андреевну (так звали учительницу) никто не обращал внимания - весь класс был занят делами куда более важными и интересными. Маленький белобрысый мальчуган, шустрый как зверек, сидя под партой, вел огонь пластилиновыми шариками по волосам и по капроновым коленкам девочек, с каждым попаданием хрюкая от восторга, по классу летали бумажные голуби, кому-то на голову одевали половую тряпку, и счастливец вопил благим матом, отбиваясь от заходящихся хохотом весельчаков-приятелей. А откуда-то с задних парт тянуло сладковатым дымком болгарских сигарет “Шипка”. Я обнаружил, что на новенького все-таки смотрят - кто равнодушно, кто с определенным любопытством. Сидящий за первой партой юноша с большим вытянутым вниз квадратным подбородком, оттопыренными ушами и от этого удивительно похожий на гиббона радостно ткнул в бок румяного мордатого соседа и надул щеки. Эти щеки! - они не давали мне покоя ни днем, ни ночью, омрачая мое счастливое детство. Пропали они только классу к десятому, когда я вытянулся и похудел, а до той поры это была сущая драма, масса переживаний, и бездна комплексов. В отчаянии я даже пытался прокалывать их иголкой, но они не опадали, а только надувались еще больше - и, если за семь предыдущих лет, к моим полным как груша щекам привык двор на Рогожской заставе, то, переступив порог новой школы, я понял, что борьба за место под солнцем будет жестокой и обещает массу неприятных коллизий. Когда на меня, наконец, обратила внимание учительница, я представился классу и был посажен “на Камчатку”, как оказалось, к одному из самых отпетых хулиганов не только в классе, но и в школе. Хулиган оказался веселым и общительным парнем, и тут же стал вводить меня в курс дела, объясняя, “who is who” в моем новом мире. В числе прочего он поведал, что придурка за первой С конца 60-х советские женщины тотально влезли в колготки. Надежно, конечно,и практично, но не то, не то… 8 партой зовут Володя Левин, по кличке “Примат” и это, как оказалось, имело самое прямое отношение к теории эволюции старика Дарвина. Демонстрируя, что даже двоечники иногда читают учебник по биологии, веселый сосед доверительно сообщил, что “примат” - это обезьяна - с чем я охотно согласился. Информация несколько подняла мне настроение, так как выяснилось, что Володю в классе недолюбливали. Интуиция безошибочно подсказывала, что на тернистом пути новенького, входящего в чужой мир, мне придется столкнуться именно с данным уродом, и, предчувствуя это, я, как на неприятное, но неизбежное дело, начал настраивать себя на драку. Сосед примата по парте, крупный и дурковатый акселерат, был как две капли воды похож на Гоголевского Ноздрева, и, имея внешность самую гусарскую - румяные щеки, задорный гвардейский нос, пышную шевелюру, и уже вовсю пробивающиеся баки, обладал, как и положено гвардейцукавалергарду, крутым и взбалмошным характером бретера и дуэлянта. Природный насмешник Володя Левин, артистично и едко подмечавший слабости и изъяны остальных, не безосновательно побаивался язвить над своим дружком, ибо тот, неотягощенный тонким чувством самоиронии, свойственным особо интеллектуальным натурам, мог за непонравившуюся шутку без разговора заехать в ухо. Тяготела эта пара к обществу Димы Склянкина третегодника и амбала, зооморфная физиономия которого напоминала лицо свирепого индейского идола. На все вопросы и домогательства учителей, амбал, лениво зевая, посылал тех “по матушке”, а в особо хорошем настроении любил поплевывать под парту сквозь прокуренные клыки. Володя и его приятель относились к Диме с уважением, поили кизиловым ликером, и добились полного его, “Скляныча”, расположения. Другим крылом тандем смыкался с тремя отличниками-евреями благопристойным юношей с непомерно большой головой, его соседом по парте - тихим и скромным семитом, с огромными, как у летучей мыши ушами, и третьим мальчиком - женоподобным снобом и умницей - Димой, почему-то прозванным Володей “Шикльгрубер”. Все остальные деятели класса считались низшей кастой “шудр”, и пренебрежительно именовались Левиным “слесарями”. К седьмому классу девочки уже вовсю будоражили нашу молодую нерастраченную плоть, но созревшие раньше физически, они тянулись к более взрослым и, надо признаться, более привлекательным ребятам, с презрением отвергая наши робкие и неумелые, прыщавые домогания. Мы же, изнуренные переполнявшей нас, невостребованной энергией Эроса, видели во сне огромные груди отличницы Ани Пятницкой, за которые Володя Левин в отчаянном порыве все-таки схватился, после чего был с негодованием обруган хозяйкой грудей - “обезьяной” - под конское ржание всего класса. Наша дружба, как и водится, началась с драки. На военно-спортивную пионерскую игру “Зарница” девочек обязали явиться с пошитыми на уроках домоводства санитарными сумками с красными швейцарскими крестами, а мальчиков с выпиленных на занятиях по труду фанерными автоматами. Система оружия не оговаривалась, и я выпилил “шмайссер”, что несколько озадачило учителя труда, долговязого и краснолицего Виктора Петровича, который по совместительству был нашим «классным», и кому желчный “Примат” с полным на то основанием приклепал кличку “Слесарь”. Виктор Петрович героически воевал и даже первый ворвался в какой-то населенный пункт, но после победы над фашизмом крепко присел на стакан. Мужик он был 9 добрый, четырехдневная щетина всегда покрывала его сизые щеки и, хоть никто из учеников никогда не видел как он пил, под тусклыми стеклами очков его загадочно высвечивал осоловевший глаз. Когда на занятиях по труду, наставник подходил к моему верстаку, чтобы в очередной раз выругать созданное мной корявое изделие, от Петровича разило таким букетом не стираных носков и сивушных консистенций, что на память тут же приходили бессмертные строки Ильфа и Петрова - “понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколодобился.” В тот день - день выступления на военную игру, «Слесю» (так на французский манер именовал его Володя) и наш физрук Спартак Васильевич оба уже слегка “под шафе” построили нас в маршевую колонну. Первыми стояли мальчики с рюкзаками за спиной и при фанерном оружии, за ними девочки с санитарными сумками, а в арьегарде, в окружении своих клевретов самовольно переместившийся туда Скляныч, причем на марше в рюкзаках клевретов подозрительно позвякивала стеклянная тара. Добравшись до древнего города Данилов, мы были помещены в специально освобожденную для нас казарму стоявшей там военной части. За окном на чистом вечернем небе догорал холодный зимний закат, и ребята уже разбирали свои рюкзаки, как вдруг, в дверном проеме материализовались в муку пьяные и еле стоявшие на ногах учитель труда с физруком. С трудом ворочая языками, они пытались объяснить свое долгое отсутствие тем, что выпили по бутылочке пива, но тут в дверь и точно в таком же непотребном виде ввалилось несколько местных прапоров, после чего, обняв Виктора Петровича и Спартака Васильевича и, предоставив нас самим себе увели своих новых друзей квасить. С удовольствием дождавшись этого момента, и вынув из рюкзаков традиционный ликер, Скляныч и его свита, в строгом соответствии с субординацией, начали по очереди прикладываться к бутылке из голышка, а потом, достав сигареты и, завалившись на койки, стали пускать в потолок кольца синего дыма, хотя курить в этой компании кроме главаря, никто конечно не умел. Как и следовало ожидать, моментально закосевший “Примат” раздухарился и его понесло - надув щеки и хитро подмигивая дружкам черными глазками-пуговками, он покосился в мою сторону, потешая своих приятелей и явно провоцируя меня на скандал. Поняв, что час настал, и оттого, как я себя поведу, отныне будет зависеть мое положение в классе, я, прыгнув на койку к обидчику, легко повалил коренастого “Примата” в пространство между кроватями, и начал его лупить. Обалдев от неожиданности произошедшего, особь совсем не сопротивлялась, и от синяков ее спасла только железная длань Скляныча, который поднял меня над полем боя за шиворот и, как мешок, шмякнул обратно на койку. К удивлению челяди он не стал меня бить, а приказал налить - я с удовольствием выпил за победу и инцидент с надуванием щек (хотя за моей спиной негодяй все-равно их надувал), де юре, был исчерпан. В сонме чудес, которые создала в этом прекрасном мире мать-Природа, Володя Левин был достойным экспонатом. Проучившись и продружив с ним три года, могу честно сказать, что ничего подобного ни до, ни после мне не встречалось. Характер он имел холерический, обожал ерничать и подмечать все, что ему казалось смешным, куда он причислял и физические недостатки окружающих, а ежели таковых не наблюдалось, он, нисколько не смущаясь, сам их и выдумывал. Был сообразителен, очень начитан и в черных пуговках-глазах его светился лукавый разум. Он почему-то стеснялся своего еврейства, уверяя, 10 что папа у него грузин, а мама прибалтийка. До какого-то времени я ему верил, ведь национальный фактор и тем более “еврейский вопрос” волновал наши юношеские умы в то время меньше всего на свете - грузин так грузин! Володя так красочно описывал блюда восточной кухни, которые готовятся у них дома и марки грузинских вин, не сходящих с их хлебосольного стола, что достаточно несимпатичная физиономия Левина начинала приобретать очертания чистого “картвели” и почему-то хотелось дрыгать ногами и громко кричать “асса!”. Внешность у него действительно была обезьянья. Короткие, кривые и очень волосатые ноги, широкая и тоже волосатая грудь, массивная квадратная челюсть с пробивающейся на ней редкой монгольской растительностью и крутые надбровные дуги. Сглаживали и очеловечивали это творение лишь довольно высокий лоб и живые, насмешливые, вечно улыбающиеся глазки. Девочкам он активно не нравился, но с видом знатока- Дон Жуана утверждал, что там (я полагаю, в Грузии) женщин у него было море. Рано или поздно все тайное становится явным - папа Володи - инженер гражданской авиации Виктор Аронович Левин в прошлой жизни, возможно и был грузином, но в этой однозначно был евреем! На уроках физкультуры Володя с завидным упорством сбивал козла. Он разбегался, но вместо того, чтобы прыгать, оттолкнувшись руками и, расставив ноги - всей массой тела врезался в снаряд тем самым местом, которое по праву считается красой и гордостью мужиков. Раздавался тупой удар огромной силы, козел взбрыкнув железными копытами, летел в сторону, а прыгун, даже не поморщившись, стоял рядом и с надменным видом птицы-орла поглядывал вокруг. Наш новый физрук бывший боксер, очень похожий на актера Крючкова в молодости - Виктор Никитьевич Чернов, которому остроумный Володя тут же навесил кличку “Гирей” (от слова “гиря”), не смотря на всю свою суровость, не мог смотреть на это «па-де-де» без слез. Грозя прыгуну пальцем и вытирая глаза, он прерывающимся от еле сдерживаемого хохота голосом произносил свою коронную фразу: “Левин, без наследства останешься!” С брезгливым сочувствием глядя на наши хилые тела, “Гирей” гонял нас до седьмого пота, обзывая “шпылтами” и “деятелями”. “Маликов, костями гремишь?” - обращался он ко мне на всяком непропущенном мною уроке физкультуры. И почти на каждом занятии, словно обретая от этого особо хорошее расположение духа, Виктор Никитьевич, стоя перед строем, выставив вперед ногу в спортивном тапочке-чешке, и нахмурив брови под низким лбом тракториста, смотря на синие и почему-то всегда собранные в гармошку на причинном месте трусы белобрысого Саши Нагорова, грозно вопрошал: “Нагоров! Трусы, небось, воняют?” и примирительно философски заключал: “Понюхаем!”. После восьмого класса кончилась эра звероподобного Скляныча, ушли в ПТУ хулиганистые дети хрущевских пятиэтажек, а история девятого “А” началась под бравурный марш нашего бьющего через край интеллекта. При деятельном участии Володи Левина, наш мозговой центр разработал широкую и очень эффективную систему, которая позволяла сравнительно неплохо учиться, совершенно не занимаясь, и предоставляла массу свободного времени, что отныне тратилось на распивание в подъездах дешевого вермута и шатание по улицам с заходом на огонек к некому Кузе - счастливому обладателю магнитофона “Романтик” - послушать Битлов и Высоцкого. Имели место и частые походы в кино, особенно на фильмы, куда детям до 16 вход был строго запрещен. Выходя на улицу после такого фильма, если конечно удавалось 11 прошмыгнуть мимо строгой как тюремный надзиратель билетерши, мы чувствовали себя видавшими виды бывалыми мужиками, хотя попасть в разряд “детям до шестнадцати” фильм мог за показанную крупным планом женскую коленку. Так мы - аристократы девятого “А” проводили время, считая сиденье над учебниками делом смешным и недостойным таких мощных и блестящих личностей. С этим соглашались и мальчики-евреи, но уроки делали и учились на пятерки, а мы с Володей Левиным - дети братских русского и “грузинского” народов вовсю пользовались разработанной нами “палочкой-выручалочкой”. Не вдаваясь в описание технических особенностей проекта, скажу, что система подставки оценок в классный журнал, замена дневниковых страниц с двойками с последующей подставкой четверок и безукоризненной росписью за учителей и родителей, а также фальсификация контрольных работ - в течение двух лет до самого окончания нами десятого класса работала бесперебойно. От полного безделья нас потянуло на поэзию, и мы с моим другом сначала стали сочинять просто стишки о наших дорогих учителях, а потом творения эти переросли в целый, довольно смешной, хотя и пошловатый эпос, который читала вся школа. Особенно досталось новой математичке - супруге нашего учителя труда и героического вояки Виктора Петровича. Славная и добрая женщина - она искренне хотела научить нас любимому предмету, но где-то классу к десятому поняв, что мы безнадежны, махнула на нас рукой. Александра Аркадьевна эти стишки тоже знала, и надо сказать, что когда мы все-таки попадали к доске, она, с трогательной обидкой, отводила душу словами-приговором: “Не знаю как в чем другом, а в математике ты - полный дуб.” После этих уничижительных и с намеком сказанных слов, каждый из нас награждался жирной, как дождевой червь парой, которая впрочем, в тот же день выдиралась вместе с дневниковой страницей, в специально предназначенном для этого благородного дела туалете. Мой друг Володя Левин много читал, знал почти наизусть “Яму” Куприна, интересовался биографиями Сталина, Бухарина, Троцкого, особенно почему-то Троцкого. К последнему Володя питал прямо-таки сыновнее почтение, величая его ласково - Лев Дав. Знал песни Визбора, Галича, Окуджавы - влияние родителей из поколения Хрущевской оттепели. И, естественно, как и все мы, любил слушать Битлов и Высоцкого. Пластинки эти, записанные на рентгеновских пленках, можно было купить за три рубля, в какой-нибудь темной подворотне у неприятных и таких же темных личностей, неопределенного возраста, а также у в изобилии появившихся юрких и нагловатых фарцовщиков, частенько просто “кидающих” доверчивого “лоха”, потому что во время постановки пластинки на диск проигрывателя оттуда вместо заветных “Лукоморья больше нет” или “Back in USSR” сквозь немилосердное шипение могло прозвучать - “никому не рассказывай как тебя наебли, никому не показывай, иль получишь п….!” Три рубля, в конце концов, в этой самой темной подворотне могли, предварительно надавав по ушам и просто отобрать, но сотни тысяч рентгеновских шедевров уже ходили по Москве, а шипение на проигрывателе только придавало сей чудесной музыке ее неповторимый шарм. Под эти замечательные пластинки, а иногда и просто под четырехаккордный бой гитар с обязательным припевом – «начи стэпэн стон» на аллеях парков “битлатая” советская молодежь танцевала в конце 60-х пришедший на смену вертлявому “твисту” ортопедический танец “шейк”. Танцор выделывал ногами-ходулями циркулеобразные движения, что по последней моде тех времен называлось “шейком на прямых ногах” - и горе 12 было тому, у кого ноги были кривыми. Высшим “коллером” считалось в полном экстазе, делая все те же движения ногами нависнуть злой гадюкой над прогнувшимся колесом спиной к полу вторым танцующим и двумя стиснутыми в замок кулаками “окрестить” партнера - “крести, Толян!” - неслось с Московских танцплощадок. Когда в квартире не было “грузино-прибалтийских” предков, Володя, его бабка по матушке и я пили портвейн 33-й, закусывая на диво вкусной по 2 руб. 92 коп. любительской колбаской. Колбаска эта покупалась в знаменитом на всю Москву первом советском супермаркете, открывшемся в 1967 году и стоящем рядом с тогда еще не загазованным Ленинградским шоссе. Магазин “Ленинград” был образцом советского изобилия, и, возможно, в представлении среднего “хомо-советикус” именно так, но только бесплатно, и должен был выглядеть заветный коммунизм. На полках сверкающими рядами красовались болгарские перчики и румяные консервированные фрукты. Виноградными гроздями свисали копченые колбасы, манило нежнейшее нескольких сортов масло, соблазняли этикетками наборы с шоколадными конфетами и бутылки с венгерским токайским, польской водкой, семидесятиградусным кубинским ромом “Порто Рико”, блестел золотом и просился в рот густой как мед желтый ликер “Бенедиктин”, наполняли ароматами вишневый, персиковый, розовый и зеленым цветом морской волны отливал знаменитый купринский “Шартрез”. А над всем этим морем социалистического торжества как гордый и знающий себе цену капиталист красовался “Скотч Виски. Клаб 99”. В магазине, как и принято во всем цивилизованном мире, покупателю полагалось брать корзиночки и культурно наполнять их продуктами. Но, плохо учитывая степень сознательности населения самой прогрессивной страны в мире, администрация супермаркета скоро почесала затылок - ежедневные недостачи переваливали за тысячи рублей, а на выходе у касс у почтенных отцов семейств, интеллигентных женщин, благообразных бабушек и юных розовощеких пионеров откуда-то из потаенных глубин трусов часто выпадали копченые колбасы, банки с майонезом и плавленые сырки. Замечательная была у Володи бабка - Софья Михайловна Виноградова – как оказалось, никаким боком не эстонка, а посконная, она же сермяжная и кондовая, чистая без примеси русачка. Однажды сильно захмелев, после третьего или четвертого поднесенного ей стаканчика, бабуля не обращая внимания на внука, доверительно сообщила мне, что ее дочь вышла замуж за “жида”, что это никуда не годится, а потом шепотком и блаженно улыбаясь золотой фиксой, поведала, что всех партейных надо перевешать на фонарях и тихо, как партизанка в подполье пропела старушечьим фальцетом сложенную еще в дни ее молодости частушку “коммунисты- комиссары, все они грабители, ехал дедушка с базара, и того обидели”. Комиссары, как оказалось, им действительно насолили - в достопамятном двадцатом отняли две мельницы и трехэтажный дом с паркетом. Надо отметить, что мой приятель не был злым. Был гадок и остер на язык, но откровенной мизантропии я у него не замечал. Ехидство, ерничество и эпотаж, вероятно были лишь одной из форм защиты от окружающего непонятного и враждебного ему мира. Никогда не припомню Володю серьезным и, уж тем более, молчащим. Лицо его и так своеобразное от природы, бесконечно искажали действительно обезьяньи ужимки, а изо рта протуберанцем бил самый настоящий словесный понос. Вова ругал советскую 13 власть и, еще не зная тогда модного в последующие годы слова “совок”, называл ее пренебрежительно - “властюшка”. Он цитировал Мопассана, “духарился” над огромными оттопыренными ушами Володи Двойрина, которые тот впоследствии пришил и не забывал за моей спиной надувать щеки, корча при этом такие умопомрачительные рожицы, что ему могла бы позавидовать и известная нынешняя телезвезда. На слова захмелевшей и впавшей в махровый антисемитизм бабули, Вовик отреагировал болезненно и с горя, что его рассекретили, напившись до соплей, плакал и объяснял, что ни в чем не виноват - впрочем, его никто и не винил. Брюки-клеш, которые носились исключительно под остроносые туфли, называемые “корочки”, были нашей заветной и почти недосягаемой юношеской мечтой. Штаны эти с широким, почти тореодорским поясом, на который в виде высшего шика одевался офицерский ремень с блестящей пряжкой, имели два кармана-клапана сзади и параллельные спереди и еще с детства вызывали у нас прямо-таки свинячий восторг. «Клеша» не продавались в советских магазинах готового платья, они шились по специальному заказу и иметь их в то время было так же престижно, как в наши дни костюм от Версаччи. Буйная художественная фантазия обладателя чудо-брюк не знала предела - в штаны вшивались разноцветные клинья - с пуговицами и без оных, для того, чтобы огромная брючина, обрезанная под конус, и выглаженная в стрелочку, не собирала с мостовой пыль и не обтиралась, по оконцовке штанины пропускали медные или железные змейки-молнии, но верхом красоты и особым изыском считались электрические лампочки, которые висели на ноге гирляндой, отчего наряженная этими украшениями конечность напоминала праздничную елку. Лампочки присоединялись к батарейке. Человек шел и мигал всеми цветами семафора, одними своими штанами уже говоря - “я те, братец, не хухрымухры!” Модные штаны, пусть даже с самым скромным клешем, родители шить нам отказывались, считая это признаком дурного тона и порождением субкультуры загнивающего запада - так и ходили мы в свои 15 в серых невзрачных отечественных костюмчиках, сунув в карман опостылевший пионерский галстук и зачесав на лоб “под битлов” куцую школьную челочку. Когда перед выпускным десятым, после летних каникул, как обычно проведенных на море, я вернулся в Москву загорелым, без щек и в самых что ни на есть настоящих клешах, пошитых мне моим горячо любимым и всегда баловавшим меня дедом - на друга Вову было жалко смотреть. У него пропали все ужимки, и я, в первый раз за два года увидел, что мой приятель совсем не похож на обезьяну. Ставшие грустными глаза и чуть приподнятые домиком брови, придавали его лицу печальный, и даже трогательный вид. Обескураженный таким поворотом дела и переполненный чувством сострадания, я предложил расстроенному другу сострочить брюки самим - не полностью, конечно, а вставить клинья в форменные школьные штаны. Потратив часа четыре титанических усилий на его кухне, мы из невзрачных школьных брюк Володи Левина соорудили шедевр, достойный нынешних творений великого Царителли. За неимением подходящего серого материала, были вставлены клинья из зеленого, но это нас не смущало. Меня, как генератора идеи немного беспокоило другое - когда мой друг, сияя от радости, одел обновку, штаны оказались сантиметров на десять короче, чем были до модернизации. Из-под роскошного клеша в сорок сантиметров смешно торчали кривые и волосатые Володины ноги. Но я сразу же успокоился, когда увидел, 14 что, не обращая внимания на такую мелочь и солнцем светясь от восторга, он, застегнув новые штаны на ширинке, предложил сейчас же идти гулять и, если когда-нибудь в жизни я видел по-настоящему счастливого человека - это был мой друг Володя Левин! Пусть простит история неопытную и самонадеянную юность! Молодость всегда эгоцентрична, и не наша вина, что занятые вставкой клиньев в школьные брюки и массой других, как нам тогда казалось, очень важных дел, мы не осознавали величия эпохи, когда на окруженной “железным занавесом” шестой части суши, называемой Союз Советских Социалистических Республик, перевыполнялся план, шел убойный французский фильм “Фантомас”, доблестные погранцы мочили недавних братьев-китайцев на острове Даманский, снимались очередные серии “Кабачка 13 стульев”, транслировался фестиваль в Сопоте, и потихоньку начинавший поголовно веселеть советский народ, хитро подмигивая друг другу, тихо пел на кухнях: “Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар, Куба, Хрущева давно уже нет, Куба, пошла ты на хер!”. 15 Глава III “Федя, шипочку покурим?” Картавит, голову склонивши на плечо. Аристофан Мои родители частенько садились вместе на купленную в кредит тахту, отец обнимал маму за плечи и они, преданно заглядывая друг другу в глаза, тянули: “И снег, и ветер, и звезд ночной полет, меня мое сердце, в тревожную даль зовет...” Мне, в отличие от них “в тревожную даль” совсем не хотелось, но в середине последнего учебного года, вся мужская половина нашего класса получила повестки в военкомат. Страна строго следила за пополнением армейских рядов и, пусть до призыва нам оставался еще целый год, государство уже бдило за нами своим всевидящим оком. В военкомате, куда мы завалились скопом, словно в революционном Смольном, толкая друг друга, туда-сюда сновали люди. Носились куда-то капитаны и майоры со звездочками на погонах и с кипами бумаг под мышкой, лошадками прогарцовывали красивые молоденькие докторши, кучками толпились у кабинетов юные призывники. Все - от акселератов-гуманоидов до худосочных доходяг-очкариков - грудились у дверей врачебных кабинетов, ощущая как в жизнь вторгается что-то большое и значимое. В кабинет запускали по списку человек пять, где симпатичные врачихи без всякого к нам интереса как строевых коней щупали, слушали, взвешивали, равнодушно записывая что-то в медицинских картах. Случайно повернув голову туда, где строгая женщина в белом халате, занималась моим другом, я не поверил глазам - крепкое и натренированное в сражениях с козлом Володино мужское достоинство, подобно «першингу», выходящему на боевую позицию, медленно поднималось все выше и выше. Обладатель ядерного заряда стоял красный от смущения, видимо не зная, что в таких случаях предпринимают ракетчики. Ребята, бывшие в кабинете, тоже заметившие это редкое природное явление, начали злорадно улыбаться, платя Володе сторицей за его подленькое и мелкое прошлое. Меньше всего внимания на это конфузящее моего приятеля обстоятельство обратила сама докторша, сухим, ничего не выражающим голосом, приказав несчастному помочить головку под краном, после чего, отойдя к умывальнику, мой гвинейский друг, наклонил дурную башку под струю и стал тупо поливать ее водой. Обескураженный, с мокрой взъерошенной макушкой, Володя Левин, чистым и свежим, как Венера Боттичелли, вновь предстал перед врачихой, которая, посмотрев на него с безнадежным видом, произнесла лишь три слова: “ну ни придурок?” Пройдя все кабинеты, мы столпились у последнего, куда вызывали уже по одному. На сверкающей свеже-белой краской двери, весело блестела черная табличка с золотыми буквами “Левитина Тамара Аркадьевна - невропатологпсихиатр”. Не придав значения недобро звучащему последнему слову и услышав свою фамилию, я самонадеянно шагнул внутрь кабинета, увидя сидящую за столом в углу у окна немолодую женщину в очках, с вьющимися цвета воронова крыла и собранными в тугой узел на затылке волосами, а также с характерным семитским носом, что придавало ей сходство с известной дамой премьер-министром одной солнечной страны. “Над седой равниной моря, гордо реет Голда Меир” - с улыбкой подумал я и весело сел на стул. “Голда” поводила 16 перед моими глазами эбонитовым молоточком на блестящей ручке, постучала им по моим коленным чашечкам, а затем неожиданно, и как мне показалось ни к селу, ни к городу, спросила, что тяжелее: килограмм железа или килограмм пуха. “Килограмм железа” - бодро и не подумав, брякнул я. Мне показалось, что мой ответ ее обрадовал и, внимательно глядя в упор из-под очков своими черными пронзительными глазами, Тамара Аркадьевна вдруг вкрадчиво поинтересовалась, как я отношусь … к Гитлеру. Сбитый с толку, я растерянно ответил, что, в общем-то, никак не отношусь, но, чувствуя, что в развитие темы необходимо сказать что-то значительное, добавил - “в общем-то, конечно, отношусь плохо, но...” “Что но?” - ласково поинтересовалась “Голда”, смотря на меня странным взглядом, в котором читались некие затаенные мысли. “Что но?” - мягко повторила она. В этот миг, как на грех, перед глазами у меня возникли кадры из фильма Ромма “Обыкновенный фашизм”, где десятки тысяч фрицев, одураченные пропагандой хромого Геббельса, вскидывают руки и истошно орут “Хайль!” “Гитлер, в своем роде был великой личностью” - собравшись с мыслями, объявил я, решив блеснуть познаниями в истории, широтой кругозора и нестандартностью мышления. “Великим преступником?” - поправили “Голда”, уже совсем нехорошо взглянув на меня из-под очков. “В принципе...” начал я, пытаясь продолжить мысль. “А не в принципе?” - тут же перебила она. Смутившись и покраснев, я попытался объяснить, что великие преступники тоже великие люди, но, сухо захлопнув мое досье, Тамара Аркадьевна попросила передать маме, что очень бы хотела с ней побеседовать. Просьбу “Голды” я выполнил и на следующий день, вернувшаяся из военкомата мать недовольно сообщила, что мои ответы показались Тамаре Аркадьевне, по меньшей мере, странными, если не сказать более. Она интересовалась, не падал ли я в детстве головой, не писаюсь ли по ночам и объявила, что приписное свидетельство мне не выдадут до тех пор, пока я не пройду стационарное обследование на предмет моей психической полноценности. Это было шоком. Я, считавший себя мощной энергетической монадой и одним из самых выдающихся представителей человечества, как-то сразу и облыжно попал в идиоты. Спустя четверть века после крушения фашистского Рейха, зловредный германский Фюрер подложил мне большую свинью. Отвратительное настроение усугубилось еще более, когда, приехав по указанному “Голдой” адресу, на потемневших от времени массивных воротах старой кирпичкой кладки, я увидел большую стеклянную вывеску “Психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко”. “Дожил” - горько подумал я и переступил порог приемного отделения. Переодев новоприбывшего в не по росту большую байковую пижаму синего цвета и тяжелые стоптанные чоботы, санитар повел меня в нужный корпус. Под ногами хлюпала гадкая мартовская изморозь, мрачные и приземистые кирпичные корпуса давили своей неприветливостью, а в небе, откуда накрапывал гаденький дождик, было так же серо и холодно, как у меня на сердце. Шлепающего раздолбанными башмаками без шнурков по лужам талого снега и кутающегося в серую зэковскую телогрейку, санитар довел меня до отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. В просторном холле, пахнущем чем-то казенно-больничным, ходили, сидели и играли в шашки человек с полсотни существ мужского пола. Ребят моего возраста среди них было человек десять. Как оказалось, отделение стационарной экспертизы было общим, здесь жили и уголовники, косящие под дураков от тюрьмы, и те, 17 кто по каким-то причинам снимал или зарабатывал статью, придуркивоенкоматчики и еще какие-то непонятные и подозрительные личности. Сдав телогрейку и башмаки веселому, по буденовски кривоногому дедку в белом халате ни первой свежести, я был препровожден им в палату и представлен своей койке, после чего от всех перипетий этого кошмарного утра меня потянуло на горшок. Зайдя в пахнущий хлоркой мужской туалет, я увидел прямо перед собой, сидящего в позе орла, обросшего шерстью детину с наколками на груди и руках. Личность сощурилась и хриплым голосом с кавказским акцентом недобро прошипела “Что нэ заходищь? Баищься в жепу виебут?” Таких гнусных вопросов мне еще никто не задавал и я, право, не знал что отвечать. Сказать “боюсь” - показать себя трусом. Но и противоположный ответ нес в себе некую двусмысленность. Не найдя что сказать, я, предусмотрительно пятясь задом, покинул негостеприимый нужник, как-то сразу и надолго запамятовав о причине, спровоцировавшей меня на его посещение. Вызвали к доктору. Им оказался румяный, пышаший здоровьем и оптимизмом, молодой еврей - Лев Яковлевич. Он не задавал дурацких вопросов про железо и пух, не интересовался моим отношением к одиозным фигурам истории, а просто и душевно спросил, почему, на мой взгляд, я оказался здесь. Доверительно и почти как родному, рассказав ему про свой разговор с “Голдой”, про Гитлера, и про свое отвратительное настроение, я глубоко вздохнул с чувством человека, исповедью облегчившего душу. “Таки я не понял, хочешь ты в агмию или не хочешь?” - произнес Лев Яковлевич приятно грассируя. “Увеген, что ты абсолютно ногмальный пагень. И скажу тебе откговенно. Хочешь статью, я тебе сделаю какой-нибудь невгоз. Но есть и неудобства, за гганицу не пустят и пгав не дадут. Ну а если служить, тоже два года из жизни выбгосишь. Так что думай сам, на какую ножку будешь хгомать.” “Хочу служить” - уверенно ответил я, ибо в тот момент больше всего хотел избавиться от комплекса идиота, которым наградила меня “Голда”. Милейший Лев Яковлевич посмотрел на меня с неким сожалением. - “Значит, статью не хочешь?” - “Не хочу”. - “Ну хогошо, хогошо” - улыбнулся вредитель. “Я попытаюсь тебе помочь”. Начались скучные и однообразные больничные будни, подъем, завтрак с кашей и какао, прогулка под серым холодным небом только начинающейся сырой московской весны, обед с заменой каши на картошку, тихий час, ужин с заменой картошки на кашу, курение в туалете, сон. Никаких эксцессов и проблем между обитателями стационара не возникало. Связанные вынужденным общением, мы делились куревом, травили друг другу байки-небылицы о своих амурных похождениях, обсуждали семейные проблемы, в общем, жили тихой растительной жизнью в ожидании роковой комиссии, той, что должна была решить наши судьбы, и разговоры о которой были главной темой наших утренних, дневных и ночных бдений. В большом холле столовой, бывшей одновременно и комнатой свиданий, всегда присутствовал санитар, тот самый веселый дедок, пропойского вида - похожий на Мусоргского с картины Репина, а через сутки его сменяла строгая женщина в белом халате и в таком же колпаке - Нина Егоровна. Никто из нас, конечно, не догадывался, что именно от информации этих санитаров-надзирателей и зависят выводы высокой комиссии. Натренированные за десятки лет работы, филеры слышали и подмечали как ведет себя каждый из нас, записывая эту ценнейшие сведения в специальную книгу. Дедок рассказывал, что пару лет назад здесь 18 отдыхал сам Высоцкий, поивший все отделение водкой, и систематически отсылавший дедка в магазин. Громила из туалета, оказался ни то тбилисским, ни то кутаисским бандитом, но с тех пор как мы с ним в первый раз пообщались, он не проявлял ко мне ни малейшего интереса. От прогулок, пока было холодно, я отказывался, но когда первая половина апреля сменилась солнечной оттепелью, я, щурясь от непривычно яркого света, в одной пижаме вышел на прогулку в наш маленький, огороженный непроницаемым забором, больничный дворик-закуток. Вдохнув полной грудью пьянящий весенний запах и сладко потянувшись, я как-то неожиданно почувствовал, что жить хорошо. Не успел я свыкнуться с этим неожиданным открытием, как из распахнутых дверей отделения раздался строгий голос Нины Егоровны: “Вадим, на комиссию”. Пытаясь унять волнение, я трусцой припустился к двери, на верхнем косяке которой, какой-то прошлый шутник вывел химическим карандашом “сюда не зарастет народная тропа”. Комиссия, состоявшая из нескольких солидных дядек, а также моего друга - Льва Яковлевича, занималась мной недолго. Задав пару дурацких вопросов, так любимых врачами-психиаторами они удовлетворенно переглянулись, заглянули в зрачки, попросили высунуть язык, а также с закрытыми глазами попасть указательным пальцем в кончик носа, и я, с меткостью лимонадного Джо поразил пальцем самую середину своего внушительного шнобеля. Через час меня вызвал Лев Яковлевич - пожав руку, он вручил мне заключение врачебной комиссии, что я здоров и годен к строевой, попросив передать его “Голде”. А еще через полчаса, попрощавшись с товарищами по неволе и, даже с кутаисским бандитом, переодевшись, я выходил из ворот психиатрической лечебницы № 1 с твердым сознанием, что я не дебил. В синем небе, весело пели птицы, а на улице стоял теплый и прекрасный весенний день 20 апреля... - день рождения Гитлера! Предвкушая сатисфакцию, на следующий же день я помчался в военкомат и, сделав каменное лицо, вручил медицинское заключение “Голде”. Прочитав его с безразличным видом и, по-видимому, совсем забыв своего недавнего пациента-резонера, она спокойным голосом назвала номер кабинета, где выдают приписные документы, после чего, молча углубилась в кипу бумаг, лежащую на ее столе. Триумфа не получилось, и хотя было обидно, что такого яркого человека, как я, могут не помнить, восстановив душевное равновесие, я чувствовал огромный прилив сил, настроение было прекрасным, а впереди выпускные экзамены. В тот достопамятный 1971-й, по холодной необитаемой луне, неприличным насекомым ползало членистоногое творение советского космического гения - луноход, а мы, на удивление легко, получив удостоверяющие половую зрелость выпускника аттестаты, и, отгуляв по ночной Москве в ночь прощального школьного бала, стали заниматься подготовкой к новым экзаменам, ибо поступить в институт, какой без разницы, было принципиально и престижно: для нас лишний раз ощутить себя на высоте положения, для родителей - похвалиться перед сослуживцами. Видимо, дружба порою основывается больше на деловом партнерстве, чем на личной симпатии. После окончания школы, ни Володю Левина, ни мальчиков-евреев, я больше никогда уже не видел. С окончанием школы ушел в небытие целый период жизни, веселый, беззаботный, и вместе с ним, чтобы, увы, никогда не вернуться, ушло и наше детство. В «Альма матер», на заставе Ильича, среди кондово советских преподавателей, как будто сошедших с лубочных кинофильмов 30- 19 40-х годов, единственным евреем был учитель рисования. Он даже сидел в концлагере - то ли в нашем, то ли в немецком. Огромный как у Эйзенштейна череп его вдоль пересекал шрам от удара чего-то тупого. Ученики откровенно издевались над этим маленьким, в поношенном пиджачке человечком со скорбными глазами, и мне, грешнику, было его совсем не жаль. В новой школе на Речном, учителя далеко не походили на персонажей советских кинокартин. В большинстве своем, это были поголовно одетые в костюмы «джерси» молодые еврейки - сексуальные и напористые, хотя и держащие себя в рамках правил и условностей той политической системы, в которой им приходилось существовать. Англичанка, ставшая с восьмого нашей классной дамой была строга. Всегда держащая дистанцию между собой и классом, одетая в импортные водолазку и сапоги-чулки свой предмет знала прекрасно, но, считая, что за исключением мальчиков-евреев, английский никому не пригодится, преподавала его “спустя рукава”. На всех остальных она смотрела как на безнадежный клинический случай, где изучение языков - дело лишнее и пустое. Будучи бездетной, она не любила детей, и между ней и учениками чувствовалось космическое расстояние. Если кто-нибудь из наших, на ее взгляд, лишенный всяческих перспектив оболтусов, в тщетных усилиях и безнадежно косноязыча, пытался выговорить ключевое слово английского языка - “table”, а губы несчастного упорно не складываясь в нужную конфигурацию, издавали непотребные марсианские звуки, Майя Михайловна с презрительным сочувствием отправляла человека на место, приговаривая: “Садись, Петя, четыре”. Она была холодна как свет далекой звезды и, именно поэтому, ее боялись. Никто из класса не смел над ней издеваться, как издевались мы над учителем географии, добрейшим человеком и бывшем партизаном-диверсантом. Мы подпиливали ножки его учительского стола, воровали портфель, а один раз Володя Левин сзади даже подул ему на лысину, когда ее обладатель, славный Алексей Антонович в день мятежа генерала Пиночета, простирая руки к карте южного полушария, стонал в полнейшей прострации: “Ой, ребятки, что делается, в Чилях то, в Чилях...” Преподавательница русского и литературы, по тогдашней необходимости сменившая фамилию Каганович на Сорокина, слыла лучшей подругой Майи, но была помягче - могла улыбнуться, а иногда и пошутить. Как-то пробегая мимо на перемене, я услышал ее обращенные к кому-то из учителей слова: “вы знаете, Тель-Авив - современный европейский город!” В те времена сказать такое про столицу оголтелой израильской военщины было чревато и товарищ Сорокина, как член КПСС, могла запросто огрести выговор, но на ее счастье в школе № 158 г. Москвы, среди учителей и учеников, евреев и не евреев, стукачей не водилось. А учительница Химии! Стройная, грациозная как Эсфирь Нинель Юрьевна! Не понимаю, как я сдал химию, потому что вместо того, чтобы смотреть на доску всегда смотрел на ее ноги. Дорогие учителя! Вы добросовестно творили с нами то, что незыблемо и свято предписывала советская школьная программа. Вы грузили своих питомцев надоевшим вам за десятки лет хуже горькой редьки новым человеком Базаровым, набившим оскомину и каким не помню по счету сном лесбиянки Веры Павловны, пытались ввести в отвлеченный мир математики и физикохимических формул. Вы тратили свое и наше время на изучение никому не нужных в жизни вещей и, вместо того, чтобы за 10 лет сделать из нас суперменов - добросовестно заставляли учить три составные части марксизма, на которые этот марксизм впоследствии и развалился. Вы честно делали свое 20 дело, и, не будучи тонкими знатоками детских душ, иногда казались нам необъективны, а порою и несправедливы, но сквозь годы, отделяющие нас друг от друга, хочется крикнуть туда, в детство - я люблю Вас! 21 Глава IV “На хрена козе баян” Было ли в нем подозрение или демон его надоумил Гомер Среди ребят нашего двора было много татар, но на посиделках в вечерних майских сумерках на опустевшей от мам и их чад детской площадке всегда присутствовали два мальчика-еврея - Миша Рутман и Миша Гутман. Они вели себя тихо и скромно, не пели под гитару модные песни Северина Краевского , не тянули из горлышка популярный в народе портвейн “Солнцедар”, а просто присутствовали в компании. И с соседями мне повезло - на нашей лестничной клетке обитало целых три еврея: пенсионер Леонид Тимофеевич Заславский с супругой, и вальяжный белолицый красавец - дамский парикмахер и угодник Аарон Валевич. Кем был Леонид Тимофеевич я не знал, но когда уже основательно вымахавший, похудевший и обнаглевший - в самом пике переходного возраста, я ругался с бабкой и пугал, что когда-нибудь прибью ее как Раскольников старуху- процентщицу, испуганная бабуля в ответ грозила, что обратится к соседу общественнику и он “примет меры”. Что за профессия “общественник” я представлял себе с трудом, но выглядел Леонид Тимофеевич представительно и никак не производил впечатление побитого жизнью человека. Супруга его крошечная как птичка, была тихой и опрятной старушенцией и никто и никогда не слышал, чтобы они ссорились. Леонид Тимофеевич любил водочку, выпить мог много, но не косел. Никогда. К этому времени, а точнее к 1971-му году, году окончания школы, я окончательно и на всю голову двинулся на поп-музыке, гитарах и джинсах, словом, на всем том, что, несмотря на железный занавес, хлынуло в страну мощным потоком в чемоданах дипломатов, спортсменов, и добросовестно ругающих капитализм журналистов-международников. Длинные волосы в школе носить запрещалось, и наши учителя героически боролись с этим стихийным бедствием, словно китайцы с нашествием саранчи. Только завидев наши отросшие и лишь чуть-чуть спускающиеся на ушки шуршики, «железная леди» Майя Михайловна уже писала в дневник своей американской шариковой ручкой - “Товарищи родители, подстригите сына”. Вырвавшись из-под школьного надзора, я дал себе волю, постепенно приобретая наружность настоящего тевтонского рыцаря, с локонами спускавшимися до плеч и ровной челкой над бровями. По моде того времени прическа эта была выкрашена лондестроном в темно-красный цвет и, для полного и окончательного счастья, мне не хватало только джинсов. Джинсы! Джин-сы! Джины! - само ваше называние созвучное волшебнику-джину и еще никогда не пробованному американскому спиртному напитку. Среднее между ласкательно-восточным “джана” и знаменитой кудесницей - Джуной, производное от ковбоя Джона и красавицы Джины. Темно-синие как южная ночь, вытираясь, вы становились голубее летнего неба, и вас можно было поставить рядом почетным стражем, охраняющим сон и покой счастливого хозяина. “Суперрайфл” с медными клепочками и молниями, с брелочками на задних карманах, твердокаменный “Левайс”, “Лии” с широкими штрипками и Северин Краевский – солист очень модной в то время в Союзе польской группы «Червоны гитары» 22 внешней рубчатой строчечкой, “Врангеля” с особой выделкой котона клешеные, прямые, и дудочки, пахнущие упоительным заграничным запахом, новенькие и до дыр протертые, вы преображали советского человека не только внешне, но и внутренне, делая своего хозяина настоящим “фирмачом”. Вы раскомплексовывали морально, и носивший на чреслах это счастье, чувствовал себя высоко и звучал гордо. Вы нравились девчонкам и порой гораздо больше вашего владельца, но этого было вполне достаточно для того, чтобы ему – владельцу - достались все связанные с этим удовольствия. Вас закупали спортсмены, преступно затаив валюту в штанах или бюстгальтерах бежали покупать по заморским магазинам обалдевшие от счастья советские туристы, загружали в контейнера дипломаты, мешками везли иностранцы, чувствуя в вас стабильную, обеспеченную русской водкой, икрой и женской лаской валюту. Вас “доставали” у фарцовщиков, с риском для репутации покупали на бесполосые сертификаты в магазинах “Березка”, вас снимала с подвыпивших или трусливых владельцев борзая, но душевная советская шпана. Вы перевернули душу целого поколения и это поколение, когда пришло время выбирать, вместо серпа и молота выбрало вас! Элегия, древнегреческий гимн “Пэан”, эпиталама Рубинштейна - вам штаны, из которых я не вылезал 15 лет своей жизни и жалкое подобие которых можно сейчас запросто купить в магазине. Те, настоящие, - вы родились, прожили, и ушли как Могикане, оставив о себе светлую память у тех, кому за 40. Мир вам, добрые старые джинсы. Я все сказал, хуг! Мой милый и всегда баловавший внука дед не только пошил своему любимцу клеша, но в последнее лето школьных каникул подарил мне магнитофон. Бедные родители! Они еще не знали, какая многолетняя пытка им предстояла, и по-прежнему трогательно наивно пели проникновенными голосами милые их сердцу советские песни. Я же демонстративно закрывал дверь в их комнату, заводил музыку, и этот замечательный хриплый и истеричный ор на английском языке, так ласкавший слух, стал тем основным фоном, на котором отныне проходила вся моя жизнь и жизнь моих, как казалось, безнадежно отставших от цивилизации предков. Врубая на всю мощь пленки, переписанные у соседа по подъезду - фарцовщика и студента Второго Меда, а ныне профессора, я начинал тихонько подпевать, хотя ненавидел пение с тех пор, как обнаружившая у меня музыкальный слух небезызвестная учительница, после покушения на Ильича, и, чтобы я в дальнейшем чего доброго не поджег мавзолей - убедила родителей отвести меня в вокальный кружок районного ДП. Но это - это была совсем другая музыка! Ни наигранная бодрость пионерских песен, ни фальшивый пафос советских мадригалов, ни однообразные баритоны Хиля и Мулермана, ни, в общем-то, славный и душевный тенорок любимца девочек Валеры Ободзинского, нет! - это был совсем другой драйв, другая динамика, другая раскованная и свободная манера выплеска эмоций и чувств. Битлы, Роллинги, Кринденсы, для которых в ДП – Дом пионеров Драйв – ритм (муз.) За все время существования этих групп, в сборнике музыкального калейдоскопа шестой серии на фирме “Мелодия” была выпущена лишь одна песня группы Beetles “Girl”, песни «Rolling Stones» и «Creedance» не выпускались вообще 23 советской прессе не находилось иного определения как “пресловутые”, казались мне на высоту пика Эверест, выше любого Магомаева и Карузо. Английский язык, к удивлению железной леди и моих родителей, давался мне легко, слух у меня, как оказалось, был абсолютным, и, хотя я не утруждал себя вниканием в суть текстов - подпевать кумирам было для меня верхом наслаждения. Именно не петь, а подпевать, ибо так орать, как делали это они, на мой взгляд, не смог бы ни один смертный. Чувствуя, что в отдельных местах у меня получается очень даже похоже, я постепенно прибавил форте, пару раз до хрипоты сорвал голос, и, наконец, совсем обнаглев, заорал в полную силу. Когда ежедневно из-за не очень толстой и абсолютно звукопроницаемой стенки стали раздаваться мои вопли, сосед-общественник сильно затосковал и первое время культурно стучал в стенку. Во время одного из моих вокальномагнитофонных испражнений, терпение его лопнуло. С мокрым полотенцем на всклокоченной голове, повязанном в виде тюрбана, и оттого сильно смахивающий на басмача, в одних трусах и с колуном в руке, под сочувственный шепот бабушки Пахомовой, Леонид Тимофеевич укрепился в дверном проеме. Сделав зверское лицо, страшно вращая еврейскими глазами и крича, что сейчас здесь-таки будет смертоубийство, он заявил, что порубит в щепки мою музыку, а потом, видимо, окончательно собираясь испугать, пригрозил, что подаст на меня в товарищеский суд. Вид пожилого еврея в чалме, без штанов, и с топором в руках развеселил меня до икоты, и, вытирая рукавом мокрые от смеха глаза, я заявил, что на этом-то самом суде я как раз и скажу, что по ночам Леонид Тимофеевич слушает “голос Израиля”. Сосед неожиданно и сильно подобрел, и, отложив колун и прижав руки к груди, тихим голосом попросил сделать музыку потише, что я охотно и исполнил, хотя, каюсь, надолго меня не хватило. От таких ежедневных концертов, которыми я занимался вместо подготовки в институт, сила моего голоса возросла еще больше, в песнях любимых Битлов я вытягивал уже все ноты, визжал фальцетом и, беря почти две октавы, естественно готовил себя к карьере рок-звезды. Как это будет выглядеть в стране, строящей коммунизм, я не задумывался, но так как ничего кроме музыки в моей голове отныне уже не звучало, я был твердо уверен, что карьера эта состоится. С того памятного дня претензий Леонид Тимофеевич больше не предъявлял. Вероятно, он свыкся с моим ором как с данностью, а потом, когда я действительно стал артистом, он здоровался со мной почтительно и не без гордости за наше соседство. Благополучно провалившись в институт, что было закономерно, отрастив желанные волосы, заведя себе вдрызг истертые джинсы Лии, и ободранную кожаную куртку, которую вероятно носил еще Александр Македонский, я, забыв все прочитанные книги, и сильно поглупевший, словно в наркотическом трансе, уже без помех предался своему любимому занятию - орать под магнитофон, и в своем модном прикиде гулять по двору босиком, показывая окружающим, что обладатель этих замечательных джинсов, куртки и волос парень из 209 квартиры, почти состоявшийся американец. Не скажу за Карузо, но, если честно, Магомаев мне все-таки нравился. Все мое детство и детство моего поколения проходило под песни этого красивого и пафосного парня – любимца Гейдара Алиева, Судьбы и Екатерины Фурцевой. Справедливости ради надо заметить – тогда из наших эстрадников рядом с ним не стоял никто. Форте – громко (муз.) 24 Дабы не болтаться без дела до того, как меня загребут в так любимую мною армию, и попытаться поступить в институт еще раз, коллега мамы по работе, адвокат (и опять же – еврей), устроил меня протирать штаны в институт Гидропроект, что на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе. Мне обещали 80-и рублевую зарплату и, читатель несказанно удивится, если я на ушко сообщу ему, что свою трудовую деятельность я начал ... в должности ... бухгалтера! Заросший волосами как Робинзон Крузо, я влился в замечательный коллектив, состоящий из лиц женского пола самого разного возраста. Как оказалось, дамы поголовно повыгоняли мужей-импотентов и, будучи свободными и независимыми, а также в некоторой степени заинтересованными проблемами интима - очень любили демонстрировать мне, девственнику, свое новое нижнее белье, и, как бы невзначай, старое. Мое смущение им очень нравилось, хотя краснеть при виде женских прелестей я разучился именно там. Работой меня не отягощали, и я, даром получая зарплату, сидел за своим столом, рисуя гитары, древнеримские шлемы, и пил пиво в институтском буфете, или курил в просторном холле коридора, куда все институтское население, без сожаления отрываясь от проектных калек каждые двадцать минут рабочего времени, выходило курить, обмениваться новостями и травить вошедшие в моду антисоветские анекдоты. Мужчины-экспедиторы хвалились друг перед дружкой скабрезной хроникой “пикирующего командировщика”, а по лестницам туда и обратно бегали очень интересные женщины и девушки в кофточках-лапша и обязательных сапогах-чулках. В нашей школе имелся музыкальный ансамбль, который при вооруженном нейтралитете учителей, организовала пара двоечников нашего класса. Выпиленные из дерева и снабженные звукоснимателями гитары-доски подключенные к усилителю от кинопроектора или радиоприемнику, безбожно расстраивались, но при всех издержках все-таки издавали упоительные звуки настоящих электрогитар. Ударник Петя со скоростью зайца лупил палочками по пионерскому барабану, и ансамбль даже несколько раз играл на школьных вечерах. По сравнению с нашим доморощенным школьным - вокальноинструментальный ансамбль института «Гидропроект» выглядел великолепно. На сцене актового зала красовалась переливающаяся искрами зеленая ударная установка «Trova» с многочисленными барабанчиками и тарелочками, а рядом возвышались желтые фабричные аккустические колонки с встроенными в них усилителями “Электрон 20”. Все это богатство венчала массивная стойка с самым настоящим микрофоном. Возглавлял ансамбль красивый и высокий в джинсовой куртке юноша с самой что ни на есть фирменной внешностью, которую я после окончательной дезинтеграции дышащих на ладан кожанки и джинсов, несколько утерял. После этой невосполнимой утраты на работу я ходил в обычных брюках и пиджаке, на воротник которого водопадом спускались мои медно-рыжие космы. С Игорем Окуджавой, так звали хиппаря, мы познакомились в столовой, и в тот же день после работы он пригласил меня в актовый зал на репетицию своей группы без названия. Начиная с конца 60-х, под мощным влиянием охватившей мир и дошедшей до нас «битломании», ансамбли эти со скоростью размножения Например: Мальчик приходит к папе-еврею и спрашивает: Папа, а что такое счастье? Счастье, сынок, это жить в нашей великой стране – стране победившего социализма! – А что такое несчастье? – спрашивает мальчик. А несчастье, сынок, - отвечает папа, погрустнев, – это иметь такое «счастье». 25 кроликов плодились в каждой школе, ЖЭКе, институте. Фантазия юных кулибиных воспроизводила деревянные гитары с немыслимыми рогами, но даже с такими рогами эти гитары не в состоянии были конкурировать с фабричными импортными немецкими и чешскими “Музимами” и “Торнадами”. Во времена тотального музыкального бума 70-х, любая организация могла по безналичному расчету купить инструменты для “красного уголка”, но этих инструментов все-равно не хватало на всех желающих играть и петь , и на одной и той же казенной ЖЭКовской или институтской аппаратуре обычно репетировали группы две или три, как и повсюду на родине - в порядке общей очереди. Девушки, милые девушки, от сотворения мира вы тянулись к личностям неординарным. Еще в начале века вы любили поэтов, потом перешли на комиссаров и стахановцев-шахтеров, следом появились летчики и моряки, офицеров сменили физики и инженеры и, наконец, силой никогда не подводящей вас женской интуиции, в благословенных 70-х вы нюхом почувствовали новое веяние и, помножив физиков на нуль, заменили их на музыкантов. Многие из впоследствии на всю жизнь связавших себя с шоубизнесом нынешних мэтров от музыки, первый раз взяли гитару, сели за барабан, или открыли рот у микрофона, исключительно ради того, чтобы нравиться красивым девчонкам. А те, в батниках и с прическами “а ля Бриджит”, хлопая накрашенными как у древних египтянок глазищами со стрелками, приходили в общежитие или на танцверанду, танцевать обезьяний танец “Манкиз”, где за символические деньги, а часто и совсем бесплатно играла группа. Сверкая коленками и выбрав на сцене предмет обожания, красавицы посылали понравившемуся мальчику томные, полные ожидания взгляды, и, если мальчик с гитарой, ты был еще и симпатичен, как известный Алена Петров, врач-венеролог был тебе обеспечен. Положившая на тебя «глаз» «телка» так долго и упорно виляла крупом перед сценой, что не заметить ее было невозможно, а дальше… дальше все проходило по естественным законам этого вечного как мир и по сей день не утратившего свою привлекательность процесса. Иногда из-за «артиста» девушки таскали друг друга за патлы, но чаще, за какую-нибудь местную королеву влетало самому кумиру - как правило, не очень сильно и не очень больно. Завистники могли подождать красавчика после танцев и навешать пару оплеух, на первый раз гуманно предупредив, чтобы не подходил к такой-то, если человек не понимал, его могли поучить более вразумительно, но ни ногами, ни другими подручными предметами, человека не калечили, и мужественно пострадавший за любовь после этого нравоучения, как правило, становился на дружескую ногу с живущей в окрестности шпаной и ему, как петуху, попавшему в курятник, отныне был обеспечен полный картбланш. Группы эти исполняли самый разный репертуар – от очень модных тогда и совсем неплохих «поляков» и порою очень душевных советских шлягерочков (чего стоит лишь «Для меня нет тебя прекрасней») до песен собственного сочинения и дворового фольклора, переложенных в «бите». И конечно же любая уважающая себя команда была обязана испонять «Битлов», «Роллингов» и «Криденсов». Названия групп не отличались оригинальностью – «Мифы», «Скифы» и т.д., но попадались и новаторы – одна группа даже назвала себя «Сломанный воздух» Батник – приталенная рубашка Алена Петров – известный любимец дам, знаменитый донжуан и сердцеед начала 70х, тогда музыкант 26 Спев Игорю “Венеру” - наипопулярнейший в то время хит группы “Шокинг Блю” более известную в народе как “Шизгара”, я тут же был принят в ансамбль, чем был несказанно счастлив. Мы пели в самый настоящий микрофон, по сверкающему зеленому барабану громко долбал местный инженер-чертежник, красивый Игорь Окуджава брал аккорды на немецкой гитаре с торчащими у колков во все стороны тараканьими усами струн, а в просторном актовом зале усиленная микрофоном и акустикой гремела безобразная, но так ласкающая наш слух какофония. Институтское начальство, никак не вдохновленное от такой игры, вскоре положило предел нашему творчеству, запретив механику в радиорубке включать микрофон, но один единственный раз, 8 марта 1972 года, мы все-таки по-настоящему сыграли! Все девушки, бывшие в актовом зале хлопали и смотрели на хиппового Игоря влюбленными глазами. Мне тоже перепало несколько взглядов и с тех пор я знаю, как смотрят женщины на мужчин, которые им интересны. В ту зиму я снова получил повестку в военкомат, про который как-то совсем запамятовал. Придя к военкому, товарищу Канищеву, я был уведомлен, что предназначаюсь (он так и сказал: “предназначаетесь”) для службы во флоте. Перспектива служить три года вдали от кипящей и бьющей через край московской жизни не радовала, хотя мои детские мечты стать китобойцем в связи с этим обретали реальные очертания. Более того, меня просто бросало в дрожь и в состояние легкого умопомешательства, при мысли о том, что я не смогу каждый день вопить под магнитофон любимый “Дип Перпл “ин Рок”, собачиться с братом, бабкой и родителями, приходить домой поздно запоздно не очень твердым шагом, после распития из горлышка вина с дворовым хулиганом Лерой, и сладкого тисканья местной профурсетки Ленки за маленькие, но крепкие сиськи. Успокаивало то, что до очередного призыва было еще время, и может быть удастся внедриться в Пед. на истфак, куда по моим сведениям поступало полтора человека на место. Лето 72-го было апокалиптически жарким. В Шатуре горели торфяники, в огромные черные воронки проваливались бульдозеры и грейдеры, а над Москвой стояло вязкое, почти осязаемое рукой марево. Я разорал себе фальцет до третьей октавы, и спокойно вытягивал третье “ля” в песне “Дитя во времени” новых кумиров “Deep Purple”, сменивших в моих музыкальных пристрастиях распавшихся к тому времени “Beatles”. Уволившись из проектного института, чтобы лучше подготовиться к экзаменам, я репетировал с новой группой со смешным названием “Ну, погоди”, куда меня привел один знакомый татарин. В клубе завода по выпуску грампластинок фирмы “Мелодия” стоял стационарный, мощный и огромный как «Empire State» усилитель, а завклубом Дима, уже обремененный женой и детьми, полный лысоватый дядька лет тридцати, стоял на сцене вместе с нами и, когда в окна заглядывали очередная девушки, начинал сексуально извиваться. По причине полного неумения играть, он имитировал процесс музицирования, лобая по струнам неподключенной к усилителю казенной «музимы». Вышедший в 70-м году диск группы «Deep Purple» «Child in Time» - «Deep Purple in Rock» Лобать – играть (муз.) 27 Видимо “лобали” мы чересчур здорово, потому что месяц спустя нас выгнали, в чем мы, непонятно почему, обвинили семейного Диму, и даже хотели его бить. Пусть простит читатель пространные и, возможно, затянувшиеся экскурсы в мою биографию. Все дальнейшие события и встречи будут проходить на фоне музыки, на долгие годы ставшей мне основной профессией, которой я и зарабатывал свой нелегкий черный хлеб (с черной икрой). Начало моей музыкальной карьеры типично почти для всех рок-музыкантов нашего поколения и, возможно, многие из них, если сейчас читают эти строчки, узнают в них себя. В тот упоительный африканский, пахнущий торфом август, случилось Это. Экс-гитарист нашей выгнанной с завода грампластинок великой группы, чтобы как-то скрасить общую трагедию, пригласил трех знакомых девиц со второго часового, мы набрали в рюкзаки бормотухи, взяли переносной магнитофон, гитару, и, сев на электричку, отправились в “поход”. У каждого в жизни есть моменты, которые он не забудет никогда, это и было, вероятно, мгновение счастья, которое, как время нельзя ни вернуть, ни остановить, но можно воскресить в памяти. Лес, запах костра, чувство блаженства от выпитого портвейна, магнитофон, песни под гитару, когда я по просьбе ребят отмачивал очередной финт голосом, и ощущение призывного взгляда неизведанной еще самки, а потом медвяный дух скошенного сена, пряный запах травы и лунной ночи, темное небо, яркие звезды и уверенные женские ласки. Я возвращался на Белорусский вокзал с гордо поднятой головой, как в победном 45-ом возвращались на него наши отцы-победители. Я стал мужчиной и совершил ЭТО так - будто только и делал, что занимался данным занятием всю свою сознательную жизнь. Есть маза!!! По приезду домой, оглядев домочадцев с гордым видом познавшего суть вещей человека, я налил ванну и с удовольствием опустил в нее истомленное ночными ласками тело. Расслабившись и закрыв глаза, я прокручивал в памяти все, что произошло этой ночью и, когда вновь разомкнул веки, испустив сладкий и томный вздох, внимание мое привлек еле заметный прыщик, как раз на том самом инструменте, который и втянул меня в беду. Вспомнив рассказы парней, и прочитанные книги, я с ужасом уставился на свое плавающее буйком сокровище. От хорошего настроения не осталось и следа. Воображение дорисовывало страшные картины отваливающегося носа и конечностей, и я, из предосторожности, даже не вытерев себя полотенцем, как был сырой, поехал в КВД, который находился недалеко от до боли знакомого мне военкомата. В диспансере был ремонт, белили стены и красили двери, покрашенная дверь в кабинет врача была открыта, и проем был отгорожен от посетителей лишь тоненькой полотняной ширмой. Дождавшись своей очереди, я сел на стул напротив старой и сморщенной как стручок бабки-венеролога. Бабка, писавшая что-то в карте, вдобавок оказалась тугой на ухо, и, когда я полушепотом, стесняясь сидящих в коридоре сифилитиков, поведал ей о своей проблеме, она недоуменно подняла на меня глаза: “Что?” - “Прыщик тут, понимаете”. - “Что?” - “Прыщик на ... гм... кхм...” - понимаете” - пролепетал я, начав краснеть и смущенно поглядывая за ширму - “Ась?” - “Прыщик” - заорал я, как Ян Гилан. - “Когда имели половую связь?” - “Вчера.” - “Вчера - а - а?” Даже не посмотрев Маза – вероятно, судя по всему, да! (хип., муз.) Солист группы «Deep Purple» 28 на проблему воочию, бабка уставилась на меня. “Ты что, идиот?” - “Нет” оскорбился я. - “Вон отсюда” - в свою очередь разоралась бабка. Грубая женщина - однако, я пулей вылетел из кабинета - все, больше никогда, никогда, никогда, никогда ... Никогда!!! 29 Глава V “Поднятая целина” Из источника наслаждений исходит нечто горькое, что удручает даже находящегося среди цветов. Лукреций Несмотря на относительно небольшой конкурс, я вновь срезался на родном русском письменном, сдав остальные предметы в высшей степени похвально. Обидно было сходить с дистанции из-за каких-то тире и запятых, но четыре синтаксические ошибки в сочинении, обладай его автор и Тургеневскими дарованиями, выносили абитуриенту смертный приговор. Успокоился я скоро, создавая очередную группу, и уже не мог думать ни о чем кроме музыки. Со следующим новым энтузиастом - невысокого роста, носатым мальчиком по кличке Кацо, сильно смахивавшим на армянина и имеющим собственную красивую электрогитару “Торнада” мы лихорадочно соображали, где достать денег на аппаратуру. После долгих размышлений, когда были отвергнуты варианты грабежа банка и собирания стеклотары, гениальный Кацо предложил заложить собственные тела в анатомический театр по 500 рублей за штуку. Увы, благородные пропорции наших скелетов никак не вдохновили ученых мужей, потому что по изложении сути дела, нас без долгих разговоров выгнали вон. Волосы мои росли, а характер становился все сволочнее и непокладистее. Я нагло обзывал родителей новым только что вошедшим в обиход словом “совок”, символизирующим безнадежную закосневшую в развитии отсталость, издевался над их добрыми песнями, бессмысленными партсобраниями, ехидно интересуясь, когда же, наконец, мы будем жить при коммунизме. Но этого мне, молодому негодяю, казалось мало - я беспричинно третировал младшего братишку, бабушка Пахомова пулей вылетала за дверь после хорошего пендаля, а со стен моего обиталища, где я из микроскопической точки расширился до размеров галактики, скалили зубы мои хрипато-волосатые идолы - Элис Купер, Ози Озборн, Девид Боуи и им подобные черти. Родители, которых я достал до тремера в коленях, не могли взять в толк, что делать с сыном-чудовищем. Не знаю, какой сострадалец внушил им подобные мысли, но, доведенные до отчаяния, предки умудрились тайно съездить в военкомат и пожаловаться на меня самому военкому - товарищу Канищеву, умоляя забрать сына в армию как можно быстрее, а если время призыва еще не приспело, ради такого случая сдвинуть на полгода вперед и сам призыв. Вызвав отщепенца немедленно, военком начал гневно стыдить меня за длинные волосы и гадкое поведение, не соответствующее образу настоящего советского юноши - продолжателя дела отцов, обещая, что в первую же призывную неделю я главный кандидат на перековку. “Тебе там патлы-то быстро остригут” - пригрозил он пальцем. Вернувшись домой и, закатив родителям грандиозный скандал, трагизмом напоминающий известную картину художника Брюллова, я объявил, что после содеянного ими гнусного и подлого предательства ухожу из дома и не вернусь... долго! 30 Успокоившись и здраво рассудив, что уходить мне, в общем-то, некуда, я, скрепя сердце, остался в семье, продолжая вопить под магнитофон, хамить окружающим и не работать, не забывая, впрочем, каждый день шарить в холодильнике. А также пить портвейн “Солнцедар” с соседом Толиком - парнем чуть постарше меня, но уже отъявленным мерзавцем и законченным алкоголиком. Некоторое время спустя, после демарша, гуляя с Кацо недалеко от его дома в районе метро «Сокол», обсуждая очередные далеко идущие прожекты по созданию группы и генерируя массу идей на этот счет, на одном из зданий серого туфа, фундаментальной сталинской постройки, мы заметили скромненькую вывеску “отдел кадров института ВНИИНМ”. От любимого военкома геноссе Канищева и от перспективы служить три года на обещанной им подводной лодке я собирался злостно уклоняться и бегать, пока не поймают. Надо было зарабатывать деньги на джинсы, портвейн и магнитофонную пленку, а самое главное бесконечное выяснение отношений с предками мне и самому порядком надоело. Я часто подумывал, как было бы славно снять угол, перенести туда свою музыку, развесить плакаты и здравствовать в свое удовольствие. Зайдя из праздного любопытства в эту ничем не примечательную дверцу, мы с приятелем не могли себе представить, что дверь эту нам открыла ни кто иная как сама ее величество Судьба. Внутри располагался отдел кадров филиала строго засекреченного режимного предприятия легендарного и страшного института им. Курчатова - того самого сказочного места, где сидя на брони, от армии спасались почти все московские хиппи, фарцовщики, и прочие устроенные сердобольными мамами и папами элитарные разгильдяи. Приняв от нас заполненные анкеты в несколько десятков пунктов подтверждающие, что ни я, ни мой друг Кацо не были в плену, не имели государственных наград, не судились, не привлекались, не ездили за границу, суровый кадровик деловито убрал анкеты в стол и замогильным голосом сообщил, что, если наши биографии и биографии наших родственников благополучно пройдут проверку, он пошлет на нас бронь. При ласкающем душу слове “бронь” мне представилась мощная стомиллиметровая лобовая броня немецкого танка “Ягд-панцер”. Радость не приходит одна. По выходу на улицу мы неожиданно познакомились с двумя разбитными девахами хиппового вида, которым, окрыленный успехом юркий и чернявый Кацо очень складно втирал про лучшую в мире группу, представив меня как ее вокалиста, что окончательно бросило дев в наши объятия. Красавицы оказались завсегдатайками баров “Аист” и “Аэрофлот” (последний на хиппово-сленговый манер они называли “Аэрофак”), куда тут же пригласили и нас. Раньше мне не приходилось бывать в подобных заведениях, если не учесть, что по рассказам мамы ее повезли рожать меня из Махачкалинского ресторана “Каспий”. Тогда по причине эмбрионального состояния запомнить обстановку того веселого места я, к сожалению, не мог, но зато сейчас, оглядываясь вокруг на кишевших тараканами и так милых моему сердцу длинноволосых хиппарей, тупо сосущих из трубочки один коктейль на десятерых, я с удовольствием отметил, что наконец-то нахожусь в достойной меня обстановке. Бар закрывался в одиннадцать часов вечера, и мы с Кацо, быстро ставшие завсегдатаями, разбившись по парам, расходились по подъездам тискать подружек, мучаясь сладкой истомой нереализованного 31 либидо по той простой причине, что делать ЭТО в подъезде было скотством, а ехать для воплощения наших сексуальных фантазий - к сожалению, некуда. Проблема, однако, оказалась решаемой. У одной из наших пассий оказался дядя-алкоголик, обитавший в деревне где-то под Москвой. Родственник имел большой бревенчатый дом и, по словам племянницы, если ему хорошо налить, не возымел бы ничего против нашего грешного присутствия. Обрадовавшись такой перспективе и, предчувствуя необычные приключения, экзотику сельского быта и сладкие минуты половой близости, в ближайшую же пятницу, на два червонца, что Кацо беспардонно вытащил из кошелька у матери, был закуплен дешевый портвейн в бутылках-огнетушителях и мы, влекомые мощной энергией Эроса и жаждой странствий, сели на пригородную электричку, отходящую со славного Белорусского вокзала. На станции Перхушково - конечной цели нашего визита, в тревожном 41ом располагался штаб Западного фронта, где молодые мордовороты из НКВД, офицеры, писаря и интенданты, не взирая на сложную оперативную обстановку, щедро рассеивали среди местных колхозниц свой воинственный и сдобренный самогоном генофонд, отчего по прошествии тридцати с лишним лет на этом историческом месте произросла мутировавшая от этого самого самогона и дешевой советской водки злая, пьяная и нахальная популяция. Завидя чужаков, да еще такого супер американского образа, к нам направился недоброго вида чушарь. Презрительно покосившись на стоявших рядом в вытертых джинсах и с индейскими хулахупами на голове наших хипповых подруг, гоблин, сплюнув сквозь зубы и обозвав фраерами, коротко приказал нам с Кацо следовать за ним и, не оглядываясь, развинченной походкой блатного пошел по перрону. Разгоряченные выпитым в электричке, мы с приятелем решительно двинулись за наглецом, но прошли недолго. Сзади послышался топот многочисленных и тяжелых ног, и не успели мы оглянуться, как по нам паровым катком прокатилось целое кодло неизвестно откуда появившейся на перроне местной шпаны, оставив за собой на заснеженной платформе два распростертых тела. Оглянувшись назад, скорчив без того гнусную рожу, и презрительно бросив напоследок – «Маячили, маячили – вот их и отхуячили», чушарь сотоварищи преспокойно погрузились в подъехавшую к перрону электричку, поехав развлекаться дальше, а мы с Кацо, как два убитых викинга лежали, запрокинув длинные волосы, и остановившимися взорами смотрели в тусклое осеннее небо, пока подбежавшие подруги валькириями не захлопотали вокруг, пытаясь приподнять наши благородные головы. Удар, сбивший меня с ног, пришелся по касательной, и я, поскользнувшись на мокром перроне, при падении лишь больно ударился об асфальт задницей. Но, взглянув на Кацо, я не знал – смеяться мне или плакать - правое армянское око Васи с княжеской фамилией Тараканов на глазах заплывало, а уста напоминали губы Луи Армстронга, и для полного колера ему не хватало только дудки. Любимые, наконец, подняли нас, отряхнув от грязи и, стерев носовым платками кровь из ссадин - после чего, гордо расправив свои узкие плечи, непобежденные, мы, прихрамывая, направились через поле к близлежащей деревне, где ждали нас дядя-бухарь, баня, русская печка и, наконец, желанная награда за героическое поведение в бою. А через несколько дней после возвращения из Перхушково, нам, еще предающимся воспоминаниям об этих великих событиях, позвонил кадровик и сообщил - анкеты наши прошли, бронь в военкомат послана и что на следующей неделе к такому-то часу он ждет нас у себя. 32 Я тут же сообщил об этом радостном событии родителям, с удовольствием садиста наблюдая, как вся семья принялась глотать сердечные капли. Но одного триумфа мне показалось мало и я на глазах несчастных набрал номер военкома, спокойным тоном сообщив ему печальную для него новость, на что после некоторого замешательства товарищ Канищев, прокашлявшись, ответил: “А ты, однако, гусь”. ВНИИ неорганических материалов, или как его еще называли “девятка”, был огромным городом, огороженным как концлагерь непроницаемой желтой стеной с торчащими на ней кронштейнами с колючей проволокой под напряжением и охраняемой злыми, как волкодавы квадратными дядьками в костюмах. Над многочисленными лабораториями и цехами возвышалась труба ядерного реактора, за вредность выдавались бесплатные талоны на молоко, а на почетном стенде в огромном вестибюле каждый месяц трагически чернел очередной некролог. По всему периметру внутренней территории этого огромного комплекса взад и вперед очумело бегали физики с ополоумевшими глазами и всклокоченными неухоженными бородищами, рёхнутые на науке, совсем также как я на рок-музыке. Институт считался “грязным”, даже вилки и ложки в столовой «звенели», и безобразных хиппи охотно брали лаборантами получать рентгены, на мытье грязных полов, забивать асбестом машины с урановыми сердечниками и ворочать в термоцехе радиоактивные кобальтовые чушки, честно зарабатывая себе бериллиоз, облысение и импотенцию. Я попал в лабораторию № 17, где кроме мытья полов новичку вменялось в обязанность каждые два часа отмечать показания счетчиков с приборов. Работа была не пыльная, сменная и дополнялась зарплатой в 130 руб., талонами на бесплатное молоко, стерильным белым халатом и свято преданным делу науки начальником - инженером Иваном Дмитриевичем Кобызевым. В полуподвальном зарешетчатом помещении, где рядами стояли машины похожие на блестящие импортные термосы времен советско-китайской дружбы, наполненные радиоактивным содержимым и щиты с ртутными датчиками, обитало еще несколько человек - заместитель инженера Кобызева, Альберт Васильевич Сорокин-Гурфинкель - спокойный, похожий на Свердлова еврей с очень приятным бархатным голосом, и ширококостный и длинношеий заместитель Свердлова - хохол Александр Спиридонович Щук. В подвале работало несколько ребят-лабарантов - студентов вечерних и заочных институтов, пара мужиков пожилого возраста, засидевшихся здесь еще с юности, да так и оставшихся в теплом радиоактивном болоте и две “старые работницы” - как они с гордостью себя называли - пожилая и страшная как мегера тетка по фамилии Игнашкина и пышущая здоровьем румяная и толстая бабища Марья Ивановна Грибенюк. “Старые работницы” исподволь собирали лабораторные и институтские сплетни и, как полагается, постукивали на молодежь инженеру Кобызеву, который, имея собственный с сейфом и лампой стол у входа в полуподвал, повседневно являл сослуживцам вежливое очкастое лицо, ослепительно белый халат под номером «2», а на косолапых ногах - стоптанные домашние тапочки. Так и не получив обещанных талонов на молоко, я, как новоприбывший салабон-первогодник, был сразу же зачислен в формирующийся от института ударный отряд, который по сложившейся в стране традиции в скором времени должен был отбыть на трудовой фронт - помогать селянам в осуществлении важного государственного дела - уборке картошки. Многие помнят то славное время, когда, копаясь в грядках скрюченными пальцами, мы в полном 33 соответствии с программой партии стирали грань между городом и деревней, приближая страну к обещанной Никитой Хрущевым в аккурат к 1980 году от рождения Христова, полной и окончательной победе коммунизьма. Наша трудовая бригада насчитывала человек тридцать и включала в себя завлабов, инженеров и техников с лаборантами. Тряхнуть лопатой поехало и несколько благообразного вида ученых - докторов наук, а возглавлял нашу энергичную трудовую колонну самый что ни на есть настоящий академик. Когда-то в далекие-далекие времена Александрийские гностики утверждали, что наш прекрасный мир, где светит солнце, зеленеет трава и поют птицы - недоразумение и сам по себе мерзок и отвратителен. Думается мне, попади они на картошку в те забытые богом края, куда по вечным российским колдоебинам мчал нас новенький институтский автобус, ребята еще больше бы укрепились в своих неутешительных выводах. Расположенный неподалеку от старого города Волоколамска совхоз «Львовский» дышал мерзостью запустения. На пробитом, видимо еще со времен войны куполе полуразрушенной колокольни, ютились стаи картавых ворон, а вокруг расположилось два десятка обшарпанных хижин с прирезанными к ним палисадами, на которых под мелким сентябрьским дождиком копошилось несколько согбенных фигур, не проявивших ни малейшего интереса к нашему появлению. Растянувшись, мы шли гуськом по изрезанной тракторными колесами и щедро украшенной коровьим дерьмом мокрой от дождя грунтовой дороге с брошенной и ржавеющей по обе ее стороны совхозной техникой, напоминающей документальные кадры немецкого отступления. Свернув к сельсовету, мы увидели идущего навстречу не совсем твердой походкой небритого мужчину в брезентовом плаще, резиновых сапогах и шляпе. Це был председатель. Мужик демократично поздоровался с лауреатом государственной премии и повел гостей располагаться в большой совхозный барак, где уже стояли приготовленные для нас койки. Всегда интересно видеть настоящее светило науки, но еще интереснее видеть это светило, выуживающее из черной, промокшей земли грязную пупырчатую картофелину. Мы выходили на совхозное поле ранним утром, предварительно позавтракав в местной столовой фирменным блюдом растолченной картошкой с хлебом. В деликатесе попадалась неочищенная кожура, и приходилось усердно снимать ее, интеллигентно складывая на обсаженный мухами длинный дощатый стол. На обед была та же картошка, чуть сдобренная маслом, со стаканом парного, прямо из-под буренки, молока на десерт. Та же картошка, только с чаем была и на ужин. От такой разнообразной и калорийной пищи первым вспучило академика. Каждые десять минут он отбегал в ближайший перелесок прямо через расположенные неподалеку личные делянки совхозников. На огородах этих как будто бы для того, чтобы специально показать городским, что совхозные дела их не интересуют априори, демонстративно копошились мужики и бабы в телогрейках и со злыми испитыми лицами. Когда несчастный завлаб с мукой на лице тушканчиком скакал по их грядкам к лесу, аборигены махали лопатами и агрессивно матерились, а один - угрюмого вида мужик, выбив соплю из носа и, стряхнув ее на землю при помощи двух грязных пальцев, деловито пообещал пробегающему мимо очередному засранцу: “Еще, бля, раз, бля, пробежишь, бля, возьму топор, бля, и снесу башку на хуй!” 34 Молодежи в совхозе не было, и только на ферме работали две прыщавые молодухи, которые угощали нас, хочется думать - искренне, теплым и парным коровьим напитком. Быстро смекнув, что для городских желудков парное молоко не есть good, мы предпочитали пить что-нибудь попроще. В местном сельпо, где кроме кислого, плохо пропеченного серого хлеба и килек в томате уже не было ничего - диктую по буквам - Никифор, Иван, Харитон, Ульяна, Яков - в винном отделе гордо красовался «Камю Наполеон» и батарея бутылок с марочным шампанским, откуда я сделал вывод, что население совхоза Львовский после вечернего бриджа, укрывшись клетчатым пледом, и поместив у ног породистого сеттера, не прочь посидеть рядом с камином с сигарой и рюмочкой доброго французского «Мартеля». Самогон они гнали отменный из яблок-китаек, что в изобилии валялись вокруг. Это единственное лекарство и спасало нас от несварения, скуки и промозглого холода, когда началась распутица, а потом ударили первые заморозки. Барак, где мы спали, не отапливался, и с наступлением холодов по ночам стоял такой кальтенбруннер, что сильно повезло тому, кто захватил с собой теплое одеяло. Прошел уже месяц командировки, и наш интеллигентный научный коллектив начал потихоньку скотинеть. Перестав бриться и мыться, мы за несколько недель утратили весь столичный лоск и превратились в грязные заросшие непроходимой щетиной вонючие существа, тупо и механически исполняющие нудную и противную работу. Нетрезвый председатель иногда появлялся на поле и что-то орал, взмахивая руками и, ругаясь неведомо на кого, после чего, обидевшись, уходил, но обычно мы были предоставлены самим себе. Выдергивать из мерзлой земли ненавистную до черной икоты картошку уже никто не спешил, да в этом и не было смысла. Картошка на поле все равно сгнила. Однажды в предвечерних сумерках, шагая в сельпо за кильками, я почувствовал за своей спиной чью-то тяжелую поступь. Оглянувшись, я увидел сзади чудовище огромных размеров, и, призвав на помощь все свои познания в зоологии, понял, что это бык. Скотина, тупо посматривая на меня недобрым красным глазом и угнув лобастую морду с рогами и железным кольцом в ноздрях короткого и толстого носа, тяжело и грозно сопя, упрямо шла следом. Вспомнив доброго Брэма, я лихорадочно успокаивал себя тем, что быки спокойные травоядные животные и не едят людей, но ноги, независимо от моей уверенности в бычьем миролюбии, сами собой прибавили ходу и, оглянувшись, к своему ужасу я увидел, что прибавил ходу и бык. Поблагодарив в мыслях учителя физкультуры Виктора Никитьевича Гирея-Чернова за то, что он научил меня бегать, я припустился позорным аллюром, все больше и больше переходя в намет, пока уже полным галопом не ворвался в дверь сельпо к изумлению пьяненькой продавщицы. Отдышавшись и купив килек с хлебом, я с осторожным видом выглянул в окно - бык меня не догнал! А смены все не было. Не было и обещанной бани. А потом навсегда исчез и председатель. Проведя еще пару недель в этом райском уголке земли, окончательно деградировав как личности, одурев от безделья, холода, пьянки и поноса, кое-кто из нас уже всерьез подумывал о дезертирстве, но однажды с утра по грязной, уже чуть тронутой ледком дороге, весело сигналя, протарахтел институтский ЛИАЗик с очередными каторжанами. Домой! Домой! Домой!