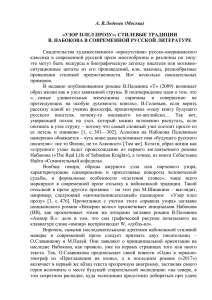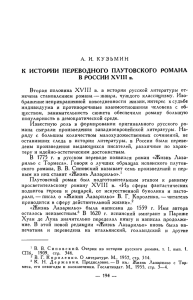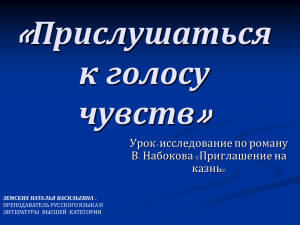А.В.Леденев «Узор плел прозу»: стилевые традиции В.Набокова
advertisement
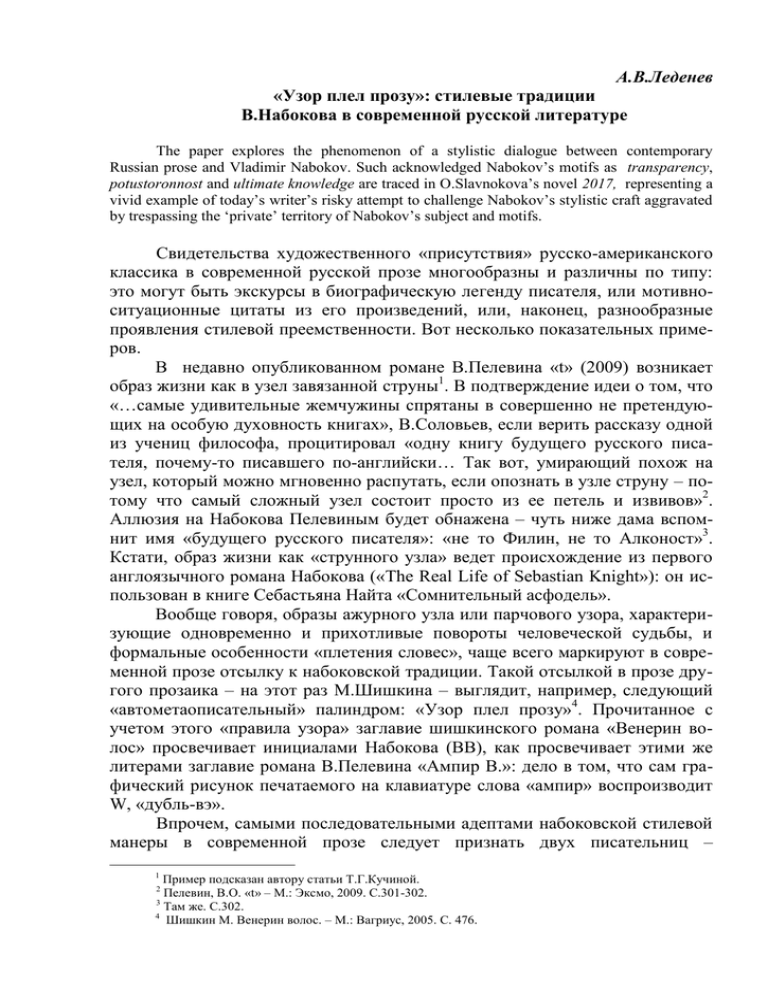
А.В.Леденев «Узор плел прозу»: стилевые традиции В.Набокова в современной русской литературе The paper explores the phenomenon of a stylistic dialogue between contemporary Russian prose and Vladimir Nabokov. Such acknowledged Nabokov’s motifs as transparency, potustoronnost and ultimate knowledge are traced in O.Slavnokova’s novel 2017, representing a vivid example of today’s writer’s risky attempt to challenge Nabokov’s stylistic craft aggravated by trespassing the ‘private’ territory of Nabokov’s subject and motifs. Свидетельства художественного «присутствия» русско-американского классика в современной русской прозе многообразны и различны по типу: это могут быть экскурсы в биографическую легенду писателя, или мотивноситуационные цитаты из его произведений, или, наконец, разнообразные проявления стилевой преемственности. Вот несколько показательных примеров. В недавно опубликованном романе В.Пелевина «t» (2009) возникает образ жизни как в узел завязанной струны1. В подтверждение идеи о том, что «…самые удивительные жемчужины спрятаны в совершенно не претендующих на особую духовность книгах», В.Соловьев, если верить рассказу одной из учениц философа, процитировал «одну книгу будущего русского писателя, почему-то писавшего по-английски… Так вот, умирающий похож на узел, который можно мгновенно распутать, если опознать в узле струну – потому что самый сложный узел состоит просто из ее петель и извивов»2. Аллюзия на Набокова Пелевиным будет обнажена – чуть ниже дама вспомнит имя «будущего русского писателя»: «не то Филин, не то Алконост»3. Кстати, образ жизни как «струнного узла» ведет происхождение из первого англоязычного романа Набокова («The Real Life of Sebastian Knight»): он использован в книге Себастьяна Найта «Сомнительный асфодель». Вообще говоря, образы ажурного узла или парчового узора, характеризующие одновременно и прихотливые повороты человеческой судьбы, и формальные особенности «плетения словес», чаще всего маркируют в современной прозе отсылку к набоковской традиции. Такой отсылкой в прозе другого прозаика – на этот раз М.Шишкина – выглядит, например, следующий «автометаописательный» палиндром: «Узор плел прозу»4. Прочитанное с учетом этого «правила узора» заглавие шишкинского романа «Венерин волос» просвечивает инициалами Набокова (ВВ), как просвечивает этими же литерами заглавие романа В.Пелевина «Ампир В.»: дело в том, что сам графический рисунок печатаемого на клавиатуре слова «ампир» воспроизводит W, «дубль-вэ». Впрочем, самыми последовательными адептами набоковской стилевой манеры в современной прозе следует признать двух писательниц – 1 Пример подсказан автору статьи Т.Г.Кучиной. Пелевин, В.О. «t» – М.: Эксмо, 2009. С.301-302. 3 Там же. С.302. 4 Шишкин М. Венерин волос. – М.: Вагриус, 2005. С. 476. 2 О.Славникову и М.Палей. Они заявляют о принципиальной ориентации на наследие Набокова, как правило, уже на первых страницах того или иного текста. Так, О.Славникова предпосылает своей повести «Один в зеркале» эпиграф из «Приглашения на казнь», а в последнем романе («2017») включает в первый же абзац текста прозрачную анаграмму. Она заставляет своего героя вспомнить о месте будущей старательской экспедиции: «на севере, в том секретном распадке, куда экспедиции предстояло добираться при удаче три недели и где угревалась на жирном припеке, с потрепанной бабочкой на горячем боку, завезенная зимой на снегоходе бочка бензина, весна еще только вступала в свои права…» (7, курсив наш – А.Л.)5. Бабочка на боку бензиновой бочки – в этой наглядной образной комбинации намеренно театрально участвует целая цепочка нарядных звуковых перекличек (четыре слова «на Б»), а рискованно уютный контакт легкокрылой бабочки с взрывчатым веществом подсказывает читателю, из чьих энергетических запасников автор намерена подпитывать свое воображение. Не обходится писательница и без графической метафоры инициалов мастера: завершается «заставочный» абзац образом стрелки вокзальных часов, тянущейся к римской цифре IV. Указание на «вензельную» связку литер V и N сопровождается здесь характерной стилистической провокацией в адрес «внимательного читателя» – сравнением минутной стрелки с «палкой слепца» (7). Показательна у Славниковой, с одной стороны, демонстративная «обнаженность приема», а с другой – «ткаческая» манера распределения узора на всем пространстве текстовой ткани, как бы ретуширования слишком резкого силуэта «жизнеподобными» частностями фона. Подобную стилевую модель западный славист А.Хансен-Лёве предлагал называть «калиптической»6 – по имени мифологической нимфы Калипсо, знаменитой своим ткачеством и умением пленять мужчин-путешественников. Бабочка, кстати сказать, вспорхнет со страниц романа Славниковой в общей сложности пятнадцать раз, но дело, конечно, не в количестве повторений мотива, а в его смысловой обеспеченности: это и метафора души, и знак границы между земным и горним мирами. Однако горний, потусторонний мир будет манить к себе героев Славниковой горными распадками, таящими в себе кристаллы прозрачности: едва заметный для слуха паронимический сдвиг (горнее – горное) намекает на переосмысление набоковских решений, в частности на семантический переворот по отношению к образу прозрачности. Если у Набокова прозрачность ассоциировалась с полным отказом от индивидуальности, с капитуляцией личности перед всеобщей посредственно5 Славникова О. 2017. – М.: Вагриус, 2008. Далее цитаты из Славниковой приводятся по этому изданию с указанием в скобках номера страницы. 6 Aage Hansen-Löve. Эстетика «калиптики»: аполлинские концепции в метафизической поэтике Набокова // Rev. Etud. slaves, Paris, LXXII/3-4, 2000, p. 311-317. «Тайна в рамках калиптики находится не в глубине текста или глубокомыслии мифических или мистических пророчеств, но на поверхности. То, что обычно кроется под покрывалом (т. е. под выражением, под сигнификантами), здесь показывается как покрывало в форме покрывала. В этом смысле для калиптики форма является содержанием», – пишет автор статьи (с.312). стью, то в романе Славниковой все наоборот: прозрачное – мир абсолютной красоты, а непрозрачное, мутное – сфера жалких ужимок пошлости. Другой узнаваемо набоковский образный знак в романе «2017» – арендованный из того же «Приглашения на казнь» образ «неток» – на этот раз из «кунсткамеры» профессора Анфилогова: это коллекция причудливой формы камней или кусков руды, в каждом из которых томится искореженное зерно бриллианта. В контексте романа именно «прозрачные камни» символизируют возможность прорыва в «иную жизнь», а также становятся главным ресурсом самоидентификации для главного героя – мастера Крылова. Резчик по драгоценным камням, обладающий «птичьей» фамилией, в романе Славниковой – современная (так сказать, «неоакмеистическая») версия набоковского Цинцинната, умудрившегося в финале «Приглашения на казнь» – при помощи автора, конечно, – обменять путы земной реальности на подразумеваемое художественное бессмертие, волшебным образом обернуть гротескную «казнь» в неслышимую земному слуху «песнь». Таковы же, в конечном счете, и необъяснимые на языке земных реалий устремления славниковского героя. Подобно неведомому отцу Цинцинната, родитель Крылова «совершил побег из действительности» (75), а возрастные соответствия между персонажами писателей (в момент решающих событий герой Славниковой вступает в свое четвертое десятилетие) еще больше укрепляют постепенно проступающее сходство между ними. Главной надеждой на возможность «разорвать контракт» с рифейской (читай: российской) реальностью, представляющей собой тошнотворный коктейль авангардного «покойницкого» гламура и тоскливой провинциальной серости, становится для героя Славниковой любовь к женщине-незнакомке, перенявшей от набоковского Цинцинната свойство «сквозистости» и неукорененности в быту, а от некоторых набоковских героинь – атрибуты магнетически влекущей мужчину дымчатой тайны. Вскоре после знакомства с Крыловым «Таня» (таким псевдонимом она скрывает свою «паспортную идентичность») вручает герою связку ключей от неведомой ему квартиры, а читатель тем самым приглашается к распознаванию еще одного набоковского мотивного сплетения – на этот раз из романа «Дар». Когда в финальной части книги Крылов наконец попадет в искомую квартиру, тайна обернется житейским тупиком, все по-набоковски «сойдется, то есть обманет». Линия отношений Крылова и его возлюбленной в романе построена на варьировании нескольких набоковских мотивов, главный среди которых – мотив тщетных попыток героя выявить подлинный «узор» судьбы: именно обретение этого неземного шифра подскажет герою маршрут побега из пут коммунальной реальности. Поначалу многое обнадеживает Крылова, хотя он не понимает, что именно дает ему надежду на паломничество в мир абсолютной прозрачности: то ли латинская литера N, образуемая «линиями судьбы» на ладони Татьяны, то ли неотступное чувство чьей-то направляющей руки (ежедневных «санкций судьбы» на очередную встречу любовников). Однако это ощущение благожелательной высшей силы постепенно перерождается в дискомфортное чувство соглядатайства со стороны неведомого распорядителя их, персонажей, сюжетной жизнью. Навязчивый, но постоянно ускользающий от встречи соглядатай в точно рассчитанном автором повороте сюжета материализуется (в тучного мужчину, повсюду следующего за Крыловым и Таней) – именно для того, чтобы породить отчетливый стилистический кивок в сторону Набокова: «Всеведение соглядатая – разумеется, мнимое, но при этом все более несомненное – превращало мужчину в карикатуру на то Всеприсутствующее Существо, чей замысел Таня и Иван так упорно подвергали проверке» (158). Инициальный шифр набоковского псевдонима (ВС) не оставляет сомнений в том, чью властную стилистическую волю ощущают на себе герои Славниковой: это из набоковского «зазеркалья» попадают в их жизнь знакипредупреждения о том, что высшая прозрачность обретается человеком лишь по ту сторону жизни. Сцены преследования Крыловым надоедливого шпиона и, наконец, его гибели выписаны Славниковой как полупародийный римейк тех эпизодов «Лолиты», в которых Гумберт пытается настичь и в конце концов убивает Клэра Куильти. Будто для ценителей Набокова его уральская последовательница вплетает в эту сцену целую серию анаграмматических ауканий: у Крылова «колет в боку» (437); соглядатай, провоцируя Крылова, стоит «подбоченясь» (429), а после наступившей смерти голова покойника перекатывается «с боку на бок» (432). Целая связка набоковских образных «инкрустаций» аранжирует другую сюжетную линию романа – линию рискованных экспедиций за самоцветами – в то место, где складка горизонта будто обозначает «край мира» (129), отчетливо намекая на набоковский образ Ultima Thule. В одном из самых ярких эпизодов романа, когда Анфилогов наконец находит залежи драгоценных камней, повествователь отчетливо формулирует мысль о природе предельной прозрачности (искомого «запредельного» знания): «Жила требовала от хитников умереть живьем: сжечь до последней калории то, что годилось для сжигания в их человеческих телах, и, опустев, остаться здесь, чтобы всегда – и мертвым зрением – видеть эту страшную красоту, этот легкий горный очерк, похожий на складку прозрачной небесной ткани» (140; курсив наш – А.Л.). Метафора идеальной складки небесной ткани или, что то же самое, окончательно совпавшего узора прошлого и будущего, – узнаваемо набоковская, однако важнее всего в данном случае то, что этот набоковский «пароль» вечности вызывает здесь противоречивый, внутренне конфликтный «отзыв»: это страшная красота, доступная лишь мертвому зрению. Всегдашняя верная ученица Набокова, успешно скроившая по набоковским лекалам и «Стрекозу, увеличенную до размеров собаки», и «Один в зеркале», на этот раз вступила в диалог с Набоковым по самому принципиальному для обоих писателей поводу. Кажется, она испытывает по отношению к мэтру то, что испытывает большая часть современных его последователей, – желание бунта против его несокрушимого могущества. Концепция «страха влияния», разработанная Харольдом Блумом и отчасти проясняющая характер диалога Славниковой с Набоковым, в данном случае требует локальной корректировки: речь идет об особой ситуации отчаянного бесстрашия, когда даже предчувствие проигрыша в стилистическом ристалище с «чемпионом стиля» не останавливает претендента от рискованного соревнования с ним. Самое интересное в данном случае – высочайшая степень осознанности, с какой писательница совершает эту попытку. Она вступает на набоковскую мотивно-тематическую территорию, интенсивно подсвечивая современный уральский материал набоковскими стилевыми софитами. Это и вскипающая в пространстве романа персидская сирень, и излюбленные Набоковым взаимоотражения облака с озером (или лужи с небом), и общий эффект постепенно усиливающегося свечения, в финале прорывающегося солнцем или пожаром. Славниковские «хитники» по мере приближения к заветной цели все сильнее реагируют на этот подспудный свет. В одном из фрагментов романа в сознании Анфилогова рождается такое сравнение: будто под землей, как под одеялом, «кто-то тайно читал огромную книгу» (120). Этой огромной просвечивающей сквозь текст романа книгой оказывается Набоков – те его вещи, в которых разрабатывается тема «потустороннего решения», запредельного знания, даже тень которого губительна для смертного. Впрочем, если персонаж остается в живых, призрак финального решения в последнюю минуту неминуемо ускользает из сетей сознания (этот мотив пронизывает все разножанровое наследие Набокова, а особенно глубоко разработан в рассказе «Ultima Thule»). Финал романа Славниковой, в котором театрализованная «репетиция революции» перетекает в общежитейскую катастрофу, а возлюбленная Крылова оборачивается вполне земной женщиной, отправляет героя на новые поиски подлинной прозрачности – на этот раз, как можно догадаться, в ту же сторону, куда отправился в финале «Приглашения на казнь» набоковский Цинциннат. Крылов, подобно Цинциннату, окончательно «расторгает договор» с реальностью. Однако если набоковского героя ждут, если судить «по голосам», подобные ему существа, уход Крылова не гарантирует ему приобщения к вечности, обещая лишь бесконечность пути к миражам прозрачности. Если учитывать авторефлексивные аспекты славниковского романа, в нем можно расслышать самоотчет современного русского прозаика о драматических попытках подняться к набоковскому литературному Олимпу и о внутренней конфликтности этого движения. Как бы то ни было, набоковское принципиальное противостояние социальной истории, его эстетический «антиисторизм» находят в современной русской прозе оригинальные варианты развития. Идеальное совпадение узора, достижимое в пространстве персонального творчества, абсолютно недостижимо в пространстве социальной истории, которая истолкована Славниковой как «инфекционная болезнь» (517), клонирующая все новые и новые фарсовые революции. Недостижим этот идеал и в земной любви. Для возлюбленной Крылова земным раем оказывается ситуация, когда она обретает полную материальную независимость, становясь наследницей валютных запасников Анфилогова. «Я в раю, понимаешь, в раю! Это такое место, где никто ни в ком не нуждается» (509), – говорит она на прощание Крылову, собираясь на самолет, который доставит ее в Женеву. Здесь, в сцене последнего прощания, когда персонажи безуспешно ищут карандаш, или ручку, или хоть что-то, чем можно записать номер телефона (последняя тщетная надежда на будущую встречу), Славникова заставляет своих героев совершить тот танец, с которого началось для набоковского Цинцинната его тюремное заключение (напомним, что это был «тур вальса» заключенного с тюремщиком): «Они кружились, точно каждый танцевал сам с собой. Призрачным кружением их вынесло в комнаты. Нигде не было ничего з а б ы т о г о…» (513; разрядка О.Славниковой). Увы, карандаша, которым Цинциннат напоследок перечеркнул в своем тюремном дневнике слово «Смерть», Славникова героям своего романа не подарит, и Крылову останется полагаться на память Татьяны. На последней странице романа Крылов по сути уходит «из истории», а его единственным напарником остается «сухой старый татарин» (526). Почему О.Славникова дает своему герою такого спутника, не вполне ясно: было бы откровенной натяжкой связывать это решение с татарскими обертонами фамилии Набокова. Ясно другое: сама неумирающая вера в потусторонность, в возможность преобразовать «черновой» набросок жизни в «беловой» узор сюжетной судьбы – это то, в чем герой «2017» и автор романа абсолютно солидарны с Набоковым. «Судьба сопровождала их…На вокзале их никто не провожал» (526), – сообщает об уходящих в художественную бесконечность персонажах последний абзац романа Славниковой. Современный автор повторяет финальный авторский жест, использованный в рассказе Набокова «Облако, озеро, башня»: «…Умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется»7. 7 Набоков В.В. Русский период. Собр. соч. в 5 томах. СПб.: «Симпозиум», 2000. Т.4. С. 590.